Сентябрь 2020
Дождь в дюнах
Зима наступала
Свет
Сухая гроза
Тайфун
Ташкент
У сосен
Уснул
Лекция «Фантастические миры». Анна Старобинец
Muse: Map of Problematique
Аврора
Банка
Без начала и конца
Богатый мужчина, красивая женщина
Все эти уловки, которые они называют жизнью
Гравитация
День, который я помню в деталях
Заячья избушка
Не/со/творимое
О соседях и белых медведях
Осень, остров, океан
Перчатки без пальцев
Полевой дневник
Пробуждение
Сказка
Сказка быстрого приготовления
Сон под грушевым деревом
Таракан
Творец Дождя
Уксус
Хозяин
Это Гриша
«Черное рабство» желтого цвета. История позапрошлого столетия о спасении в тюрьме
Детский ужас и взрослая ирония
Как спряталась смерть
Мои часы всегда показывают: «Сей час!»
Неженская доля, или женщины в «мужских» профессиях
Травелоги группы ЛЕФ. Как путешествовали и писали об этом Маяковский, Третьяков и Родченко
Три истории назад
Вебинар Ирины Лукьяновой «Зачем учить детей писательскому мастерству?»
День России
Одын, два, тии, четыле

30 способов найти вдохновение
Неважно, насколько вы любите писать, рано или поздно настанет тот день, когда вам потребуется вдохновение. Блогер, журналист и писатель Лео Бабаута собрал для американского портала Writetodone свои любимые источники вдохновения, а мы перевели эти советы.
«Ты не можешь сидеть и ждать, когда придет вдохновение. Ты должен выслеживать его с дубинкой в руках». (Джек Лондон)
Я готов поспорить с теми, кто утверждает, будто вдохновение — это такое далекое и труднодостижимое состояние. Вдохновение — это всего лишь одна из частей писательского творчества. Каждый автор ждет творческий порыв, чтобы написать «вдохновленный» текст. Иногда оно приходит самым неожиданным образом.
Я сделал подборку моих любимых источников вдохновения — некоторые из них довольно очевидны, другие — совсем нет. Но иметь такую «напоминалку» всегда полезно, и если вы еще не использовали эти способы, самое время начать.
- Блоги. Это один из моих любимых способов, конечно. Есть много прекрасных блогов о творческом письме, писательском мастерстве и вообще обо всем на свете. Я люблю читать о том, что помогает другим, — это вдохновляет меня на активные действия.
- Книги. А этот способ самый любимый. Я читаю книги тех писателей, которые мне нравятся, затем могу что-то у них позаимствовать, анализирую их тексты и вдохновляюсь их глубиной и стилем. Фикшн — мое любимое чтение, но вообще я глотаю все подряд. Если обычно вы читаете книги лишь некоторых любимых авторов, попробуйте окунуться во что-то совершенно другое. Вы как минимум найдете несколько свежих идей.
- Подслушанные диалоги. Если я нахожусь в месте большого скопления людей, в парке, в торговом центре, на рабочем месте, иногда я невольно подслушиваю чей-то разговор. Это выходит не специально, я просто стараюсь вести себя тише и быть внимательным. Я люблю слушать разговоры других людей. Если вам случайно удастся поймать кусочек чьего-то разговора, постарайтесь кратко его записать, сделать хотя бы несколько заметок. Важно сделать это как можно скорее. Если записанное не пригодится целиком, то может послужить источником вдохновения для будущих работ.
- Журналы. Хорошие журналы не всегда полны хороших рассказов и очерков, но обычно там можно найти хотя бы один неплохой текст — в жанре фикшн или нон-фикшн. Стиль их написания, голос автора, ритм и способность провести читателя от начала до конца текста — если все компоненты статьи хороши, она вдохновляет. Плохие журналы, статьи в которых не станут образцами для подражания, тоже могут послужить источниками вдохновения — там могут найтись интересные истории или неожиданный угол зрения на какой-то вопрос.
- Фильмы. Иногда герой фильма может внезапно сказать нечто такое, что я понимаю: «Из этой мысли может вырасти отличный пост в блоге!» или «Я обязательно включу такую реплику в текст!». Иногда у сценаристов получаются действительно отличные диалоги. Качественная операторская работа тоже может вдохновлять — удачно взятый крупный план или чудесный пейзаж.
- Форумы. Когда люди пишут на форумах, они редко беспокоятся о стиле или красоте изложения (конечно, встречаются и исключения). Чаще они пишут для того, чтобы сообщить какую-то информацию или поделиться идеей. Тем не менее, эти идеи могут быть интересными и вдохновляющими. Я не призываю вас перечитывать тонны чужой переписки, но если вы ищете какую-то информацию, проглядеть пару-тройку форумов можно.
- Искусство. По моему опыту, искусство — хороший источник вдохновения для писателя, который хочет настроиться на великие свершения. Конечно, это не сравнить с просмотром произведений искусства в оригинале, но всегда можно поставить радующее вас изображение на рабочий стол компьютера. Сейчас у меня стоит «Пьета» Микеланджело, но это не обязательно должна быть классика — я находил вдохновение в японском аниме и выступлениях местных артистов в моем городе.
- Музыка. В дополнение к предыдущему пункту: можно скачать и включить красивую музыку — от Моцарта до Бетховена, от Beatles до Radiohead. Включайте музыку в фоновом режиме, она подхватит вас и понесет на волнах вдохновения к будущему тексту.
- Друзья. Разговоры с друзьями в реальной жизни, по телефону или через Интернет стали источником для создания некоторых из моих лучших текстов. Общение пробуждает мои собственные мысли и приносит новые идеи, которые выливаются во что-то еще более стоящее, чем мог бы создать каждый из нас по отдельности.
- Писательские группы. Будь то онлайн или в формате очных встреч, писательские группы — отличный способ получить энергию и мотивацию для написания текстов. Мои лучшие рассказы были написаны в творческой группе во времена учебы в колледже (между прочим, прекрасное место для поиска таких групп). Мы читали написанное друг другу, критиковали и вносили предложения по изменениям. Работа других писателей вдохновляла меня на развитие моих собственных текстов.
- Цитаты. Понятия не имею, почему, но цитаты и афоризмы меня очень вдохновляют. Я люблю выискивать в Интернете разные сайты с цитатами великих людей. Иногда я нахожу фразу, которая подсказывает, как можно изменить мой язык, это мотивирует на саморазвитие.
- Природа. Нет идей? Выходите из комнаты и идите гулять. Сворачивайте с тротуаров и шагайте по траве, бродите по полям и холмам. Смотрите по сторонам на красоту вокруг и позвольте потоку вдохновения проникнуть в вас. Закаты и рассветы, конечно, тоже в списке моих любимых природных сцен, поднимающих настроение. Восхитительно все, что так или иначе касается воды, — океаны, реки, озера, дождь, даже лужи.
- История. Звучит банально, но великие исторические деятели могут вдохновить на великие свершения. Среди вдохновляющих меня личностей — Бенджамин Франклин, Ганди, Авраам Линкольн, Хелен Келлер, Леонардо да Винчи.
- Путешествия. Неважно, что это будет — кругосветное путешествие или однодневная поездка в соседний городок. Побег из привычного места, новые знакомства и обычаи могут послужить прекрасным источником вдохновения. Используйте новые места чтобы сменить оптику, сквозь которую можно по-новому посмотреть на привычный мир.
- Дети. У меня их шестеро. И они самые лучшие люди на свете (в этот список входят также моя жена, братья, сестры, родители). Я люблю проводить с ними время, в тишине, прогуливаясь или читая. Беситься мы тоже любим — когда играем или деремся подушками. И все то время, что я нахожусь рядом с ними, я стараюсь фиксировать мои мысли и наблюдения о жизни, людях, любви. Я предполагаю, что дети, с их свежим взглядом на мир, способны изменить весь образ мыслей взрослого человека.
- Тренировки. Лучше мысли приходят, пока я бегаю. Тишина вокруг, участившийся пульс, свежий воздух, природа — это по-настоящему стимулирует работу мозга.
- Религия. Многие из вас не религиозны, но это не так важно — в мировых религиях есть просто потрясающие идеи. Я изучал тексты христианства, иудаизма, ислама, буддизма, таоизма и других монотеистических и политеистических религий. Я не эксперт ни в одной из них, но я могу утверждать, что каждый раз, когда читал о них, я открывал для себя что-то новое.
- Газеты. Я был новостным репортером и редактором и адски устал от газет и новостей. Это похоже на бесконечный поток одного и того же, одинаковых событий, происходящих вновь и вновь. Однако если вы знаете, где искать, иногда могут попасться впечатляющие человеческие истории.
- Сны. Были моменты в моей жизни, когда я старался вести журнал снов — записывать все, что приснилось, в тетрадку, которая лежала около моей кровати. Не потому, что это могло что-то рассказать обо мне, о моем прошлом или будущем, а потому, что сны идут вразрез с правилами и реальностью, они будто из потустороннего мира.
- Записки писателя. Я настоятельно рекомендую это любому автору. Это не обязательно должны быть ваши фантазии или дневниковые записи. Фиксируйте мысли, заметки, обрывки разговоров — так соберутся диалоги, идеи для сюжета, новые герои. К тому же такой «журнал писателя» всегда можно пролистнуть, если не приходит вдохновение.
- Подборки новостей и статей. В поисковых системах можно найти много всего необычного, например, просматривая Zen Yandex. Иногда здесь можно найти примеры отличных текстов других авторов. Конечно, не следует присваивать их идеи, но можно адаптировать к конкретной теме.
- Поэзия. Как может поэзия вдохновить прозу? Как минимум, своей красотой, стилем, ритмом, игрой слов, музыкальностью.
- Чтение классической литературы. Конечно, Шекспир не единственный драматург, но он, несомненно, величайший мастер английского языка. Хотя его сочинение может быть трудным для тех, кто не привык к языку того времени, изучение даже одной из его пьес окупается безмерно. В каждой культуре есть писатели, читая которых, можно почерпнуть множество идей, необычных слов, интересных фраз, которые послужат источником вдохновения.
- Google. Нет идей? Google вам в помощь! В поисковой строке я просто ввожу то, о чем я сейчас пишу, и нахожу тонны прекрасных ресурсов.
- «Свободное письмо». Один из лучших способов снять писательский блок. Просто начинайте писать. Все, что угодно. Не редактируйте, не останавливайтесь, не думайте. Просто отпустите поток слов. В конце концов вы получите, возможно, кучу мусора, но это как минимум поможет унять страх белого листа, а как максимум — среди кучи мусора обнаружится что-то стоящее.
- Брейншторм. Это почти как «свободное письмо», но вместо того, чтобы писать прозу, вы записываете идеи. Просто кучу хаотичных мыслей. Скорость и количество здесь важнее, чем качество.
- Flickr. Этот и другие сайты с потрясающими фотографиями. Если скульптуры и картины покажут недостижимые высоты, то фотографии, сделанные талантливыми людьми, — то, что обычные люди могут сделать, если постараются. Просто посмотрите эти снимки, чтобы найти вдохновение.
- Маленькие перемены. Если обычно вы идете на работу одной дорогой, попробуйте другую. Если каждый день вы просыпаетесь и сразу собираетесь по делам, попробуйте вместо этого встать пораньше и сделать зарядку или посмотрите на рассвет. Если обычно по вечерам вы смотрите телевизор, почитайте или начните писать. Меняйте свои рутинные занятия. Это поможет взбодриться.
- Истории успеха. Этот способ тоже из числа моих любимых. Когда я готовился бежать свой первый марафон, я читал истории людей, которые уже пробежали марафоны, и заряжался их энергией. Есть много историй успешных писателей, которые вас точно вдохновят.
- Наблюдать. Это интересное занятие для любого автора. Идите в людное место, садитесь и наблюдайте. Люди удивят вас и даже иногда шокируют. Нет ничего более вдохновляющего, чем сама жизнь.

Екатерина Лямина: «Чтение в судьбе человека — как изменение русла реки, идущее постоянно»
Этой осенью в Creative Writing School открывается новый проект «Осознанное чтение».
Первый курс проекта будет посвящен русской повести XIX-XX веков. Участники будут читать не только Пушкина, Тургенева и Чехова, но и таких авторов, как Юрий Олеша, Наталья Баранская, Алексей Апухтин. Слушатели программы научатся рассматривать тексты не только как источник эстетического удовольствия, но и как уроки мастерства. Научатся видеть, как автор работает с материалом, как разворачивает сюжет, насколько для него важны герои, их характеры, детали и другие моменты выстраивания текста.
Курс проведет профессор НИУ ВШЭ, филолог Екатерина Лямина. До начала занятий мы поговорили с мастером о пользе и особенностях осознанного чтения не только для человека пишущего, но и для человека читающего.
Что такое осознанное чтение?
«Осознанное чтение» — это некоторый аналог close reading, «близкого чтения» — учебного курса, часто встречающегося в гуманитарных программах западных колледжей и университетов (и некоторых наших тоже).
При «близком чтении» текст рассматривают не торопясь, выявляя внутренние связи, значимые техники его построения, переклички с другими текстами. Вот примерно этим мы и будем заниматься — с тем важным акцентом, что в наибольшей степени нас будут интересовать вопросы «как это сделано» и «почему и с какой целью это сделано именно так и именно здесь», то есть то, что напрямую связано с писательским ремеслом.
А зачем это нужно? Чтобы лучше понять текст?
Наверное, можно сказать, что мы вступаем в «осознанное чтение» не только для того, чтобы лучше/глубже/тоньше понимать сам текст, но и для того, чтобы осознавать, почему и как он производит на нас то впечатление, которое производит, и как это впечатление было создано.
Какие тексты необходимо, с вашей точки зрения, читать осознанно?
Мне кажется, это вопрос конкретной задачи. Решаешь: вот в этом авторе и в этом его произведении я по той или иной причине что-то хочу понять, а дальше берешь и стараешься читать осознанно. Причину, которая подвигла тебя к осознанному чтению, тоже важно видеть. Это может быть восхищение текстом, исследовательский интерес, желание написать о чем-то похожем или осмыслить что-то похожее, с тобой произошедшее.
Однако вменять себе в обязанность любую книгу читать именно так, мне кажется, совсем не нужно. Есть ведь и «просто чтение», когда читаешь ради удовольствия, в том числе и во второй, и в сто второй раз, когда ты просто рад встрече вот с этими героями, с этим автором и его стилем.
Можно ли воспитать в себе вдумчивого читателя?
Вообще можно, но, как я уже сказала, отнюдь не всегда это must. Правда-правда, лучше оставлять себе лужайки и рощицы, где можно просто резвиться, упиваясь текстом и самим процессом чтения.
Но в принципе такую опцию среди своих интеллектуальных способностей иметь совсем неплохо. Разумеется, она вырабатывается — если есть желание и некоторая доля терпения.
Что нужно иметь в своем арсенале, если хочешь читать осознанно?
Я думаю, что для этого необходимо, во-первых, питать теплые чувства к чтению как времяпрепровождению, в каком-то смысле — как образу жизни. Во-вторых, уметь, когда поставлена такая задача, не ограничиваться чисто эмоциональным впечатлением («люблю»/«не люблю»), а идти дальше, к анализу. В-третьих, не считать, что анализ непременно «убивает» (выхолащивает, опустошает и т.д.) книгу — анализ анализу рознь. В-четвертых, уметь «снимать шоры», то есть быть настроенным на заинтересованное и как бы «с чистого листа» всматривание, вслушивание в текст как в некоторую, если угодно, музыку. Ведь музыку специально учат не только сочинять, но и понимать — так и с литературой.
Но для того чтобы понимать литературу в полной мере, важно еще и очень много знать…
С одной стороны, да, много знать неплохо, хоть Екклесиаст и говорит, что во многой мудрости много печали и умножающий познание умножает скорбь. Знания, как общие, фоновые, так и конкретные, разумеется, помогают при чтении и понимании литературных текстов. Кроме того, со знаниями читать просто интереснее, ведь чтение — это взаимодействие с текстом, и чем оно сильнее, тем больше вовлеченность в текст, интенсивнее эффект «погружения» в него (и, соответственно, временного выпадения из сиюминутных обстоятельств, то есть свободы от них).
Приведу пример. В новелле Бунина «Чистый понедельник» основное действие — роман героя и героини — разворачивается в 1913 году, хотя прямо дата не названа. Важно это для понимания текста? Да, важно: это последний мирный год Российской империи, в каком-то смысле ее акмэ, пик, вершина. И герои новеллы такие же — очень красивые, полные жизни и сил, такие совершенные создания. С другой стороны, 1913-й — это очень близкое предвестие рубежа, после которого жизнь всех, кто населял Россию, изменилась резко и навсегда, предвестие, прямо скажем, конца старого режима. Вот и в воздухе новеллы висит эта обреченность, апатия, почти физиологический упадок сил при их внешнем изобилии. Все это совершенно не случайно и очень нужно Бунину; с иными временными параметрами и текст был бы иным.
Выходит, если подготовиться, можно полностью понять произведение?
С другой стороны, кто может похвастаться, что «в полной мере» понял тот или иной текст и тем более литературу в целом? Здесь важно не пережимать. У нашего понимания есть границы. Мы можем их раздвигать, но не можем упразднить — и это, в общем, и хорошо. Пусть всегда остается какой-то угол или углы, какой-то слой или слои, которые мы не понимаем и не можем понять. Загадочные такие уголки, поверхности. Беспредельное понимание — это какое-то межпланетное пространство, на мой взгляд, уж слишком там просторно и пусто.
Мне классиков жалко — они остаются не только непрочитанными, но и в каком-то смысле оплеванными после школьного чтения
Раз речь зашла о слоях: а какую, с вашей точки зрения, роль для профессионального читателя играет иррациональность восприятия текста?
Значительную, иногда определяющую. Спонтанность, первозданность впечатления очень важна, ее — хотя это и трудно, ведь впечатления стираются — важно постараться не забыть, удержать хотя бы краешек. Хотя бы для личной вселенной, личной памяти. Ведь иногда моменты чтения оказываются узловыми моментами жизни, даже если не совпадают с какими-то судьбоносными событиями. Само чтение какой-то книги может настолько сильно что-то в человеке как в личности изменить, что обстоятельства этого чтения (где, когда, какое издание) тоже остаются важными навсегда. Такие изменения редко бывают мгновенными — типа «закрыл книгу другим человеком», хотя и такое случается. Скорее, чтение в судьбе человека — это как изменение русла реки, идущее постоянно, никогда не прекращающееся.
А у профессионалов — редакторов, филологов, писателей — так же?
Профессиональный читатель не исключение. Но ему приходится как бы создавать в сознании два шкафа — рядом друг с другом или один в другом. Один — это чтение вообще, для себя, в том числе для радости, удовольствия, препровождения времени. Там может быть хаос, беспорядок, все перемешано в кучу, иногда что-то вообще выкидывается, плесневеет, съедается мышами и т.д. И второй — чтение для дела. И вот в этом шкафу обязательно будет хотя бы рабочий, хозяину понятный порядок — полка с инструментами, верстак, микроскоп и т.д. И ящик «иррациональное восприятие» там тоже будет. Но для этого придется отделить иррациональное от рационального, то есть произвести анализ. К этой стадии тот, кто читает для себя, обычно не переходит, вот и вся разница — но она принципиальна.
Какой практический результат может быть у осознанного чтения?
Для того, кто пишет сам, — профессиональная «заточка внимания», слух и зрение, при желании легко настраивающиеся на то, чтобы найти и обдумать структуру текста, его смысл, его цель.
А если речь не о писателе и не о пишущем человеке?
Осознанно читать полезно совсем не только для сочинения собственных произведений, но и вообще для жизни: политика, общество, культура — это во многом тексты, и от умения их понимать зависит многое. Ну и обаяние эрудиции, умения говорить о книгах, о литературе никто не отменял.
Все мы читали Пушкина в школе, если ли смысл его перечитывать?
Пушкин сейчас — это некоторый символ русской культуры, а символы довольно часто надоедают и раздражают. Кроме того, они активно функционируют на уровне образования — то есть человек, посещавший или посещающий русскую школу, не может не читать Пушкина. Понятно, что в школе, как правило, ученикам «вдалбливают», их «грузят» и «натаскивают», часто возникает вполне понятное отвращение к этим произведениям, и в результате школьный набор текстов редко совпадает с личными предпочтениями (если человек после школы вообще остается читателем, то есть читает литературу по собственной воле).
Мне классиков жалко — они остаются, увы, не только непрочитанными, но и еще в каком-то смысле оплеванными после этого школьного чтения, очень многим людям к ним отбивают охоту навсегда. Между тем эти поэты и писатели с собой и своими современниками говорили о важных вещах, и довольно большая часть этого актуальна и сейчас. Да, это во многом давно исчезнувший мир, сильно изменившийся язык — но масса ситуаций, реакций и чувств не устарела. И если как следует прочитать то, как об этом говорили 50, 100, 150, 200 лет назад, можно вдруг понять что-то совершенно неожиданное и небанальное и в том, о чем рассказывает тот же Пушкин, и в его времени, и в себе, и в своей эпохе.
Кроме того, интересно ведь смотреть не только на реальность, отразившуюся в художественном тексте, но и на то, как и что придумано, выдумано, как работает фантазия и воображение. Карамзин еще в конце XVIII века сформулировал: «Что есть поэт? Искусный лжец — Ему и слава, и венец». И это не только к поэтам относится.

Пять компонентов осознанного чтения
- Взгляд на текст не как на монолитную данность, «вещь в себе», к которой не подступиться — а как на то, чего когда-то не было и что было создано конкретным человеком (людьми) в конкретных обстоятельствах, а значит, можно рассказать, как оно было создано и зачем.
- Такой рассказ невозможен без вопросов, которые мы задаем тексту. Не типа «уличат ли Раскольникова в убийстве?» или «за кого выйдет замуж Наташа Ростова?» — эти вопросы естественно порождаются сюжетом, и на них автор в свое время дает ответ (или не дает — вспомнить хотя бы финал «Братьев Карамазовых»). Я имею в виду вопросы другого типа: «что это значит?» / «почему это здесь?» / «на что это похоже?» — то есть такие, которые требуют одновременного внимания к целому и к частностям, слагающимся в целое, к поэтике («каким средствами сделано») и прагматике («зачем сделано») текста.
- Отсутствие спешки. Осознанное чтение — это практика, при которой можно и нужно не торопиться, «покрутить» тот или иной фрагмент, посмотреть на него с разных сторон и с разных расстояний, чтобы он приоткрыл свой смысл и значение.
- Понимание того, что ответов на поставленные вопросы может быть несколько, и не всегда они звучат в унисон. Жизнь и люди парадоксальны, очень часто необъяснимы — можно ли требовать от текста, чтобы в нем всегда концы сходились с концами и царила гармония? Конечно, бывают произведения, где все так и есть, но других во много раз больше. На такие противоречия и нестыковки имеет смысл смотреть как на «признаки литературы», т.е. работы творческого сознания, на следы рук мастера.
- В принципе, осознанное чтение должно приносить удовольствие — не только от того, что ты понимал меньше, а в процессе стал понимать и знать больше, но и от того, что с этим текстом у тебя возникает некая особая связь: он теперь — в каком-то смысле «только твой». С другой стороны, этим своим пониманием и возникшим родством ты можешь поделиться с кем-то еще — вдруг ему тоже понравится? Осознанное чтение — это всегда про приближение и диалог: с текстом и с другими читателями.
Как читать осознанно
Молодой писатель Мария Карайчева в рамках проекта «Осознанное чтение» прочитала и разобрала рассказ Юрия Олеши «Вишневая косточка». Консультант — филолог, мастер проекта CWS-Дети Наталия Коршунова.
Вам понадобится:
- вспомнить, кто такой Юрий Олеша: импрессионист в слове, автор книг «Зависть», «Три толстяка», «Ни дня без строчки», стихов, пьес и рассказов. Один из блестящих писателей 1920-х годов. Как вам показалось, что лучше всего удается Олеше в этом рассказе?
- представить себе Москву конца 1920-х: послереволюционный драйв и восторг, атмосфера экспериментов и надежд, вера в себя, участие в строительстве нового государства с новым строем — как новой Вселенной. Как, на ваш взгляд, эпоха отражается в тексте?
- задуматься о литературном контексте: среди современников Олеши — Булгаков, Бабель, Хармс, Платонов, Катаев, Замятин, Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Маяковский, Хлебников. Звучат ли в рассказе голоса современников?
- посмотреть, кто такие Анри Берсон и Чарльз Дарвин. Почему Олеша упоминает их?
- пощупать листья вишневого дерева, подержать во рту вишневую косточку и вообразить себя в невидимой стране. Подумайте, каков баланс правдоподобного и выдуманного и почему?

Это очень странный, местами бесподобный текст, веселый и трагичный, как часто случается и у Олеши, и у его современников. Нет никакой возможности говорить о нем абстрактно — так что мы пойдем по тексту и попытаемся распутать хотя бы несколько узлов.
Любовь
Фронтальная тема «Вишневой косточки» — неразделенная любовь главного героя по имени Федя к девушке Наташе. Сложно сказать, в каких отношениях Наташа и Федя были до повествования, но в момент, с которого начинается рассказ, происходит главное и единственное драматическое событие этой истории: Наташа целуется с неким Борисом Михайловичем — рядом с Федей. Наташе нравится Борис Михайлович, но она продолжает «придерживать» Федю рядом с собой:
«Со мной Наташа обращается, как с равным, а с Борисом Михайловичем — как со старшим, ластится к нему. Она понимает, что это мне неприятно, что я завидую Борису Михайловичу, и поэтому она часто берет меня за руку и, что ни скажет, тотчас же обращается ко мне с вопросом: — Правда, Федя? То есть как бы просит у меня прощенья, но не прямо, а как-то по боковой линии».
Наташа угощает Федю и Бориса Михайловича вишнями, и Федя уходит домой с вишневой косточкой во рту и размышлениями о времени и невидимой стране, в которой человек существует параллельно.
Наташа договаривается о свидании с Федей, но не приходит. Пока герой ждет ее, он примеряет на себя различные роли — то мессии, то милиционера-регулировщика, попутно рисуя точные образы прохожих конца 20-х годов и передавая состояние томительного ожидания.
После возникает странноватый персонаж Авель — сосед героя, о чем тот говорит в скобках, и действие практически переходит в философско-дидактическую пьесу. И только после этого, закопав вишневую косточку, Федя, наконец, оказывается дома, где вновь встречает Авеля.
Выходит, полной уверенности, что свидание вообще было назначено, быть не может. Складывается впечатление, что всю сцену с ожиданием Наташи — самую сильную в рассказе — герой прокручивает в своем воображении, даже в фантазиях не допуская, что он может быть счастлив в любви или что они хотя бы могут встретиться вдвоем с Наташей. Может, ему этого и не нужно?
На то, что автор затаскивает нас в длительную экзистенциальную фантазию, указывает и образ Авеля, всякий раз входящего в повествование, как в сон.
Авель то наблюдает, как герой регулирует движение прохожих в невидимой стране, то выходит из стены, чтобы сообщить, что видел из «данного» поезда Федю, разгребающего землю, то ведет по пустырю экскурсантов. Его всегда мистическое возникновение не удивляет героя. Он назначает Авеля свои конфидентом и через диалоги с ним транслирует свои главные соображения, сбиваясь на монологи и внутреннюю речь, что тоже вполне соответствует устройству сновидения.
Воплощением любви, плодом ее, герой назначает будущее дерево, которое прорастет из «деревянной» вишневой косточки и будет даже лучше ребенка Бориса Михайловича.
«Если бы Борис Михайлович застиг меня сидящим на корточках в пустыре и закапывающим инфантильную косточку, он еще раз почувствовал бы свою победу надо мной, победу мужчины над мечтателем. А я ведь в это время прятал в землю ядро. Оно лопнуло и выпустило ослепительный заряд. Я прятал в земле семя. Это дерево — мой ребенок от вас, Наташа. Приведите сына, которого вам сделал Борис Михайлович. Я посмотрю, так ли он здоров, чист и безотносителен, как это дерево, родившееся от инфантильного субъекта?»
Наиболее притягательной для героя оказывается мечта не о самой любви, а о дереве, выросшем из косточки той ягоды, что дала ему любимая девушка, изменив с другим. И это, судя по всему, метафора сублимации — главной темы этого рассказа. О ней речь пойдет ниже, но прежде давайте разберемся, как организовано время внутри этого текста.
Время
Особенность мира Олеши — это наделенность рассказчика сверхчувствительностью демиурга. Он знает, что думают чужие руки; он следит, повернувшись спиной; услышав «расклеивающийся звук поцелуя», он вздрагивает, не оглядываясь, так что даже зацикленные на себе Наташа и Борис Михайлович понимают, что пойманы. Так Олеша наделяет ощущения героя эмоциями и даже мыслями. Все имеет свою жизнь.
«Никто не отвечает мне. Я повернут к ним спиной. Мой жадный взгляд не следит за ними, они наслаждаются одиночеством. Я смотрю на птицу. Оглянувшись, я вижу: Борис Михайлович гладит Наташу по щеке. Его рука думает: пусть он смотрит на птицу, обиженный молодой человек! Уже я не вижу птицы, я прислушиваюсь: я слышу расклеивающийся звук поцелуя. Я не оглядываюсь, но они пойманы: они видят, что я вздрогнул».
Так и время у Олеши живое и может двигаться в разные стороны, как во сне. Иногда описание его движения похоже на обратную перемотку. Например, в сцене, когда собака, символизирующая время, бежит не рядом с Федей, не впереди него, а навстречу и мимо. Или когда он видит в камне косточку, а потом оказывается, что это и не камень вовсе, а позеленевшая кость — то есть мы на ускоренной перемотке возвращаемся к детству этой самой кости.
Погружая героя в медитативный сон, Олеша пытается разбудить читателя, рассказав ему о сути вещей и явлений, в том числе о времени и его причудливой переменчивости, будто время — это отдельный персонаж. В фокусе рассказа текущий момент. В центральной сцене — сцене ожидания Наташи — действие описывается в настоящем времени. Более того, называется и время физическое, здесь буквально участвуют часы, выступая наравне с эпизодическими персонажами, появлением которых это время измеряется.
«Наташа назначает мне свидание, и сама не приходит. Я прихожу за полчаса до срока. Трамвайные часы висят над перекрестком. Они напоминают бочонок — не правда ли? Два циферблата. Два днища. О, пустая бочка времени! — могу восклицать я. Наташа должна прийти в три с половиной. Я жду. О, конечно, не придет. Десять минут четвертого… Я стою на трамвайной остановке. Все движется вокруг меня, я один возвышаюсь… Заблудившиеся видят меня издали… И вот начинается… Подходит неизвестная гражданка». «Четверть четвертого. Стрелки соединились и вытянулись по горизонтали. Видя это, я думаю: “Это муха сучит лапками. Беспокойная муха времени”. Глупо! И какая там муха времени! Она не идет, она не придет. И приближается красноармеец».
Здесь речь идет о поминутности, о том, как время ощущается, когда ждешь того, чего не случится, о том, как окружающие люди растягивают или подгоняют время, обозначая своим появлением его промежутки. Подобно тому, как импрессионист за счет движения светотени визуально фиксирует мгновение, Олеша отображает зазор между временем физическим и наполнением этого времени, наделяет его, время, эмоциями.
Есть в рассказе и более широкая панорама времени — буквально до сцены несостоявшегося свидания речь идет о двух мирах: старом и новом. Старый мир — дореволюционная Россия, новый — будущее, где будет построен бетонный гигант, по истечении первой пятилетки, которую как раз объявили в 28-м году, за год до написания рассказа. Новое время — это время эксперимента, драйва, зарождения Вселенной.
Прошлое символизируют две безымянные, как бы уже забытые девушки и брат героини Эраст (привет Карамзину!) — уплывающие в самом начале рассказа в лодке и больше не возникающие. Прошлое — это то, что у Феди с Наташей было до начала повествования: может, взаимность, может, надежда. Настоящее — это съеденная только что ягода. Будущее — это сад и вишневое дерево, посаженное героем ближе к финалу.
Таким образом, вишневая косточка, которую герой катает во рту, — это и есть время: мякоть нового (только что произошедшего, по аналогии с present perfect) прошлого съедена, а в будущем, посаженная в землю, косточка прорастет и будет дерево. Беда в том, что вишневые косточки редко прорастают. Возможно, поэтому листья у дерева, что посадил герой, бумажные, бутафорские. О театре, кстати, напоминают и диалоги с Авелем.
«Здесь, — подумал я, — вырастет вишневое дерево, посаженное мною в честь любви моей к Наташе. Может быть, когда-нибудь, через пять лет, весною мы встретимся с Наташей у нового дерева. Мы станем по обе стороны, — вишневые деревья не высоки: можно, поднявшись на носки, шевельнуть самый верхний цветок. Будет ярко светить солнце, весна еще будет пустовата, — это будут те дни весны, когда детей манят сточные канавы, — и уже наступит расцвет бумажного этого дерева».
Сублимация
В отличие от темы неразделенной любви и времени, тема сублимации и творчества не названа здесь прямо. Вероятно, потому что ради нее всё и писалось. Герой называет себя мечтателем, а его мечты в действительности и оказываются материалом для созидания. Любовь и страдания — только повод, чтобы творить: сажать деревья с бумажными, как внутри книги, листьями.
Тем не менее (возможно, здесь уже читатель создает свое произведение), поскольку весь рассказ состоит из неплотно сцепленных кусков, а мы знаем, что будет дальше, сложно отделаться от ощущения печального предзнаменования. Будет ли место мечтателям в мире будущего? Какова судьба бутафорского дерева? Как План и бетонные гиганты соотносятся с экзистенциальными переживаниями героя, с его миром? Миром большого художника, фиксирующего каждую мелочь беспощадно точно и так подробно, будто он физиологически не способен промолчать и не дать определение увиденному, заставляя разговаривать каждый предмет.
«Он выбрит, но щеки у него черны. Авель всегда кажется обросшим. Даже можно подумать, что у него не две, а только одна щека — черная. У Авеля орлиный нос и одна черная щека». «Вы посмотрите, как презирает меня шофер! Не силами души, нет! Станет он снисходить до того, чтобы презирать меня силами души… Перчаткой он презирает меня!!!», «Идет слепец. О, этот просто кричит на меня! Этот толкает меня тростью… уже слепец обидчиво и себялюбиво поднимается на переднюю площадку, неся впереди себя трость».
Даже любимая Наташа понятна герою, причем с первых же строк: «Наташа подняла лицо, и вдруг ее лицо показалось мне сияющим фарфоровым блюдцем». Наташа красивая и плоская — говорит нам герой, раздавая каждому явлению особую жизнь в слове, вплоть до шевеления воздуха вокруг носков:
«Страна внимания начинается у изголовья, на стуле, который, раздеваясь перед отходом ко сну, вы придвинули к своей кровати. Вы просыпаетесь ранним утром, дом еще спит, комната наполнена солнцем. Тишина. Не шевелитесь, чтобы не нарушить неподвижности освещения. На стуле лежат носки. Они коричневые. Но — в неподвижности и яркости освещения — вдруг замечаете вы в коричневой ткани отдельные, вьющиеся по воздуху разноцветные шерстинки пунцовую, голубую, оранжевую».
Сможет ли столь многословный, точный и искренний художник, артист в большом смысле слова, писать тексты идеологические, методически выверенные, больше похожие на инструкции к правильному и необходимому власти восприятию действительности? Ведь одно дело рисовать декорации прекрасного будущего, другое — переписывать жуткое настоящее, гримировать трупные пятна. За мелодрамой и фарсом, натянутым на пружину действительности с живыми, психологически точными зарисовками, Олеша скрывает глубокий смысл. И с этим очевидным тяготением Олеши к философской прозе шансов на блестящее будущее в советской литературе, как мы сейчас уже понимаем, было у него не так много. Как заклинание, подобно персонажам Чехова, твердит герой про вишневый сад, открыто взывая к воображению, но чем резче и отрывистее финальная риторика, тем меньше верится в правдоподобие счастливого исхода для героя и его вишневого дерева.

Ольга Брейнингер: «Феномен блогерства в России находится в стадии формирования»
Этой осенью откроет свои двери мастерская «Новая реальность: как вести блог (и быть писателем)». Ее проведет опытный мастер жанра автофикшн Ольга Брейнингер — писатель, литературный критик, магистр Оксфордского университета, преподаватель и докторант Гарвардского университета. Роман Ольги Брейнингер «В Советском Союзе не было аддерола» (2017) вошел в лонг-листы премий «Большая книга», «Русский Букер», «Национальный бестселлер» и шорт-лист премии «НОС».
В ожидании осени мы попросили Ольгу рассказать о перспективах блога в России и о том, как блогерство можно органично соединить с литературным творчеством.
Ваша осенняя мастерская в Creative Writing School называется «Новая реальность: как вести блог (и быть писателем)». Значат ли эти скобки, что быть писателем при ведении блога непросто?
Отчасти да. Работа писателя и блогера очень сильно отличаются, несмотря на иллюзию того, что оба создают текст. Тем не менее, тексты эти очень разнятся по цели написания, по стилю, по структуре и по тому, каким предполагается восприятие их читателями. В отдельных случаях блогерство и писательская работа могут представлять собой два смежных мира, но, тем не менее, между ними пролегает очень четкая граница.
А себя вы кем больше ощущаете — писателем или блогером?
Безусловно, писателем, и свой блог я тоже веду как писатель. Я знаю, как выглядит работа профессиональных блогеров, какими навыками и рабочими инструментами они владеют. И хотя я достаточно глубоко погрузилась в этот мир и многому у них научилась, тем не менее, я понимаю, что работаю по-другому и на «профессионализм» в блогерстве совершенно не претендую.
Насколько к такому новому формату готов современный литературный рынок в России? Можно ли говорить о том, что блог уже занял свою нишу внутри «высокого» искусства, или еще нужно кому-то что-то доказывать?
Думаю, что пока не готов — но и блогов, претендующих на «высокое искусство» у нас пока в лучшем случае единицы. Феномен блогерства в России зародился буквально несколько лет назад и еще находится в стадии формирования. Впереди очень длинный путь изменения, усложнения, эстетических трансформаций. Так что о разделении на high-brow и low-brow в русскоязычном блогинге пока не стоит говорить (что не значит, что существуют более и менее качественные блоги) — но, думаю, со временем внутри блогинга появится и своя эстетическая иерархия, и определенный канон, и формульные модели, и свои правила. Скорее всего, эти правила будут очень сильно отличаться от тех, что существуют в литературе — и кто знает, будут ли понятия high brow/low brow вообще применимы к блогингу?
Есть ли такие универсалы — писатели-блогеры, — которых вы можете назвать своей role model?
К сожалению, пока нет. Есть художники, на которых я ориентируюсь, есть направления цифрового искусства как такового — но писателей на сегодняшний день назвать не могу. Может быть, они выйдут именно из нашей экспериментальной мастерской? Мне бы очень хотелось на это надеяться!
Можно ли сказать, что в определенном смысле автофикшн — это и есть сплав художественной прозы и блога?
Безусловно. Одна из главных отличительных черт современного автофикшна — это то, что он впитал в себя стиль онлайн-коммуникаций, манеру письма социальных сетей, которая органично смешивается в автофикшне с традиционной манерой прозаического повествования. Поэтому говоря об автофикшне, в первую очередь стоит говорить об особом языке, характерном для этого жанра.
Между блогерством и писательской работой пролегает очень четкая граница
А в нынешней мастерской в фокусе будет в первую очередь блог? Все-таки «и быть писателем» идет в скобках.
Нет, писательской работе и блогерству будет уделено равное внимание, а в фокусе как раз будет попытка изучить и сломать границу между ними, нарушить правила и создать что-то принципиально новое. В мастерской мы будем говорить не о «литературе» и «блогерстве», а о «творческом пространстве писателя», в котором, наравне с текстом, могут существовать и блог, и другие объекты цифрового искусства.
Насколько сложно будет одновременно готовить участников писать в таких разных форматах, у каждого из которых есть свои внутренние законы?
Я думаю, что установка на создание чего-то принципиально нового — это как раз та точка, где не стоит бояться сложностей и объема будущей работы. Заставить себя думать и видеть по-другому, выйти за рамки привычных концепций — задача непростая, но, как мне кажется, абсолютно захватывающая. Я вижу эту мастерскую как территорию абсолютной творческой свободы — и само это уже кружит голову!
Как будут проходить занятия в мастерской, чего ждать и чего не стоит ждать участникам?
Занятия будут достаточно сильно отличаться от занятий в традиционных мастерских creative writing. Будет достаточно сильный теоретический элемент, будет много дискуссий, и зачастую я не буду давать участникам готовых формул, правил, рассказывать, о том, как работает канон. Наоборот, я буду задавать вопросы о том, как выйти за пределы канона и перестать руководствоваться тем, что мы знаем о литературе в традиционном понимании, — и мы будем искать ответы на эти вопросы и пересекать границы вместе.
В финале им нужно будет представить проект блога, художественный рассказ или их синтез?
Финальные проекты могут быть очень разнообразными. Для кого-то это действительно будут рассказ или проект блога. Но, мне кажется, большая часть итоговых работ будет носить экспериментальный характер. Это может быть разработка новой теоретической концепции в рамках критической теории интернета. Или новое видение авторской страницы в социальных сетях. Проект тематического литературного онлайн-комьюнити или даже цифровая арт-инсталляция с литературным элементом. Это буквально несколько идей, которые первыми пришли мне на ум.
Общие пожелания будущим участникам.
Самое главное — разрешить себе полную творческую свободу и прийти в эту мастерскую с визионерским настроем на thinking outside the box: на создание новых форм и нового представления о том, какими сегодня могут быть литература и искусство. Это та самая «новая реальность», которую мы будем создавать.
Что почитать перед курсом:
- Марина Абрамович. Пройти сквозь стены.
- Нора Галь. Слово живое и мертвое.
- Владислав Городецкий. Инверсия Господа моего.
- Вадим Емелин. Идентичность в информационном обществе.
- Герт Ловинк. Критическая теория интернета.
- Кэл Ньюпорт. Цифровой минимализм. Фокус и осознанность в шумном мире.
- Дональд Рос. Не делай это.Тайм-менеджмент для творческих людей.
- Уилл Сторр. Селфи.
- Михай Чиксентмихайи. Поток. Психология оптимального переживания.
- Маргарет Этвуд. Рассказ служанки.
- Megan Angelo. Followers.
- Donna Haraway. A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century.

Семь преимуществ creative writing
«Изучение языка и написания эссе — это не единственные упражнения, которые любому автору текстов стоит выполнять, чтобы отточить свои навыки. Упражнения по творческому письму могут дать ряд выгод тем, кто работает в текстами. Это особенно важно в современном мире, который все больше движется к строго регламентированным и стандартизированным текстам и компьютерным решениям», — так считает писатель и автор блога GrammarPhile Фил Джеймисон.
И обращается он не только и не столько к тем, кто уже пишет или связан с текстами — писателям, журналистам, филологам, блогерам. Но к людям абсолютно любых профессий, с писательским мастерством никак не связанных. Недаром в университетах США и Великобритании такую дисциплину, как creative writing, можно выбрать на любом факультете. Джеймисон собрал семь преимуществ, которые дает постоянная тренировка в области творческого письма.
1. Обретение уверенности
Занятие творчеством позволит вам по-настоящему развить собственный голос и личный взгляд, не ограничивая себя никакими рамками. Это прекрасная возможность узнать и выразить, что вы думаете о разных вещах, концепциях, философиях, характерах и т.д. И это позволит вам чувствовать себя более комфортно и уверенно, когда вы будете отстаивать свое мнение и свой личный взгляд в других формах письма.
Авторы, которые не занимаются creative writing, рискуют попасть под влияние авторитетов или какого-то «надежного источника». Они не пытаются внести что-то в свое в ту область, о которой пишут. Сами того не подозревая, они теряют индивидуальный стиль и становятся автоматами, которые просто выдают информацию. В итоге они превращают свой уникальный голос в нечто утилитарное и боятся взять на себя роль эксперта, который знает реальный мир не понаслышке.
2. Художественное самовыражение
Люди, регулярно занимающиеся творчеством, погружены в постоянный процесс самовыражения, хотя могут даже не осознавать этого. Это самовыражение может быть эффективным и полезным способом сублимировать те негативные эмоции и мысли, через которые автору приходится проходить каждый день. Эксперты даже соглашаются в том, что художественное самовыражение (включая и творческое письмо) «может способствовать поддержанию или реконструкции позитивной идентичности» для людей, переживших различные виды травмы.
Хотя такая ситуация может показаться слишком искусственной, представьте, как вы берете короткую паузу посреди наполненного стрессом рабочего дня и занимаетесь творчеством. Когда вы начнете писать и придумывать героев и художественный мир, вы лучше поймете, что именно вызывает у вас стресс, или, по крайней мере, обнажите те негативные эмоции, что вы испытываете в данный момент. Так вы сможете преодолеть их и найти позитивный путь. Все это можно и нужно применять и в личной жизни — в независимости от того, мучает ли вас травма, стресс или неудачи.
3. Стимулирование воображения
Многие люди думают, что литературное творчество — это что-то несерьезное, потому что оно связано с воображаемыми мирами, ситуациями и героями. Как все это вообще может быть полезным в реальной жизни для взрослого человека, которому нужно решать реальные проблемы?
Когда вы занимаетесь литературным творчеством, то вы стимулируете свое воображение и выходите за привычные ментальные рамки. Это дает вам возможность перенаправить вашу энергию на другие вещи и более эффективно находить альтернативные решения ваших проблем. Неважно, занимаетесь вы наукой или маркетингом, creative writing дает вашему воображению именно тот стимул, который необходим для того, чтобы мыслить нестандартно и открывать новые горизонты.
4. Ясность мысли
Литературное творчество позволяет сделать ваши мысли и эмоции яснее и четче. К примеру, если вы работаете в бизнес-сфере и продумываете вашу следующую маркетинговую кампанию, то вы можете написать короткую историю, где целевой потребитель читает ваши рекламные письма. Вы можете представить, что он в этот момент делает, где он сидит, что его окружает и т.д. Все это позволит вам выработать наиболее подходящий и точный язык и тактику.
Другой пример: если вы готовите техническую документацию для новой компьютерной платформы, то вы можете написать художественный текст, в котором какой-то пользователь этой платформы сталкивается с определенными трудностями. Это упражнение также благотворно скажется на точности и ясности вашей мысли: вам будет легче представить, какую информацию стоит включать для ваших читателей, а какую можно опустить.
Кроме того, вы можете выполнять упражнения творческого письма и просто для себя — чтобы понять, что вы думаете о тех вещах и проблемах, которые вас окружают.
5. Лучшее понимание механизмов чтения и письма
Когда вы станете регулярно выполнять упражнения по творческому письму, то вы не только существенно обогатите свой словарь, но и начнете лучше понимать внутренние механизмы чтения и письма. Вы узнаете, когда строгие грамматические правила работают, а когда нет, и что может сделать ваш текст ближе к читателю, даже если вы пишете отчет о бюджете. Когда вы освоите внутренние механизмы профессионального художественного письма, то почувствуете языковую свободу и сможете легко нарушать правила там, где это потребуют законы стиля. Так вы выработаете собственный уникальный голос и не будете казаться непрофессиональным, неинтересным или неоригинальным.
6. Эмпатия и коммуникативные навыки
Когда авторы создают художественные вселенные с вымышленными героями и декорациями, им также нужно придумать индивидуальные характеры, эмоции, места и образ жизни, отличный от их собственного. Все это сообщает писателям мощное эмпатическое чувство и понимание других людей, не похожих на них самих, живущих не там, где живут они, и имеющих совсем иной ежедневный опыт.
Когда авторы лучше понимают чужие точки зрения, то им становится легче коммуницировать. Им уже не составляет труда представить, как объяснять и обсуждать темы с самых разных сторон. Этот навык исключительно важен как в профессиональной, так и в личной сфере.
7. Улучшение ментального, эмоционального и физического здоровья
Одно из исследований (наряду со многими другими), показало, что экспрессивное письмо — включая и литературное творчество — способствует лучшему ментальному, эмоциональному и физическому здоровью. Творческое письмо снижает уровень стресса и, помимо прочего, предохраняет вас от многих серьезных болезней.
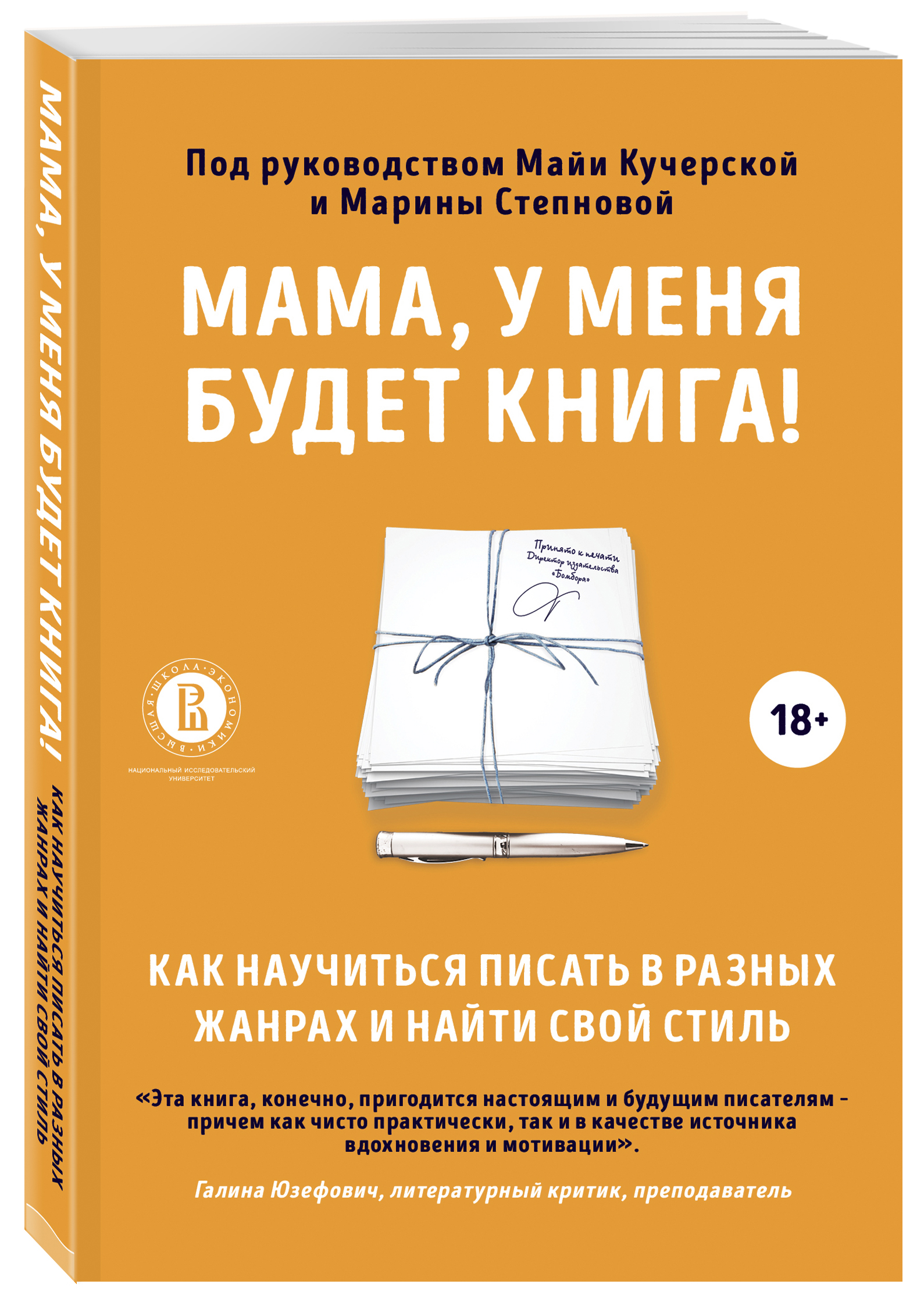
Фэнтези
В издательстве «Эксмо» вышел сборник «Мама, у меня будет книга!», посвященный жанрам художественной литературы.
Авторы этой книги — молодые писатели, выпускники магистерской программы по литературному мастерству НИУ ВШЭ. А некоторые из них — Наталья Калинникова, Анастасия Пономарева, Анастасия Фрыгина, Сергей Лебеденко — также вели мастерские в Creative Writing School. Руководили проектом писатели и преподаватели Майя Кучерская и Марина Степнова.
Книга разбирает по полочкам девять ведущих жанров художественной литературы: детектив, фантастику, антиутопию, ужасы, эротику, магический реализм, кросс-жанр, а также фэнтези, главу о котором мы и предлагаем прочитать.
История жанра
Произведения в стиле фэнтези уже давно вышли за рамки литературы. Сегодня это не только книги, но и кино, сериалы, комиксы, компьютерные игры и даже оперы.
Однозначного ответа на вопрос, когда возник этот жанр, не существует. Одни исследователи считают его предвестниками готические романы Анны Радклиф («Удольфские тайны») и Мэри Шелли («Франкенштейн, или Современный Прометей»). Другие ссылаются на цикл Лорда Дансени «Книги чудес» и мистические детективы Абрахама Меррита. Предтечей русского исторического фэнтези называют лингвиста и писателя XIX века А. Ф. Вельтмана. Его романы «Кощей Бессмертный. Былина старого времени», «Светославич, вражий питомец. Диво времен Красного Солнца Владимира» и «Новый Емеля, или Превращения» были основаны на сюжетах из русского фольклора.
Миф как первооснова
На первый взгляд фэнтези для современного человека — то же самое, что сказки для наших прадедушек и прабабушек. Действительно, оба этих жанра схожи в том, что содержат неправдоподобные, волшебные элементы. В сюжетах фэнтези могут использоваться популярные сказочные мотивы, символика или персонажи, однако в их основе лежит все же не сказка, а миф. Мифологические сюжеты гораздо сложнее, чем волшебные сказки, суть которых, как правило, сводится к простой дидактике. Миф не сказочен, но квазиисторичен, то есть всегда соотнесен с коллективной памятью. В основе многих классических фэнтези-романов лежат мифы Артурианского цикла. История о короле Артуре известна так давно, что стала архетипом для всей западноевропейской культуры, наряду с кельтской мифологией, ирландскими сагами и валлийским «Мабиногионом».
Однако фэнтези в современном понимании появилось не в XIX веке, а лишь в 30-х годах XX столетия, и не в фолиантах европейских сочинителей, а на страницах бульварных журналов США. В 1932 году молодой американский новеллист Роберт Говард опубликовал рассказ «Феникс на мече». Это была первая история о храбром Конане-варваре из Киммерии. Говард написал еще около пятидесяти небольших произведений про Конана, которые впоследствии и легли в основу нового поджанра — героического фэнтези, или фэнтези «меча и магии» («sword and sorcery»). Мир, придуманный Говардом, был очень похож на нашу обычную реальность, но его населяли маги, демоны, герои, наделенные неимоверной физической силой, и прекрасные волшебницы.
Почему же истории про Конана-варвара в одночасье стали такими популярными? Их автор превосходно разбирался в мифологии: подобно алхимику, Говард смешал в одном сосуде легенды Греции и Скандинавии, приправив их сказаниями о древнеиндийских и египетских божествах. В результате получилась уникальная квинтэссенция — новая вселенная, герои которой казались читателям узнаваемыми и родными. Даже те, кто заметил, что эта новая вселенная скроена из разных лоскутов, не смогли устоять перед ее обаянием. Так, с помощью верно подобранных образов и слов, работает архетип.
После смерти писателя серия произведений про Конана-варвара стала настолько популярной, что ее продолжили другие литераторы. В настоящее время она насчитывает сотни томов на разных языках мира, не связанных сквозным сюжетом.
«Король Конан не кричал — с презрительной усмешкой он размахивал двуручным мечом направо и налево. При всем своем огромном росте он был изворотлив, как кошка, — в непрестанном движении он представлял собой цель такую трудноуязвимую, что удары клинков противника всякий раз приходились в пустоту. Но зато, когда он бил сам, меч его опускался со страшной силой». Р. И. Говард «Конан-варвар»
Примерно в одно время с Говардом над своей оригинальной все- ленной начинает работать Джон Рональд Руэл Толкин, 45-летний оксфордский профессор, филолог, ранее неизвестный широкой публике. В 1937 году он публикует в Англии книгу «Хоббит, или Туда и обратно». Примечательно, что он позиционирует ее как детскую. В 1954 году одно из ведущих издательств XX века, «Аллен и Анвин», выпускает продолжение, «Властелин Колец». Оно уже рассчитано не только на детей, но и на взрослых читателей. Толкин хотел создать новый английский эпос, а в качестве сюжетной ос- новы взял старогерманские, староскандинавские, староанглийские тексты и карело-финский цикл «Калевала».
«Исполинский золотисто-красный дракон лежал и крепко спал. Из пасти и из ноздрей вырывался дребезжащий звук и струйки дыма, но пламени он сейчас не извергал. Под его туловищем, под всеми лапами и толстым свернутым хвостом, со всех сторон от него, скрывая пол, высились груды драгоценностей: золото в слитках, золотые изделия, самоцветы, драгоценные камни в оправе, жемчуг и серебро, отливающее красным в этом багровом свете». Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит, или Туда и обратно». Перевод с английского Н. Рахмановой.
Создание трилогии заняло у Толкина около двенадцати лет. Пока он трудился над ней, на европейских прилавках появилась еще одна книга, которой было суждено стать новым «столпом» фэнтези, — «Хроники Нарнии». Ее автором стал ближайший друг и кол- лега Толкина, Клайв Стейплз Льюис.
«И вот королевы и короли вошли в самую чащу. Не успели они сделать десяти шагов, как вспомнили, что предмет, который они перед собой видят, называется фонарный столб, а еще через десять почувствовали, что пробираются не между ветвей, а между меховых шуб. И в следующую минуту они гурьбой выскочили из дверцы платяного шкафа и очутились в пустой комнате. И были они не короли и королевы в охотничьих одеяньях, а просто Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси в их обычной одежде». Клайв Льюис «Хроники Нарнии. Лев, Колдунья и Платяной шкаф» Перевод с английского Г. А. Островской
«Магия» издательства
Конечно же, «Хроники Нарнии» сразу стали сравнивать с «Алисой в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, и даже с «Волшебником страны Оз» Л Ф Баума, где тоже были описаны волшебные миры, населенные чудесными существами. Следуя этой логике, истории про Питера Пэна и Винни-Пуха тоже следовало бы отнести к фэнтези. Но этого не случилось: издатели придумали специальный термин — «фэнтези для совершеннолетних» («adult fantasy»), тем самым создав внутри зарождавшегося жанра еще одно направление
Фэнтези завоевало всемирную известность во многом благодаря новым маркетинговым стратегиям издательского рынка. Ни «Властелин Колец», ни «Хроники Нарнии» не получили бы такой популярности, если бы первый остался в «оксфордском» библиотечном формате, а второй — на выцветших страницах старых газет. Как нередко бывает, успеху сопутствовали неслучайные коммерческие совпадения. В середине 60-х в США вышла «карманная» версия толкиновской трилогии, на дешевой бумаге, в мягкой обложке. В это же время аналогичным образом была переиздана в новой редакции вся серия «Конанов». Простодушный варвар из Киммерии и рефлексирующий хоббит Фродо Бэггинс оказались одинаково доступными американским студентам и менеджерам среднего звена. Так новый «карманный» формат позволил этим книгам со временем стать культовыми.
В 1970-х фэнтези продолжило свое стремительное развитие и уже прочно заняло отдельную нишу на книжном рынке. Стали появляться все новые и новые имена, в том числе — женские: романы Андрэ Нортон («Гаран Вечный» и др ) и Урсулы Ле Гуин (цикл о Земноморье, Хайнский цикл) получили всемирное признание. Постепенно на новый, «младший» жанр стали обращать внимание даже именитые фантасты (например, Роджер Желязны написал серию романов «Хроники Амбера»). Неизбежно стали возникать пародии (сюда можно отнести серию иронических романов «Плоский мир» Терри Пратчетта) и фанфики — продолжение приключений любимых героев, написанные уже не оригинальными авторами, а поклонниками жанра. Надо ли говорить, что подобные попытки далеко не всегда успешны, а зачастую и откровенно вторичны — однако у фанфиков есть своя аудитория, причем весьма обширная.
К 90-м годам XX века фэнтези стало использовать сюжеты не только традиционной западноевропейской мифологии. Широкую известность приобрело так называемое «славянское» фэнтези («Ведьмак» Анджея Сапковского, «Волкодав» Марии Семеновой). Сегодня авторы, пишущие в этом жанре, в поисках новых образов обращаются к культурному наследию народов всего мира, от Африки до Океании.
Фэнтези так быстро завоевало популярность не только потому, что использовало знакомые читателям легенды. Пик популярности жанра недаром пришелся на конец 60-х — начало 70-х годов: фэн- тези-литература, с присущим ей эскапизмом и духом бунтарства, стала таким же символом своего времени, как The Beatles и Вудсток. Желание погрузиться в вымышленные миры, где Добро всегда торжествует над Злом, а любую проблему можно решить с помощью магии, стало реакцией на военные события, глобальные экологические проблемы, равнодушие общества потребления. Эти проблемы, к сожалению, никуда не исчезли, поэтому фэнтези было и будет актуальным, пока у человечества остается вера в чудеса.
С тех пор, как Братство Кольца отправилось в Мордор, в фэнтези возникло великое множество направлений — от стимпанка до постапокалиптики. Этот стиль как никакой другой восприимчив к жанровым экспериментам. Правда, большинство произведений все же представляют собой смесь разных поджанров, поэтому их классификация весьма условна.
Можно выделить следующие поджанры:
- «Высокое» фэнтези — действие происходит в вымышленном мире, сильно отличающемся от нашего; есть магия, волшебные существа, артефакты и т д («Властелин Колец» Дж. Р. Р. Толкина, «Ведьмак» А. Сапковского);
- «Низкое» фэнтези — действие происходит в мире, который очень похож на реальный; люди не верят в магию, фантастические твари крайне редки («Благие знамения» Т. Пратчетта и Н. Геймана);
- Эпическое фэнтези — масштабные события, глобальные сражения, тотальные задачи вроде спасения мира (цикл «Колесо Времени» Роберта Джордана);
- Героическое фэнтези — приключения отдельных героев, воинов и магов, которым предстоит разобраться со своими личными проблемами (М. Д. Муркок, цикл о Вечном Воителе);
- «Темное» фэнтези — смесь готики и фэнтези; действие происходит в мире, где зло победило, а добрые персонажи оттеснены на второй план («Черный отряд» Глена Кука);
- Историческое фэнтези — сюжет строится на событиях альтернативной истории («Отблески Этерны» Веры Камши);
- Городское фэнтези — действие разворачивается в городе, причем сам город играет большую роль в сюжете (цикл «Дозоры» С. Лукьяненко);
- Научное фэнтези — сюжеты на стыке научной фантастики и фэнтези («Илион» Дэна Симмонса).
Еще существует так называемое техно-фэнтези, детективное фэнтези, игровое, поэтическое фэнтези и т.д. и т.п. Кто знает, быть может, нашим читателям рано или поздно удастся изобрести свой собственный фэнтезийный поджанр? Сейчас мы расскажем, что для этого нужно.
Инструкция
1. Сеттинг: творим мир
В жанре фэнтези все начинается с сеттинга. Сеттинг — это время, место и обстоятельства действия, то есть мир художественного произведения. Вспомните любой прочитанный вами фэнтезийный роман или цикл, и вы сразу же перенесетесь в неповторимый авторский мир: «Властелин Колец» — Средиземье, «Хроники Нарнии» — Нарния, «Волшебник Земноморья» — Земноморье. Как видите, многие фэнтезийные циклы уже содержат в своем названии имя мира.
Поэтому любому писателю, планирующему роман в жанре «высокого» фэнтези, в первую очередь необходимо заняться построением нового мира. В идеале автор должен знать свой мир досконально, как профессор Толкин знал Средиземье. Он не только продумал историю мира с момента творения («Сильмариллион»), но и создал эльфийский язык с двумя наречиями. Не пугайтесь: настолько глубинное знание не обязательно на начальном этапе работы. По мере развития сюжета построение мира будет происходить само собой. И все же есть некоторый минимум рекомендаций, без которого не обойтись:
- География — ваш мир будет плоским, как у Терри Пратчетта, или все-таки шарообразным? В нем будут течь реки и вздыматься горы, плескаться моря и шуметь леса?
- Биология и ботаника — что будет расти в вашем мире? Какие животные будут в нем обитать? Не лишним будет полистать школьный учебник и вспомнить про климатические зоны. Можно создавать своих животных или видоизменять реальных.
- Население — какие они, разумные расы вашего мира? Проду- майте их культурные и морально-этические особенности, язык и быт, религию, уровень технологического развития, а также политические взаимоотношения. Эльфы, орки и гномы в вашем распоряжении, но всегда можно придумать кого-то еще — или ограничиться людьми (например, у Марии Семеновой это прекрасно получается).
Писателю, планирующему «низкое» фэнтези, нет необходимости придумывать свой мир с нуля Достаточно изменить существующий, как это делают Сергей Лукьяненко в «Дозорах» или Вадим Панов в «Тайном Городе». Но и в этом случае придется потратить некоторое время на продумывание различных типажей людей и не-людей, их социальных и культурных взаимоотношений.
2. Рисерч: прототипы и достоверность
Как и в любой другой прозе, в фэнтези можно и нужно использовать прототипы. Составные части вашего будущего мира станут достовернее, а читателю будет намного легче погрузиться в атмосферу, где уже многое знакомо. Например, у Веры Камши в цикле романов «Отблески Этерны» прототипом государства Марикьяра является Испания.
Как бы странно это ни звучало, именно в жанре фэнтези особенно важна достоверность. Внимательно проверяйте, соответствуют ли описанные вами предметы и явления своим прототипам? Если ваши герои сражаются на мечах, кинжалах или шпагах, узнайте, как называются разные виды и составные части оружия. Разберитесь в том, как работает катапульта, как летают дирижабли, как называются все морские узлы и мачты на шхуне. Изучите основы тактики и стратегии, прежде чем описывать масштабное сражение. Отдельной подготовки требуют описания политической и экономической деятельности, общественной иерархии, придворного этикета, архитектуры, одежды, еды и предметов быта.
Перспектива столь подробных исследований может показаться сложной, но на самом деле это очень интересно! Вы и сами не заметите, как войдете во вкус. Если же нет, то скажем вам по секрету, что многие маститые авторы спокойно пренебрегали подобными вещами (так частенько делал, например, Клайв Льюис в «Хрониках Нарнии»).
3. Магия: создаем законы
Миры фэнтези часто называют мирами меча и магии — и неспроста. Магия — один из важнейших элементов фэнтезийного мира. Необходимо с первой же строчки четко установить законы, по которым она работает, чтобы не вводить читателя в заблуждение. Магическая система может быть простой и привычной, как в «Гарри Поттере» Дж. Роулинг, или сложной, незаурядной. Например, у Роджера Желязны в «Хрониках Амбера» некоторые герои могут перемещаться между тенями (параллельными мирами), и механизм этих перемещений похож на сновидения.
Чтобы сконструировать «бесперебойно» работающую магическую систему, ответьте сами себе на этот минимальный набор вопросов:
- Все ли существа в вашем мире способны к магии?
- Что является источником магической силы — сам маг, природа, божество?
- Зависит ли сила мага от его врожденных способностей?
- Существуют ли разновидности магии — если да, то чем они отличаются (светлая и черная, некромантия, стихийная и т.д. )?
- Какие механизмы активации используют маги (произнесение заклинания вслух, мысленные команды, жесты и т д )?
- Присутствуют ли особые инструменты и артефакты (амулеты, по- сохи, волшебные палочки и т д )?
- Какими магическими созданиями населен ваш мир?
- Каково социальное положение магии и тех, кто ее практикует?
- Каковы взаимоотношения магии и религии — существует ли священная инквизиция или, наоборот, магия связана с институтом церкви?
4. Персонажи-архетипы
Поскольку фэнтези всегда содержит элементы сказок и мифов, главный герой вашего произведения должен быть героем во всех смыслах этого слова. Он должен пройти свой путь, преодолевая трудности, а в финале — спасти мир, обрести счастье и, возможно, любовь. Этот архетипичный для фэнтези «путь героя» может варьироваться Неизбежно возникает вопрос: как сделать такого типичного героя интересным? Придумайте для него индивидуальную мотивацию — и не забудьте про главный недостаток, который будет мешать достижению цели.
Если вокруг героя собрать команду союзников, получится еще одна архетипичная история — «underdogstory» («underdog» — «неудач- ник»; термин пришел из сленга собачьих боев: так называли собаку, которая поначалу сильно уступала своему сопернику). Иными словами, группа неудачников, собравшись вместе, спасает мир. Не стоит относиться к этому сюжету скептически: «Властелин Колец», «Гарри Поттер», миры Макса Фрая — все это «underdogstory». Читатели очень любят такие сюжеты, и, если вам удастся создать обаятельных «неудачников», про их приключения с удовольствием прочтут еще раз.
Кроме героя и его команды обязательно нужен злодей — главный антагонист. Несмотря на то, что для жанра фэнтези дуальность (борьба добра и зла, темного и светлого начал) особенно важна, времена архетипичного, «абсолютного» зла давно прошли. Главный злодей не может быть злым просто «потому что» — придется и для него придумать мотивацию и главный недостаток. Хорошим современным примером может послужить главный злодей кинематографической вселенной студии Marvel — Танос. Он хочет уничтожить ровно половину всех разумных существ во вселенной из соображений сохранения экологии, и ему нелегко дается его миссия, но он не собирается сдаваться.
5. Конфликт: расстановка сил
Дуальность — противостояние тьмы и света, добра и зла — типичный конфликт для жанра фэнтези. При таком раскладе персонажи могут колебаться, менять «окраску», перебегать из лагеря в лагерь — но в конце концов они должны занять одну из сторон. Однако подобный конфликт не является единственно возможным. Например, Ник Перумов любит добавлять к противостоянию добра и зла некую третью силу. Так в трилогии «Кольцо тьмы» (продолжение «Властелина Колец», которое, кстати, встретило яростное негодование фанатов оригинальной саги) появился Золотой Дракон, столп Третьей Силы, который по своему могуществу уступает только Творцу. А Джордж Мартин в цикле романов «Песнь льда и пламени» помимо основного конфликта — противостояния людей и армии Короля Ночи — вплетает в повествование запутанную сеть политических интриг, из-за которой разделить персонажей на однозначно добрых и злых уже невозможно. Тем не менее в большинстве фэнтезийных произведений черно-белая картинка все равно просвечивает сквозь более сложный узор конфликтов отдельных фракций и персонажей, а добро всегда побеждает зло. Но никто не помешает вам сломать этот шаблон.
6. Волшебная формула сюжета
Сюжет большинства произведений в стиле фэнтези легко укладывается в узнаваемую формулу Анджей Сапковский, отчасти в шутку, отчасти всерьез, пересказал его так: «Закройте глаза и протяните руку к полке с книжками .Вытащите оттуда наугад любой роман фэнтези. В книге описываются два королевства Одно — это Страна Добра, а другое — совсем наоборот. Есть Добрый Король, лишенный трона, наследства и пытающийся их восстановить, против чего выступают Силы Зла и Хаоса. Доброго Короля поддерживает Добрый Волшебник и Храбрая Дружина. Для полной победы над Силами Тьмы им необходим Чудесный Артефакт. Когда этот предмет находится во власти Добра и Порядка, он способствует миру и процветанию; в руках Сил Зла он становится деструктивным элементом. Следовательно, Магический Артефакт надо найти и овладеть им, пока тот не попал в лапы Заклятого Врага». Эта схема не менялась веками, начиная от легенды о короле Артуре и заканчивая «Звездными войнами».
По сути, сюжет фэнтези — это квест. Герой идет из пункта А в пункт Б, попутно выполняя задания разной сложности (по принципу «от простого — к великому»). Он собирает артефакты и совершает некие ритуальные действия, чтобы пройти на следующий уровень. Чем больше этих уровней, тем лучше. Например, даже в столь «приземленном» городском фэнтези, как «Дневной дозор» А. Лукьяненко, главный герой Антон Городецкий раскрывается с самых разных сторон: как светлый маг, напарник других борцов с силами Тьмы, муж и отец. В «высоком» фэнтези сюжетных линий (т.е. частей общего сюжета, связанных с каким-либо одним героем или с группой персонажей) может быть гораздо больше. Но множить сущности — непростая задача. Для начинающих авторов фэнтези лучше брать одну-две сюжетные линии, чтобы не запутать себя и читателя.
7. Deus ex machina
Критик и теоретик фантастики Сергей Переслегин говорил, что фэнтези — «это жанр, который не обязан быть глупым, но имеет на это повышенные шансы». К сожалению (или к счастью), это утверждение до сих пор актуально. Фэнтези очень легко сделать банальным. В предыдущих пунктах инструкции мы уже рассмотрели архетипические сюжеты и предложили несколько способов избежать этой банальности. Еще одна опасность, подстерегающая писателя — случайности и совпадения. Латинское выражение «Deus ex machina», «Бог из машины», означает неожиданную развязку с использованием внешнего фактора, ранее не участвовавшего в действии. Например, когда ваши герои случайно находят «волшебную штуку, решающую все проблемы», или когда один из них оказывается «тем самым потомком древнего рода, чья кровь губительна для мирового зла». Читатель разочарован — он ведь ждал, что герой со всем справится сам!
На самом деле этот прием не является однозначно плохим. Во «Властелине Колец» Фродо и Сэма спасают орлы; в повести Михаила Булгакова «Роковые яйца» расплодившихся гадов убивает мороз, ударивший в августе. Как и любой другой, этот прием может быть хорош при осознанном и умеренном применении. Так, если бы орлы прилетели раньше и донесли Сэма с Фродо прямиком до горы Ородруин, читатель был бы лишен самого напряженного, кульминационного отрезка пути героев. А последняя глава в «Роковых яйцах» так и называется — «Морозный бог на машине», что явно указывает на сатирический посыл.
8. Эскапизм — дело благородное
Миры фэнтези настолько привлекательны, что в них можно провести хоть всю жизнь (как автору, так и читателю). Но постоянный «уход от реальности» неизбежно порождает авторские самоповторы, конъюнктуру и жанровые клише. Чтобы стать успешным фэнтези-автором сегодня, как это ни парадоксально, необходимо быть ближе к реальности, чем прежде. Современный читатель ждет непредсказуемых сюжетных ходов, правдоподобных характеров, злободневных тем. Герою уже недостаточно быть просто хорошим парнем с волшебной палочкой — он должен решать морально-этические вопросы буквально на каждом шагу и отвечать за них головой. Недаром самый популярный сериал конца 2010-х — это «Игра престолов», такой похожий и одновременно совсем не похожий на классическое фэнтези.
9. Как избежать пафоса
Сюжет, в котором читатель способен угадать основные проблемы современности, — это еще полдела. Важно, чтобы ваши герои говорили на понятном, человеческом языке. Даже если они не люди и вообще не антропоморфны. Архаизмы, жаргонизмы, профессионализмы и другие «измы», за которыми нужно лезть в словарь, отнимают время и не содействуют увлекательному чтению. Фэнтези — жанр высококонкурентный, поэтому какую бы «мудрость веков» вы не вложили в уста верховного мага, пусть она звучит максимально просто — иначе читатель заскучает и закроет книгу.
И еще. Несмотря на то, что герои фэнтези способны заклинать стихии, превращаться в драконов и летать на метле, они не должны разговаривать так, будто очень этим гордятся. Уровень пафоса должен стремиться к нулю — если, конечно, вы не пишете юмористическую книгу. Но и тогда лучше воспользоваться «антиприемом»: пусть другие персонажи иногда подшучивают над своим пафосным товарищем. Так, герои уже упомянутой нами вселенной Marvel не упускают возможности подколоть «слишком правильного» Капитана Америку. Какими бы крутыми не были ваши персонажи, помните, что спасать мир — это просто их работа.
Упражнения
1. Генерируем идеи
- Выберите популярный миф — например, западноевропейский — и попробуйте на его основе разработать замысел истории в жанре фэнтези.
- Придумайте, что можно было бы добавить в наш повседневный мир, чтобы сделать его фэнтезийным. Если фантазия разыграется, напишите зарисовку на две-три тысячи знаков
2. Работаем с миром
- Нарисуйте географическую карту мира (недостающие названия можно будет придумать по ходу дела) Обозначьте на ней основные локации и предположительные пути персонажей Неумение рисовать не помешает: это просто способ систематизации информации Используйте цветные карандаши и краски в свое удовольствие.
- Составьте список разумных рас мира, а также распишите политическую и экономическую расстановку. Нарисуйте политическую карту мира, отдельную или поверх географической.
- Заполните чек-лист для всех разумных рас мира:
- Внешний вид
- Язык
- Еда, одежда и другие особенности быта
- Уровень технического развития, благополучие
- Культура и морально-этические нормы
- Форма правления, иерархия
- Религия, традиции и ритуалы
- Продумайте законы магии по плану:
- Все ли способны к магии
- Зависит ли сила мага от его врожденных способностей
- Что является источником магической силы — сам маг, природа, «божественное»
- Есть ли разновидности магии, и чем они отличаются — светлая и черная, стихийные и т.д.
- Социально положение магии и тех, кто ее практикует
- Механизмы активации — произнесение заклинания вслух, мысленные команды, жесты и т.д.
- Инструменты и артефакты — амулеты, посохи, волшебные палочки и т.д.
- Магические создания — демоны, фамильяры, элементали, големы, гомункулы и т.д.
- Магия vs Религия — Боги, духи, жрецы, шаманы и т.д.
3. Работаем с героями
- Заполните анкету для главного героя и других значимых персонажей:
- Имя, пол, возраст, раса
- Социальное положение
- Основные черты личности персонажа (оптимист он или пессимист; интроверт или экстраверт, темперамент)
- Детство и юность персонажа: отношения с родными и близкими людьми в детстве и юности; детские увлечения; место, в котором герой вырос
- Образование, знания, навыки
- Профессия, отношение к ней
- Опишите сегодняшние отношения героя с родными и близкими людьми
- Опишите личную жизнь персонажа: Чем он гордится? Чего он стыдится
- Какова цель персонажа в вашей истории?
- Почему он хочет достичь именно этой цели?
- Кто или что стоит у него на пути?
- Какие качества и сильные стороны помогут ему достичь по- ставленной цели?
- Какие слабые стороны помешают ему достичь цели
- Составьте систему персонажей в виде списка, схемы, плана или диаграммы, обозначьте их взаимоотношения
4. Продумываем детали
- Опишите обычный день вашего героя: как он проснулся, умылся, оделся, позавтракал и занялся повседневными делами. Это упражнение поможет научиться описывать быт и лучше узнать мир. Можно повторить его для других героев разных рас, из разных локаций и социальных слоев.
- Если в вашей истории присутствуют боевые сцены, опишите, как ваши персонажи сражаются. При необходимости проведите исследование, изучите технику боя на выбранном оружии и другие детали.
- Детально опишите, как ваш персонаж применяет магию, или опишите религиозный ритуал.

Дождь в дюнах
В штормовые дни Балтика открывала границу. Волны несли на берег все, что выбрасывали моряки. И Куршская коса покрывалась следами их недоступной жизни, полной джина и ярких предметов с надписью made in. Воды катились по близкому дну, взмыленные, шипящие. Лишь у берега билась их гряда на отдельные пики. И растекалась по песку, оставляя серые разводы, пожухшие водоросли, кишащие мелкими мушками, и куски просоленной древесины. В солнечные дни легкие эти брусочки раскалялись, белесо серебрились на песке. Пахли жарой полуденных городов и специями. В дождь древесные осколки щетинились корой, мешались с водорослями и гнилью. Трогать эту штормовую слизь было противно. Но иногда между бурых ее отмелей тускло желтел янтарь. Густой и непрозрачный, как засахаренный мед. Мне нравилась пустота промокшего пляжа и низкое небо, смыкавшееся с водой. Нравилась внезапная яркость песка, открывшаяся с исчезновением солнца. Нравились кривые сосны с полуобнаженными корнями. И даже нескончаемая морось – то ли дождь, то ли соленые брызги, подхваченные дождем.
Туфли вязли в мокром песке и оставляли ямки, которые тут же заполняла волна. Ветер студил руки, белели костяшки на покрасневших пальцах. Берег и лес впереди меняли контуры, пропитываясь туманом и дождевой взвесью. Я не смотрела туда. Лучшее пряталось под ногами. Тяжелый кокос, полный песка и воды. «Мама, а что там внутри? Мы заберем его, мама?» Невиданные зажигалки, похожие на леденцы монпансье осколки прозрачной мозаики. Смятые банки из-под пива в капиталистически ярких буквах… «Нет, банку брать мы не станем, хватит кокоса…»
У деревянных мостков поднимались за дюны. Тут было теплее. И даже песок казался сухим. Но на сосновых иглах еще висели капли в зеленых отражениях. И билась между веток невидимая взвесь. Здесь «гулять на море» становилось «гулять в лесу». Пахло грибами и мхом. Влажным деревом. Кусками коры на земле — слоистыми, похожими на корабли с оторвавшейся мачтой. Чуть в стороне от тропинки росли маслята. Капли лежали на их кожуре кабошонами. Желтели грибные брюшки. Как-то внезапно воздушная взвесь становилась крупнее и вот уже текла по лицу щекотными струями. «Идем!» — торопила мама. А папа довольно бормотал под нос какую-то песню. Мы бежали мимо потрескавшихся скульптур – то ли тролли это, то ли боги, то ли герои, грубо слаженные топором, плачут под дождем и улыбаются широкими ртами – и заходили в кафе – резную избу на стыке пляжа и леса. За открытой ее дверью дождь шел уже стеной. Клонился то вправо, то влево, отвесно вбивался в песок. Без звука. Только волны с холодным, методичным своим ш-ш-ш-ш-ш и сосны, скрипящие на ветру.
«Мне, пожалуйста, кофе», — говорила мама худому литовцу за лакированной стойкой. «А мне коньяк», — добавлял папа. А я хотела вон то, не по-советски замысловатое пирожное. Кремовый гриб с коричневой шляпкой и зеленым листом. Мамин кофе шипел на песке, и плыл по кафе его дух, и вытекал на улицу, смешиваясь с запахом мокрого мха, сосновой смолы и моря.

Зима наступала
Последние дни осени, последние капли медлительного, вязкого, будто схваченного первыми заморозками времени. Все, что еще недавно кружило, пело, дарило, ласкало, яркое, зеленое, высокое, лазурное, нежное — все уходит, уходит безвозвратно, бесследно, безнадежно. Будто в беззвучной экстраполяции астральной симфонии, дрожат на ветру озябшие ветви, дождевые капли наливаются холодом, и небо все темнеет, наливаясь свинцовой тяжестью, перед закатами подергиваясь фиолетовыми прожилками, добавляя и добавляя в палитру сурьмы. И вместе с небом, вместе с природой, замирая в хрупкой скорлупке надежд, мальчик тоже переживал эту смерть, эту невольную, бесславную, унизительную измену. Демонстративно пренебрегая шапкой, мстительно прыгая на ломкой корке оцепеневших, застигнутых врасплох луж.
Но все было тщетно. Планомерно, не пропуская ни мелочи, зима наступала, наступала по всем направлениям, и во всем чувствовался холодный расчет, зловещая, непоколебимая решимость. И казалось, все вокруг замерло, парализованное отчаянием и страхом, казалось, все обречено на медленную и мучительную агонию, и только по ночам страх высвобождался, вырывался наружу обезумевшими ветрами, и луна, растерянная, сиротливая, беспомощно куталась в облака, тихо плакала, оцарапавшись о колкую паутину ветвей, лузгой серебряного света крошась на черной ленте реки.
А потом в один день все заканчивалось — и ожидание, и ветра, и опасливые вылазки робкой луны. Где-то наверху, на недосягаемой для глаз высоте обрывалась струна, и ничего не подозревающий, доверившийся глупой надежде город вдруг просыпался, оккупированный вероломным снегопадом, лихорадочной аритмией метели, суматошным мельтешением мокрых хлопьев. Одно только утро, один миг — и сорвана невидимая печать, и открыты границы, и вот уже зима, только вчера далекая, призрачная, нереальная, вовсю хозяйничает в городе. Она пришла, она уже здесь, и замирает сердце, и замирают стрелки старинных курантов на дворцовой башне, и меркнет небо, и день наливается прозрачной синевой сумерек, обманчиво мерцая бледными тенями, в заснеженных контурах предметов пряча очертания действительности…
Вечер. Прошел, истаивает первый день зимы, первый день нового и непреложного, простенькой комбинацией цифр затерявшийся в безликих столбцах календарных граф. И стихла метель, и высыпали звезды, и давно уже пора привыкнуть, смириться, прийти в себя, а мальчик все никак не может, словно в чужой, незнакомый и неправильный мир, всматриваясь в золотистый по черному крап неба, незнакомые контуры города. Что ждет там, в зазеркалье, за смазанной белесой поволокой россыпью фонарных отражений? Какими они будут, эти сто дней, сто долгих безликих теней, растянувшихся бесконечной изгородью за призрачный, вечно ускользающий горизонт?..

Свет
Вот еще говорят, «осеннее обострение». А как, простите, не обостриться, если, во-первых, свет.
Некоторые, плохо осведомленные, думают, что как сентябрь, так сразу и обострение. Это, конечно, глупости. Обострение, у меня, по крайней мере, случается в смазанные белесые дни не раньше середины октября, а то и ноября. Когда, знаете, все небо белое, и солнца, заметьте, нет, а свет есть. Вот и скажите на милость, откуда он? Висит в липком прохладном (не неприятном, кстати, что и притупляет бдительность большинства) воздухе. И не надо мне, пожалуйста, про то, что, мол, воздух влажный, отражает свет солнца… Сказано вам, нету там никакого солнца! Свет белый, бледный, мертвецкий, окутывает так, что белого света за ним не видно. И, кстати, не распадается на радужный спектр в этом вашем хваленом влажном воздухе, и почему это до сих пор беспокоит только меня – это вопрос.
А еще воздух начинает сочиться какой-то дрянью. Вы, небось, скажете «изморось», или там «туманная взвесь»? Вот не от большого ума вы это скажете, прошу прощенья, конечно. Есть вообще у людей хоть малейшая наблюдательность?! Что это за «изморось» такая, чтобы впитывала звуки и запахи?!
Из звуков остается только гул. И не надо мне говорить, что это гул машин, и это, мол, доминирующий звук в любом большом городе. Что я, гула машин, что ли, не слышал?! Это свет гудит, говорю вам! Или что-то за ним. Точнее, не гудит, а бубнит. Слов пока не разобрать, но они там есть. Уж поверьте мне – я всю жизнь прислушиваюсь.
Запахи исчезают все. В смысле, все привычные. И начинает пахнуть океаном. Вы спросите: откуда вам, Андрей, известно, как пахнет океан, если вы никогда не выезжали из своего N-ска? А мне не надо выезжать из N-ска, чтобы составить представление о запахе океана. Он, во-первых, подробно описан в мировой художественной литературе. А во-вторых, именно им пахнет в N-ске в белесые дни в октябре-ноябре. И кто бывал на океане, те бы все согласились, что именно им и пахнет. Я с такими не знаком, но если бы кто нашелся — они бы вам подтвердили. Пахнет прохладным ветром над солеными полями Вандеи, устрицами и лихостью. Которые сильно впечатлительные, они от этого запаха приходят в неоправданное возбуждение, идут по улице, улыбаются непонятно чему. Говорят: «Будто в конце осени вдруг весной пахнуло!» Идиоты. А я вам говорю: запах тоже призван притуплять бдительность.
Бабушка моя — существо прелестное, но малограмотное — меня в такие дни пыталась успокаивать. Говорила: «Это, Андрюшечка, Богородица раз в год над миром свой покров опускает. В мире, видишь ли, что ни день, то что-нибудь очень страшное случается. И с каждым обязательно случится, за грехи наши. Но если в такой день — считай повезло — покров убережет от ясной памяти». Тут загвоздка в том, что я — во-первых, атеист, во-вторых, скептик, в-третьих, человек, отягощенный высшим техническим образованием. Так что, сами понимаете, что я должен про все эти сказки думать.
Но в одном бабуля права. Права, что называет этот воздухосвет «покровом». Знаете, в девятнадцатом веке многие писали про «тонкую завесу реальности», которая отделяет наш мир от потустороннего? «Потустороннее» представляли по-разному, но завесу упоминали все. Так вот, если хотите мое мнение: раз в год, осенью, в N-ске эта завеса становится видна невооруженным глазом и осязаема. Но это не просто завеса! Что-то смотрит на наш мир, ощупывает его с помощью этого воздухосвета. Вот только зачем ему, чтобы мы об этом знали? Чтобы я об этом знал?
Ночью, если это можно назвать ночью, свет продолжает висеть за окном. Тот же, что днем. Небо за ним темнеет, а он остается. Он впитывает сияние фонарей, рекламных подсветок, фар, всякой там иллюминации. Притворяется, что он – это просто огни города, отраженные во влажном воздухе.
Почему я не задерну шторы? Я задергиваю. Знаете, про северное сияние рассказывают, что от него голова болит вне зависимости от того, смотришь ты на него или нет? С этим светом похоже — я знаю, что он висит за моим окном, и мне страшно. Что он делает? Ничего не делает, ждет.

Сухая гроза
Все перепуталось. Жара переползла в начало июня еще с мая, зной был совершенно июльский, и никаких тебе дождей. Душ и вентилятор, душ и вентилятор вторую неделю подряд (или третью?), но кожа дышала недолго, и под рукой всегда стоял пульверизатор…
Жить днем не имело смысла. Надо было ложиться на рассвете или даже позже, если были силы, дрыхнуть до обеда, потом работать под тихое вертушкино «ххххх». Балкон закрыт, шторы отдернуты чуть, ради минимума света, но не дай бог запустить в дом это пекло. Надо перекантоваться до ночи: работать, копошиться на кухне, жевать, лить воду.
Когда добрые люди расползались по квартирам с чадами и собаками, чуть-чуть отпускало, мог появиться жиденький, неуверенный ветерок, запах скошенных одуванчиков. Земля уносила наш бок от солнца, и уже хотелось дышать, и даже можно было пойти на набережную, но зачем, когда и дома так хорошо, почти блаженно. В тишине влюбленная птаха прилежно выводит одно и то же коленце. Еще бы чуть дождя…
В такую ночь, в самом ее начале, мироздание услышало: на западе, почти на горизонте, вдруг сверкнуло. Взгляд не зацепился, что-то другое было интереснее в тот момент, но забылось моментально. Теперь был важен только горизонт — минуту, другую. Померещилось? И вновь! Уже ближе и дольше, и понятно уже, что над какими-то счастливцами идет гроза.
Горизонтальные молнии проявлялись на фоне ночи, тучи били не в землю, а друг в друга. Птах затаился, гром до нас не доходил. Небеса долго тешились изломанными линиями, они казались то деревом, упавшим направо, то кустом, сваленным влево — в полной тишине. Вернее, были, наверное, какие-то звуки города — рядом мост, он никогда не молчит, но я их не помню. Только белые трещины на эбонитовом горизонте. Они росли, обещая такой ливень! Но нам не перепало ни капли, все где-то там и закончилось молча.
С пятого этажа ночью много не разглядишь, но я знаю, что вот тут, на газоне, чуть левее, растет богатый куст чубушника. Будь хоть слабенький дождь, хоть полторы капли, жасминный аромат поднялся бы до крыш и вытянул из меня несколько приятных воспоминаний…
…Кто вне конкуренции — так это соседи с третьего этажа. Когда они вылезают на балкон покурить, мне никакого лета не надо.

Тайфун
Если с самого утра перед глазами назойливой мушкой вьется морось, а в носу свербит от запаха мокрой таежной земли, значит, в Приморье пришел тайфун.
Обезлюдевшую улицу наполняет пряный аромат высоких кустов, которые в деревне называют таволошкой. Острый, будто от подкисшего чая в заварнике, запах смешивается между низким небом и сонной землей с мелкими холодными каплями, пропитывает все вокруг: темные дома, набухшие от сырости завалинки и заборы, одежду, еду, мысли. Сколько ни заедай, сколько ни передумывай, а все одно — вода из серых, как старая вата, туч да привкус сырой древесной коры на языке.
В эти дни все деревенские и дачники по домам сидят, смотрят телевизор. Мы тоже. За окнами мелкий дождь часами разглаживает, раскатывает, будто тесто, между домами красноватую грунтовую дорогу. В низинах земля набухает лужами. Ведро, забытое на крышке соседского колодца у бани, глухим бабьим полушепотом причитает под монотонный пересуд капель. Соседка баба Аня умело вяжет веники из сухой таволошки, но то будет осенью. До осени далеко.
В июне тайфуны приходят часто. Не такие мощные, как на исходе лета, дожди берут измором, скукой — и завораживают. По утрам сманят взор с чашки чая в окно, на густой туман в кудрявых головах сопок. Днем украдут слова, которыми хотел передать маме что-то важное, срочное. К ночи же зайдутся под окном лягушки деревенским бренчащим хором. Ни ветерка, ни звездочки. Шлепает вокруг дома, причмокивает дождь, никуда не торопится. А ты лежишь под ватным одеялом, сухой и тонкий, как прутик из таволошки, слушаешь то лягушек, то дождь, то трескучие анекдоты огня в печке, за теплой стеной. И засыпаешь сладко, радостно. Завтра будет все то же: морось, туманы, серое небо да запах тайги на коже и в волосах.

Ташкент
Ах ты, Господи, какой нынче снег прошел!
В такой снегопад вспоминается южная зима. Она завертывает черный город пеленами и саванами, в которых мертвец этот ждет своего воскресения — и скоро, скоро дожидается. Вмиг все тает, стремительно сгущается сырость, теплеет воздух, монистами разлетаются дожди. Дождит все: витрины магазинов, зеркала арыков, розовые кусты, площади, проспекты, стадионы, старинные скверы с помпезными памятниками… А как пахнет! Изумительно… Теплой сахарной ватой, пловом, традиционным ореховым сумаляком, который варят всем двором в огромных чанах в день весеннего равноденствия на праздник Навруз.
Город охвачен цветом. Цветет кипенно-белый миндаль, кремовый урюк, яблоня, вишня, тутовые деревья, груши, персики, черешни — ах ты, Господи! Что за весны здесь… Нега миндальная, вишневая пена, первые розы и всю весну, лето, осень, даже самую позднюю — розы, розы, розы.
Падает черный тутовник и его походя топчут старые узбечки в платьях из хан-атласа с тазами на головах, спешат юные продавцы самсы с садовыми тележками, в которых, бережно укутанные, лежат ароматные треугольники. Во дворах, даже в в центральных районах можно встретить пасущихся курдючных баранов в сопровождении чумазых мальчишек-пастухов лет шести.
Чиля наступает незаметно — жарррра, 40 градусов в тени! Чиля — так на востоке называют дни самого страшного пекла. Говорят, тогда не родятся дети, а цветы подергиваются заскорузлыми корочками, как кровью. Приходилось вам вдыхать аромат обожженных роз?
Плоды медленно и тяжело набухают, сочатся сладостью, обременяя ветви, склоняя к земле. Аксакалы пьют чай из пиал, сидя в тени в восточных беседках — айванах, лениво лают собаки, ожидая вечерней прохлады, когда хозяева палисадников протянут из окон шланги для полива огорода, и детвора станет жадно пить холодные струи.
Листва вступает в первую предосеннюю пору. В сентябре чинары будут ронять уже совершенно желтые гигантские листья. Осень в Ташкенте — три месяца золота, синевы, белоснежных горных вершин…
Ах ты, Господи, как же тоскую я!
Тоскую и вижу тебя во сне, любимый город детства. У тебя отобрали трехсотлетние платаны, разорили скверы, перелицевали парки, высушили фонтаны, снесли целые улицы со старинными особняками…
Как хорошо, что есть память — прозрачные, но вечно закрытые ворота в детство.
Ташкент.

У сосен
В растерянности стою перед кухней. Думаю, завтракать или нет. Одновременно держу в руке лыжную куртку и уже начинаю натягивать рукав. «Потом поем», — решаю я.
На улице чуть-чуть светло. Пухлые белые с серым контуром облака столпились на небе. Солнцу через них не проглянуть. Вроде бы мрачно, и можно на это пожаловаться, но я почему-то такую погоду люблю.
Две минуты от дома, и я уже иду по лесу. Семеню по протоптанным скользким дорожкам в самую глубь. Перед высокой лестницей, по которой я собираюсь забраться — кормушка для белок. Они появляются здесь только по утрам и не бегут от людей. Одна белка, не обращая на меня внимания, звучно ест, в ее лапах трещит то ли орех, то ли еще что.
По лестнице подниматься страшно. Рукой в шерстяной варежке я держусь за перила с облупившейся краской, впиваюсь ногами в мелкий гравий, вмерзший в ледяные ступеньки. Иногда где-то по дороге наверх можно уловить запах. Будто под сугробами дышит трава, будто ей там тепло, и она даже парится.
Оказавшись наверху, я иду искать свои озера — огромные замерзшие лужи с толстым слоем расписного льда на поверхности. Снег — белый, озерный лед — темно-синий или голубой. Там, где сосны стоят друг от друга поодаль, озера блестят даже от слабого невидимого солнца. Я наступаю только на маленькие озерца с белым льдом, он хрустит и ломается, как стекло.
По дороге к карьеру я смотрю под ноги, ищу крупные шишки домой на елку, но попадаются небольшие. Одна из сосен вся залита мутной смолой. Я отламываю небольшой кусок смолы и кладу внутрь варежки. На липких пальцах остается свежий древесный аромат.
Через карьер я хожу только зимой, жду, пока он замерзнет. Весной и осенью тут грязно, а летом в сандалии набирается песок. Снег в карьере разъезжен лыжниками или скатан в снеговиков детьми. Внутри еще тише, чем в лесу. Вокруг пока никого, где-то лает собака, но это далеко. В этой огромной дыре посреди соснового леса только я. Передо мной — обрыв.
Мороз начинает покалывать ноги. Я забыла надеть колготки, мне уже холодно. Быстрым шагом иду обратно к лестнице. Аккуратно, снова держась за перила, спускаюсь. Белки уже позавтракали и куда-то пропали.
Внизу я замечаю то, чего не видела по пути к карьеру: наполовину занесенный снегом куст шиповника со скукоженными коричневатыми ягодами, мандариновые корки, разбросанные у кормушки, свежее сердце, вырезанное на коре дерева.
Восемь часов двенадцать минут. Я уже перед дверью, тихо поворачиваю в скважине ключ. Из февральского холода захожу в теплую квартиру, чешутся мои замерзшие ноги. Дома уже пахнет овсяной кашей. «Мама!» — несется ко мне и обнимает за коленки дочь.

Уснул
Туман можно было схватить рукой и задержать в ладони — влажный и тяжелый, он затянул дома, черные деревья, камни и спуск к старому пруду. На ветках, не решаясь упасть на землю, застыли жирные капли воды. В них отражалось бы небо, но неба в этот день не было. Был туман, и в нем, как в коробочке с ватой, спрятались кусок улицы, углы домов и красные пятна крыш.
Стая ворон взлетела и криком вспорола воздух. А потом снова наступили тишина и влажность. Капля потеряла равновесие и упала с ветки — бесшумно, как будто извиняясь.
Из соседних домов, как из другого измерения, зазвенели ложкой о края чашки. Странно было думать, что есть что-то кроме тумана и его плотного покоя.
Внизу на пруду когда-то жили два лебедя. Там была какая-то совсем прозаическая история — кажется, из-за травмы один так и не смог улететь, а второй остался с ним. Или не прозаическая. Сказочная, если так подумать. Со временем пруд почти высох, земля пошла под огороды, но в дымке их не видно, видна только кромка серой воды и заросли высоких камышей.
Даже сейчас воздух здесь насквозь прошит маленькими звуками. Справа в овраге слышно плавное течение воды. Продираясь сквозь туман, с тонким жужжанием то и дело мелькают мошки и комары. По земле шлепают скользкие пятна лягушек, а мокрые стебли травы мерно покачиваются под весом улиток в гладких бурых раковинах.
Туман лег на землю, на пруд, на траву и на улиток, обнял камыши и уснул, тяжело вздохнув всем своим большим белым уставшим телом.
Пахнет сыростью и тиной.

Лекция «Фантастические миры». Анна Старобинец
Онлайн-курс «Внутренний подросток» Анны Старобинец — программа Creative Writing School для взрослых, которым нравятся не только беллестристика, но и такие жанры, как фантастика, фэнтези, хоррор.
Когда несколько лет назад набор на первый онлайн-курс Анны Старобинец для подростков только начался, мы получили множество писем от взрослых слушателей, жаждущих попасть на программу. «Ну почему, почему я не подросток?» — восклицали взрослые, самостоятельные и независимые. Мы сдались и решили пойти на эксперимент — открыть группу для взрослых. По счастью, Старобинец действительно не делает скидок на возраст, так что взрослые могут его слушать безо всякого впадения в детство.
С тех пор оба курса одинаково востребованы: взрослую программу мы рекомендуем начинающим авторам, подростковую — детям 10-17 лет, которые уже пишут или только хотят попробовать силы в литературном мастерстве. На курсе мы обсуждаем Оруэлла, Голдинга, Питера Хега. В программе: «скелет» истории, создание героя и антигероя, речь персонажей и идеальное завершение сюжета.
Фантастика — один из самых популярных современных жанров. И если вы даже никогда не пробовали себя в нем, представляем вам лекцию «Фантастические миры» из курса Анны Старобинец. Она может быть вам полезна в поиске идей и способов описания того, что существует только в вашем воображении. Из этой лекции вы узнаете, какие фантастические тренды вытеснили фантазии о покорении космоса и как показать в тексте свое видение мира будущего.
Анна Старобинец — автор фантастики и триллеров для взрослых, а также сказочных и детективных историй для детей. Литературные критики называют ее «русским Стивеном Кингом», а в 2018 году она стала лауреатом Европейского общества научной фантастики в номинации «Лучший писатель».

Muse: Map of Problematique
1.
Первый день моего настоящего тура.
Вчера в поезде я не спала всю ночь.
Паша вставил беруши и сразу отрубился.
Я ворочалась из стороны в сторону.
Сет начнется через пять минут.
Я готова.
Я смогу.
Когда зал взрывается хохотом, я чувствую себя умной.
Желанной.
Высшей.
Сексуальной.
Я отдергиваю пыльные занавески и выхожу на сцену.
Здесь моя первая остановка.
Приготовьтесь, ребята, я тут надолго.
Первая шутка в микрофон.
Первый смех.
Я чувствую власть.
Они мои.
2.
Автобус все. Я тоже.
Жопа прилипла к сиденью. Потрясающе фатальная череда обстоятельств привела нас в раздолбанный икарус, где не работал кондиционер (сюрприз). Кое-как барахтаясь, он проехал штук 30 серых деревень с тусклыми наличниками и бабушками в приросших платочках. Не успел доехать до 31 деревни, как что-то в организме нашего железного батона полетело. Тайм-аут. +37 градусов.
Паша решил поиграть в мужика и пошел помогать водителю разбираться с двигателем. Или со свечами. Или с колодками. У автобуса вообще есть колодки? Не знаю. Паша тоже не знает, я уверена.
Кажется, мы встали в чистом поле. Очень жарко, очень яркое солнце. Зеленый просто протыкал глаза своими изумрудными шипами, а синь неба их не сосала, а высасывала. C вами был мастер хитровывернутых эпитетов.
Хорошие новости: в поле видно небольшой водоем, окруженный деревьями. Плохие новости: импровизированный оазис охраняло целое стадо каких-то парнокопытных. Вроде, коров, не быков.
Надо набрать нашу с Пашей бутылку воды. Идти до пруда метров 400. Солнце жгло мне глаза, голова начала немного кружиться.
Я подобралась поближе к ручейку, неловко встала на два маленьких бережка и подставила бутылку. Коровы на меня неодобрительно посмотрели.
А потом земля ушла у меня из-под ног. Буквально.
Бережок обвалился, и я рухнула в воду по пояс. Ноги увязли в грязи на дне, и у меня не получалось быстро встать. Коровы оголили рога и воинственно направились в мою сторону. Я смогла подняться на ноги и потрусила в сторону автобуса.
Водитель и Паша побежали ко мне навстречу, крича коровам что-то грозное. Не знаю, что, но коровам это показалось убедительным, и они вернулись на водопой.
Паша согнулся пополам — одновременно его переполнили смех и одышка.
— Ну что, искупалась с телочками?
— Не смешно! Я чуть не умерла! Придурок!
Я начала лупить Пашу кулаками по плечу.
Все время до починки автобуса я ныла, что это худший день моей жизни, что мне мокро, холодно и что я чуть не умерла. Паша продолжал усмехаться.
Внезапно я поняла, что у меня выстроилась почти готовая история.
Мы наконец сели в автобус. Я прижала лоб к стеклу и улыбнулась. Жара сменилась проливным дождем.
Сегодня был хороший день. И он даст мне хороший материал.
3.
— Я все равно не понимаю, как ты продолжаешь после таких кейсов.
— *неразборчиво*.
— Надя, перед каждым выступлением ты глушишь стакан виски, а после — валяешься и рыдаешь, как сучка, а я укрываю тебя пледом и говорю, что все будет хорошо. Я не понимаю, зачем так себя насиловать? Тебе самой не надоело?
— Если ты этого не понимаешь, я тебе не смогу объяснить.
Нам опять дали одну двуспальную вместо двух односпальных. В очередном клоповнике решили, что мы пара, и сказали, что нет свободных номеров. Есть у них свободные номера. Им просто лень своими клешнями пару клавиш в компе нажать. Чертовы раки.
Мы никогда не были парой: несколько раз после пьяных дней рождения не считаются. Между нами всегда была полнейшая антихимия по части романтики. А может, и по части работы.
Я лежала на своей стороне и смотрела в потолок, заложив руки за голову. Паша смотрел на меня, подперев ухо одной рукой. Если мы и пара, то пара идиотов, решивших совершить приключение своей жизни. Давай, поедем. Когда у нас еще будет такой шанс, давай, будет прикольно. Паша мечтал стать концертным менеджером музыкальных групп или как это называлось, поэтому был рад потренироваться на мне как на кошке.
Но сегодня кошка с треском провалилась. К несчастью, не со сцены. Тогда бы зал просто меня не видел — а они видели, реагировали, и еще как. Сегодня в зале был хеклер — это такая мразота, кричит свои комментарии, чтобы выбить тебя из колеи. Сегодня какой-то урод крикнул: «Ты пока это говно писала, такую жопу наела?» На долю секунды я растерялась, а зал уже улюлюкал и поддерживал хеклера. Я выдержала паузу и продолжила выступление. А должна была поставить его на место. Должна была, иначе бы он продолжил. Но он почему-то не продолжил.
— Паша, а почему он больше не перебивал? Ты ему что-то сделал, да?
— Я подошел и популярно объяснил, что так вести себя нехорошо.
— Ты ЧТО сделал? — я рывком села на кровати.
— Я просто немного помог.
— Ты не помог, это называется дискредитация. Я — комик, и у меня все должно быть под контролем. Мне не надо, чтобы мамочка бегала за мной и успокаивала особо активных мудаков. Я должна показать, что я тут умнее всех!
Паша вздохнул, подсел ко мне и приобнял за плечо. Я пыталась вырваться, но он прижал меня еще крепче и сказал дышать.
Я не знаю, сколько мы так сидели. Дышали.
Но мне полегчало.
4.
Еще не все зрители разошлись после выступления. Сегодня был очень удачный сет. Мы решили это немного отметить, пока ждали трансфер.
Паша был в игривом настроении. Он приподнял стакан, как бы приветствуя пару за соседним столом. Девушка в длинной юбке несмело улыбнулась и тут же покосилась на своего спутника. Он в свою очередь грубо посмотрел на Пашу:
— Что ты мне тут улыбаешься?
— Я желаю вам и вашей очаровательной спутнице приятного вечера. Вам понравилось представление, сударь?
— Нет. Тупые бабы не могут в юмор.
— Сережа, пожалуйста… Нам очень понравилось выступление, спасибо огромное!
— Анька, говори за себя, это ты меня сюда притащила, и это тебе понравилось. Три недели меня умоляла. Если бы я знал, что это такое говно, то отбил бы тебе все желание по таким местам шляться.
Пока Паша собирался с мыслями, Анька вступилась за себя сама:
— Да, мне понравилось. Даже очень. Я и сама хочу заниматься стендапом.
— Чем???
Муж схватил Аньку за руку. Девушка едва заметно напряглась и стиснула зубы. Мы с Пашей переглянулись.
Сережа сказал Аньке что-то неразборчивое, и они начали одеваться. Я шепнула свою идею Паше, он молча кивнул и побежал их останавливать. Я тем временем быстро нагуглила нужную мне информацию и записала ее на салфетке. На самом выходе я успела их поймать.
— Анна! Если вам правда интересен стендап, то вот мой номер. Напишите мне как-нибудь, пообщаемся.
Я протянула ей салфетку. Не успела Анька ее взять, как муж выхватил салфетку из моей руки и демонстративно порвал. После этого пара вышла на улицу.
Паша проводил их взглядом.
— Так что я положил ей в карман?
— Телефон доверия для жертв домашнего насилия. И твой телеграм, на всякий случай.
— Мой?!
— Я же сама себе не пишу, бестолочь. Я только твой и помню.
— Надеюсь, она им позвонит.
— Я тоже надеюсь.
5.
Последняя остановка.
Ночью с Надей опять случился «творческий кризис». Она повторяла, что из нее никогда не получится путного комика, я отвечал своими дежурными фразами. Конечно, их не хватило. Надя обняла себя руками и бесконечно проводила ладонью от мочки уха до конца плеча. Редкие слезы капали в полуоткрытый рот. Я открыл в электронной книге эссе Ролана Барта и принялся ждать. Через некоторое время Надя скрылась в душе и провела там почти 40 минут. Вышла она с сухой головой и блестящими глазами:
— Паша, кажется, придумала новую шутку.
Очень хорошо.
***
На следующий день перед концертом Надя завалила меня вопросами:
— Паша, а что ты сделаешь первым делом, когда мы вернемся домой?
Мы не были дома почти два месяца. Первым делом я открою свой домашний бар, смешаю себе «белого русского» и выпью за упокой всех творческих душ.
— Выпью.
Надя посмотрела в зеркало и начала подкрашивать губы.
— Паша, а ты когда-нибудь хотел выступать сам?
Приплыли. Два месяца мы прожили без этого вопроса, и вдруг в Наденьке проснулась эмпатия.
— Хотел. Но недолго.
Она обернулась на меня.
— Ты выступал со стендапами?
— Было дело.
— Почему ты бросил?
— Каждый должен заниматься своим делом. У меня не пошло, я начал искать дальше. Решил попробовать сводить людей, которым есть что сказать, с теми, кто готов слушать.
— Как это — не пошло?
Я закатил глаза.
— Тебе не понять, Надя. Мне было сложно писать, я никогда не мог найти тему. А еще я испугался ответственности.
— Что значит мне не понять? Какой ответственности?
— Перед зрителем. Я начал бояться, вдруг я скажу что-то не то, что обижу своими словами.
— А я, значит, не боюсь?
Я попытался донести, что ей не понять, потому что она никогда не пишет материал, он из нее просто выходит — и за последствиями бывает сложно уследить. Надя не понимала, что я имею в виду. Завязалась перепалка. На сцену она опоздала на 15 минут.
Это был фееричный сет, один из ее лучших. Ближе к концу Надя начала импровизировать — она переврала, перепридумала наш диалог и проехалась по таким, как я — по тем, кто не может найти свое место. Каждый должен заниматься своим делом. Получилось очень хлестко и даже жестоко. Но очень смешно.
На следующий день, когда мы еще были в дороге, организаторы прислали новость городского масштаба: 18-летнюю девочку со вскрытыми венами отвезли на скорой, сейчас она в реанимации. Я молча передал Наде текст новости:
«Среди вещей девушки был найден билет на вчерашний стендап-концерт Надежды Лазуриной, московского комика, и записка. Ее содержание не разглашается».
Остаток дороги Надя пролежала лицом к стене. Я вспомнил нашу первую ночь в поезде. Надя постоянно ворочалась, и мне пришлось надеть беруши. В ту ночь я так и не заснул.
Я написал организаторам, и они сообщили мне текст записки — в небольших городах нет места большим секретам:
«Каждый должен заниматься своим делом. Но что, если твоего дела просто не существует? Что, если тебя не существует?»
Я не стал показывать Наде содержание записки. Ей еще выступать.
Но без меня.

Аврора
— Пора, — она взглянула на часы и поспешила домой. Уставший быт с холодным утренним кофе каждый вечер равнодушно встречал ее на кухне, бережно умывал, расчесывал волосы и отводил в спальню. Робко сторожил за закрытой дверью, но иногда подглядывал. Ему было интересно, что снится девушке, которая добавляет в кофе ликер.
Поднявшись по лестнице в парадной, она вызвала лифт. Он долго ждал кого-то наверху, но вернулся один. Хлопнул дверью, едва она нажала на кнопку этажа. Скрипел, но привез. На ее лестничной площадке лежал огромный черный пес. Их взгляды, встретившись, образовали электрическое замыкание. Этот удар тока откинул ее в сторону квартиры. Тень пса быстро двинулась за ней. Но рука не дрогнула, ключ нашелся, а дверь открылась. И тут же захлопнулась. Снаружи послышался собачий вой.
Состояние шока располагает к рефлексии. Она лежала в тамбуре на соседском скарбе, пока в голове не начертился стройный план. Рора снова достала ключи от квартиры и открыла дверь.
Белые ночи хрестоматийно вносят неполадки в ход вещей. В гостиной было светло, хотя часы настаивали: «Уже поздно». Сняв обувь, она подняла голову и отчетливо разглядела фигуру мужчины. Он сидел за ее хрупким стеклянным столом, а рядом был черный пес, которого она оставила за дверью. Предвосхитив ее вопрос, мужчина сказал:
— Вы только не подумайте. Это его брат. Никакой мистики.
— Я и не рассчитывала на мистику.
— Это вы зря. Вы сами не даете ей шанса, храня копию ключей под ковриком.
Она села напротив него и досадливо подняла брови. Ее глаза вопросительно выстрелили в него и утихли. Не выдержав такого грубого молчания, он решил продолжить. Номенклатурно сообщил ей о том, что в результате эффекта Хокинга — Кромвеля вчера чей-то сон упал на горизонт событий. Рора сразу поняла, какой это был сон и почему он пробил пелену реальности.
— Но где он сейчас и что там произошло, мы не знаем.
— Закон о персональных мыслях?
— Теперь нужно спешить, чтобы…
Не дослушав, она перебила:
— Только оставьте собак тут.
Они спустились на парковку и сели в его машину. Включились фары, и звук мотора понес их в безвестность. Путь был неблизким, хотя место сна от ее кровати отделяло не больше ста километров. Таковы симптомы любой дороги в свой старый дом. Ехали без музыки: ей было достаточно мантры ностальгии, а его занимал вид из окна. Если долго смотреть туда, можно увидеть осень, зиму, весну, лето и снова осень.
— Так что это был за сон?
— А что вы с ним будете делать?
— Это ювелирная работа. На верхнем уровне мне нужно будет очертить прибором пространство сна. И успеть остановить время в нем, при возникновении необратимых последствий.
На секунду Рора спрятала руками свое меланхоличное лицо, как будто сняла маску, и, повернув к нему пылающий взгляд, быстро заговорила:
— Знаете, как в конце лета в деревне жгут поля после сенокоса? Жуткое зрелище.
В детстве ее занимало всякое страшное великолепие. Продолжилось в юности. Каждый год она забиралась на крышу, чтоб замереть и наблюдать за пожаром до поздней ночи. В доме все уже тихо спали, а она сидела и дрожала буквально над ними. То ли от холода, то ли оттого, что все под ней очень хрупкое и может обратиться в прах от одной только искры. Любой искры.
— Однажды я зачем-то побежала прямо к полю. Быстро начала задыхаться от дыма, голова пошла кругом, — она набрала полную грудь воздуха. — Догадываетесь, о чем сон?
— Допустим, вам хотелось вернуться в детство. Но зачем этот пожар? Министерство Снов не рекомендует продолжать такие сновидения.
— Я не смогла проснуться. Побежала к полю, дыма не чувствовала. Потом бежала по горящему полю. У него не было конца. Оказалось, что у него не было конца. Мне не было больно, и я очень долго бежала. Маленькая я…
Они резко затормозили. В километре от машины начинался пожар.
— И правда бесконечное.
Такое зарево было знакомо ленинградскому небу. Кажется, пожар можно было увидеть из далекого космоса. И удивиться земным делам. Рора посмотрела на свои руки. Они потемнели, а ее волосы и лицо были испачканы сажей. Его же внешность не изменилась. Обернувшись друг на друга, они поняли, что происходит.
— Дальше вам нельзя. Тут пространство реальности заканчивается, и… — продолжив что-то говорить, он бросился в багажник за своим прибором.
— Кому нужна такая реальность? Если Министерство Снов не ре-ко-мен… — передразнила она. — Мы себе другую найдем.
Ремень внял ей не сразу, но она вырвалась. Кругом все горело, дымилось, задыхалось, искрило. Но, как и во сне, она почти не чувствовала боли, а гнет пламени выражался только в чувстве ее тоски. Она была бесконечна, как и это поле. Значит, у нее было чуть больше времени. На что? Она громко звала себя по имени и вдруг увидела маленькую девочку. Хорошо знакомая ей крохотная фигура села напротив нее и досадливо подняла брови. Ее глаза вопросительно выстрелили в Рору и утихли. Не выдержав такого грубого молчания, Рора закричала:
— Аврора! Выход — там!
На секунду Аврора спрятала руками свое маленькое меланхоличное лицо, как будто сняла маску, и, повернув к Роре пылающий взгляд, заплакала.
— Аврора! Беги скорее!
И она побежала.
Она всегда спешила домой. Поднявшись по лестнице в парадной, вызвала лифт. Он долго ждал кого-то вверху, но вернулся один. Хлопнул дверью, едва она нажала на кнопку этажа. Скрипел, но привез. На ее лестничной площадке лежал огромный черный пес.

Банка
Из больницы его отпустили в начале ноября. После утреннего обхода велели собираться и ждать, когда принесут выписку. Он поспешно уложил в матерчатую сумку свои вещи: кружку с щербинкой на краю, плохо отмытую после завтрака ложку, наполовину пустой тюбик «Поморина» — и аккуратно завернул в кусок газеты еще влажную зубную щетку. Потом постоял немного у окна: за стеклом едва брезжил тусклый свет неспешного ноябрьского утра. Дверь палаты приоткрылась, кастелянша Зоя, хмурая тетка, похожая на большую дряблую брюкву, метнулась хозяйским взглядом к его еще не убранной постели и, уже удаляясь по коридору в сторону своих владений, сварливо прикрикнула:
— Полотенце не забудь сдать!
Потом добавила что-то еще, чего дядя Саша уже не разобрал. Он неловко сложил вместе пару простыней, освободил наволочку от комковатой жидкой подушки, стянул с кроватной спинки полотенце и пошел по длинному коридору, шаркая больничными шлепанцами и придерживая одной рукой сверток белья, а другой — конструкцию на боку, с которой ему предстояло вначале сжиться, а потом — жить.
Когда он наконец вышел на улицу, было совсем светло, в воздухе пахло близким снегом, и дядя Саша подумал, что скоро уже надевать зимнее. Обычно смена обмундирования, как ему нравилось говорить, происходила накануне ноябрьской демонстрации, но, дойдя до трамвайной остановки, облепленной рекламными листовками, он с сожалением вспомнил, что демонстрации уже три года как нет. От вдруг пришедшей странной мысли, что непонятно теперь, когда переодеваться, ему стало смешно, а сразу после этого — тошно. Другие вопросы уже привычной вереницей потянулись в его голове, и ответов на них он не знал.
«Что делать, Маша? Бля, что делать? Тебе уже хорошо — думать не надо, ничего не надо, лежишь себе отдыхаешь. Доктор сказал: ну что, мужик, не ты первый, не ты последний, живут люди по-всякому, так живут тоже. А какая это жизнь — с банкой на боку? Так вот и придется теперь, Маша, да? Ладно, Вовка эту мою гребаную банку переживет, а девкам-то каково с калекой?»
Дома никого не было: сын и невестка на работе, внучка — девулька, как ее называл дядя Саша — в садике. Впереди был целый день. Он прошел в свою комнату, когда-то именно сюда привела его Маша, молодая, веселая, с мелкими белыми зубами. А что с дитем — так что ж? А потом и Вовка народился. Дядя Саша неожиданно для себя всхлипнул и, будто устыдившись, украдкой бросил взгляд на свое отражение в зеркале платяного шкафа. Потом потянул дверцу на себя — там, на второй полке снизу, лежали сделанные им малярные кисточки. Он взял одну. Плоская деревянная ручка удобно ложилась в ладонь. Дядя Саша вдруг заторопился, смахнул кисточки в темную утробу заскорузлой коричневой сумки, потоптался перед вешалкой в прихожей, подумав, оделся в зимнее и вышел.
Хмурое небо осыпалось мелкой белой крупкой, черные голые ветки плакучей березы длинно качались на ветру.
* * *
— А вы кто ему? Да что я спрашиваю, степень родства, как говорится, на лице написана. Да, был он вчера. Во сколько ушел? Точно не могу сказать, но темнеть уже начало, значит, часа в четыре, может, в начале пятого. Мы вместе выдвинулись, он через сторожку, как всегда — ящик свой оставить. А что случилось? Не пришел домой? Часто это с ним бывает?
Как выглядел, что говорил? Да как обычно он выглядел. Мы же с ним тут в соседях с весны, я джинсами, он кисточками торгует. Ну как торгует: дай бог раз в два дня что-то продаст. Кстати, я все мучился вопросом, где он щетину для своих кисточек берет. Из деревни возят? Я уж грешным делом подумал, что кому-то из его родных зарплату свиной щетиной платят — вон, в прошлом месяце на заводе пластмасс ведрами заплатили, не слыхал? Обычно выглядел. Может, уставший немного, может, и бледный слегка… Да он же смуглый такой, вон и ты такой же — узбеки в роду были, что ли? Или таджики? Я его спросил, почему он две недели на рынок не приходил, он так, отмахнулся — некогда было, говорит. Да?! Вон оно что. Вот черт.
Не случилось ли чего-то необычного? Да нет, рынок вчера был так себе, народу мало. Ну разве что стоим, разговариваем о том о сем. И тут два переростка мимо идут, толкаются, один в дядю Сашу и влетел. Тот упал — боком, прямо на свой ящик, матюгнулся, понятно, поднялся кое-как и все что-то про банку, про банку… До меня тогда не дошло — какая банка, где банка, зачем банка, а теперь понятно. Да ладно, вы сразу-то не паникуйте, найдется, вдруг плохо ему по дороге стало и забрали его куда. Может, в больницу, а может, в вытрезвитель, не разобравшись — такое бывает.
* * *
За окном уже почти темно. Сегодня дед уже точно должен прийти. Девочка ждет его, взобравшись с ногами на широкий подоконник. Интересно, что принесет в этот раз? Хорошо, если бы шоколадку, такую, с девочкой, румяной, в ярком платочке. Деда, наверно, опять забудет вымыть руки: пальцы у него коричневые, он говорит, что это от масла. Только он все путает: масло ей мама дает на завтрак, оно желтое и совсем не пачкается коричневым.
Вот бы уже пришел и снова по утрам заплетал девочке косичку. Мама это делает торопливо и очень туго, чтобы в садике хватило на весь день. А дед медленно собирает пальцами рассыпающиеся светлые пряди, иногда задевает жесткими руками девочкину тонкую шею, и тогда она нарочно громко взвизгивает и радуется, когда он испуганно на нее шикает. Дед говорит, что у нее мамины волосы. Смешной ты, деда, как это — мамины. Мамины волосы у мамы на голове, а у меня волосы свои. Ну где ты?
А, вон идет!
Она спускает ногу с подоконника, нащупывая босой ступней подставленный табурет и готова уже бежать в прихожую, но тут же понимает, что идущий по двору человек слишком толстый и большой. И шапка у него большая. И ботинки. Оставляют на белом снежке большие черные следы.
Папа говорил, что деда еще вчера должен был прийти, но вместо него пришла почему-то только его сумка — девочка проверила, в ней никаких гостинцев, кружка да ложка. Сидела точно так же, у окна, пока не заснула, а папа все куда-то звонил и тихо разговаривал с мамой на кухне. Девочка вздыхает и прижимается к холодному стеклу носом, скосив глаза, пытается разглядеть дальний угол двора. Ждет.

Без начала и конца
Они любили друг друга три года. Она летела к калитке с утра пораньше, едва касаясь ступнями шершавой плитки. Старалась успеть первой, но в ячейке забора уже торчали то одуванчики, то ромашки, а то и ядовитый чистотел. Маша с досадой вытягивала очередной букет и ловко карабкалась с ним на старую бесплодную сливу, занимавшую едва ли не треть небольшого дворика в частном секторе их южного города. Если бы Машу спросили, что такое любовь, она подумала бы о клубнике из соседского двора и о том, как невкусно бывает есть ее одной. Ещё она подумала бы о румяных щеках Никиты и ямочке на одной из них, и, конечно, о том, как быстро носится он с деревянным мечом наперевес и как свирепо при этом кричит.
Если бы о любви спросили Никиту, он просто подумал бы о Маше.
Дважды в год родители увозили его из пыльного и шумного областного города, надеясь, что на всем домашнем он поправит своё небогатое здоровье.
В то лето весёлый поджарый дед Никиты норовил отправить их в космос прямо на тачке с одним колесом, помогал выследить преступника, крадущего самые красные помидоры, раздобывал карты пиратских кладов. Лучшие подсказки всегда доставались Никите, но клад находила Маша. Меловой отпечаток руки преступника на сарае тоже замечала она, догнать ее было невозможно ни почти уже восьмилетнему Никите, ни гангстерам, ни индейцам. Читала Маша пока с трудом и по слогам, но легко висла на любых ветках. Машины родители обычно вспоминали о ней ближе к ужину, не слишком настойчиво пытались накормить. В беседке из винограда часто звенели бокалы, бренчала гитара, а иногда и гремели разговоры за жизнь и политику, усталая Маша частенько засыпала прямо сидя за столом.
В день рождения Никиты солнце словно взбесилось. Знойный выцветший воздух струился, обжигая ноздри и глаза. Во дворах было тихо, только стучали, разбиваясь о бетон, капли, сползавшие с древнего кондиционера. Маша, сидя на краешке желтого кресла, клеила Никите в подарок открытку. Тонкие загорелые пальцы стремительно летали над обрезками комиксов о Спайдермене. Вечером обязательно будет батут и может даже шоу мыльных пузырей, успеть бы. Девочка уже мысленно парила над землей с открыткой в руках, иногда встречаясь взглядом со смеющимися глазами Никиты. «БАМ-бам» — пружинил батут… «Бам-бам-бах-бах», — постепенно в комнату врывались негромкие, но тревожные звуки. Слышался мужской настойчивый голос, напряженно шипел женский, разбивалось что-то громоздкое, хлопала дверь. Безобразная симфония раздувалась в пространстве, приобретала углы и наросты, давила на грудную клетку, лишала воздуха. Маша поглубже вдалась в кресло и зашептала: «Только не сейчас, только не сейчас…только не сегодня, только не сегодня… пожалуйста, не сегодня…». Батут сдувался, пузыри лопались и стекали по щекам, оставляя горькие дорожки. Маша зажмурилась. Человек-паук взлетал со стола, готовый спасти, но не спасая.
Хлопнула дверь? и голоса ввалились в соседнюю комнату.
— Я не хочу, не хочу об этом говорить! И не буду, понял! Это мой дом! Не нравится, вали отсюда, исчезни из моей жизни ! Почему не уходишь?!.. А-а-а! Не смей! Ребёнок все слышит…
— Пусть слышит, может не будет, как мать, тупой ленивой сукой, которая только тыркает в телефончик! Ты же никогда меня не любила, все деньги, деньги, да?!
— Прекрати! Хватит! Соседи все слышат, сегодня же будет праздник. Давай не будем, хватит!
— Да мне плевать на них, поняла, на всех плевать! Ты долго будешь держать меня за идиота? Отвечай, я задал вопрос!
Девочка крупно дышала, кажется, тонкая футболка даже намокла на спине, она повертела ножницы в руке, полязгала в воздухе лезвиями и разрезала открытку пополам, и ещё пополам. Оторвала человеку-пауку руку, затем и голову, смяла остатки. По шаткой лесенке забралась на кровать-чердак и накрылась одеялом с головой. Сквозь забытье Маша слышала, как плачет мать в спальне, как пришли и ушли соседи, приглашая ее на праздник, как стучал в стенку растерянный Никита. Закрыв глаза, она бесконечное количество раз залезала на сливу и прыгала с неё вниз, пока не заснула.
На следующий день мама увезла Машу в деревню под Курск , к своей тетке, там было сыро, скучно, но тихо. К осени они вернулись в как будто нежилой, заброшенный свой дом. Газон высох, зато позади летней кухни бушевала дикая конопля. Пока хозяев не было дома, дед Никиты не спросясь отпилил ветку у сливы, решил, что она все равно скоро сломается под собственным весом. На уцелевшей части дерева болтались выцветшие бумажные гирлянды, обозначавшие вход в «комнату». Без спиленной ветки туда было не забраться. Отрешенно слоняясь по двору, Маша пинала носком засохший букетик ромашек, перевязанный грязным шнурком, и все выглядывала тайком Никиту. Его как-то быстро и скомкано увезли, не позволив даже попрощаться. За неделю до линейки успели купить портфель и кое-какие школьные вещи, зарядили дожди.
Через год подросший Никита будто впервые увидел длинноногую амазонку, одинаково легко освоившую и скейт, и ролики, и программу первого класса. Она его больше не замечала.

Богатый мужчина, красивая женщина
Две тысячи двести евро в месяц Базилик Оливьер тратил на секс. По парижским меркам это немного, если, конечно, ты чиновник. Но для Базилика это было затратно, хотя положение позволяло. За свои шестьдесят пять лет он влюблялся чаще, чем покупал себе одежду. Правда, настоящую любовь с доступом к телу он получал исключительно за деньги. Например, в одном из массажных салонов, что примыкают к Елисейским полям узенькими улочками. Когда кончались деньги, кончалась и любовь. А деньги заканчивались каждые две недели. Так он и любил: от зарплаты до зарплаты.
Его друг Франсуа, кастинг-директор на киностудии, иногда подкидывал ему красивые бюджетные варианты от метра семидесяти с натуральной грудью. Какую-нибудь модель или актрису, только-только приехавшую завоевывать Париж. Такие девушки были удобными и благодарными, радовались вечерним прогулкам по саду Тюильри и булочкам с шоколадом на завтрак, обед и ужин. Их тело всегда хотело близости. И Базилику это нравилось. После месяца-двух таких отношений он хотел бросить всё к ногам скромной избранницы. Брал кредиты, влезал в долги. Одной даже квартиру купил за двадцать пять миллионов. Бывшая чемпионка по художественной гимнастике, жадная до денег, умело скрывала свои способности аферистки. Сначала романтика, потом деньги и… конец сюжета. После таких историй Базилик не сомневался: самые честные женщины — это проститутки.
Обычно знакомства с любовницами Базилик заводил на вечеринках после показов мод. Франсуа представлял его как серьезного чиновника, сноба и очень избирательного до девушек. Красавицы клевали. Почти всегда и почти все. Клюнула и Мари, в прошлом заурядная русская модель и содержанка, сейчас студентка четвертой Сорбонны, французского филфака.
Обнаженные плечи в темно-синем бархате и каштановые волосы, которые она умело собирала в конский хвост, подчеркивали её тонкую шею и скулы. Она знала: элегантность — отличная наживка для «банкоматов», мужчин, готовых спускать на неё состояние. Легкая на подъем, острая на язык, с губами Джоли и татуажем глаз. В тридцать пять все средства хороши!
Базилик заметил её сразу. Но подойти стеснялся. Познакомил их Франсуа. Весь вечер Базилик рассказывал Мари, как всю жизнь шёл к цели, как дослужился до чина, как хотел, но не успел завести семью. Он говорил про домик в Сан-Тропе, про друзей из мира богемы и восхищался русской красотой и Достоевским. Мари слушала невнимательно, от скуки разглядывая чужие наряды и подносы с красноикорными тарталетками. Он ей не понравился. Слишком сутулый, слишком старый и слишком хвастун. Но отказывать ему она не стала. Его связи, деньги могли дать ей хороший старт. Было уже за полночь, Мари хотела принять горячую ванну и красного сухого перед сном.
— Позвоните мне завтра после обеда. Оровуар, месье Базиль!
* * *
В среду вечером они договорились встретиться в кафе «Каретт», что на площади Трокадеро. Место выбрал он. До его квартиры отсюда было минут пятнадцать ходьбы. Удобно. Можно не тратиться ни на бензин, ни на такси. Он знал, что русским девушкам нравилось это место. Стильно, шумно и по-парижски тесно. Та самая ля ви ан роз. Жизнь в розовом цвете.
Она пришла раньше. Взяла бокал белого, орешки и уткнулась в окно на Эйфелеву башню. Лица его она не помнила. Но образ кузнечика в пиджаке узнала бы издалека. Пиджак он носил действительно большой, совсем ему не по размеру и не по статусу. Американский крой, без талии, слегка потертый, на двух болтающихся пуговицах на животе. Осанка его была похожа на вешалку из тонких железных прутьев, которая принудительно сгибалась под весом одежды. И хотя подплечники в такой модели были не предусмотрены, у него они почему-то виднелись. Уже потом она узнала, что это он самостоятельно пришил их и очень гордился этим.
На левом рукаве висело две нитки, на правом стояло пятно от кофе. Если присмотреться, было заметно, что его затирали на скорую руку. Скорее всего, утром, переваривая сыр с трюфелями и опаздывая на работу. На продуктах он, кстати, никогда не экономил. А пиджак этот перекупил у своего друга Франсуа за двадцать пять евро и тридцать минут пустой болтовни.
Подол и манжеты были такими длинными, что изо всех сил старались дотянуться до колен. Десяти сантиметров не хватало. Всем он говорил, что это стиль оверсайз, американский шик. Особенности такой модели — скрывать недостатки фигуры. В его же случае размер икс-икс-эль только подчёркивал их. Он словно тонул в костюмной ткани, оставляя на плаву только голову и второй подбородок.
«Бонжур, Мари! Комман са ва?» Перед ней стоял тот самый Базилик, представившейся ей вчера Верховным Судьёй Франции. «Да какая разница, что у него там за пиджак, — подумала она. — Главное чин и деньги на его счету. Остальное переоденем!»
* * *
Вот уже год и пять месяцев Мари и Базилик жили вместе. В большой светлой квартире с двумя ванными комнатами и котом. Мари ела по утрам абрикосовый джем с горячим багетом. Базилик — сыр с черным кофе. Разница в возрасте чувствовалась только по ночам. И храп, и секс были одинаково непоправимы. Но для нее это было совсем неважно. Она уже успела полюбить его. С уважением, верностью и без претензий.
В полседьмого вечера Мари вышла из квартиры на авеню Клебер и как обычно не могла закрыть дверь. С первой попытки никогда не получалось. Замок был старый и капризный, ему было плевать, что Мари уже опаздывает на ужин с Базиликом и его друзьями.
Через пять минут и двадцать пять попыток прокрутить ключ в замке к Мари подошла женщина лет шестидесяти, низкого роста, с худым лицом и конвертом в руке. Внешность ее была знакома Мари. Консьержка с нулевого этажа, всегда вежливая и улыбчивая.
— Бонжур! Не подскажете, когда вернется хозяин? — спросила женщина.
— Поздно вечером. А я могу чем-то помочь?
— Да, передайте ему, чтобы срочно заглянул ко мне.
Мари потянула ручку вперед-назад и кинула ключи в сумку. Победа. Дверь была закрыта.
— Извините, мадам, если это так срочно, я могу прямо сейчас позвонить Базилю Оливьеру и…
— Нет, не стоит. Хотя подождите…
— Да?
— Ваш друг…
— Что он?
— Ваш друг, месье Базиль, давно не забирал почту.
— И всего-то! Забывает. Через месяц у нас свадьба. Столько хлопот!
— Как вы сказали? Свадьба?
— Да, меня зовут Мари, я его невеста. Могу забрать письмо.
— Как же это вы поженитесь? — как будто сама себя спросила консьержка. — Месье Базиль же…
— Что?
— Месье Базиль же два года как помолвлен с Жюстин Либецки. Они вместе работают. Вам нехорошо? Мари? Извините, как-то неудобно получилось. Держите почту.
Слёзы накатывали. Мари покрутила в руке белый конверт размером двадцать на двенадцать. В левом верхнем углу было написано: «Федеральный Кредитный Банк Франции. Базилю Оливьеру. Париж 16, Авеню Клебер» и так далее. А посередине розовый, будто слегка потертый, круглый штамп «Уведомление».
В голове Мари вдруг всё перемешалось черно-белыми красками. Друзья, лето в Сан-Тропе, признания в любви, Париж, кафе «Каретт», его пиджак, первая ссора, первое проникновение, Он.
— Что теперь делать? — Слезы скатились черными стрелами по щекам. — Помолвка, Жюстин, кредитный банк. Надо срочно позвонить Франсуа. Больше некому.
* * *
— Не говори ерунды, моя дорогая Мари. Он отличная партия. Сам тебе завидую. — За две минуты разговора по телефону хитрый Франсуа пытался умерить пылкий мат Мари. Он знал всё о Базилике. Но в постель и в паспорт к нему никогда не заглядывал. Чтобы не подхватить лишних проблем.
— Не копайся в нём, — продолжал он. — У него такие связи! А какая порода! Да, староват, но это не минус. Вот помрёт, на тебя всё перепишет, ты потерпи. Рубашки теперь, кстати, каждый день меняет. Сок алоэ пьёт натощак. В спортзал ходит. Ну, в тот, который за Парижем, с площадкой для гольфа. Знаешь? Девчонки-охотницы ему там глазки строят, одна даже телефончик свой подсунула. Телефончик он взял, но порядочно предупредил, что у него есть девушка, русская и очень красивая. Бережёт тебя. Он вчера мне сказал, что хочет липосакцию живота сделать. Надо соответствовать, говорит. Вообще не понимаю, чем он тебя успел огорчить. Весёлый, образованный, влюблён в тебя по уши. Да, и в себя тоже. Даёт свободу, крышу, перелёты, месячное содержание. Ну полный пансион! И на метро по двадцать пять евро в день оставляет, и в музеи водит. Он до тебя никого по музеям не водил. Деньги на ветер, говорит. Лучше двести грамм сыра с трюфелями купить. Вкуснее будет.
— Он помолвлен!
— Звучит так, будто ты в него влюбилась, а он разбил тебе сердце.
— Да, — и бросила трубку.
* * *
В десять пятнадцать вечера Базилик Оливьер пришёл домой.
— Мари, любимая, что у тебя с телефоном?
Полная иллюминация, тёплый кот на диване и тишина. Не снимая грязной обуви, Базилик заглянул в гостиную, из гостиной в ванную, оттуда пошёл на кухню. «Мари!» Там, на высоком столике под банкой абрикосового джема лежал конверт. Белый, пугающий, размером двадцать на двенадцать, с розовым, слегка потертым штампом «Уведомление». Базилик понял, что теперь бессмысленно звать, искать, помнить Мари. Он банкрот, она всё знает.
— Франсуа, салют! Как жизнь? Мари меня бросила. Меркантильная русская шлюха. Она носила брюки на завышенной талии, как у моей бабушки. Не распускала волосы и целовалась без языка. Я ей о Гитлере, она мне о Гюисмансе. Ну полное непонимание и безвкусица. Когда там следующая вечеринка моделей? Но пожалуйста, в этот раз кого-нибудь с формами пригласи. Хочется наконец-то кончить…

Все эти уловки, которые они называют жизнью
От постоянной рвоты болели мышцы гортани, каждый раз, когда я сглатывал слюну, боль сковывала язык и отдавала в уши. Но это была не единственная моя проблема. Из-за непрерывного поноса весь анус покрылся мелкими трещинами, они ныли, как если бы слизистую разрезали лезвием. Боль отдавалась в самое сердце. Последние шесть дней я уже не вставал, и медсестра сделала мне из бинтов имитацию подгузника.
У нас был оснащенный госпиталь. Для миссии ООН присылали самых лучших специалистов и новейшие препараты, но мне ничего не помогало. Из-за жуткого запаха меня отселили в коридор. 30 человек взвода — портянки, полумокрые кирзачи, обильная черная растительность в подмышках, отрыжка от дешевого местного пива. Но они отличали именно мой запах, потому что это был запах смерти. Но не такой смерти, к которой нас готовили. Ты бежишь по пересеченной местности, позади тебя твои братья, целый отряд. Вдруг наклоняешься завязать шнурки и, поменяв угол зрения, видишь в салатовой, весенней, нежной листве — дуло, черное, безапелляционное и живое. Ему не станешь задавать вопросы. Ты знаешь наверняка, что уже на мушке, но стараешься вести себя непринужденно, будто бы ничего не заметил, понимаешь, что подойди вы ближе — жертв будет больше, и мгновенно принимаешь решение: достаешь гранату, откусываешь чеку и бросаешь. Что-то параллельно еще кричишь, но чувствуешь, что дуло тоже не дремлет. Оно успевает ответить на твой главный вопрос, хотя ты его и не задавал. И все, темнота. Такая смерть пахнет почетом: лаком, которым покроют твой красного дерева гроб, выглаженным флагом, белыми весенними цветами и, конечно, кислым порохом поминальных выстрелов в небо. Лежа в полусознании, за три тысячи км от родного дома, в проходе между казармой и складами, обосранный и облеванный, я мечтал о такой смерти. Первое время комвзовода переживал, что я подхватил что-то заразное, и торопился отправить меня в город, но в течение двух недель никто не заразился, и он успокоился. В ситуации, в которой мы оказались, жертвовать здоровыми бойцами, чтобы доставить одного засранца к врачу — нелепо. Поэтому я просто лежал и ждал, когда из моего тела выйдет вся влага до последней капли. Теперь, когда я могу проанализировать всю свою жизнь, я думаю, что тогда, наверное, я и умер, а весь остальной кошмар мне просто снится.
Заира заходила раз в неделю. Иногда приводила с собой еще девушек, иногда одна. Она была из местных. Мне тогда она казалась очень взрослой, хотя сейчас я понимаю, что ей было не больше 35. Сбивала ее седина на фоне природных черных волос. Плотная, с широкими, почти мужскими бедрами, Заира за раз могла оприходовать шесть-семь мужчин. Нрава была сурового. Партнеров выбирала сама, и никто не смел ей перечить. Однажды, проходя мимо меня в окружении не по уставу веселого офицерского состава, она остановилась и посмотрела не то с отвращением, не то с жалостью.
– Дед Коста, – сказал она и ткнула пальцем в воздух, – знает местные травы, поможет.
За меня ходили просить двое моих друзей. Вернулись молчаливыми и как будто даже испуганными. Местные были падки на деньги и провизию, но дед, к нашему удивлению, ничего не взял. Распорядился только, чтобы меня перенесли к нему в дом. Комвзвода колебался недолго. Меня потащили на носилках, идти я не мог.
В доме уютно пахло дровяной печкой, окна были завешены плотной тканью, из мебели в комнате был только стол и по обе его стороны две длинные, как для большой семьи, скамьи. Деда дома не оказалось, ребята составили рядом две скамейки и водрузили меня на них. Под голову подложили рулон бинтов, который медсестра заботливо дала мне с собой. Я надеялся, что ребята дождутся со мной Деда, но они быстро ушли. И я сразу почувствовал, что в горле ужасно пересохло. Я уходил в беспамятство и снова возвращался несколько раз, в животе урчало, я был готов ползти за водой, но не знал, куда. Я стонал. Не знаю, сколько я пролежал, мне начало казаться, что меня специально бросили здесь, чтобы я умер не в военной части и не портил статистику. Но вот калитка скрипнула, послышались шаги, и в дом лихо вошел Дед Коста. На вид ему было за 80, худой, абсолютно седой, лицо покрыто глубокими и дряблыми складками. Единственное, что никак не уживалось с образом старика – это его прямая осанка. Со спины ему было не больше тридцати. Двигался он как кот: никогда не торопился, но всегда успевал. Если он приносил охапку дров, то никогда не бросал ее на пол у печки, а присаживался с ними и раскладывал аккуратно, щепку за щепкой. Он вошел и воткнул в меня свой взгляд. Взгляд свой он именно втыкал, как втыкают в дерево заточки. Я тут же подумал, что он забыл, кто я, и принялся мямлить, что, мол, солдат, из части, из России, что заболел, ослаб. Я попросил воды, но он всадил свой взгляд в меня еще глубже. Я уже запереживал, что он не понимает русского языка, но когда упомянул Заиру — Дед встрепенулся.
– Шлюха?
– Да, да, шлюха, – почему-то обрадовался я.
– Я тебе не Заира, – серьезно сказал он, – и не мамка. Обосрешься в доме – будешь убирать сам, блеванешь – выгоню жить в сарай, это ясно?
Ну, по крайней мере, он говорит по-русски, хоть и с легким акцентом, подумал я и потерял сознание.
В следующую неделю Дед поил меня каким-то горьким отваром. Через два дня я выбросил подгузник, через четыре — встал на ноги. Несмотря на мою слабость мне не терпелось выйти на улицу. Сам Коста уходил каждую ночь и возвращался на рассвете. Сначала я думал, что у него есть пассия, но чем больше я узнавал его, тем больше понимал, что дело тут в чем-то другом.
Я упросил Деда погулять по весеннему лесу. Мы выдвинулись вдоль пролеска к горе, у подножия которой и стояла деревушка. Сама возможность передвигать ноги казалась мне наивысшим удовольствием. Мы уже хотели повернуть назад, когда увидели роскошную лисицу, которая пересекала поляну. Трава была достаточно высокой, и мы видели только тонкую нитку, которую она оставляла на зелени, словно шелковый шлейф. Иногда она поднимала морду, чтобы принюхаться. Я любовался ее быстрыми движениями и переливами меха. Дед сказал, что лучше нам отсюда уйти, но я хотел постоять еще. Вдруг я увидел что-то черное, сначала мне показалось, что это фрисби, брошенная высоко в воздух, или бумеранг. Но черное пятно приближалось, и я понял, что это беркут. Времени было мало, нужно было действовать, я ринулся к поляне. Но Дед схватил меня за плечо. Я впервые испытал его силу на себе.
— Мы не станем вмешиваться, – произнес он твердо.
Я пытался высвободиться, но он оказался гораздо сильнее меня. Беркут завис над лисой и через мгновение камнем упал на нее, она прижалась к земле и в момент приближения птицы прыгнула вверх со всей силой, на которую только была способна. Лиса извивалась в воздухе в попытке схватить птицу. Я видел ее ярость и оскал белоснежных клыков. Бой был неравным. Беркут поднял ее в воздух метров на 20 и бросил с высоты. Затем подхватил обмякшую тушку, в его когтях богатый мех все еще продолжал переливаться на солнце, хвост висел безжизненно. Дед опять сказал, что надо уходить, но я не мог сдвинуться с места. Листва там, где только что бежала лиса, зашевелилась. И над травой показалась еще одна лисья морда, но поменьше, а потом еще одна и еще одна. Лиса перебегала вместе со своим выводком. Я хотел броситься и забрать щенков, но Дед оказался быстрее. Он прижал меня к дереву и повторил ту же фразу, с той же интонацией:
— Мы не станем вмешиваться.
В воздухе снова показался беркут. Щенки были растеряны и дезориентированы. Он перетаскал всех. Я наблюдал за этой расправой, прижатый к дереву. Я вырывался, кричал и топал ногами, надеясь спугнуть хищника. Я проклинал Деда. Когда все закончилось, я упал на колени и заплакал как ребенок. Я ненавидел Косту.
— Ты – лицемер! – кричал я. — Ты с такой любовью собираешь эту траву, раскладываешь ее, сушишь, поешь ей свои песни. А спасти эту лису не дал, хотя бы щенков!
Дед долго смотрел на меня, прежде чем заговорить.
— Подумай о том, что эта лиса собрала всю свою волю и все свое знание для этого похода. Она готовилась к нему. Она столкнулась с чем-то сильнее, умнее и удачливее ее самой. С чем-то необъяснимым. Таков Путь.
Конечно, мне надо было бежать от него, как только я встал на ноги, но меня все держала его тайна. Я проводил ночи, размышляя, куда мог уходить Коста – собирать растения по ночам невозможно.
В один из дней перед сном я решил спросить у него прямо:
— Возьми меня с собой сегодня ночью?
— Путь потребует от тебя невозможного. Тебе придется прыгнуть в пропасть и разжать руки. Все, что ты любил, и все, к чему ты привязан – окажется ничем, пустотой. У Воина нет ни родины, ни доблести, ни чести, ни имени. Есть только способ разговора с Богом. Боюсь, для тебя это будет слишком. Лучше закончить здесь. Скоро тебе уходить.
На следующий день нам объявили о том, что миссия окончена. На сборы дали два дня, я был вынужден вернуться в казарму. Встретили меня с радостью, мы даже отметили мое исцеление местным пивом. Но меня ни на секунду не оставляла идея проследить за Дедом. Просто спасенной жизни мне теперь было мало.
В ту последнюю ночь я лежал и ждал, пока в казарме станет тихо. Спали даже караульные, поэтому мне не составило труда выйти из части и проследовать в сторону леса. Я шел ровно по тому маршруту, что и в ту прогулку, но следов Деда не находил. Я проклинал себя, что не поджидал Деда у дома. И в следующую минуту услышал странное пощелкивание, совершенно неестественное для леса. Я огляделся и понял, что звук исходит из-за кустов. Я знал, что заглядывать туда не надо, но остановить себя не мог. За кустами была та самая поляна. Солнце встало уже достаточно высоко, чтобы в синеве молодого рассвета я мог увидеть все как есть. Над поляной летел Дед Коста. Даже не летел, он замер в воздухе и смотрел куда-то в небо. Сначала я почувствовал, как одежда на мне поднимается. Я был в широком свитере, и он фактически налез мне на голову. Подними я руки, он бы легко с меня слетел в воздух. Потом я увидел, как шнурки на моих ботинках поднялись вверх, как будто наступила невесомость. Я ощутил легкость ног и потом я полетел. Небо с белыми немигающими звездами стало значительно ближе, во всей вселенной мы остались одни: я и черная бесконечная пустота. Я чувствовал ее обжигающий холод и четко знал, что нужно прыгнуть. Прямо туда. Озноб пробрал меня до самых кишок. Я становился единым с чем-то гораздо больше меня. Космос манил меня, он открылся мне, он ждал от меня шага. То, что секунду назад было мной, распадалось на частицы. Всего лишь шаг, один шаг. Но вдруг все эти частицы стали мне так дороги. Я стал хвататься за каждую из них: за каждое воспоминание, за каждое чувство, даже за свой страх. Особенно за свой страх! Мне показалось, что если я перестану бояться, то исчезну. Страх будто обосновывал мое существование, делал меня реальным, твердым. И затем, кажется, я упал. Кровь прилила к голове, в глазах потемнело. Я кубарем покатился вниз и катился довольно долго, пока наконец не зацепился ногой за корень дерева и не встал на ноги. Так быстро я не бежал никогда. Я перепрыгивал овраги, ветки кустарников хлестали меня по лицу, я зажмуривал глаза и несколько раз, не успев среагировать, больно ударялся о стволы деревьев. Горячая и вязкая кровь из рассеченной брови текла по лицу. Я бежал и обещал Богу, что если он позволит мне сейчас уйти, то я никогда больше не вернусь сюда.
Через два часа в составе своей роты я покинул деревню. Я ликовал, что мне удалось унести ноги. Но чем дальше я удалялся от деревни, тем сильнее маленький колокольчик сомнения не давал мне покоя. Он становился все назойливее и назойливее, пока не ударил по моим ушам набатом, на секунду я оглох: где-то в глубине я знал, что проиграл, возможно, свою самую главную битву.
Все испарилось, как только я переступил порог родного дома.
В моей семье считалось, что разговоры это для девок. Со своим отцом я разговаривал за всю свою жизнь несколько раз: перед поступлением в военное училище, после присяги и перед этой командировкой. Каждый раз это были три-четыре предложения о том, что я не должен подвести его в глазах боевых товарищей. Поэтому, когда через 20 лет у меня наконец родился сын, я сделал все, чтобы разговаривать с ним как можно больше.
Но мой сын был совсем другим. Он запирался в своей комнате и мог просидеть там весь день. Когда я внезапно, без стука, заглядывал к нему, он сидел на полу и смотрел на дверь, ровно туда, где появлялась моя голова. Будто бы знал заранее, что сейчас я загляну. Сидел неподвижно. Я спрашивал, как у него дела, он дежурно отвечал, что делает уроки или слушает музыку, хотя никаких звуков из его комнаты я никогда не слышал. Друзей у него не было. Школа его не вдохновляла, но уроки он делал быстро и учился на твердое «хорошо». Я бы совсем оставил его в покое, если бы не тот случай.
Это был приятный летний день, когда нет ни ветерка, и все предметы отбрасывают длинную тень. Сын сидел на ступеньках перед домом, возле него сидел наш кот и умывался. Я смотрел на них из окна веранды. Мой мальчик ковырялся с машинками, как вдруг он уставился на кота и смотрел неподвижно около минуты. Кот взвизгнул и хотел было убежать, но взмыл в воздух. Все выше и выше. Кот вздыбил шерсть и рычал, пока не осип от ужаса. А сын смотрел на него не дрогнув и вдруг отвел взгляд. Кот, к счастью, приземлился на лапы и тут же убежал. А я смотрел на затылок собственного сына и боялся, что он сейчас повернет голову и улыбнется как ни в чем не бывало. Часы отсчитывали секунды, по моему лбу катились капли пота. Голову он так и не повернул, но мы оба знали, что это представление было для меня.
После этого я стал часто и подолгу отсутствовать из-за службы. Я соглашался на все походы, лишь бы не оставаться с сыном наедине. Когда я вернулся из очередного похода, вещей жены и сына в квартире не было. И я вздохнул с облегчением. К тому моменту я прошел много горячих точек и заполучил на погоны несколько звезд, но ни одна из них не способна была заменить те далекие и холодные звезды в черном небе. Меня ни на секунду не покидало чувство, что я проигравший.
С сыном мы много лет не виделись. Его мать попросила поговорить с ним по-мужски. Так что теперь передо мной стоял уже взрослый и абсолютно чужой парень. Разумеется, я не собирался с ним ничего обсуждать. Мы перекинулись несколькими словами, я показал ему его комнату и надеялся просто переждать. Он уходил каждый день из дома в три часа ночи, возвращался на рассвете и сразу ложился спать. Он вел ночной образ жизни, и меня это вполне устраивало, мы старались не пересекаться. Негласно мы поделили квартиру по часам. Однажды он вошел в кухню днем, я тут же налил чай и вышел. Меня кольнуло в самое сердце — я точно повторил ритуал, который проделывал мой отец. Он избегал меня, я избегаю своего сына. Привычный ход вещей не разорвать.
В ту ночь я поставил будильник на три часа и вышел вслед за сыном. Он шел к самому высокому в городе зданию. Без труда он поднялся на самую крышу по пожарной лестнице, я проследовал за ним, не особо прячась. Я снова услышал странное пощелкивание и огляделся — на крыше никого не было. Тогда я запрокинул голову. Над городом парил молодой мужчина, мой сын. Он смотрел куда-то в темное небо. Левитация опять началась со шнурков. Я почувствовал знакомую легкость в ногах и в следующую секунду я полетел. Мы вдруг стали одним. Вместо взрослого парня я увидел своего сына маленьким мальчиком, лет шести. Он завис между землей и небом, был напуган и растерян. Я отчетливо чувствовал, то, что чувствовал он в тот первый раз. Сын был слишком мал перед тем испытанием, что открылось ему. Я ощущал озноб его тела и страх. Он неуклюже размахивал руками, пытаясь ухватиться за воздух. Страх обосновывал его существование, и он держался за него, как за единственную соломинку, константу в этом черном небе. Но вдруг мальчик согнул ноги, оттолкнулся от вязкого воздуха и выпрямился во всю свою силу. Он прыгнул, и на лице его появилась улыбка. Я увидел своего сына: не было у него ни прошлого, ни будущего, ни имени, ни чести, ни родины. Был только Путь, такой его странный способ разговора с Богом.
На следующее утро я сам собрал его вещи. Мы долетели до Белграда, а дальше на перекладных. Я без труда нашел тот самый дом, он выглядел точно также, как и 40 лет назад. Мы вошли во двор. Я не мог отделаться от воспоминаний, и даже ощутил горьковатый, вяжущий привкус травяного отвара. Я услышал, что в доме кто-то поет давно забытую песню. В голове набатом звенел все тот же колокольчик. Я вошел в комнату. Дед сидел там же, в той же позе. Он без удивления посмотрел на меня. За это время складки на его лице разгладились. Передо мной сидел мой ровесник.

Гравитация
В 90-е было легко выйти из грязи в князи. Но где все, там и ничего. На дно опускались не менее стремительно.
Когда затрещала по швам самая большая в мире страна, прежде секретный наукоград стал самым обычным городом. Наука приказала долго жить, ломая налаженный быт с крахмальными занавесками и превращая в дефицит капусту в пирогах.
Немногие сориентировались в новых реалиях и способах заработка. Большинству оставалось догонять уходящий поезд с более смекалистыми соседями. Среди догоняющих оказался и профессор ядерной физики, руководитель исследовательской лаборатории Олег Ковалев.
Жил они в добротной «сталинке» в окружении шумного семейства. Жена его, Вера, невзрачная, тихая, выделялась на его рослом и крепком фоне. Вот только духом он оказался слаб — когда все в жизни достается легко и без особых усилий, привыкаешь плыть по течению.
Никто не подозревал, что вместо поисков работы по утрам он уходил в парк кормить уток и мучиться угрызениями совести и собственной несостоятельностью. Жена безоговорочно верила его ответам о бешеной конкуренции, заботливо гладила по макушке и кормила самым лучшим, что еще было в запасах. Сама не ела, детям не давала, все для мужа. От этого на душе Ковалева становилось еще гадостнее и ныло где-то под сердцем.
«Я же добытчик, здоровый, мужик, а сижу на шее жены и проедаю детские талоны!» — думал он, но каждый раз бездействовал.
От переживаний он втайне начал прикладываться к рюмке. Ликероводочные талоны тогда ценились выше денег, а бутылка стала мерой любой услуги. Трудно было найти квартиру без ящиков с водкой, нездоровая привязанность к которой дарила ни с чем не сравнимое чувство свободы от никчемности, вросшее в него с закрытием НИИ.
Когда талоны снова были проедены раньше, чем закончился месяц, Ковалев с раздражением отметил, что это не семья, а сборище прожорливых троглодитов, и принял волевое решение — продать те награды, что еще недавно партийные лидеры гордо вешали на его грудь за преданность науке и стране.
На рынке он выложил на детское одеяльце несколько позолоченных медалей, отрывая каждую от сердца, и кое-что по мелочи: югославский радиоприемник и почти новый немецкий фотоаппарат, привезенный из командировки.
— Золотые? — прохрипел мужик.
Не успел Ковалев ответить, как тот попробовал медаль на зуб и бросил:
— Барахло.
К концу дня удалось продать действительно нужные вещи — материальные блага западного мира. «Звания, награды — кому они нужны? Чему я отдал жизнь?» — размышлял Ковалев, сворачивая в кулек нехитрый скарб.
— Олег Саныч? — окликнул его знакомый голос.
Не узнавая его принадлежность, Ковалев выпрямился. Борис Артамонов, старший научный сотрудник. Он был младше Олега и видел в нем учителя, засыпая бесконечными вопросами. Повышенное внимание льстило, но больше утомляло. После развала НИИ связь со многими коллегами была потеряна, и эта встреча застала его врасплох.
— Как я рад! Как вы поживаете?
Ковалеву не хотелось, да и нечего было рассказывать, поэтому он растерянно пожал плечами.
— Как-то так. Пытаюсь заработать на остатках былой роскоши. А ты здесь откуда?
И Артамонов восторженно поведал ему, что сегодня последний день его в этой стране. Знание английского и удачное стечение обстоятельств позволило ему впечатлить американских коллег, которые предложили работу и даже обещали грант. А пришел он за селедкой, говорят, там ее не найти.
Зависть к чужому успеху больно кольнула в самое сердце. Криво улыбнувшись и закашлявшись от резко подступившей горькой желчи, он жестом пожелал ему успехов и так же молча распрощался, не в силах дольше смотреть на это довольное лицо.
— Ни семьи, ни таланта, одна наглость. И имя поросячье, как у президента.
На пути встретилась рюмочная с радушно открытыми дверями. Спустя пару часов карманы его пиджака опустели, как и купленные бутылки водки. Ковалев вышел согретым, сытым и злее прежнего на свое безволие, на несправедливость мира и на семью, якорем удерживающую его от лучшей жизни.
В подъезде перегорела лампочка, трудно было заметить разбросанный соседский хлам. Зацепившись о чью-то коляску, он растянулся на ступенях, в плече пульсировала боль, а внутри разгоралась ярость.
Ключей не нашлось, и дверь ему открыла жена, испуганно таращась на мужа. Она усадила его на обувницу и, не переставая причитать, помогала раздеваться.
— Прекращай кудахтать.
— Не говори так со мной, Олежек. — От обиды она легонько пихнула его в то самое плечо.
Почему-то в голове Ковалева пронеслись подслушанные обрывки чужих разговоров: «Место бабы, как и собаки — у ноги. Воспитывать надо, чтобы не кусались».
Все, что так долго копилось в его душе, вырвалось бушующей злобой. Он с наслаждением отвесил жене оплеуху. А потом еще одну. И еще.
Когда она, задыхаясь от слез, пыталась оттолкнуть его, он намотал на кулак ее волосы и несколько раз приложил головой о стену. Что-то хрустнуло — то ли штукатурка, то ли кости.
— Знай, кто здесь главный, — орал он ей в лицо, тормоша, чтобы не теряла сознание раньше времени.
На шум выбежали дети, облепив его, как маленькие гиены, визжащие от ужаса и страха за мать. Их он скидывал с себя так же свирепо, продолжая «воспитывать» жену.
Всегда миниатюрная и подвижная, сейчас Вера не шевелилась и больше походила на щуплый нежизнеспособный эмбрион. Ковалев поразился своей внезапной жестокости и заперся в кабинете. Но сквозь толстые двери до него доносился надрывный плач детей, больше похожий на волчий вой.
— Мама, мамочка, пожалуйста, не умирай!
Алкоголь, сперва подаривший ему ощущение всемогущества, теперь наградил адской болью во всем теле и, что хуже, ненавистью к себе. «Кем я стал? Меня предала страна, а я растоптал самое дорогое, что было в жизни. И это не наука».
— Чтоб ты сдох, скотина! — Старшая дочь колотила в дверь руками и ногами с такой ненавистью, что он подумал, как бы не вышло перелома.
Алкогольный морок схлынул так же резко, как и одурманил. Стало душно и липко. Глаза застилают то ли слезы, то ли испарина. Ковалев открыл оконную дверь на небольшой французский балкон, заставленный горшками с аккуратными, нежными цветами.
Они кажутся ему самыми прекрасными в мире. Бархатные фиолетовые лепестки с красными прожилками похожи на синяки, которые он щедро подарил жене.
«Жаль, что я тебя не ценил. И наверное, не сберег».
Ковалев ступил на балкон, наклоняясь к горшку, но равновесие подвело. «С гравитацией бесполезно спорить», — мелькнула мысль. В глянцевых черепках отражались сирены скорой помощи.
В ту ночь из двора выехали две скорые, повернув в разные стороны. Одна не торопясь поехала налево, отвозя Веру навстречу экспертизам, формалину и могильному холоду. Вторая, громко крякая, летела к больнице, стремясь довезти того, в ком теплилась жизнь.

День, который я помню в деталях
Долгое время мне казалось, что я больна. «Может быть, — думала я, — это старческая болезнь, поражающая разум и отнимающая память». Свое детство и молодость, да что там, всю свою прошлую жизнь я помнила живо и подробно. Однако недавние события превращались в моем сознании в бессмысленные осколки, в подсмотренные через приоткрытую дверь кинозала отрывки странного фильма.
Вот, например, я на работе. Разговорились с коллегами на кухне, журчит кофеварка, в воздухе стоит кисловатый запах кофе.
— А на праздник придешь? — спрашивает одна, наматывая на палец длинные разноцветные бусы, на которых висит ключ от кабинета. Это она про мои проводы на пенсию говорит.
— Приду, конечно, ведь это мой праздник, — шутит начальница и дружелюбно трет мое предплечье пухлой рукой.
Смеемся, и я вдруг замечаю, что в углу комнаты в кресле сидит наша новенькая. Хорошая девочка, старательная, мама двоих ребят. Я уже успела к ней привязаться. Может быть, потому что я и сама была когда-то такой же девочкой… еще до всего.
— Давай и ты с нами, — приглашаю ее.
Она смотрит на меня долго, так, словно пытается меня глазами сфотографировать, сохранить в своей памяти, мне даже становится не по себе. Отвечает:
— Я постараюсь, но попозже.
Киваю ей.
А дальше воспоминание обрывается, будто больше в тот день ничего со мной не происходило.
Или вот еще: гуляем с внучкой в лесу (как приехали туда и почему вдвоем, никак не могу вспомнить). Рита в красных лаковых туфельках с большущими пластмассовыми «жемчужинами». Подошва туфель совершенно гладкая, твердая, поскрипывает на песчаной дорожке. «И зачем, — думаю, — Милка ее в такой обуви отпустила».
Лес по бокам летний: десятки оттенков зеленого, сладкий запах листвы, в кустах неподалеку шорохи — видно, птицы как раз гнездятся. Риточка молодец, не шумит, не хочет зверей пугать, а я иду и все пытаюсь сообразить, когда у меня начались эти провалы в памяти. И вот в голову пришло: последний день, который я целиком запомнила — это 8 августа. Я уже хотела у внучки спросить, какое число сейчас, но тут мы вышли к прогалине, оказались на высоком холме с видом на поле, засаженное рапсом, и девочка говорит:
— Бабушка, а как по-настоящему кукушка поет?
— Так и поет, — отвечаю, — вот как в часах на даче. Ку-ку, ку-ку!
И вдруг совсем рядом с нами и правда начинает кричать кукушка: «Ку-ку, ку-ку, ку-ку». Рита заулыбалась… А потом вдруг все схлопнулось, будто экран выключили.
А недавно встретила Толю. Он теперь другой совершенно: сильно располнел, бреет голову, а бороду, наоборот, отпустил; трогает ее, когда разговаривает, и головой встряхивает, будто упрямится. Сразу вспомнился мне мальчиком, когда бранила его за шалости, заставляла уроки делать, а он уставится в пол, кусает заусенцы на большом пальце и головой трясет: «Нет, не буду, не пойду, не хочу». Узнала его со спины, сама не понимаю как. Пришлось догонять. Бежала за ним, звала, а он шел и не оборачивался. Музыку что ли слушал. Догнала. Дернула на рукав футболки, он отшатнулся, видно, от неожиданности:
— Чего?
— Толя, привет! — говорю, пытаясь отдышаться после пробежки. — Ну как? Не виделись давно!
— Да, давно, — посмотрел на меня коротко и пошел чуть медленнее, а я рядом. Несколько метров шли молча. Толя смотрел в сторону, на дорогу.
— Ты на работу? — спрашиваю, а сама думаю: «Ведь середина дня, как же на работу».
— Угу, — снова коротко глянул в мою сторону, будто проверил, что я на месте, и сразу отвернулся, потряс головой, погладил бороду.
— Пойду! — говорит. И ускорил шаг.
— Толь, послушай! — я тоже пошла быстрее. — У меня вещи, мебель. Ты приди, посмотри, что тебе нужно.
— Ничего. Все Милке.
— Да куда ей… как она повезет? Это же шкафы из натурального дерева, они тяжелые. И хрусталь — знаешь, сколько денег стоит?
Он резко прочертил бородой горизонтальную линию в воздухе:
— Нисколько. Сейчас «Икея», — и пошел еще быстрее.
— Толя, а книги! Там хороших много. Энциклопедии, словари, про технику. Ты же любил про технику?
Толя шел так быстро, что стал задыхаться. Он неотрывно смотрел на дорогу, где одна за другой проезжали машины: красная, серая, красная, серая, красная, серая. Когда я сказала про технику, он вдруг остановился, посмотрел на меня и крикнул:
— Ты отказалась от меня, оставила! Привезла к ним и ушла, как не было. Что теперь тебе надо?
Я хотела что-то ответить и, возможно, ответила, но мой голос растворился в его отчаянном, мальчишеском крике:
— Я ведь его почти не знал. Какой теперь к черту хрусталь, какие книги? Не буду ничего делать! Не хочу, не пойду, ненавижу тебя, ненавижу всех…
А дальше не было ничего, и я, кажется, догадалась, почему.
Вчера я была дома у Миллы, красиво у них, уютно. Только зелени маловато — пальма и калатея, да и те какие-то хилые. Подошла, прикоснулась пальцем к земле в горшках и удивилась, какая она на ощупь рыхлая, сухая, настоящая. В голову пришло: «Вдруг я выдумываю, и все не так на самом деле». Повернулась, а там Милла стоит.
— Что же ты цветы не поливаешь? — говорю ей. А она смотрит на меня долго-долго, таким же точно взглядом, как та моя молодая коллега, и говорит:
— Наконец-то ты и ко мне пришла, мама!
— Принеси воды, давай польем пальму твою, — отвечаю невпопад, а сама думаю: «Ведь не знаю, как тут оказалась. Милла живет в другом городе, а я совершенно дороги не помню». Хотела было спросить у нее, но вот мы уже сидим за столом, а Милка мне фотографию протягивает.
— Хороша Ритка, правда?
— Да как же это Рита, — удивляюсь. На снимке девочка лет тринадцати, волосы прямые, не как у внучки, а глаза такие же, правда.
— Время летит, мам, тебя уже 5 лет с нами нет.
— Как нет?
Тут окно, у которого мы стоим, начинает растягиваться, будто резиновое. Машины за ним едут быстро-быстро: красная, серая, красная, серая.
— Как нет? — повторяю я свой вопрос, хотя уже знаю ответ.
8 августа, вторник — последний день, который я помню в деталях. Я проснулась рано и решила вдруг поехать на торговую площадь. По вторникам рынок там разрастается на несколько метров во все стороны за счет продавцов всякого старья. Я ходила вдоль прилавков, разглядывала ненужные остатки чьих-то жизней: чугунные утюги, механические швейные машины, лупы, письма с войны, выцветшие детские игрушки.
Среди них был плюшевый слон, точь-в-точь как у Толи в детстве. Я даже замерла на мгновение, поймав на себе знакомый стеклянный взгляд. Будто вернулась на 30 лет назад, когда присмиревший подросток стоял в прихожей чужой для него квартиры и смотрел то на меня, то на ошеломленно замершего мужчину. Я водила взглядом по дощатому полу от своих ног до ног сына, потом заметила плюшевого слона, который лежал поверх Толиной сумки с одеждой. Не поднимая глаз на Толю, я произнесла отрепетированное: «Ему отец нужен» и, добавив: «Я с ним не справляюсь», вышла за дверь.
Вечером 8 августа этот дурацкий слон все никак не шел у меня из головы. Я набрала Толин номер. Сначала не дозвонилась, нажала на зеленую трубку еще раз, и первый же гудок (видно, телефон был у него в руках) оборвался напряженным:
— Да?
Я молчала минуту, не знала, как начать разговор. Он вздохнул, и я почувствовала, что сейчас он повесит трубку. Выпалила:
— Как дела?
— Не звони мне, пожалуйста, — отчеканил и сбросил звонок.
Я не стала перезванивать, знала, что он не ответит. Я бы на его месте не ответила. Меня стало клонить в сон, я прилегла и, видимо, не проснулась, умерла. Наверное, Милка звонила, как обычно, вечером и стала бить тревогу, когда я не вышла на связь. Наверное, на мои похороны пришли они оба: дочь, которой посчастливилось родиться раньше и съехаться с другом до того, как все завертелось, и сын, которого я бросила.
Глупо, конечно, но я всегда представляла себе старые рыночные весы с тяжелыми металлическими чашами — в одной хорошие поступки, в другой плохие. Но нет никаких весов, есть только сны моих близких, в которых я снова становлюсь живой. Толя видит меня чаще других: мы встречаемся на нашей старой улице, или я веду его, уже взрослого, в школу. А еще бывает, что я оказываюсь у него дома, в прихожей, а он стоит как-то несуразно, пытаясь заслонить от меня своего ребенка. Конец у этих снов всегда одинаковый: Толя превращается в мальчика и кричит на меня в злобном отчаянии, точь-в-точь как в последнюю нашу ссору; я пытаюсь его перекричать, а он меня не слышит. Но каждый раз, снова и снова, я ору изо всех сил то, что хотела ему сказать 8 августа, в день, который я помню в деталях.

Заячья избушка
Жила-была девушка, звали ее Толгю, что по-хакасски значит «лиса». Был у нее муж — звали его Хазан, что по-хакасски значит «казан». Над мужем часто глумились мужики, что на самом деле звать его не Хазан, а Хозан, что по-хакасски значит «заяц».
Толгю была из семьи знатной. А Хазан — из семьи бедной. Никто и знать не мог, что случится у них свадьба. А свадьба взяла и случилась.
С первого взгляда влюбилась Толгю в Хазана. И сговорились они, чтобы тот похитил Толгю из отчего аала да увез к себе. Хазан так и сделал. Только на следующее утро спохватились родители Толгю. Глядь! А младшенькой дочери — нигде и нету! Да только когда они спохватились, Хазана и след простыл. Ничего не поделаешь — добились молодые своего. Пришлось отцу ехать в соседний аал, справляться о приданом и о свадьбе.
Стоял ас айы, месяц зерна. Погода была жаркая до того, что обжигала глаза и губы. Тогда и решили они сыграть свадьбу. Сосватали Тюлгю с богатым приданым: шелковыми платьями, драгоценными украшениями, платками да всяческой утварью. Хазине — свекровь — все нарадоваться не могла, как повезло ее сыну найти такую богатую невестку.
— Держи крепче, — все говорила она, — а то украдут.
О невестке ли говорила или о ее богатстве — никто уж не знает. Знают только, что проснулась однажды Толгю, глядь под стойку, а сундука-то с драгоценностями и нету! Все украшения пропали — и золотое пого, расшитое матерью на свадьбу, и серебряный браслет кÿмÿс пiлектöс с чеканным орнаментом, и дорогие сердцу серьги, которые Толгю носила еще в девичестве. Все пропало. Даже утварь, какая была покрасивше, забрали. Будто растаяло богатство, ежели могло бы растаять.
Принялась Толгю горемычно плакать, разбудила мужа да давай ему причитать.
— Хазан, милый Хазан… — рыдала Толгю, — горе у нас. Напились мы вчера травяного чая да заснули намертво. А ночью… — всхлипывала Толгю. — Плохой человек пришел ночью да обокрал нас… Сундука-то нету-у, — завывала Толгю.
— Как нету? Что ты говоришь такое, ипчiзi?
Встрепенулся Хазан, рывком отвернул ковер, за которым обычно стоял сундук… И правда нету! Начал ходить взад-вперед по юрте, почесывая голову и приговаривая: «Как же ж могло случиться…»
— Что делать-то будем? — все причитала Толгю.
Решили разузнать у родни, видел ли кто похитителей: Хазан пошел в юрту к родителям, а Толгю, убитая горем, осталась утирать слезы. Снаружи услышалось волнение — кони заржали, ребетня загоготала, женщины заохали.
Отовсюду слышалось: «Как же ж могло случиться…».
Чуть погодя вернулся Хазан от матери — брови сдвинуты, глаза горячие, губы дрожат от ярости. Крепкой рукой одернул он входную холщу и влетел в юрту.
— Что случилось, милый Хазан? Что сказала тебе іӌе? Знают что?
Глаза мужа показались Толгю ярче костра. Но слова, что сбежали с его уст, обжигали душеньку еще сильнее.
— Недаром назвали тебя Толгю! — грянул он, — Думала обхитрить всех, лисица?
— Что ты говоришь такое, милый мой Хазан… Али уши мои подводят? — Толгю задрожала и отошла поодаль от мужа.
— Думала, никто не узнает…
Не давши Хазану договорить, в юрту зашел его брат, зовущийся Пӱӱр, что по-хакасски значит «волк». Брат был старше и больше Хазана, на висках его уже виднелась седина, а по краям раскосых глаз растянулись маленькие морщины. Пӱӱр славился справедливостью, и Толгю уже было подумала, что объяснит он нападки Хазана. Но не тут-то было:
— Не ожидал я, Толгю, от тебя такого низкого поступка.
— Пӱӱр благочестивый, дорогой, ты мне как брат родной! Но не понимаю я, отчего же вы все обозлились на Толгю, честную и скромную. — Лицо у Толгю раскраснелось, распухло, будто от укола пчелы.
— Не понимает! Как… — было начала Хазан, но Пӱӱр его перебил.
— Толгю, и ты мне как сестра была… Кабы не узнал я, что ты в сговоре со своей семьей все приданое свое им обратно сослала.
— Как! Кто сказал тебе такое? — Слезы сильнее пущего хлынули из раскосых глаз.
— Видели тебя ночью. — Пӱӱр все сдвигал брови, но голоса не повышал. — Видели, как ты сундук мужику какому-то отдавала. Говорят, на брата твоего похож…
— Видели, видели! — вопил Хазан.
Села Толгю на кровать супружескую не в силах и слова проронить.
— Ты бы, Толгю, лучше бы созналась во всем, — продолжал Пӱӱр. — Сегодня семейный совет обещают…
— Не я это… — тихо шептала Толгю. — Клевещут…
Не призналась Толгю в том, чего не совершала. Но никто ей не верил — слух разошелся быстро. Дошел слух и до Кай абаа — самого главного человека в аале. Его даже называли не просто Кай, а Кай абаа. Абаа — уважительно — значит «медведь».
Весь день не унимались слезы на лице Толгю, и вот вечером позвали ее в юрту Кай абаа. Там уже сидели Хазан, Пӱӱр, мать их, хазине, да местный шаман по прозвищу Танах Азах, что по-хакасски значит «куриная нога».
— Рассказывайте, — разрешил Кай абаа.
В нем и впрямь было нечто медвежье — бурые волосы, отчего-то не поседевшие от времени, широкий стан, глубокие карие глаза. Все время, что он говорил, не расставался он с табачной трубкой.
— Вы уж и сами знаете, Кай абаа, — торопливо начал Хазан, — сегодня просыпаемся с ней, а сундука — нету… Ну я давай — искать! И хорошо, что мать сказала, что видела ее ночью. Как передавала этот самый сундук…
— Было такое? — повернулся Кай абаа к Толгю.
— Не было такого, — тихонько проговорила она, — оклеветали.
— Что ж, получается, хазине тебя оклеветала? — спокойно вопрошал Кай абаа.
— Тьфу! Дрянь! — выпалила свекровь.
— Не знаю, Кай абаа, — еще тише ответила Толгю. — Может, спутала в темноте?
— Ты тут не наговаривай! — вмешался Хазан, но Кай абаа его осек.
— Как бы ни было, золота уже не вернешь. — Он сделал затяжку. — А темного духа нужно от тебя отвести.
Кай абаа кивнул Танах Азаху.
— Какого духа? — Толгю растерянно оглянулась, будто бы духа можно было узреть.
— Надо, надо! — подначивал Хазан.
Шаман тем временем приготовил травы и принялся толочь их в ступке, шепча что-то еле слышное.
— Нету во мне духа! — Страх пробрал Толгю до самых косточек. Руки покрылись мурашками, а она все продолжала: — Нету! Даже не думайте!
Кай абаа затягивался трубкой и молчал, будто не слышал отчаянных воплей.
И внезапно — Толгю и сама не поняла, как так вышло, — она вскочила и выбежала из юрты.
— Держи ее! — услышала она, и это придало еще большей прыти.
Бежала она, бежала, пока наконец-то не услышала, как голоса сзади отдалились. Не поняла она, где оказалась. Видела только — речка. А значит, она недалеко от аала. Но сил больше не было. Облокотилась она о дерево, стоявшее тут неподалеку, и закрыла лицо руками.
Солнце почти уже село, и звуки стали острее. Она слышала, как стрекочут жуки, как несет свои воды река, как ветер шепчет ей в ухо свою сонную песнь. Но внезапно услышала она и другой звук.
— Толгю… — прошептал детский голос.
И Толгю знала этот голос. То была младшая сестра Хазана. Она любила играть с Толгю.
— Толгю, — еще раз прошептал голос, — я одна.
Девочка вышла из-за куста.
— И ты пришла меня упрекнуть в том, в чем я невиновна? — отшатнулась от нее Толгю.
— Нет, Толгю, нет. — Девочка потянулась к Толгю. — Я пришла рассказать тебе, кто виновен.
И эти слова будто холодной водой обдали Толгю. Остановилась она плакать и смотрит. Пугливо оглянувшись, нет ли злодеев поблизости, девочка продолжила:
— Мать моя и хазине твоя. На ней вина. — Девочка вздохнула. — Это было еще давно. Прознала она про твою семью еще раньше, чем ты познакомилась с Хазаном. Тогда-то и замыслила она неладное. У нас семья бедная, денег совсем не было… — Она помолчала. — Хазан долго не хотел соглашаться. Долго ругались они с матерью. Да против нее-то разве пойдешь наперекор? В общем, сговорились. Сговорились, что Хазан тебе близким станет. Да сделает так, чтобы ты его полюбила.
Девочка замолчала — то было как извинение. И хоть солнце уже укутало свои лучи в землице, Толгю начала видеть все яснее и светлее. Увидела перед собой она и неожиданное знакомство с Хазаном, и его напористый нрав в беседах о свадьбе, и его обжигающий взгляд в то утро, когда сундука не стало.
— Ничего, пиӌе, ничего. Нет в этом твоей вины, — сказала Толгю.
— Прости… Так вот, решили они так, что своруют у тебя сундук с драгоценностями. Для этого мать заварила чаю сонного, чтобы вы не проснулись. А ночью подговорила брата к вам пробраться и все самое ценное забрать. Сундук они закопали под отчей юртой. А потом… Либо тебя с ума свести хотели, либо убить. Ты не выпила тот отвар шаманский. И правильно. Ну а я… Как же я могла молчать! Очень уж ты прикипела мне сердцем, — и начала девочка заливисто плакать.
На глазах у Толгю таяла вся прошлая жизнь. А как таяла — там и слезы катились, будто бы это в глазах ее лед и был, искажающий истину.
И вдруг услышала знакомые голоса, приближающиеся к реке. Страх затуманил прежние чувства.
— Тебе надо уходить отсюда. Убегай! — тихо воскликнула сестра. — Только подожди. Я тебе принесла тут.
На ладошке у нее лежали маленькие сережки, любимые Толгю еще в девичестве. И на и том попрощались.
После этого Толгю не видели да не слышали. Убежала она далеко в лес — хотела найти свой отчий аал. Нашла ли она или нет — никто уж не знает. Знают только, что Хазан так ни на ком и не женился. Не было достойных невест, все сетовала мать. И стал он один жить-поживать в своей собственной юрте да с чужим богатством.

Не/со/творимое
Он верил, что музыка способна убивать. «Несколько правильно подобранных нот могут причинить не меньше боли, нежели острый нож или выстрел».
Марк переключил трек, и с хлопком выплюнутой тишины из мониторов запружинила тошнотворная своей ритмичностью мелодия, за которой, как за Гамельнской флейтой, из-за правой кулисы потянулась вереница желто-зеленых шестилеток.
Марк зевнул. Репетиция только началась, и оккупировавшие буфет мамочки отбивали у него желание стоять в очереди за кофе. «Забегу к Яну в перерыв, попью у него».
Очередная вариация на тему весеннего пробуждения природы удивила Марка разноголосицей софитов во время финального канона. Он обернулся на осветительскую рубку — монитор компьютера закрывал голову новичка, но в темноте пространства позади него угадывался подсвеченный дисплеем синеватый женский силуэт.
Ян работал заведующим производственной мастерской и большую часть времени проводил за тяжелыми железными воротами декорационного склада позади сцены. Кофе он пил дешевый, но Марк с удовольствием сбегал из зала в перерывах, чтобы отдохнуть от дребезжания старенькой ямаховской акустики.
— Ты в этой черной водолазке похож на фронтмена «Депешей» времен «Эксайтера».
— Так же хорош?
— Так же нуждаешься в ножницах.
— Я хоть не лысею, в отличие от некоторых, — парировал Марк. — Видел новичка в световой?
— Неа. Молодой?
— Лет двадцать на вид. Рыжий. И откуда она его вытащила?
— Как по мне, пусть хоть бабу сажает. Лишь бы мероприятия не срывались.
Подвинув к себе чашку с кофе, Марк потер пальцем скол на ручке.
— Как дома, как Кира?
Пока Ян рассказывал про скандал, который послужил финальной точкой в оброчной практике некоего председателя с еврейской фамилией, Марк, подперев голову ладонью и заливая кофе в рот, смотрел вглубь склада. Узкое ущелье от ворот до стола, где они сидели, кричало разнообразием форм, текстур и цветов. С трудом верилось, что все эти колонны, изгороди, бюсты, арки, баннеры и канделябры умудрились накопиться здесь за текущий сезон.
Для Марка разговоры о семье были как затяжки между мучительными периодами воздержания — они были и сладки, и ядовиты одновременно. Поболтав с Яном и убедившись, что время перерыва подошло к концу, он вышел со склада.
В зале было темно и душно. Новенький куда-то ушел, оставив открытой боковую дверь, поэтому Марк поднялся наверх и сам включил первый ряд софитов, чтобы хоть как-то осветить сцену.
— Смотрите, тут три файла. Я совсем запуталась, какой из них взять для этого номера. Хочу погонять его сегодня часок под все три и окончательно решить.
Девушку звали Вита, и у нее был сольный танец, что-то из греческой мифологии. Она часто репетировала на сцене, и Марку нравилась ее исступленность, но он не понимал, о чем был ее номер. Она то падала, то словно бежала за кем-то, то замирала, глядя в зал с напряжением матерого театрального актера, то распластывалась по полу.
За частные репетиции неплохо платили, да и Марк старался проводить дома как можно меньше времени. Во-первых, даже Джон Мейолл, прямиком из Ливерпуля, и часы других блюзовых лайвов на YouTube не спасали от желания набрать Яну и напроситься на попойку. Во-вторых, ему было тошно от света фонаря, который падал через окно их спальни на пол.
Марк поменял шторы полтора года назад, но свет все равно проникал внутрь. Желтовато-серый, он прорисовывал прямоугольник от оконного проема до середины комнаты, захватывая косым пятном нижнюю часть всегда заправленной кровати.
Мария жаловалась на этот фонарь, писала куда-то письма, требуя выяснить, почему его поставили так близко к окну их квартиры. Как-то раз даже пришел ответ, и она, прочитав письмо, порвала и выбросила его, так и не сказав, что именно ей ответили.
Они познакомились на одной из музыкальных вписок. Он был студентом музыкального училища, а она училась на преподавателя истории. Им было по двадцать лет, у него были длинные волосы, которые он собирал в хвост, а она очень любила петь, когда была пьяна. После совместного камерного концерта у одного из общих друзей Марк и познакомился к ней.
— Спасибо, буду искать дальше. Хочется, понимаете, чего-то пронзительного, чтобы на контрастах сыграть. И по темпоритму ничего подобрать не могу, а номер уже готов. Вот пришел так в голову, без музыки, и как выступать теперь с ним?
Марк понимающе кивнул.
Оставалась всего неделя до дня икс, и он просиживал за пультом по восемь, а то и девять часов в день. Репетировать хотели все: дети, рыдающие от одной мысли, что могут не попасть в первый ряд, подростки, которые, даже стоя в очереди на сцену, умудрялись устроить ссору, девушки и юноши, танцующие сольно, в парах, ансамблями или желающие просто постоять за кулисами и вдохнуть пыль этих полотнищ, не стиранных со времен сотворения мира.
— Четвертая папка. Да, эта. Все пять треков, по порядку, каждый по два раза. Я буду говорить, когда включать.
Парень ушел. Марку нравилось работать с молодыми. Не с подростками, а с теми, кто был постарше. Не то чтобы они выбирали более-менее сносную музыку для своих номеров, от которой ему не хотелось написать заявление об увольнении, просто когда ему удавалось оторваться от компьютера и посмотреть на сцену, иногда он с удивлением открывал для себя что-то.
Вот парнишка. Лет восемнадцать на вид. Танцует под Radiohead. Темные штаны, голый торс, I wish I was special… Хотя Марк и не был специалистом по современному танцу и не интересовался телесной экспрессивностью представителей своего пола, он заметил, что в пластике парня и ее сочетаемости с музыкой было что-то едва уловимое, словно струны невидимой гитары, играющей в пространстве пустого концертного зала, не ограничивались грифом и декой, а устремлялись к суставам этой марионетки.
В следующем перерыве он успел добежать до курилки. Выйдя в маленький закрытый дворик, втиснутый между лабиринтами бетонных лестниц и бесчисленных переходов их дворца культуры, он закурил.
Февральское солнце растекалось золотисто-оранжевыми пятнами по окнам стоящей поблизости шестиэтажки. Нос щекотало от непривычно яркого света и мороза. Марк прислушался: где-то совсем рядом шумел большой, полный жизни город.
Он затянулся и выдохнул: «Закроем сезон, уеду к матери, подальше от всего этого дерьма». В пронзающем свете горящих окон дым казался сиреневым. Марк растер покрасневшие руки, затушил сигарету и вернулся в темноту здания.
Следующей ночью Марку приснился кошмар. Зал был объят огнем. Горели старые кресла, покрытые поролоном и красной тканью, ковровые дорожки, протоптанные бесчисленным количеством взрослых и детских ног, белые настенные панели, горели кулисы.
Пламя пожирало их, они чернели и вспыхивали вновь. Вита кружилась в танце, огонь был готов растерзать ее и томился в ожидании финала. Играла музыка. Марк не мог разобрать мелодию, но это было что-то незнакомое. Грозные клавиши перепрыгивали от ноты к ноте, Вита не замечала огня вокруг и продолжала танцевать.
Музыка становилась все громче. Откуда-то, словно из-за кулис, вступила перкуссия, и Марк почувствовал жар на своем лице. Проснувшись, он продолжал слышать ускользающую мелодию. Постепенно угасая, она растворялась в тишине зеленовато-черной ночи.
На генеральную репетицию пришли большие танцевальные коллективы. В некоторых из них даже были свои ответственные за звук. Девушки приходили к Марку, отдавали флешки и сидели с ним рядом, не отлипая от экранов телефонов.
Горела только рампа. На сцену вышла группа танцовщиц в сатиновых белых платьях разного кроя. Зал пронзила скрипка. Словно кто-то смахнул со стола пыль, и та засверкала, закружилась в солнечных лучах, так разбежались они по сцене. Скрипка, заигрывая с темнотой, завертела эти невесомые фигурки, подняла их в воздух, ударила об пол. Белые руки поднимались вверх и опускались вниз, ноги взлетали, создавая арабески, и, словно стирая себя в ничто, скользили по полу. Но Марка поразило другое — он увидел, как сцена задышала.
Каждый ее вдох рождался внутри этой группы, разрастаясь под натиском скрипки, он покидал ее пределы, и вот уже свет подключившихся софитов стал отдавать свою энергию, чтобы подпитать этого бледного демона, запертого в яме трех стен. И дай ему волю, он поработил бы каждого, кто сидел в зале, но до контрольного выхода оставалось три дня.
Марк недолюбливал классическую музыку. Мария же любила Эрика Сати. И, придя домой в тот вечер, он услышал одну из гносиенн Сати, свою самую нелюбимую.
Только когда скорая уехала, и на их кровати остался лишь желтый прямоугольник фонаря, Марк понял, за что так не любил именно эту, третью. Было в ней некоторое болезненно-дурманящее очарование. Повторяющаяся мелодия, обрастающая вариациями на каждом цикле своего существования, загоняла слушателя в тупик, в один из очередных кругов ада, где он должен был или вырваться на следующий, или потонуть. Мария потонула.
Марк знал, что она планировала это сделать. Знал, но не обратился за помощью и даже не попытался поговорить с Марией. Почти целое десятилетие их брака не было ему подспорьем.
Были вещи, о которых Марк не мог говорить.
Он задержался после работы в тот вечер. Мария любила быть одна и не любила, когда он приходил домой пьяным. Врач сказал Марку, что даже если бы он вернулся домой сразу после окончания концерта, ее не смогли бы спасти. В шлейфе прерванного Сати, застывшего черным прямоугольником на экране компьютера, Марк замер у изножья кровати. В затылок ему дышала тишина.
Он видел, как Мария смотрит на детей, пробегающих мимо них на улице. Он видел, как она, стоя в ночнушке в ванной с ножницами в руках, крутилась перед зеркалом, выглядывая выбивающиеся из стаи белые следы прожитого времени на своей голове.
Тишина была нема.
В дни крупных мероприятий Марку всегда было не по себе. Он не любил, когда что-то шло не так: предыдущего световика уволили, когда тот уснул во время спектакля, а пару месяцев назад пришлось отменить выступление любительского хора, потому что кто-то сообщил по телефону о бомбе. А с тем количеством детей в здании, которое обычно было в такие дни, запах лака для волос и суета проникали даже сквозь еще закрытые двери зала.
Заглянув к Яну поздороваться, Марк вернулся в зал и включил оборудование, проверил звук и сменил батарейки в микрофонах, налил себе кофе из термоса и принялся за работу.
Этот танцевальный фестиваль проводился со времен, когда Марк был студентом. Он хорошо помнил первую черно-красную афишу. Выходя по вечерам из гаража, в котором они с друзьями репетировали каверы на известные рок-баллады, он натыкался взглядом на стройную геометрию ее вытянутых букв.
— С номером «Эвридика» в номинации «Соло» выступает Вита Рауде!
Марк оторвался от эквалайзера. Файлы с музыкой никогда не присылали заранее, сегодняшнюю порцию он получил только утром, и ему было любопытно узнать, какой трек Вита выбрала для своего выступления.
Сбивчиво запрыгали клавиши. Вита выбежала на сцену в разлетающемся платье цвета слоновой кости. Движения ее повторяли те, что Марк видел на репетиции, но яркий свет прожекторов словно пронизывал ее насквозь. Казалось, что в какие-то мгновения она исчезала со сцены, а вместо нее мелькал некий фантом, который успевал быть в нескольких местах одновременно.
Музыка. Сначала легкие, слегка тревожные фразы, которые то набирали, то ослабляли темп, не имели вообще никакого мотива. Затем из общего сонма трелей, зловещих бряцаний и неуклюжих интервалов стала проступать мелодия. К середине номера, когда, подкравшись, барабаны оглушили зал, Марк очнулся.
Вита позволяла музыке течь и бурлить, и, хотя и отзывалась движениями на быстрины и заводи аккомпанемента, танцевала как-то против течения, наперекор.
Она выбежала за кем-то невидимым к авансцене. Лицо ее раскраснелось, глаза блестели, а одно из колен было разбито. Внезапно, когда барабаны отступили, снова оставив солировать фортепиано, Виту начало трясти.
«На репетиции такого не было». Марк внезапно ощутил напряжение. Вита упала. Ее продолжало трясти, и он видел, как резко падала ее грудь на выдохах. И когда клавиши снова заметались в какофонии, а Вита дрожала, лежа на полу, по залу заметался шепот.
Марк вскочил со стула и бросился из рубки. От сцены его отделяло тридцать рядов кресел. Он бежал по центральному проходу, не отрывая взгляда от копны русых волос, в свете прожекторов отливающих золотом.
Лесенка была сбоку, Марк не видел ведущих, укрытых темнотой кулис.
Он выбежал на сцену и бросился к Вите, вычерченной на полу узким лучом, бьющим из правой ложи.
— Вита!
Волосы закрывали ее лицо.
— Вита! Приступ?
Она дышала. Протянув руку к ее лицу, он откинул волосы назад.
Вита смотрела на него, ее лицо было мокрым и в каких-то блестках. Только тогда он заметил, что в зале стоит тишина. Фортепиано отступило.
Тяжело дыша, она прикрыла глаза, а затем растянула губы в полуулыбке.
Он помог ей встать.
Они стояли в круге света в центре немой и черной вселенной. Вита медленно опустилась в поклон, потянув Марка за собой.
С противоположной стороны, дышащей на них жаром и тишиной, сначала один, затем второй, третий, а затем целой грядой загремели аплодисменты.

О соседях и белых медведях
История, о которой пойдет речь, случилась уже очень давно. И описанные события кому-то могут показаться совершенно незначительными и недостойными пересказа. Однако для наших героев именно тот день стал в своем роде рубежом. Или толчком. Или поворотным пунктом. Ведь порой даже самые мелкие происшествия приводят к грандиозным последствиям.
Впрочем, довольно предисловий — приступим к истории.
Был февраль. Был понедельник. И было утро. Вне всякого сомнения, не самое приятное сочетание. После недавней оттепели подморозило, и поверившие потеплению люди теперь горько раскаивались в своей наивности.
Родион принадлежал к раскаивающимся. Новая весенняя куртка сидела отлично, но согревала лишь условно. Поджидая автобус в университет, Родион переминался с ноги на ногу, поднимал плечи и опускал подбородок, всеми доступными способами сохраняя остатки тепла, вынесенного с собой из дома. Взгляд его то и дело обращался к стоявшей неподалеку девушке. Светло-голубое, словно снег в ранних сумерках, пальто, туго перетянутое поясом на талии, очень пышная вязаная шапка и светлая длинная коса придавали девушке сходство со Снегурочкой. Будто та решила не возвращаться с дедушкой на Северный полюс после Нового года, а обосновалась в нашем городе.
Родион явно хотел познакомиться с девушкой и явно робел. Время от времени губы его начинали шевелиться, будто он пробовал на вкус фразы для начала беседы, но тут же кривились — то ли от вкуса фраз, то ли от досады. Если продолжить сказочную аналогию, в этом сложном моменте на помощь главному герою должны бы прийти Серый Волк, Сивка-бурка или, на худой конец, Баба-Яга.
— Родион! Как хорошо, что я тебя встретила! — раздался за спиной студента голос его соседки. Нет, не Бабы-Яги — Варвары.
Она была на восемь лет старше Родиона и в Родионовом детстве часто исполняла роль няньки или старшей сестры. Первую сигарету он, кстати, выкурил именно в ее компании. Но с тех пор Варвара успела родить ребенка, тем самым оказавшись на одну поколенческую ступень выше. Превращение человека в родителя полностью меняет его ценности, увлечения и тревоги. И чем раньше это превращение происходит, тем очевиднее изменения. Должно быть, именно поэтому Родион и Варвара тогда отдалились друг от друга, хотя их семьи по-прежнему связывали почти родственные отношения.
Варвара затараторила, глотая окончания слов:
— Шеф, все пропало! С работы только что звонили! Срочно надо туда ехать, а не то… Можешь закинуть Васю в сад? Одна остановка и минут десять пешком. — На мгновение замолчала, оценила выражение лица Родиона и добила очередью: — Ну, Родя! Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста!
Родион с неохотой кивнул.
— А какой адрес?
Варвара благодарно улыбнулась, хотя лицо ее сохраняло выражение озабоченности.
— Вася покажет дорогу. Да, Василёк?
Мальчик в пухлом зимнем комбинезоне, шапке с огромным помпоном и замотанный шарфом так, что виднелись только глаза и вздернутый кончик носа, энергично кивнул. Он отпустил мамину ладонь и протянул руку в ёлочно-зеленой варежке Родиону. Родион несколько секунд смотрел на нее то ли с опаской, то ли с брезгливостью, а потом осторожно взял мальчика за руку.
Он уже досадовал на себя за мягкотелость. Стоило Варваре попросить, и он сразу отодвинул на второй план свои дела. А ведь первую пару ведет Егор Иванович, который редко впускает в аудиторию опоздавших без строгого допроса и отчитывания. Насколько уважительный повод для опоздания — провожал соседского ребенка в детский сад?
Так что Вася никак не походил на волшебного помощника из сказки — скорее уж на новое испытание для героя. И хотя Снегурочка все-таки бросила на них с Родионом любопытный взгляд, знакомиться с девушкой, когда тебя только что нагрузили чужим ребенком, было бы более чем странно. К тому же подъехавший автобус увез ее прочь, в сторону едва занимавшегося февральского рассвета.
Родион проводил взглядом старенький «пазик», тяжело вздохнул и вдруг заметил, что его ладонь опустела. Он вытянул шею, отчего за воротник тут же ухнул мороз, и начал оглядываться, судорожно вертя головой.
И почти тут же облегченно выдохнул. Вася стоял на цыпочках около газетного ларька. Задрав голову, он разглядывал витрину. Шапка поминутно съезжала ему на глаза, он поправлял ее, снова поднимал голову, и она снова съезжала.
Нахохлившись от холода, Родион сердито произнес:
— Не отходи от меня, а то медведь съест.
Родион был в том возрасте, когда детей уже не понимаешь, так как основательно подзабыл, каково быть ребенком, и еще не пытаешься понять, так как собственных детей не завел и даже не планируешь. Сказанная им фраза была из арсенала его мамы. В том же ряду существовали «Закрой рот — муха залетит», «Не коси глазами, а то таким и останешься», «Не свисти — денег не будет». Родион в детстве не очень-то верил в реальную возможность последствий. Вася, похоже, тоже не поверил. Серьезно заявил:
— Здесь медведи не водятся.
— Значит, маньяк похитит. Или машина собьет. Короче, не отходи!
Тут на остановку налетел такой сильный порыв ветра, что задребезжал знак пешеходного перехода. Родион обхватил себя руками.
— Холодно, да? — участливо поинтересовался Вася и вдруг спросил: — Дядя Родион, а ты знаешь, как спят белые медведи?
— Ну и к-к-как же? — процедил Родион сквозь постукивающие от холода зубы.
— Они определяют, с какой стороны дует ветер, делают небольшие холмики из снега и прячутся с неветренной стороны, — звонко провозгласил Вася.
— Подветренной, — машинально поправил Родион.
Мальчик уже не слушал. Он обежал вокруг ларька, на втором круге с гордостью объявил, что нашел самую неветренную сторону, и потащил туда Родиона. Тот закатил глаза, но все же пошел за Васей. Чем бы дитя ни тешилось… Но за ларьком и правда оказалось значительно лучше, чем на продуваемой ветром остановке.
Подъехал автобус. Вася снова взял на себя роль тягловой силы, повел Родиона к передней двери. Внутри было душно и тесно, но тепло. Проехать одну остановку — самое то!
Вася приник носом к стеклянной перегородке и принялся разглядывать кабину водителя. Родион схватился одной рукой за поручень, второй — за капюшон Васиного комбинезона и огляделся. Поймав на себе несколько заинтересованных взглядов, он встревожился. Почему ему улыбается та женщина лет сорока? На молоденьких потянуло? А та суровая с виду бабка? Уж ей-то точно от него ничего такого не может быть нужно… Родион даже немного испугался, подергал рукой за капюшон, словно проверяя, не выскользнул ли из комбинезона ребенок. И лишь тогда догадался о причине всеобщего умиления. Мужчина с ребенком в силу редкости подобного сочетания всегда вызывает повышенный интерес, в воображении сразу дорисовываются их близкие отношения, особая связь. Правда, Родион никак не дотягивал по возрасту до отцовства, но вполне мог сойти за заботливого старшего брата. Тоже ведь мило. Вот только никаких близких отношений между Родионом и Васей не было, и принимать на свой счет немое одобрение пассажиров автобуса почему-то оказалось неприятно. Родион насупился и отвернулся к окну.
Через минуту автобус остановился, и Родион с Васей вновь окунулись в утренний мороз. Солнце едва-едва поднялось, тут и там просвечивало между домами, разрывая серо-голубые тени золотыми полосами. Родион глянул на часы и заторопился.
— Нам еще далеко? — спросил он у Васи, который старался наступать только на солнечные полоски и перепрыгивать через тени. Из-за этого он то и дело раздражающе дергал Родиона за руку.
— Близко. — Не отвлекаясь от поиска ближайшего светлого участка, Вася махнул свободной рукой вперед. В просвете между высотками в конце улицы виднелся двухэтажный домик, окруженный забором.
Родион воспрянул духом, прикидывая хронометраж. Быстрым шагом — три минуты. Еще несколько минут на то, чтобы помочь Васе переодеться, две минуты бегом до остановки… Есть шанс не опоздать на лекцию!
К сожалению, Родион не учел в своих вычислениях важного фактора — самого Васю. Нет, тот не упирался, не капризничал, не перечил. Но по дороге к саду у него оказалось немало важных дел. Пробежаться по замерзшим после оттепели лужам, например. Родион начал бурчать по поводу баловства, но и сам продавил каблуком несколько льдин. Конечно же, только для того, чтобы Васе меньше досталось и они могли поскорее продолжить путь. Звук ломающейся ледяной корки и само ощущение под ногой отчего-то вызывают невероятное наслаждение. И устоять перед искушением могут только люди, давно переставшие ходить в детский сад. Но не Вася. Под успокаивающее: «Я сейчас, дядя Родион. Еще только вон ту…» — он перехрустел десятком луж и лишь после этого продолжил путь.
Но через сотню шагов вновь остановился. На сей раз около старого одноэтажного домика, чудом затесавшегося среди высоток. С края покатой крыши свисали сосульки.
— Моя — самая левая, — показал Вася. — Я каждый день измеряю, на сколько она выросла.
— Забираешься на крышу с рулеткой? — ехидно спросил Родион.
Вася сочувственно посмотрел на Родиона снизу вверх и молча покачал головой. Потом указал пальцем на сосульку и терпеливо объяснил:
— Просто считаю, докуда она уже доросла. Вчера была на один кирпич выше, чем сейчас. А за выходные выросла на целых три. — Вася уже взял Родиона за руку, чтобы идти дальше, как вдруг радостно воскликнул: — Хочешь, и тебе сосульку выберем?
— Спасибо, не надо, — буркнул Родион.
— Ты не понимаешь! — продолжал уговаривать Вася. — Когда мне утром лень вставать, я вспоминаю, что на улице висит моя сосулька. Сразу хочется скорее пойти посмотреть: выросла она за ночь или нет.
— Вот только я не хожу этой дорогой, — раздраженно ответил Родион.
Это наконец убедило Васю, и он вновь пошел за Родионом. Не смущаясь молчанием и явным недовольством собеседника, Вася принялся рассказывать, какую собаку заведет, когда родители разрешат. «Конечно, хаски! Чтобы запрягать в санки и так ездить в садик».
Родион, которому нужно было уже бегом бежать в университет, ответил зло и едко:
— Во-первых, одного тебя никто не отпустит, а вместе с мамой одна собака сани не довезет. Во-вторых, у вас слишком маленькая квартира. В-третьих, если родители с первого раза не разрешили, то уж поверь, так и будут завтраками кормить. Знаем — плавали.
Вася подавленно замолчал. Он больше не прыгал с одного пятна света на другое и не вертел головой, комментируя все, что считал любопытным. Одним словом, не раздражал. Но Родион не почувствовал облегчения. Наоборот — его начало грызть раскаяние. Но как исправить ситуацию, он не знал, а потому тоже молчал.
Когда Родион, присев на корточки, помогал Васе переобуться, тот вдруг обнял его за шею и прошептал на ухо:
— Дядя Родион, не расстраивайся, что тебе так и не купили собаку. Когда у меня будет хаски, я иногда буду давать тебе с ней погулять.
Родион отодвинулся и удивленно уставился на Васю. Мальчик снова улыбался и, очевидно, уже окончательно пережил удар, нанесенный ему пять минут назад неопровержимой взрослой логикой. Родион вздохнул:
— Ты прав, Вася. Я просто тебе позавидовал.
Вася по-взрослому протянул руку для прощания:
— Понимаю. Мир?
— Мир, — ухмыльнулся Родион, пожимая теплую ладошку.
Выскочив из детского сада, Родион бегом помчался на остановку. Ему повезло: автобус подъехал почти сразу, пробок по пути не было, и в аудиторию Родион влетел за несколько секунд до звонка. День выдался насыщенным, и о своем утреннем путешествии Родион и думать забыл. Вечером, правда, мама напомнила: сказала, что «Варюшка с Васюшкой» заходили, тортик занесли.
— А ты к ней совсем перестал заглядывать, — с легким укором заметила мама чуть позже. — Такими друзьями в детстве были!
Родион, доедая кусок торта, спросил задумчиво:
— А мое лего еще не выкинули? Надо бы Ваське отдать.
Мать умильно улыбнулась — ну прям как женщины в автобусе — и потянулась потрепать Родиона за щеку. Вовремя спохватилась и сделала вид, что стряхивает крошку.
— Чего зря вещам пропадать, — буркнул Родион, словно оправдываясь.
На следующее утро, сверившись с прогнозом погоды и недовольно отодвинув в сторону старую зимнюю куртку, Родион вновь надел демисезонную. Не было никаких сил устоять перед новой вещью. Правда, он все же дополнил вчерашний туалет вязаным свитером и толстым шарфом.
На автобусной остановке опять завывал ветер, и тут Родион вспомнил, как Вася искал… как же он называл подветренную сторону? Заветренная? Безветренная? Родион невольно улыбнулся и пошел вокруг ларька. Делая второй поворот, чуть не наткнулся на девушку в голубом пальто. Она, должно быть, решила, что улыбка, еще не сошедшая с лица Родиона, адресована ей, и улыбнулась в ответ. И взгляд не отвела. Нужно было что-то сказать. Срочно! Что-то небанальное. Особенное.
— А вы знаете, как спят белые медведи? — спросил Родион.
Улыбка девушки из приветливой превратилась в вопросительную.
— И как же?
***
Сейчас Вася уже закончил детский сад, ходит в школу. А еще серьезно увлекается лего-конструированием. Может, причиной тому огромный ящик с лего, подаренный тогда Родионом. А может, причина в том, что Родион решил, по его словам, «поделиться конструкторским опытом с подрастающим поколением» и частенько ради этого захаживал в гости к соседям.
Ну как «частенько»?.. Не чаще, чем выпадали вечера, свободные от свиданий с Яной, той девушкой в голубом пальто. Только накануне свадьбы, через три года после знакомства с Родионом, она призналась, что знала ответ на вопрос, как спят белые медведи.
А чтобы вы не подумали, что рассказчик совсем заврался и сочинил неправдоподобно счастливую историю, добавлю: собаку Васе так и не купили.

Осень, остров, океан
Почувствовав, что вот-вот проснется, Илонов попытался растянуть эти последние чудные мгновения сна. Он ощущал себя необыкновенно счастливым. Наверное, потому что во сне он видел Лиду. Видел, как они бредут, взявшись за руки, по берегу океана, и их ноги утопают в белом невесомом песке. На Лиде красный раздельный купальник, оттеняющий ее ровный золотой загар. Ее длинные темные волосы, влажные от морских брызг, то и дело попадают ему в лицо, и он легонько хватает их губами, от чего Лида смеется. И вокруг ровно и нежно шумит океан.
Окончательно проснувшись, но еще не открыв глаза, он продолжал слышать шум океана. И тут он вспомнил, что счастье случилось с ним наяву.
Илонов вспомнил, как вчера утром маленький легкий самолетик, на борту которого было лишь пять пассажиров и двое членов экипажа, приземлился на белом от яркого солнца скромном аэродроме островка в Тихом океане. Как несмотря на солнце воздух оказался по-осеннему холодным и ломким, когда он шел по летному полю.
Он вспомнил, как приехал в почти пустую прибрежную гостиницу и поселился в номере с видом на океан. Как вечером в заранее оговоренное время вышел в эфир на канале, принадлежащем лаборатории, и перед миллионами затаивших дыхание невидимых зрителей и ликующих коллег рассказал об окончании работ над проблемой телепортации живых существ на расстояния в пределах 10 000 километров. Он продемонстрировал записи опытов, сделанные в лаборатории, и видеосъемки экспериментов. Показал прибор размером не больше планшета, благодаря которому, заранее проложив траекторию движения и обозначив конечный пункт, любой человек за несколько секунд сможет переместиться из точки А в точку Б. Эти мгновения мелькнут в его сознании лишь как вспышка красноватого света. Конечно, предстояло еще многое уточнить, проверить, доработать. Но главное открытие было сделано.
Разумеется, учитывая репутацию всей лаборатории и самого ученого, никто не мог усомниться в подлинности сказанного. И его слова должны были произвести тот же эффект, что и выступление на специально запланированной по этому случаю международной научной конференции, которая была отменена по причине всемирного карантина.
Лежа с закрытыми глазами, он знал, что его имя, пройдя различные метаморфозы, уже появилось в передовицах всех мировых таблоидов, всех информационных интернет-ресурсов, во всех новостных передачах.
И еще он знал, что где-то там, в памяти его телефона, поставленного на беззвучный режим, должно быть сообщение от нее, от Лиды. Он представил, что именно она напишет ему. Также знал, как в ответ предложит ей в обход установленных норм безопасности воспользоваться изобретением и переместиться к ней, в неназванный ею город, куда она уехала по делам какой-то женской организации – прощаясь, она выскользнула из-под его руки, увернулась от поцелуя, и уже месяц сухо и редко отвечала на его сообщения. Но теперь все изменится.
Он длил и длил это мгновение чистого счастья, думая о том, что ранее испытывал его лишь в раннем детстве и в первые полгода их с Лидой романа. Но теперь все должно было пойти иначе. И он подумал о том, что всю жизнь словно брел какими-то путаными тропами, которые наконец-то вывели его на прямую, залитую солнцем дорогу, которая уверенно и ровно шла до самого горизонта. Он играл с собой в игру, говоря себе: «Я всего добился. Что еще интересного меня ждет? Приемы, интервью, встречи, статьи в википедии, Нобелевская премия. Может быть, моим именем назовут астероид. Но это так, неважное». И тут же восторженно чувствовал, что врет сам себе, что все самое важное только начинается. И ощущал в горле приторный комок счастья.
Наконец, сев на кровати, он взял в руки телефон. Как и ожидалось, там были десятки неотвеченных звонков, сотни непрочитанных сообщений. Но его интересовало одно. Он проверил мессенджеры и соцсети — сообщения не было. Тогда он решил, что, возможно, она написала ему электронное письмо, как часто делала, когда они расставались на несколько дней в первые месяцы их любви. Он проверил личную и рабочую почту и даже мейл, недавно созданный для него организаторами несостоявшейся конференции. Ничего. Точнее, там были тысячи писем. Но ни одного от нее.
Счастье в горле растворилось, но все равно еще ощущалось где-то в груди и животе теплой вибрирующей волной. Держа в руках телефон, он машинально ответил на входящий звонок. Это был его помощник, американец Стив.
Английская речь, поначалу понятная и четкая, постепенно стала переходить в глухой гул, сродни гулу океана за зашторенным окном. Одновременно он почувствовал, как нарастает свист в ушах. Когда в потоке речи стало невозможно разобрать ни одного слова, он молча нажал отбой. Некоторое время Илонов все еще рассматривал телефон, затем его взгляд переместился на кафельные плиты пола и бесцельно блуждал по их замысловатым узорам.
Наконец усилием воли он заставил себя снова взять телефон и открыть первую всплывшую ссылку в новостной ленте. Затем вторую, третью. «Наука и объективация женщин несовместимы», «Ученый покрыл позором всю отрасль исследований», «От объективации до харрасмента один шаг», «Нобелевский комитет заранее отклонил кандидатуру Д. Илонова».
Все статьи воспроизводили скриншоты его видеовыступления, сделанные на разных минутах, но изображавшие одно и то же: тощий и очкастый восторженный Илонов в красной футболке с принтом. На принте тот же тощий и очкастый Илонов в синих нелепо широких плавках стоит, поджав ногу, как цапля, и, разведя в стороны согнутые руки, демонстрирует несуществующие мускулы. Рядом на коленях в нежном белом песке стоит Лида. В миг, пойманный фотографом, третьим невидимым лишним – Илонов даже не мог вспомнить, кто их фотографировал, и даже не был уверен, что существовал в этот момент на Земле кто-то кроме него и Лиды – волна сильно ударила сбоку и почти сбила красный лифчик Лидиного купальника, отчего на фото она одной рукой прикрывает грудь, другую тянет к Илоновоу, чтобы показать ему только что найденную невероятно цельную, без изъянов, сахарную ракушку, и ее колени слегка развернуты к нему. Эту футболку Лида подарила ему по возвращении домой.
Теперь, рассматривая фото, он старался разобрать то, что видели со стороны и чего никак не мог разглядеть он сам: привлекательная длинноволосая брюнетка, чье смуглое тело призывно переливается каплями воды, кокетливо прикрывает обнажившую грудь и умоляюще тянет руку к тощему мужичонке в нелепых трусах, всеми силами стараясь обратить на себя его внимание. Тогда как он занят самолюбованием и собирается отпихнуть ее ногой…
Надо признать, что принт на экране не был хорошо виден. Необходимо было сопоставить несколько скриншотов и поработать в Photoshop, чтобы воссоздать изображение.
Илонов на автомате открывал и открывал ссылки. «Активистка организации «Красный свет», борющейся за права женщин, Лидия Л. была узнана на скандальном фото». Дальше шло интервью с Лидой, где она говорила, что именно отношения с М. Илоновым лишили ее уверенности как женщину и что она готова бороться…
Илонов еще вяло полистал ссылки. Может быть, подумал он, кто-то все же написал об открытии? Но в большинстве статей научные исследования упоминалось вскользь. А некоторые ресурсы даже не удосужились пояснить, кто такой Илонов и о чем он вообще говорил на злосчастном своем стриме. Единственный месседж, который уловили массы – это вклад представителя науки в объективацию женщин и пропогандирование «секси-телок».
У него дрожали руки, и он решил набрать номер Стива, чтобы продиктовать несколько поправок для условий планируемых экспериментов.
— Готово, я все зафиксировал. Когда планируешь вернуться?
— Я договорился о рейсе на завтра. Хочу еще немного посмотреть на океан.
— Ok. Ты не расстраивайся слишком. Мы придумаем, как выпутаться. Надо будет подготовить выступление в ответ на обвинения. Конечно, в этот раз все же привлечем пиар-менеджера, как я и предлагал раньше… Ты точно в порядке?
— Да, я тут работаю, все нормально. Слушай, не забавно ли, что отношения мужчин и женщин вновь оказались важнее любой науки?
— Это цитата из какого-то русского романа?
Илонов попрощался и нажал отбой.
Он нашел пульт и наконец-то поднял жалюзи. Все белое, что было в комнате — стены, мебель, кафельный пол — стало алым. Алым был и океан, в который опускалось горячее алое солнце. Илонов немного постоял у окна, затем взял «планшет», включил его и, оставив пропуск в графе Final Destination, запустил программу, развернув прибор к окну. Вскоре перекрещивающиеся красные лучи создали подобие виртуальной капсулы за окном. И Илонов шагнул в нее с подоконника.
Ученым еще не удалось выяснить, что происходит с материй, которая, распавшись на мельчайше частицы и разогнавшись до скоростей, необходимых для телепортации, не имеет конечного пункта назначения и возможности собраться обратно. По крайней мере, обнаружить следы материи исследователям пока не удалось. Возможно, частицы воссоединяются в другом пространстве, и не исключено, что в другом времени. Может быть, они теряют порядок воссоединения и создают новые конфигурации. Или же, что наиболее вероятно, мельчайшие частицы, высвободившись и не собравшись вновь, остаются рассеянными в атмосфере Земли.
«Милый мой, — писала в одном их своих электронных писем Лида в начале их романа, — ты сейчас на другом конце Земного шара, но мне кажется, что ты везде. Я иду, и мне кажется, что ты видишь меня, следуешь за мной. Что ты в воздухе вокруг меня. Что ты и есть сам воздух».

Перчатки без пальцев
В школьном окне с неизменной зеленой краской по периметру покачивались ивовые ветки. Март был еще по-зимнему холоден, но воздух уже шептал о переменах.
Под настырный звон, знаменовавший окончание последнего урока, старшеклассники с нетерпением подскочили со стульев и, не дослушав домашку, стали прятать учебные принадлежности в рюкзаки. Ребята ринулись к раздевалке, и уже через две минуты в маленьком загончике нижнего этажа началась спартанская война за верхнюю одежду. Побеждал «длиннейший». Одним из них был Саня с десятого «Б». Едва протянув руку поверх других голов, он с треском пересыпал номерки половины класса из ладони дежурному по раздевалке.
Тут Иринка из десятого «А» зацепилась взглядом за его рубашку в клеточку, пока терпеливо отстаивала свою очередь. Рассеянность в глазах сменилась заинтересованностью, и она уже сама не заметила, как скользнула по его плечам, затем по вытянутой руке, подпиравшей стенку. Она и раньше с ним пересекалась в учебных коридорах, но сегодня будто увидела впервые. И это ее очень удивило. Волна столпившихся вынесла ее ближе к Сане, и она ненароком толкнула его локтем в бок. Она сжала плечи и извинилась, и он между делом сказал что-то вроде: «Ды, нормально!» и посмотрел на нее непозволительно долго. Сегодня он тоже увидел ее в первый раз. Сопротивляться первой юношеской любви было бесполезно.
Теперь каждую длинную перемену Саня бегал в класс к Иринке, а не со своей бандой «бэшек» за школу на перекур. Он выучил наизусть ее расписание и уже знал, между какими уроками можно урвать момент, чтобы украсть ее поцелуй. Подходя к ее классу, он заглядывал, переминаясь с ноги на ногу. В итоге она его замечала или кто-нибудь из ее одноклассниц докладывал нарочито протокольным голосом: «Ирина, вас ожидают». Она вспыхивала, опустив ресницы и, благодарно улыбаясь в ответ подружке, вылетала из класса, едва касаясь школьного линолеума.
Саню обожал весь класс вместе с классной. Когда в конце девятого решали вопрос о том, кто пойдет на следующий год, у Сани было мало шансов из-за успеваемости. Но родители девочек на собрании горячо ратовали за него. Собственно, Екатерину Николаевну долго уговаривать не приходилось. Хоть и троечник, но добряк и всегда разожжет огонь в школьном походе.
Могучая женская кучка «бэшек» в составе с Рыжей, Любашей и Носатой, как заочно их величали «ашки», с недовольством бурчали: «Все, пропал наш Саня! Замутил с этой скрипачкой — не оттащишь». Ведь Саня теперь и в экскурсии школьные стал ездить с «чужим» классом, и куртку стал подавать только одной особе.
Она хорошистка, яркая девчонка с каштановыми волосами до пояса и огромными глазами. Он гордился ей и ее любовью к нему. Он всячески старался казаться плохишом, а Иринка воспринимала эту игру с энтузиазмом, смеялась, запрокидывая голову, и смаковала, глядя, как он держит сигарету в руках, выпуская дым с видом видавшего жизнь байкера. Она ему даже черные перчатки без пальцев подарила, так он их носил как вторую кожу.
Искры счастья из их глаз сыпались с такой подростковой откровенностью, что, казалось, школьные стены могут подгореть и наконец-то отменят занятия. Они бурно ругались, но и быстро мирились.
Так, назло остальным, рука об руку они добрались до одиннадцатого класса. Начался обратный отсчет перед началом взрослой жизни. Иринка стала ходить на подготовительные курсы, и времени на Саню оставалось все меньше. Ей никогда учеба легко не давалась, но она подкупала ее старательностью. Саня же снова стал крутиться со своими «классными» за пределами учебного здания. Ей они откровенно не нравились, и ему это нравилось.
Эта весна была на редкость жаркой. Почки рано полопались от бурного цветения, и вокруг все стало быстро меняться. В один из учебных дней Саня прошел прямо мимо ее носа в коридоре, о чем она не сразу сообразила. В столовой повторилось то же самое. Он оживленно беседовал со своей свитой одноклассниц и вальяжно проплывал, нарочно ее не замечая. В висках громко застучало, ноги стали ватные, она почти задыхалась. В эту минуту стеклянный шар их общей вселенной лопнул и разлетелся на осколки, врезавшиеся в нее. «Ириш, на алгебру опоздаем! Пошли скорей, — тянула ее за руку одноклассница. — А чей-то у вас с Саней? Поругались?» «Да, у нас уже все», — медленно произнесла она, расправила плечи и с помощью каких-то высших сил направилась на занятие. Дома она рухнула в кровать и провалилась в сон. Наутро секунды через три после пробуждения вспомнила о вчерашнем и завыла. Взрослая жизнь наступила внезапно.
А дальше был последний звонок, на котором Саня вальсировал не с ней, а с Любашей. Потом выпускной вечер, где Иринка не смела заявиться, ведь «ашек» соединили с «бэшками». Весь следующий месяц подготовки к вступительным проходил для нее в аду. Ей пришлось проглотить обиду как есть, целым куском, не запивая. Иринка еле наскребла на проходной балл, поступила «в Москву» на бюджет и свалила.
Они случайно столкнулись в торговом центре спустя семь лет.
— Простите, пожал… Иринка, ты? — обронил он.
— Саша? — слегка заалела она.
— Какая встреча! К маме приехала?
— Да.
Прерывая неловкое молчание, он робко начал:
— Ты как вообще?
— Все хорошо! Замужем, Даньке второй год пошел. У тебя как? — Она распрямила плечи.
— Да у меня че-то как-то так. Женька от меня ушла, с ребенком общаться не дает.
— Ясно.
— Может, зайдем в кафе, посидим?..
Они проболтали целый час ни о чем, а в голове проносились картинки семилетней давности.
— Иринка, ты прости меня. Ты же знаешь, они это… Тебе специально хотели насолить. А я, дурак, купился. И тебя потерял.
— Да это уже неважно, Саня. — Она спокойно смотрела сквозь него и допивала латте.
Тут у него зазвонил телефон. Поговорив, он стукнул себя по лбу, приговаривая:
— Я совсем забыл. Меня же кореш просил с ним съездить машинку посмотреть! Сейчас прям надо выезжать.
Он вытащил из карманов перчатки без пальцев и, попрощавшись, на ходу стал их надевать.
— Кореш — это очень важно… — Она аккуратно промокнула салфеткой уголки губ и вежливо произнесла: — Официант. Счет, пожалуйста!

Полевой дневник
Под плотной крафтовой бумагой в коробке из-под конфет лежало письмо со стихами, посвященными ей, Оле. Стихи, на первый взгляд, нелепые, вникать она не стала. Такую ерунду она и сама могла бы сочинить. Но там же оказался и ее дневник! Бандероль пришла откуда-то с Урала, адрес был совершенно незнакомый. Пропажу Оля обнаружила несколько месяцев назад и уже успела забыть об этом. Где она могла его оставить, выронить — у костра, в электричке, в комнате на биостанции? И вот теперь он непостижимым образом вернулся. Небольшая книжечка в зеленой твердой обложке с надписью «Академия наук СССР. Полевой дневник». Сюда Оля записывала свои впечатления от поездок, наблюдения за жизнью леса и результаты нехитрых юннатских изысканий, стихи собственного сочинения и слова любимых песен. В общем-то, жизнь записывала — всю, кроме любовных историй. На первой странице стояли даты начала и окончания дневника, адрес владельца. Записи были сделаны простым карандашом, чтобы, если дневник намокнет, текст не расплылся. Такими дневниками в своей работе пользовались зоологи, геологи — все те, кто ездил в экспедиции, «в поле». Это был символ принадлежности к особому братству полевиков, и Оле всегда страстно хотелось, просто необходимо было его иметь. Ей было всего пятнадцать, но жизнь уже сложилась. Оля неплохо училась, несколько лет занималась в известном московском биологическом кружке и собиралась поступать на биофак, как и большинство ее друзей.
Она наугад раскрыла дневник. Первая ее «взрослая» экспедиция в Окский заповедник. Оля с подружкой все лето проработали лаборантами в отряде московских биологов. Разметка площадок, учет птиц по голосам и отловы мышей специальными ловушками. Все это она пропустила, остановилась на одной записи. «Мы с Ленкой остались вдвоем на кордоне. Сидели у костра в ночной темноте, рассказывали друг другу про свою жизнь. У Ленки отец — алкоголик, они с матерью давно живут отдельно. Я даже плакала. Может, даже лучше иметь отца-алкоголика, чем то, что случилось со мной».
«Оля, пора идти в магазин! — крикнула бабушка. — Собирайся, ты же знаешь, мама не может стоять в очереди!»
Знаю. Она вообще ничего не может. Сидит и смотрит в одну точку. Или курит на кухне некрасиво, резко втягивая щеки при каждой затяжке. С тех пор как она сломала мою куклу в каком-то припадке, я с ней вообще не могу разговаривать. Потом и вовсе наглоталась таблеток, полгода лежала в больнице. Все это из-за отца. Он нас предал, бросил, забыл.
«Ба, давай деньги!» — бодро откликнулась Оля.
Она натянула грубые темные штаны а-ля джинсы, стеганое синее пальтишко-«полужопник» — чуть прикрывающее обозначенное этим названием место — и выскочила на улицу. В гастрономе Оля купила бутылку сухого вина и пачку сигарет «Родопи». Продавщица не обратила на нее никакого внимания. Через мост пешком отправилась на Киевский вокзал. Она любила бродить по перронам и представлять себе, как уезжает навсегда в заповедник. Но сегодня Оля села в электричку до Щекочихина, билет брать не стала, просто впрыгнула в вагон. Электричка поехала. В вагоне никто не стоял, все жесткие деревянные лавки были заняты.
Желтый электрический свет тускло освещал отрешенные чужие лица, тела, по трое на каждом сиденьи, мерно покачивались в такт движению. Духота. Оле казалось, что вот сейчас все они обернутся на нее, станут выяснять, почему эта девочка едет одна, но никто не пошевелился.
В Щекочихине Оля сошла с перрона и немного углубилась в лес. Вот оно, убежище. Достала бутылку, вдавила внутрь пробку, глотнула. Закурила сигарету, голова сразу закружилась, а тревога внутри как-то отяжелела, стала медленно густо расплываться, истаивать. Ну все, теперь надо возвращаться. Обратная электричка подошла сразу же, Оля благополучно без билета доехала до Москвы. Уже стемнело. В дверь надо было звонить три раза, один и два звонка — соседям по коммунальной квартире. Дверь открыла мать. «Ты где была?!» — вскрикнула она и, не дожидаясь ответа, влепила Оле пощечину. «К Вовке Ожерелкову ходила на день рождения», — ответила Оля и быстро прошла в комнату. Забилась в свой угол — они с матерью жили в одной комнате — и открыла дневник. «Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги…» — от этих песен всегда делается легче. В дверях появилась бабушка: «Оля, сейчас же убери со стола, ты же знаешь, мама не выносит беспорядка!»
В заповедник она так и не уехала. Небольшие книжечки в потемневших от времени твердых обложках — коричневых, синих, зеленых, с надписью «Академия наук СССР. Полевой дневник», — стопкой лежали в ящике с документами. Теперь, уже выйдя на пенсию, Оля заполняла книжечку в обложке светло-зеленого цвета, с надписью «Полевой дневник. X конференция юных натуралистов». На ней она когда-то присутствовала как почетный гость. Этот последний дневник служил в основном телефонной книжкой. Телефоны она записывала туда беспорядочно, без всякой системы, один за другим. Они перемежались расписанием врачей в поликлинике, автобусов для поездки на дачу, разными напоминаниями и названиями лекарств. Переписывание старых телефонных книжек ушло в прошлое, а забивать номера в телефон Оля так и не стала. Чтобы найти нужное, приходилось перелистывать все страницы. Записи мостились одна на другую, мелкими буквами расползались по краям листа: простой карандаш, гелевая ручка, обычная шариковая. Покрупнее, помельче — непорядок, в общем. В середине простым карандашом была записана сокровенная Олина мысль — неудавшаяся попытка сочинить стихотворение. А на последней странице давно уже поместилась строчка из песни «Теперь бы эту быль обратно сделать сказкой, да слишком много дел, да слишком мало сил». Оля достала из стопки тот, первый дневник. Из него выпал четырехугольник письма. Этот дневник в тумбочке на биостанции тогда нашел приезжий аспирант. Видно по письму, что растрогался, увез с собой. А потом — совесть, что ли, замучила? — прислал по указанному адресу. Оля откопала в ящике конверт, торопливо набрала на компьютере письмо — за эти годы столько всего произошло! Распечатала, отправила. Ответа не было.

Пробуждение
Август — самое неудачный месяц для поездки в Рим. Местные жители разъезжаются на море, и Вечный город замирает в душном оцепенении. Кира помнит, как мучилась от зноя, но смутно, как сон.
С Маттео они познакомились в университетском кампусе — Кира тогда любовалась барочными фасадами, все это было так непохоже на бетонную глыбу родного МГИМО, — как вдруг что-то ужалило ее в плечо. Обернувшись, Кира столкнулась с незнакомцем. Машинально отметила голубые глаза, вытянутое лицо, взъерошенные темные волосы. Незнакомец принялся длинно извиняться, и Кира наконец заметила причину столкновения — это была книга. По всей видимости, он так увлекся чтением на ходу, что попросту ее не заметил.
— Что вы читаете? — спросила Кира.
Незнакомец показал обложку: «Il maestro e Margherita».
Следующие два часа пролетели незаметно: с Булгакова они перескакивали на Кальвино, с фра Анджелико на Рублева. Маттео сказал, что учится на врача, а по вечерам играет в местном оркестре на альте. Кира объяснила, что приехала подтянуть итальянский, завтра возвращается в Москву, но через год собирается поступать в магистратуру в Риме.
Конечно, никакой зарубежной магистратуры в ее жизни не случилось — Кира испугалась бумажной волокиты. А Маттео через год встретил такую же идеальную, если верить фейсбуку, девушку, а еще через два женился. Одинокими вечерами, сидя за стареньким ноутбуком в съемной однушке и теребя доставшуюся от бабушки подвеску из лунного камня, Кира задавалась вопросом: что, если бы она тогда не струсила? Это могли быть ее жизнь, ее муж, ее счастливые снимки. Вот, пожалуйста, они ждут ребенка. В отчаянии Кира дернула за цепочку, подвеска сорвалась и, упав на пол, вдруг разлетелась на осколки.
…Не веря своим глазам, Кира смотрит на знакомую дверь с табличкой «Деканат».
Мелькает мысль — «это сон», и тут дверь открывается и бьет ее прямо по лбу. От боли Кира охает, но сон не прекращается. Под суетливые охи и вздохи Киру проводят в кабинет и сажают на стул. Лоб саднит, наливается шишка, но Киру волнует другое: календарь за спиной замдекана уверяет, что на дворе 4 марта 2010 года. Кира переводит взгляд на правую руку — неделю назад неудачно схватилась за раскаленную сковороду, и на ладони остался блестящий шрам: шрам исчез. Более того, руки ее лежат на коленях, обтянутых серыми джинсами — Кира в прошлом году отнесла их в «Армию спасения». Кружится голова, сопротивляясь обмороку, Кира машинально хватается за цепочку на груди. Лунный камень привычно холодит ладонь, и в голове проясняется. Отбросьте все невозможное, говорил Шерлок. Оставшееся — пусть даже самое невероятное — и есть ответ.
Полгода спустя Кира снова стоит перед знакомым барочным фасадом. Сумасшедшая гонка — экзамены, бесконечная переписка с «джентиле дотторе», бюрократическая волокита — завершилась. В руках она держит карту студента и ключи от комнаты в общежитии, но задерживаться там в ее планы не входит.
— Чао, Маттео, — с торжествующей улыбкой говорит она, обернувшись.
Проходит всего два месяца, и Кира переезжает в небольшую квартиру, которую снимает Маттео у конечной станции метро. Добираться отсюда в университет куда дольше, чем из общежития, но Кира не готова жертвовать ни секундой — кто знает, сколько продлится ее новая жизнь. Каждое утро, найдя на потолке знакомую трещину, Кира вздыхает с облегчением.
А потом Маттео знакомится с Кьярой.
Кира знает, что в прошлой жизни они встретились в лифте в доме его родителей, и поэтому каждые выходные она исправно навещает их вместе с ним, игнорируя недоуменные взгляды Лукреции, матери Маттео. Но теперь Кира видит Кьяру сквозь стеклянную дверь «Старбакса»: та стоит с подругой в очереди прямо перед Маттео, весело щебечет, смеется, а затем случайно задевает его локтем. Из рук Маттео выпадает книга — вечно он таскается с этими книгами! — и они оба тут же бросаются ее поднимать, сталкиваются лбами, смеются. Кире плохо видно их лица, но воображение уже дорисовывает всю сцену. В глазах темнеет, она хватается за кулон и…
— Чао, Маттео, — с торжествующей улыбкой говорит она, обернувшись.
Проходит всего два месяца, и Кира переезжает в небольшую комнату неподалеку от университета. Соседнюю комнату занимает Маттео, а в третьей живет Шандор, хмурый тридцатилетний эмигрант из Бухареста, которого целыми днями не бывает дома. С Лукрецией они до сих пор не знакомы, но Киру это волнует мало — она подписалась на Кьяру и всех ее подружек в фейсбуке, и теперь маршруты их с Маттео прогулок подчинены особой логике. Иногда Кира думает, что если бы Наполеон прорабатывал свои кампании с тем же усердием, то Кутузов не отделался бы сдачей Москвы.
Проходит год, и Кира уговаривает Маттео согласиться на практику в Генуе. В Генуе нет ничего особенно интересного — это портовый город со всеми его прелестями, да и Кире куда проще было бы найти работу в Риме, — но зато там нет Кьяры. Кира знает это наверняка: у Кьяры теперь есть Сантино, красивый сицилиец с неприятной улыбкой. Кира с облегчением вздыхает и закрывает Фейсбук. Она победила.
Через два года они возвращаются в Рим — Маттео предлагают отличное место в больнице, да и Киру уже тошнит разъяснять туристам, что пьяцца Феррари никак не связана с автомобилями. С трудом вспомнив пароль, Кира заходит на страничку Кьяры — новых постов не было уже несколько месяцев, Сантино у нее в друзьях больше нет.
Два месяца спустя новый пост все-таки появляется — его выкладывает сестра Кьяры. Кьяре сейчас очень нужна ваша поддержка, посылаем ей лучи любви бла-бла-бла, дальше Кира не может читать, потому что под постом — фото. Маттео и Кьяра. Бог послал нам замечательного врача, Кьяра сегодня впервые улыбнулась. Буквы расплываются у Киры перед глазами. Она сжимает подвеску в поисках поддержки, но камень в кулаке крошится, острый осколок впивается в палец, выступает кровь.
Кира смаргивает слезы и первое, что она видит, — белый потолок, на котором змеится трещина. А затем — совсем близко — такие знакомые голубые глаза Маттео.
— Время принимать лекарство, — говорит он.

Сказка
Жил-был мальчик. Маленький такой мальчик с немаленьким внутренним миром. Впрочем, он, наверное, у всех немаленький, внутренний мир-то. Собирал этот маленький мальчик гербарии всякие, копил деньги на энциклопедии ботанические. Жил себе как все: папа, мама, школа, дача. Ну мама с папой ругались. Так у кого не ругаются? Ну ремнем бывало влетало. Так кому не влетало? Учился, кстати, неплохо. В биологический институт сам поступил, даже три курса отучился, да родители заставили перевестись в экономический. Так и все же что поперспективней выбирают. Институт отмучил, женился неплохо: жена красавица да умница. Двое деток. И даже свой бизнес придумал, зарабатывает солидно.
Только вот внутренний мир его немаленький то под дых ему даст, то ребро на излом крутанет, то в горло вцепится и дышать не дает. А бывает, в распор во все стороны как встанет — так и жизнь хорошая тоской кажется. И только тогда успокаивался его неугомонный мир, когда в каком-нибудь путешествии приволакивал наш мальчик свою семью на какую-нибудь далекую гору или в заповедник и без устали рассказывал и рассказывал скучающим чадам и домочадцам об араукарии чилийской, ветренице нарциссоцветковой, карлине стебельчатой и змееголовнике молдавском. Жаль только, путешествовать мало получалось. Так что затыкал он рот своему внутреннему миру работой до ночи, а тот в ответ вгрызался ему в виски мигренями.
Так и жил наш мальчик, Леонид Валерьевич. И жил бы, может, так долго еще, да случился високосный год, не абы какой, а 2020. Пошел по Земле, русской да чужеземной, мор, загнавший людей в клетки квартирные, прижавший их к экранам телевизоров-компьютеров.
И вот течет раскаленным маслом речь президента из огромного черного зева телевизора: «…приоритетом… безопасность… предотвратить угрозу… нерабочая неделя…» Ледяной волной накрывают Леонида Валерьевича слова «сохранение заработной платы», а уж все остальные слова гудят где-то там, сверху, невнятностью и бессмысленностью. Леонид Валерьевич понимает, что речь идет точно не об одной неделе. Но маленький мальчик в нем все же надеется. Закрывая офис, мог ли он представить, что вернется сюда только через три месяца. Через три неимоверно долгих месяца, проведенных к тому же тет-а-тет со своим несговорчивым внутренним миром. Да как вернется!
Но пока, пока Леонид Валерьевич несется домой. С ним в ногу, также пружинисто подпрыгивая, мчатся мысли, правда, не в форменном пальто, а в формате excel. Ну а фоном летит мимо и весь мир: мелькают чьи-то лица, рябью пролетают станции метро, дома, магазины, жизнь.
Вдруг Леонид Валерьевич затормозил. Смотрит, а перед ним, в зеркальном отражении магазинной двери, стоит некто: скрюченный, мрачный. Серебристые прямоугольники очков съехали на самый кончик мясистого носа, брови сползли в глубокий хмурый овраг. Короткие крепкие пальцы сжимают толстый кожаный портфель, будто в нем вся жизнь. А правая рука держит мобильный телефон. И внутренний мальчик Леонида Валерьевича тут как тут: остро натягивает тетиву прямо в груди. «Это я? Когда я успел стать таким?» Тетива вибрирует тонким комариным звоном. Леонид Валерьевич убирает телефон в карман, расправляет плечи, становясь вдруг высоким, статным. Привычным движением руки поправляет очки, моложаво проводит рукой по рыжеватой шкиперской бородке. Но бетонный взгляд серых глаз так и не меняет толком этого «некто». «Как постарел!» Тетива с придыханием замирает от тугого натяга.
На груди у некто висит объявление: «Закрыто в связи с нерабочими днями». Невидимая тяжесть мыслей вновь скрючивает тело. И идет Леонид Валерьевич дальше, да тетива натянута, и противное липкое чувство преследует его: будто тот, хмурый и осунувшийся, из зеркальной двери, продолжает тенью ползти за ним, ртутью перетекая с витрин на стены, со стен на асфальт, и не моргая с укором смотреть на него исподлобья — тело мальчика, а лицо старика.
Долго ли, коротко ли, а Леонид Валерьевич все на даче кукует: работать нельзя, ком проблем растет, а внутренний мир вконец разбушевался, бьет и бьет в самое больное стрелами: «Знаешь ведь, все знаешь!» Измотал совсем!
Решил Леонид Валерьевич трудом его оглушить. Сидит, мясистые корни одуванчиков с жаром выдергивает, с мальчиком своим внутренним беседы ведет: «Кто бы мог подумать: генеральный директор, двадцать человек в подчинении, переговоры с такими людьми веду, а вот он я: в наиинтереснейшей позе вытаскиваю сорняки из клубники. На что только карантин человека не толкает, в самом деле. Загнали, твари такие, по домам, и живи как хочешь! Что за государство такое! Где, они мыслят, мне зарплату людям брать? Зараза какая жирная… taraxacum vulgare… Да, вот именно! Как бы ты ни сидел уверенно в земле, все равно тебя возьмут и выдернут, и нет никакой гарантии, что ты выживешь! Ни-ка-кой!»
Сорняки вырывает, а сам на птичку посматривает. Птичка маленькая, носик остренький. Птичек на пятом курсе проходят.
«Вот птицы, вот они живут одним днем и не парятся. Создают семьи, растят детей, каждый день трудятся и получают ровно столько, сколько им надо. И счастливы! А я?»
Птица внимательно наклоняет свою серенькую голову набок и озадаченно моргает.
«А мне больше надо. Я же не животное, в конце концов! Мне вон образование детям хорошее дать надо».
По-весеннему сочно сияет ультрамарином небо, убаюкивающе покачивается салатовое кружево берез. «Как давно я не смотрел на небо!» Нежные солнечные лучи бережно обнимают теплом и покоем лицо. Вдруг падает сверху смачным плевком белая клякса, и птица, тяжело отпружинив от ветки, исчезает в беспечной лазури.
«Птицы счастливы, а я нет! Факт! Вот он я, вот он мой бизнес, вот она моя жизнь! Сижу весь в земле, сам как сорняк — выброшен на компостную кучу».
Обмякший труп taraxacum vulgare согласно кивает у него в руках.
«А что, если этот вирус… и бах — нет меня. И соберутся все вокруг моего тела. Что говорить-то будут? Вот дело с нуля создал, вот дом построил. Пустота, глупость — разве это обо мне? Всю жизнь бежал, бежал, а как остановился, так опаньки: а на душе-то, оказывается, болотце да лягушки квакают! Факт. Паршивенько. А должен же, как птицы, радоваться и щебетать: карьера, деньги, семья. А я что? А я уныл. Совсем и полностью. И что тут поделать? В работу бы с головой, да работать нельзя: карантин!»
Внутренний мир снова натянул тетиву: «Знаешь ведь! Все знаешь!» — «А как же жена? дети?»
Внутренний мир сощурил в полосочку бунтарские глаза и прицелился.
Мелькают мимо поля, леса, деревушки, платформы, проносятся мимо чьи-то серые уставшие лица. В купе сидит рыжебородый загоревший мужчина. Ясные серые глаза улыбаются, глядя на экран телефона: вот он на Урале адонис весенний нашел, вот он с коллегами ботаниками сплавляется по реке Белой, вон пороги какие там. А это, это он отдает ключи от офиса арендодателю: на спине рюкзак, в глазах еще смятение… И сидит рядом невидимо маленький мальчик и довольно покачивает ногами в такт поезду.

Сказка быстрого приготовления
Константин Петрович запахнул свой шелковый халат с иероглифом на спине и пошел на кухню за лекарством. Проходя по коридору, он заметил, что в комнате Аси горит ночник. На обратном пути он зашел к ней и присел на край кровати. Ася не спала.
— Трудный день был в школе? Ну ничего, скоро привыкнешь, будет легче.
— Да нет, просто не могу заснуть. Когда начинаю засыпать, то мне кажется, что я куда-то проваливаюсь. Так страшно. Потом не могу уснуть, а когда опять засыпаю, то опять проваливаюсь… Почему так, дедушка?
— Это у тебя гипногогические судороги.
— Что?!
— Да это нормально, не переживай. Атавистический рефлекс, не более того.
— Какой рефлекс?!
— Атавистический. Вам в школе, наверное, еще не рассказывали о происхождении человека?
— Я смотрела мультик про Флинстоунов, — подумав, ответила Ася.
— Хм… Это было чуть раньше, в те времена, когда люди еще ничем не отличались от обезьян…
— Что было?
— А вот послушай.
Давным-давно в одном тропическом лесу жила-была обезьянка по имени Арди. Вместе со своими подругами она проводила весь день в поисках вкусной еды и приключений. Арди прыгала с ветки на ветку, собирая ароматные фрукты: красные, желтые, розовые с черными семечками, черные с зелеными семечками, большие фиолетовые ягоды без косточек и разные другие, что росли между цветов с огромными лепестками. Фрукты были сладкие, кислые, мятные, чуть горьковатые, тающие во рту, вязнущие на зубах, крепкие как орешки — на любой вкус. Если какой-нибудь фрукт не нравился, его всегда можно было запить нектаром из цветка. За нектаром охотились пестрые бабочки, за бабочками следили стрекозы с прозрачными крылышками, а за стрекозами птицы, чьи яйца тоже были очень вкусными.
Верхние листья деревьев скрывали Арди от солнца и хищных птиц, парящих в небе над лесом, но пропускали достаточно света. Внизу же, ближе к земле, становилось совсем темно. Арди туда никогда не спускалась. Там не росли фрукты, зато водились змеи, мыши и страшное чудовище со светящимися глазами. Арди, как и все остальные обезьянки, бросала вниз огрызки и прочее ненужное.
Когда же наступала ночь, обезьянки забирались на самый верх своего домашнего дерева, где ветки совсем тонкие, а между листьев можно видеть луну и звезды. Каждая выбирала себе ветку, устраивалась на ней поудобнее, привязывала к ней свой хвост, чтобы случайно не свалиться вниз, и засыпала, покачиваясь на свежем ветерке.
Как-то раз день у Арди не задался. С утра зарядил дождь, каких давно уже не бывало в лесу. В прежние времена короткие дожди шли каждый день, теперь же они случались все реже, зато сильней. Арди вымокла до кончика хвоста, продрогла, толком ничего не поела. Когда перед заходом солнца дождь наконец-то закончился, она устроилась на сухой ветке. У них не было принято ночевать на таких ветках, они могли обломиться, но Арди слишком устала, чтобы искать другую.
— И ветка сломалась? — не выдержала Ася.
— Ты сама будешь рассказывать?
— Все, молчу-молчу.
В полудреме Арди услышала, как хрустнула ветка. Арди вся сжалась. Опоры под ней больше не было. Долго висеть в воздухе она не могла. Арди полетела вниз все быстрее и быстрее. Она дернулась, пытаясь схватиться за невидимые ветви, но вокруг нее свистел один только воздух. И тут снизу ее подхватили прутья какого-то куста. «Вот повезло», — обрадовалась Арди, с трудом выбравшись из куста.
В темноте ничего не было видно, а в полете все так перекрутилось, что Арди не знала, где искать домашнее дерево. Повертевшись, она прислушалась. Поначалу ничего нельзя было разобрать, кроме непрерывного стрекотания насекомых, затем неподалеку кто-то громко ухнул. Потом Арди стала различать все новые и новые звуки: крики, стоны, шипение. На земле живых существ оказалось не меньше, чем наверху, и они, привычные к темноте, даже не думали спать. Постепенно ее глаза становились чувствительней, хотя это мало помогало. В подлеске свет исходил от гнилого дерева и каких-то летающих жуков, его хватало не на много.
И вдруг Арди увидела вдали две зеленые точки. Точки светились ровно и не двигались. Их постоянство среди внезапных шумов успокаивало и притягивало к себе Арди. Она уже хотела пойти к ним навстречу, как ей показалось, что огни сами приблизились к ней. «Не может быть», — подумала Арди и стала наблюдать. Прошло какое-то время, и огни снова стали ближе, и Арди опять не заметила, как это произошло. И еще раз. И еще. «Глаза!» — сообразила наконец Арди.
Арди собралась и рывком отвернулась от притягательных глаз. «Бежать», — велела она себе, но не тут-то было. Лапы проваливались в толстый слой гнилой подстилки и еле ворочались. Арди как-будто вязла в густых вонючих испарениях. Проклятая ветка, привязанная к хвосту, цеплялась за все подряд. Арди казалось, что она не бежит вовсе, а только перебирает лапами, оставаясь на месте, а сзади бесшумно приближаются горящие глаза. На ее спине дыбом встала шерсть в предчувствии челюстей чудовища. «Только не оборачивайся!» — умоляла себя Арди.
Арди в очередной раз зацепилась веткой за какую-то корягу, теперь намертво. Ее хвост натянулся… и Арди пронзила боль внизу спины. Она уткнулась носом в землю и тут же перевернулась лапами вверх, пытаясь защититься. Огромная морда с зелеными глазами чавкнула над Арди и что-то обронила на нее. Это была та самая ветка.
Арди схватила ветку передними лапами и зажмурившись ударила ею между зеленых глаз изо всех сил.
— Мья-а-а-а! – заорала морда.
Арди приободрилась и принялась бить палкой по голове чудовища:
— На тебе, на тебе, на!
И чудовище отвернуло морду от Арди. Не в силах остановиться, Арди вскочила и набросилась на него, продолжая молотить его палкой по задним ногам, спине, хвосту, всему, что попадалось ей под лапу. Чудовище отступало, огрызаясь и шипя. Ему пришлось бы совсем худо, но Арди запуталась в каком-то кусте, и чудовище убралось восвояси.
Арди узнала куст, а вскоре нашла и домашнее дерево. Кое-как она забралась на его верхушку, перебудив всех своих подруг.
— Ты где была? — спросили Арди ее подруги.
— Я упала.
— Упала-упала-упала-упала… — разнеслось по веткам.
— Я хочу спать.
— Спим. Спим. Спим. Спим… — согласились ветки.
Остаток ночи Арди почти не спала, боясь снова упасть. Ведь она больше не могла привязать себя к дереву. Чудовище откусило ей хвост.
Утром, отправившись по своим делам, Арди прыгнула на ветку соседнего дерева, но пролетела чуть дальше, чем хотела, и стукнулась головой о ствол. Потерев ушибленное место, она попыталась сообразить, что сделала не так. Все вроде как обычно… Тогда она прыгнула еще раз, на ветку поближе. В полете надо было чуть повернуть в сторону. Арди хотела махнуть хвостом… и поняла, что же с ней не так. Желанная цель пролетела мимо лап, Арди стукнулась о ветку ниже, свалилась с нее на ветку еще ниже, там еще раз ударилась, и так летела кувыркаясь до самой земли.
Очнувшись на земле, Арди почувствовала под собой что-то твердое. Это была палка, с которой она бегала прошлой ночью. Арди огляделась. Редкие белесые лучики солнечного света, проникающие вниз сквозь листву, не согревали сырой подлесок. Хуже всего было то, что здесь почти нечего было есть. Нужно было куда-то идти. Арди подняла палку и стала продираться сквозь завалы в ту сторону, где, как ей показалось, чуть светлее. И действительно, по пути деревья росли все реже и реже и светлело.
За последними деревьями перед Арди открылось ярко освещенное пространство, где ни она, ни кто-либо из ее подруг никогда не бывал. Ведь туда нельзя было попасть, скача с ветки на ветку. Арди туда не хотелось, но и возвращаться тоже не имело смысла, поэтому она вышла из леса и сразу же очутилась среди высокой травы, скрывшей ее целиком.
В траве оказалось сухо, тепло и уютно, а еще приятно пахло. Арди долго шла между травинок, вставала на задние лапы, чтобы разглядеть, что там впереди. Кругом росла одна трава, и только отдельные деревья островками вторгались в бескрайнее ровное пространство. Арди направилась к одному из них.
Землю под деревом покрывал слой сухих листьев, веток и коричневых стручков. Арди попробовала на вкус стручки, они оказались сладкими. Наконец-то она смогла хорошенько поесть. По дороге через траву ей только и попалось, что какое-то насекомое с длинными задними ногами.
После стручков уставшей Арди захотелось спать, да и день уже заканчивался. Рядом с деревом рос куст, Арди решила залезть в него и там заночевать. Она раздвинула палкой прутья и увидела за ними огромную морду, рыжую с темными пятнами. Глаза у морды были закрыты. Арди хотела осторожненько отпустить прутья и убежать, но не успела. Глаза открылись и уставились на нее узкими щелочками зрачков. Арди и морда молча смотрели друг на друга. Наконец Арди нарушила молчание:
— Ты кто?
— Я Кот.
— Это ты ночью откусил мой хвост?
— Я не знал, что это был твой хвост.
— Как же я теперь буду жить без хвоста? Я же больше не смогу скакать по веткам!
— Ну, извини, было темно. Я думал, это змея.
— Ты не любишь змей?
— Мр-р-ра-а-а-зи.
— А мышей ты любишь?
— Мыши вкусные. Хочешь, я научу тебя их ловить?
— Нет, спасибо. Я лучше поем апельсинов. Ты больше не будешь кусаться?
— А ты не будешь больше драться? — опасливо покосился на палку Кот.
— Нет, — успокоила его Арди.
Кот вылез из своего убежища.
— Что ты искала в моем доме?
— Это твой домик? Очень даже миленький. А вот у меня теперь нет дома. И мне негде ночевать.
— Ну, если тебе нравится, можешь ночевать здесь. Я все равно по ночам ухожу охотиться в лес. Будешь сторожить мой дом, пока меня нет, а днем, когда я сплю, ходить за своими апельсинами. Ну, если ты не против, конечно.
Арди уже устроилась на нагретом месте, и глаза ее сами собой закрывались.
— Разбуди меня утром, когда вернешься, — только и успела она ответить, как тут же заснула.
Так Арди поселилась у Кота. Ее жизнь наладилась. Только иногда по ночам она просыпалась от страха, что куда-то падает, но убедившись, что лежит на кровати из прутьев и листьев, откуда нельзя упасть, она засыпала опять и спокойно спала до самого утра. Ее-то страх и передался по наследству потомкам, хотя у нас для него нет никаких причин.
— Так мы что же, до сих пор живем в кошкином доме? — удивилась Ася.
— Спроси об этом нашего кота. По-моему, он в этом не сомневается.
— Ты же знаешь, я больше с ним не разговариваю, — насупилась Ася. — А другие обезьянки, они остались в лесу?
— Нет. Дождей становилось все меньше, лес высох, они тоже спустились вниз.
— Им тоже откусили хвосты?
— Ну… История об этом умалчивает.
— Ладно. Я поняла, что ты хотел сказать.
— Ну, тогда спи.
— Уже спю.
Константин Петрович выключил ночник и пошел к себе дописывать статью.

Сон под грушевым деревом
В полночь накануне своего тридцатипятилетия я лежу в кровати в тщетных попытках провалиться в сон и думаю о смерти. С упоением и легким ужасом я думаю о том, какой памятник поставят на моей могиле, или пусть это будет не памятник, а дерево. Абрикос. Нет, лучше груша. При мысли о грушевых деревьях сердце сжимается. Два больших дерева росли у дедушки в огороде. Высоченные, с крепкими, хрустящими плодами. В этот момент яркими картинками всплывают в моей памяти дедушкины похороны и поминки.
Я плохо помню события в момент, когда его не стало. Память включается, когда я уже еду с отцом в машине, мы приближаемся к селу, и я лихорадочно пытаюсь повязать на голову платок. Я думаю о том, что должна буду делать, говорить, должна ли буду я плакать, или, наоборот, надо вести себя сдержанно. Мы приезжаем, и я, пребывая в полном внутреннем ступоре, вхожу во двор через по традиции распахнутые ворота, и кабардинские похороны тут же засасывают меня в свой круговорот. Плакать, горевать и думать о потере некогда. Надо здороваться с родственниками, что-то отвечать на слова соболезнования, тут же куда-то идти и что-то делать. Двор, еще совсем недавно бывший моей площадкой для игр, наполнен людьми. Сделанная дедом синяя собачья конура стоит пустая, и я думаю о том, куда же дели Тузика, черную дворняжку с большими ушами и обрубленным хвостом. Как в тумане, прохожу мимо стоящей полукругом молчаливой группы мужчин в шляпах. Периодически, словно по невидимой команде, они вытягивают руки перед собой, поворачивают ладони к небу и тихо-тихо молятся. Я совсем теряюсь, но тут меня подхватывает тетя и дает какое-то поручение. Во двор приезжают все новые и новые люди, у ворот слышен надрывный стон. Привезли дедушкину сестру. Едва выйдя из машины, она картинно приземляется на высокий бордюр у ворот, рыдая и громко причитая на кабардинском языке. Я не понимаю ни слова из того, что она кричит нараспев, выдерживая определенный ритм и такт. Но тут к ней подбегают несколько женщин, подхватывают ее под руки и заводят во двор. Рядом кто-то шепчется о том, что это неуместно, а кто-то, наоборот, одобрительно замечает, что так правильно.
Я все еще растерянна и не понимаю, почему каждый вошедший во двор непременно желает никогда не забывать. Смысл ритуальной фразы «тхьэм фщимыгъэгъупщэ» ускользает от меня. Дедушку я и так никогда не забуду. А день надо поскорее забыть, стереть из памяти всю эту похоронную суету и гулкое ощущение потери. Но что с меня взять? Я всего лишь тринадцатилетний подросток. Наконец я нахожу себе место рядом со своими сестрами, и мы в кладовой пережидаем момент, когда похоронная процессия выдвигается со двора.
После того как мужчины уезжают на кладбище, какая-то родственница говорит мне, что после выноса тела непременно надо вымыть полы, и воду никак нельзя выливать в доме или вообще в пределах двора. Эти слова приводят меня в совершенное смущение, но уворачиваться нельзя. Я иду по заполненному людьми двору с полным ведром воды, чувствуя, как косынка съезжает на затылок. В комнату, где еще недавно лежал покойный, откровенно страшно заходить. Но под чьими-то одобрительными взглядами и возгласами о том, какая я умница, мне приходится пересилить себя и все же войти в комнату и начать мыть пол. Выкрашенные красно-коричневой краской доски сильно скрипят. Шумно и неловко я вожу шваброй, сделанной дедушкиными руками, по неровному полу, который почему-то воспринимается бескрайним. В этот момент осознание утраты догоняет меня. Я заканчиваю свою нехитрую работу, выхожу на ступеньки дома и тихо плачу, стоя с ведром мутной воды в руках. Ее я потом выливаю под громадный орех, растущий на улице рядом с домом…
Через положенный срок наступают поминки. Над ними уже не витает столь ощутимый дух горя. В село мы приезжаем накануне. Народу пока немного, в основном близкие родственники, и основную проблему составляют два огромных быка, рыжий и черный, которых должны забить на следующий день. Особенно рыжий, который отличается буйным темпераментом. Коров в нашем дворе давно не держат, и подходящего места, чтобы его привязать, нет. В итоге рыжего бычка отводят к соседям, у которых есть коровник, а более спокойного черного решают запереть на ночь в гараже.
Гараж проходной, ведет в огород и закрывается на щеколду только оттуда, и решено, что мы с сестрой проведем ночь там, под навесом. А утром, когда бычков приедут забивать, нас выпустят. Мне это кажется приключением – ночевка на свежем воздухе, на старой железной кровати.
Нас с сестрой снабжают подушками и одеялами и отправляют спать. Мы закрываем со своей стороны ворота в гараж и уже через минуту слышим беспокойный топот копыт по цементному полу и отрывистые непереводимые ругательства на кабардинском языке. Еще через минуту ворота гаража захлопываются с наружной стороны, и все затихает. Чуть позже мы слышим примерно то же самое со стороны соседей. Там, за шиферной стеной, гремит цепями буйный рыжий бычок. Мы кое-как устраиваемся вдвоем на кровати, обсуждаем перспективы бегства в случае, если один из быков прорвет свою темницу, боимся шелеста листвы в саду и чертей, которые, по поверью, обитают по ночам в деревянном туалете. Вдруг по балкам у нас над головой пробегает крыса! И я несмотря на мрак вижу ее отчетливо, вплоть до лысого хвоста. На фоне этого меркнет и ветер в деревьях, и быки, и черти. Живо представив себе, как крыса шлепается на мое одеяло, я с ужасом накрываюсь с головой и тут же засыпаю.
День поминок начинается торопливым подъемом. Надо поскорее забить бычков и начать приготовления. С черным управляются быстро, но рыжий не желает так просто мириться со своей участью и ведет себя столь буйно, что кто-то даже предлагает вколоть ему транквилизатор. В конце концов усилиями нескольких мужчин жертвоприношение свершается, для удобства прямо рядом с люком, куда тут же водой из шланга смываются бесконечные потоки крови. И вот уже я с интересом наблюдаю за разделкой огромных туш. Нет ни отвращения, ни страха, ни жалости. Одно только чистое любопытство. Я все время куда-то иду, что-то несу, с кем-то здороваюсь. Меня и сестер сажают раскладывать крупы и сладости по пакетам. Их потом будут раздавать всем пришедшим на поминки.
На заднем дворике, смотрящем в огород, на длинных столах, сколоченных когда-то дедушкой, шумные и крупные женщины делают хьэлыуэ, сладкую халву из измельченного пшена. Дымящаяся плотная масса вываливается из котла на стол, и одновременно десять красных от пара рук начинают энергично по ней хлопать, придавая форму. Тут же неподалеку другие женщины тщательно моют кишки тех самых бычков, выворачивая их путем нанизывания на палку. В электромясорубке крутят печень и белоснежный жир, чтобы потом этой смесью набить кишки и сварить что-то вроде колбасы, с непроизносимым названием тхьэмщыгъуныбэ. Рядом в большом котле тушится мясо, которое двое мужчин медленно и методично помешивают огромными деревянными лопатками. В железных чайниках без остановки разносят калмыцкий чай, разливая его по стаканам из зеленого пластика, когда-то купленным моей мамой «на всякий случай». Кипит в огромном котле масло для лакумов. Чьи-то пухлые руки месят невероятное количество теста, раскатывают его, нарезают на безупречно одинаковые квадратики и жарят их в кипящем масле, переворачивая длинной вязальной спицей…
В какой-то момент я ловлю себя на том, что как-то слишком увлеклась мыслями о еде, и под их напором мысли о смерти отодвигаются на задворки. И приходит понимание, что я действительно не забыла. Хотя бы потому, что в жизни моей больше не случилось события, сравнимого с этим. Грушевое дерево еще подождет. С этой мыслью я наконец проваливаюсь в сон, в котором снова и снова обхожу дедушкин дом, двор, времянку и сарай. Прохожу через гараж в сад и иду по центральной тропинке, срывая с деревьев спелые абрикосы и красивые груши и разглядывая идеальные грядки, на которых нет ни единого сорняка. Там, в конце, я точно знаю, растут кусты малины.

Таракан
Общагу накрыло ночью. Таракан дождался, пока в комнате погасят свет, ловко выпал из своей щели за шкафом и отправился обходить владения. В первую очередь он проверил кухонную зону и пол под столом. К сожалению, сегодня провели уборку, и поживиться было нечем.
В поисках еды он неторопливо пересек комнату. Под первой кроватью обнаружился длинный волос, вероятно, принадлежавший блондинке, сопевшей сверху — пружины еле слышно постанывали в такт. Таракан попробовал волос на вкус — не то. Хотелось чего-то лежалого, запашистого. Кеды под второй кроватью пахли как надо, но, к сожалению, были несъедобными. От третьей кровати разило духами, пришлось даже остановиться и почистить усики передними лапками, чтобы рецепторы восстановили чувствительность. Это помогло. Таракан уловил легкий сырный запах и взял курс на источник. Шипики помогли ему взобраться по тонкой железной ножке, лапки пересчитали розово-белые полоски, и наконец он заполз в маленькую уютную норку.
Норка оказалась Катенькиным ухом. Девушка проснулась, почувствовав шевеление, а затем заорала от боли. Наткнувшись на барабанную перепонку, таракан попробовал развернуться, но места было слишком мало. Вперёд и только вперёд! Лапки судорожно заскребли по слуховому проходу — таракан бросился на естественную преграду. Удар! Ещё удар! Насекомое било в барабанную перепонку — Катя билась на своей железной койке.
Включили свет, позвонили в скорую. Врачи пообещали приехать быстро, побросали свои чемоданчики с красными крестами в «Газель», и встали в пробке. Напрасно пела сирена, пробка была глухой. Как и Катенька, которая от боли перестала что-либо слышать.
— Вытащите, вытащите это!
— Надо самим доставать, — вздохнула соседка-номер-один.
— Фу, я боюсь тараканов, — сморщила нос вторая.
— Катька, может, он не просто заполз, может, он домой шёл? — засмеялась третья. — Девочки, давайте его оставим, назовём Грэгором, пусть с нами живёт, места хватит.
— Гугл говорит, надо масло залить, — прервала смех первая. Девочки стали осторожно вливать в ухо масло, шевеления прекратились. Осталось извлечь труп.
Прошел час, измученная Катя уже успела задремать на промасленной подушке. Наконец, вошли двое в белых халатах. Один включил фонарик, второй вооружился длинными щипцами и вставил в ухо металлическую воронку. Секунда, две, три. Врач резко поднялся и прошипел: «Выдумщицы, блядь», после чего стал убирать инструменты обратно в чемоданчик.
— Вы что делаете, достаньте таракана!
— Не смешно. Сегодня из-за вас кто-то скорую не дождался. Нашли с чем шутить. — Врачи хлопнули дверью.
— Кать, что за фигня?
— Девочки, я клянусь, там что-то шевелилось!
***
На следующий день о случившемся говорила вся общага. Мнения разделились — кто-то считал, что это была неудачная шутка, другие полагали, что таракан остался жив и сбежал, пока ждали врачей. Что же касается самой девушки, она полночи прислушивалась к ощущениям, снова и снова чувствовала шевеления, на этот раз уже где-то в районе лба, периодически просыпалась, ощупывала голову. А утром долго извинялась, после чего соседки окончательно пришли к выводу, что это был дурацкий розыгрыш, и перестали с ней разговаривать.
— Маш, ну ты-то мне веришь? — подсела она к подруге.
— Очень бы хотела верить, — вздохнула та. Больше они не общались.
Катенька лежала на койке, пытаясь добрать сон. «Неужели я похожа на гениальную актрису? Машка и заступиться бы могла, между прочим… А правда, был ли таракан? Может, мне всё приснилось?»
Дверь отлетела, в комнату ворвалась смеющаяся толпа во главе с Лизкой, которая выхватила баллончик с дихлофосом и принялась распылять отраву прямо на Катеньку. Присутствующие гоготали, перформанс длился минуту, а затем толпа убежала разносить весть о проведенной дезинфекции. Катя плакала.
«Таракан был. Это не выдумка. Он и сейчас есть. Сделаю МРТ и заткну всем рот».
***
В кабинете с кафельными стенами светился экранчик: на фоне мозговых загогулин отчетливо выделялся тараканий силуэт. С одной стороны, Катенька чувствовала облегчение: снимок докажет, что она не врёт. С другой — появилась тревога:
— Доктор, что со мной будет?
— Жить как раньше вы, конечно, не сможете. Ваше поведение изменится. На кого учитесь?
— На инженера.
— Думаю, скоро вы начнете делать нетипичные вещи. Яркие выходки, богемные штучки, которые вызовут у других удивление и, скорее всего, неприятие. Возможно, даже придется кардинально поменять жизнь, уйти…
— Куда? — Катенька вдруг увидела, как изнутри глаза на неё смотрит усатая морда.
— В специально созданные для таких людей места. Слыхали про студию Артемия Лебедева? Вам туда. Или в театр. Смотря какой вам экземпляр попался.
— Никакого экземпляра я не хочу. Сделайте всё как было!
— Милочка, вспомните поговорку: «Одна голова хорошо, а две — конкурентное преимущество». Скажу по секрету, у меня тоже такой есть.
— Что?! Такой же?!
— Не совсем, у меня редкий вид. Мадагаскарский. Раньше я его не хотел, а теперь это мой лучший друг.
— К черту таких друзей.
Доктор со вздохом полез в верхний ящик стола.
— Жаль, очень жаль. Вот вам синяя таблетка. Дихлофенак. Решитесь — пейте.
Катенька вышла из больницы, посмотрела в небо. «Призна́ю, что это был тупой прикол, неделю потерплю издевательства, а потом всё будет как раньше — чай с Машкой, война с Лизкой. Отучусь на инженера, будет нормальная работа, выйду замуж, нарожаю деток — всё будет как у людей… Или принять этого чёртова таракана? Бросить всё, наплевать на чужое мнение, стать другим человеком?»
***
Таракан проснулся в холодном поту.
— Что такое? — спросил сосед.
— Приснилось, что я в голову к одной девочке забрался. Такая противная, знаешь, все об неё ноги вытирают, а она молча страдает.
— Фу, гадость, — поморщился собеседник.
— Я бы сделал из нее неплохую писательницу. А она… испугалась. Не меня, жизни испугалась.
— И чем кончилось?
— Не досмотрел.
— Опять у тебя сны странные. Надо сказать: «Куда ночь — туда и сон», чтобы чепуха всякая не снилась.
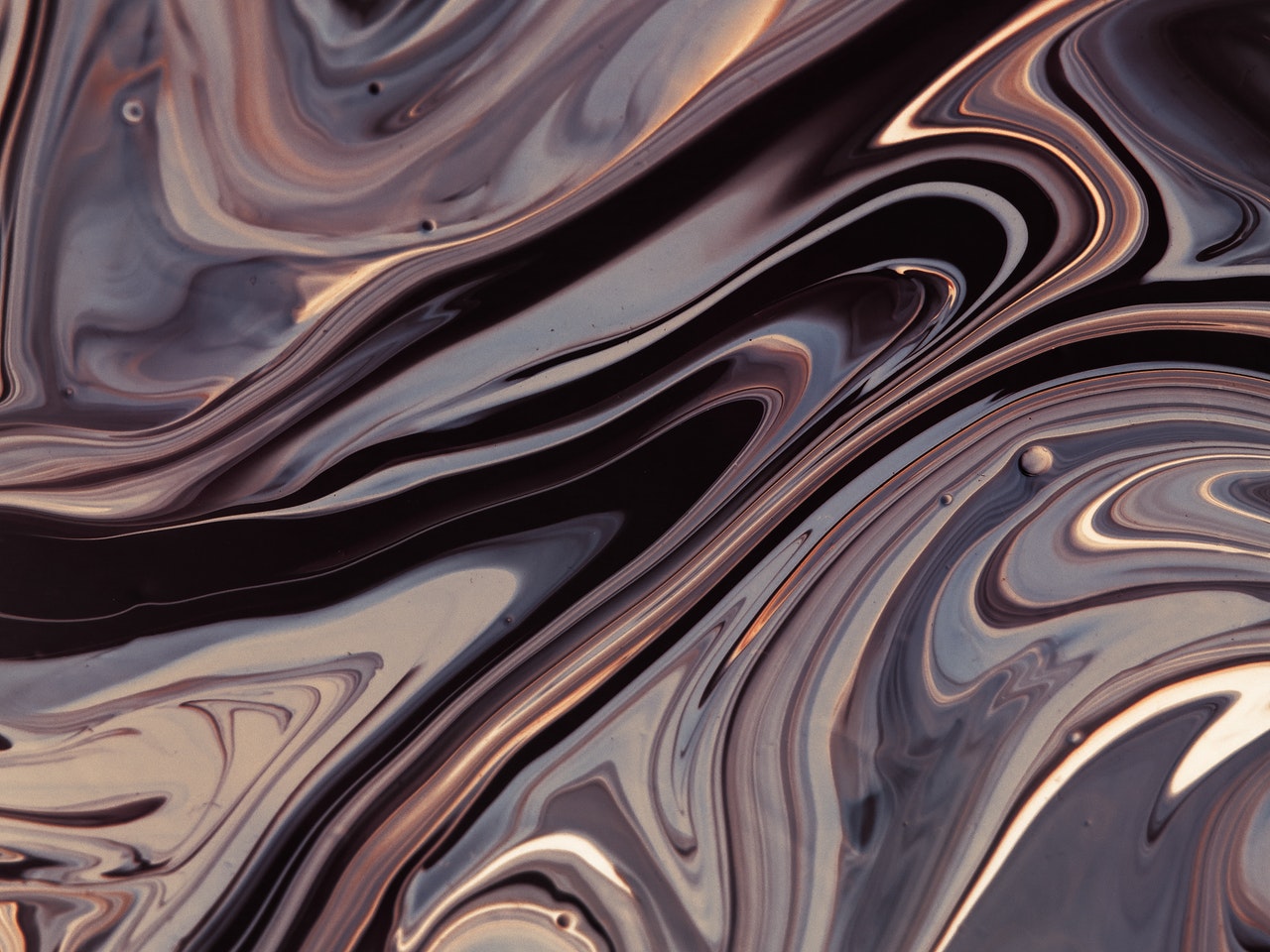
Творец Дождя
Дождь был лишь иллюзией. Он просто не мог здесь выпасть. Никогда. Лакан прекрасно знал это, будто прожил в кварцевой пустоши всю свою жизнь. И все же, как только с неба начали падать первые красные капли, он не задумываясь развернул над собой таблетку укрытия. Старая пластиковая платформа быстро затвердела и повисла над его головой. Технологии отцов Иллады и вправду были удивительными.
Вскоре дождь усилился — к красному потоку присоединились ошметки мяса. Руки, ноги, головы, даже целые человеческие тела барабанили по сухой земле диковинным градом. Лакан в очередной раз утвердился в мысли, что дождя нет. Не могло быть так, чтобы нашлось столько людей и из них получился ливень. Даже в Бездне Вероники.
— Да, дождь лишь иллюзия. Очередной деосферный образ.
Лакан вздрогнул и обернулся. Ирви сидела в трех метрах от него, под дождем, но капли будто не касались ее.
— Отличное же ты время выбираешь, чтобы появиться, — пальцем он указал на укрытие. — Позволишь?
— Если настаиваешь, — она присела рядом.
Лакан вздохнул, то ли от разочарования, то ли от хронической нервозности, и продолжил пустым взглядом смотреть на несуществующий дождь. Ирви всегда выбирала странные моменты для своего появления. Он молчал, вслушивался в шум падающих капель. Возможно, пытался услышать ее дыхание. Не то чтобы это имело смысл. Не то чтобы она умела дышать. Во всяком случае, Лакан в этом сомневался.
***
С Ирви он впервые встретился, еще будучи подмастерьем звездочета в Палазисе. Его наставник Куппетос был живым старичком с запущенной бородкой и бегающими глазами — типичная черта звездочетов и прорицателей. Рассеянный взгляд наставника не вызывал у него ничего, кроме отвращения, хотя Лакан и понимал, что скорее всего его ждет такая же судьба. Таков конец любого деоколдуна.
Он помнил свои первые ощущения от погружения в деосферу. Помнил, как накачался наркотиками и увидел превращение собственного сознания в искру посреди спирального океана огня. Пространство идей, чаяний и знаний людей. Колыбель иллюзий. Источник безумия. Для него это было сродни погружению в холодный колодец и осознанию, что тот — лишь вход в огромную пещеру.
Со временем он стал наведываться в залы деосферы все чаще и чаще. В подобные моменты его родной город, горой металла высившийся над песками серой пустыни, превращался в муравейник разноцветных огней миллиардов его жителей. Тонкие нити связывали их всех, объединяли в рои знакомств и контактов, превращали в мимолетные дворцы концептов. Ему нравилось гулять среди арок чужих отношений, распадающихся и вновь собирающихся сооружений вечно меняющегося Палазиса. И еще ему просто нравилось подглядывать за чужими мыслями.
Где-то там, на улицах незримого города, он встретился с ней. Призрак Ирви шел обособлено, это Лакан сразу заметил. Слишком осознанно. Подозрительно осознанно. Не думая, он перешел на несколько уровней выше. Должно сработать. Лакан вздохнул и продолжил свое праздное гуляние по чужим мыслям.
— Так значит, ты заметил, — услышал он незнакомый голос.
Вернее, не услышал, нет, скорее новая мысль внезапно стала частью его души.
Она его заметила. Его образ сжался, учитель предупреждал его о зверях, бороздящих деосферу. Жрецы Харона. Охотники за душами.
Он оборвал связь с деосферой настолько быстро, насколько мог. Очнулся у себя в кровати. Вспотел. Вскочил и затрясся. Некоторое время пытался справиться с дыханием и остаточными галлюцинациями. Потолок его капсулы, казалось, был готов на него обвалиться.
Вдох. Глоток контрстимулянта. Пустота.
— Не самая умная мысль, знаешь ли. Найти тело деота довольно просто, если задуматься.
Тот же голос. Он посмотрел на источник и увидел образ девушки. Мотнул головой. Проверил дозу. Все как полагается. Значит, он влип.
— Как ты это сделала?
— Сделала что?
— Оказалась здесь. Не пробралась же ко мне…
— А, это… — она осмотрела себя. — Не хочу тебя расстраивать, но это только мой образ. Знаешь, видимая галлюцинация.
— То есть ты забралась в мой мозг…
— Э… почти, скорее наладила связь. Дай-ка гляну. Лакан?
— Откуда…
Хмурый взгляд.
— Ах да, точно. Ты, значит… Ирви.
Удовлетворенный кивок.
— И чем же я заслужил твое появление? Не знаю, что ты за зверь, но я всего лишь подмастерье.
— Ну, можешь не беспокоиться, я здесь не для того, чтобы съесть твою душу. Во всяком случае, не напрямую.
— Зачем тогда?
— Зачем? — она окинула взглядом комнату. — Чтобы ты призвал дождь.
***
— Так значит, ты хочешь, чтобы я сотворил магию.
С обзорной площадки города-каравана открывался вид на окостеневшие леса. Белые полипы хрустели под его проржавевшими стопами, время от времени он проваливался в незримые овраги, от чего механического титана качало из стороны в сторону.
— Опять же, не совсем. Я не думаю, что это можно назвать магией, — она указала на расстилающееся море. — Вот, например, посмотри на эти деревья. Думаешь, они всегда были такими?
— Во всяком случае, никто не помнит их другими. Не вижу причин, почему вселенная не могла сделать их сразу такими, какие они есть.
— Би, би, ответ неверный. Эх, а вас еще знатокам называют.
— Эй, я хотя бы стремлюсь к пониманию мира! И вообще, кончай пользоваться варварской речью.
— Да, да, это проблема вашей помешанности на технологиях Старой Иллады. Вовсе не твоего непроходимого идиотизма… Стой, ты куда?
— Пойду пройдусь. Надоело выслушивать оскорбления.
Лакан спустился по лестнице с платформы обратно в технический коридор. Строго говоря, он не должен был здесь находиться, но манипулировать мыслями кочевников оказалось намного проще, чем он мог помыслить. Просто перестрой их сознания так, чтобы они переставали тебя замечать. «Если бы так же можно было поступить и с ней».
— Не получится, — он закатил глаза и повернулся к Ирви. Порыв иссушенного ветра поднял металлическую пыль. — Чего тебе? Я вроде как сказал, что разговор на сегодня окончен.
— Если бы ты меня дослушал…
— Просто кое-кто не хочет слушать меня. Я, конечно, понимаю, тебе приятно думать обо мне как о неспособном подмастерье, но, не хочу тебя расстраивать, я уже паломник. И да, я не знаю всего, но по крайней мере я стремлюсь узнать как можно больше. Иначе бы не разговаривал с тобой.
— Вот это звучало обидно.
— Да какая разница? Для начала перестань требовать невозможного.
— Немного доверия к моим словам, пожалуйста. Если я сказала, что это возможно, значит, это возможно.
— Доверия? Ты мне скажи, как я могу тебе доверять, если ты даже ни разу не являлась вживую?
Ирви несколько секунд молчала.
— Это будет довольно сложно.
— Интересно, почему?
— Ну начнем с того, что мое тело не здесь. Совсем не здесь. И… послушай, я понимаю, что это звучит ни разу не убедительно, но мне реально нужно, чтобы ты вызвал дождь. Чтобы это ни значило.
Лакан вгляделся в лицо Ирви. Пытался прочесть, что она думает.
— Ты сама знаешь, что значит «вызвать дождь»?
— Не до конца. Но очень хочу это понять, — ее образ начал распадаться под хруст костяного леса. — Я знаю, что мы можем начать дождь. Но я забыла, что это значит… Если не хочешь, то я найду кого-то другого.
Некоторое время Лакан осмысливал услышанное.
— Ладно. Посмотрим, что ты хочешь мне рассказать. Все равно из паломничества без чуда не выйти.
— Значит, ты все же согласен?
— Сказал же, посмотрим, — он развернулся и жестом пригласил вернуться на площадку.
— Да, отлично, это вполне сойдет, — она помотала головой и присоединилась к Лакану. — На чем мы остановились? Значит, на лесе…
***
— То есть ты утверждаешь, что это наших рук творение?
Лакан поставил тепловую лампу на постамент посреди заброшенного коридора. Сеть железных пещер расходилась во все стороны, радужные капли машинного масла стекали по давно забытым механизмам и пучкам мертвых кабелей. Его левая нога тряслась — следствие нервного тика. Не нравилось ему пережидать ночи в пещерах под пустошью, пускай он и знал, что в пределах пяти миль нет ничего живого кроме них с Ирви.
— Ну… почти. Скорее не вашего города конкретно, но людей в принципе. Делаешь успехи!
— И как, позволь тебя спросить, они превратили наш мир в… это?
— Попробуй догадаться.
— Раздражаешь, — помотал головой Лакан и задумался. — Какая-то технология?
— Довольно очевидно. Дальше.
— Видимо, манипулирующая реальностью, раз уж она переписала основы здешнего мира. В первую очередь, жизнь. Некоторых она, конечно, не исправила…
— Я все слышу.
— Шучу. Но в целом-то я прав?
— В целом да. Дальше.
— Там есть еще что-то?
Некоторое время они просидели молча. Монотонное капание смазки успокаивало.
— А ты и вправду тугодум, да?
— Думал бы лучше, если бы кто-то не отвлекал меня своими комментариями.
— Мне исчезнуть?
— Не надо. Я и так редко тебя вижу.
— Хочешь, чтобы я появлялась чаще?
— Я этого не говорил.
— Так хочешь?
— Ну… — дрожь в ноге не унималась. — На самом деле, было бы неплохо. Если это не отнимает у тебя много времени от… чем бы ты ни занималась.
Ирви улыбнулась.
— Подумаю, что можно сделать. Подобные диалоги все же немного меня расслабляют.
— Это тебя, значит, расслабляет…
— Считай, разминка в построении концептов. Не то чтобы моя деятельность позволяет мне строить много семантических конструкций…
— Разминка? — Лакан подавил смешок, но вдруг посерьезнел. — Постой, я, кажется, понял. То есть ты хочешь сказать…
***
— Ага, виной всему деосфера. Вернее, то, что люди сделали с ней.
В этот раз Ирви была удивительно тусклой, настолько, что Лакан всерьез начал беспокоиться о ее здоровье. Глупо, конечно. Как будто по призраку можно судить о здоровье.
— По крайней мере, мне теперь наконец понятно, почему ты считаешь, что я могу вызвать дождь. Не прошло и трех лет. Я, правда, до сих пор не уверен, что оно сработает. Ты же понимаешь, что деосфера просто влияет на восприятие?
— Это как посмотреть.
— Что-то слабо верится. Слишком много белых пятен.
Ее призрак скрестил руки.
— Все еще не веришь мне?
Он махнул рукой и подключился к миру идей. Почти идеальная гладь пустыни под его ногами преобразилась. Вздыбились горы забытых зданий, лентами вокруг них обвились потоки забытых мыслей, небо покрылось рваными созвездиями миллионов забытых миров. На горизонте виднелись одинокие столпы городов, многие давно мертвые призраки дней до начала дней. Лакан выжидающе посмотрел на нее.
— Что дальше, Ирви?
— Вообрази дождь.
— И как мне это сделать?
— Просто вообрази.
— Ты же в курсе, что для манипуляции деосферой тебе нужен, ну знаешь, материал чужих мыслей.
— Его тут полно, — она указала на столпы мертвой информации.
— Это не то, гений, здесь слишком много ошибок. Слишком много сломанных эмоций. Сумасшествия.
— Тогда можешь воспользоваться мной.
Лакан вздрогнул.
— В каком смысле?
— У тебя же больше не нужно просить разрешения?
Он не сразу осознал, что их с Ирви души соединились в одну. Мысли смешались, закрутились водоворотом в стакане тела. Некоторое время он не мог понять, что происходит, страх смешивался со счастьем, отвращение с любовью, непонимание с осознанием. Все эти ощущения, мимолетные в своей форме, накладывались друг на друга, поглощали друг друга в условиях нещадного естественного отбора, пока не осталось только удовлетворение. Словно его подсознание знало больше, чем сознание.
«Что ты такое?» — вырвалась у него мысль.
«Харон», — ответила новообретенная часть.
Созвездия стекали с неба потоками неживших душ.
***
В конце концов Лакан просто устал ждать.
— Послушай, я рад, что ты все еще появляешься, но зачем ты здесь? Почему сейчас?
— Зачем? Чтобы смотреть на дождь.
— Которого нет.
Ирви тихо засмеялась.
— Ага. Дождь нам только мерещится. Но так ли это важно, если ты все равно от него прячешься?
— Конечно, важно.
— Да? Интересно, чем. Чем он отличается от настоящего дождя?
— Ну как же, одно иллюзия, другое правда.
— Даже если эффект один и тот же?
— Даже если так.
— Хм, — Ирви поднялась с пепельной земли, клубки ненамокшей пыли закрутились у ее ног. — Положим, что в этом есть доля истины. Но мне все же кажется, что ты не прав. Вернее, почти не прав.
— И почему же?
— Иллюзия ценнее.
— Что ценного во лжи?
— Кто сказал, что это ложь?
Лакан склонил голову набок. Она повернулась.
— Хех, а я думала, ты стал взрослее. Какое разочарование.
Он вскочил и сделал шаг к Ирви, но та уже вышла из укрытия. Кровь омывала ее незримую игрушечную фигурку, растворяла ее существование. Вскоре от нее остался лишь голос.
— Уж ты-то должен знать, что только иллюзия реальнее правды.

Уксус
И пришел он в дом свой, положивши в гроб отца отца своего, и тут же сон одолел его. Упавши на порог, видел он трех ангелов во свету, сидевших перед ним. Руки его, чужою кровью омытые, держали тринадцать карт, рыжим огнем пылающих. И не было среди них таких, какие прежде видел он. Не увидел он ни мастей, ни рангов на них, но буквы были начертаны одни и те же. Меняли ангелы карты в руках его, но не менялись буквы на них. Множество слов составлял он из букв этих, но не выходило составить слово то самое. Тогда снова меняли ангелы карты в руках его, и все большая печаль одолевала сердце его. Прикасались пальцы ангелов Господних к картам, неземным огнем пылающим и кровью земною залитым, но не осквернялись пальцы их белые и не горели. Его же пальцы багровели, и кожа обращалась в пепел. Сидел он с ангелами, тревогой объятый, одну вечность за другою, не в силах вспомнить слово то самое и не видя, что не хватает карты с четырнадцатой буквой, стоящей во главе всего и слова этого. Сидел он с ангелами, горем убиваемый, и исчезали пальцы его, сгорали руки его, локти его, плечи его, пока ничего не осталось от него более.
— Нет, нет, Джером, играть надо обязательно вчетвером. Карт всего пятьдесят две ш-с-штуки, раздашь на троих — и останется одна лишняя, ни туда, ни сюда не приткнешь. Скверный расклад. С-скверный.
Джо имел оригинальную привычку немного подсвистывать, разогревая шипящие звуки на удлиняющемся языке. Эдакая изюминка в пироге: мука, сахар и змеиные яйца. В ответ на вопросы заинтересованных дам о шершавости своих разливающихся звуков «с» Джо довольно утыкался взглядом в какое-нибудь пухлое облако и мечтательно изображал ностальгию по немецкой речи — истинной усладе его желудочной раковины.
— Дорогой, не отказывайся, — Эбби с озабоченным видом перемещала предметы одежды и особенно долго не могла решить, снять ли черную аккуратную шапочку с ровной сеткой, которая так элегантно подчеркивала атмосферу траура и скорби, или походить в ней еще с часок среди домашних и, конечно же, Джо. — Нам всем просто необходимо немного отвлечься.
— Сейчас не лучшее время, Эбби, я бы хотел…
— Джером, — Джо подошел к тому вплотную, выглядывая лукавыми глазами из-под темных густых бровей и для пущей серьезности отодвигая шею назад, отчего у Джо добавился второй подбородочек с редко выступающими черными заусенцами недобритой щетины. — Сейчас самое время, дружи-с-ще. Отвлечься от мрачных мыслей, рас-с-слабиться, понимаешь?
Джером чуть отступил вглубь коридора с уходящей наверх лестницей, пятясь назад лопатками. Он был высок, очень высок, поэтому смотрел на Джо и на весь остальной мир сверху вниз, скрывая свой страх и безразличие в оправе тонких очков, словно страус, если бы тот действительно прятал голову в песок.
— Еще успеешь насидеться в своем любимом кабинете. Джо отлично придумал с картами, — Эбби подбежала к гостю и резко чмокнула Джо в его щеку, которая из-за темноты скрывающейся в порах кожи щетины была похожа на губчатую булку с маком. — Подумай, может, это хотя бы немного развеселит Уолта.
Джером внимательно кивнул.
— Уолт, детка, — Эбби тут же вскинула подбородок, что оказалось неожиданностью для ее шапочки, которую решено было оставить на время игры в карты (и, может, еще для вечернего чаепития, чтобы прикрыть томную толстую слезу, которая эффектно попадет прямо в чашку, и все сочувственно услышат этот душераздирающий, роковой бульк). — Спускайся к нам.
Во время любимого материнского обращения «уолтдетка» он лежал на дедушкином пружинистом матрасе, и торс его немного скручивался, скрючивался и ежился от прятавшихся внутри маленьких хриплых спазмов. Уолту казалось, что его кожа — это мерное течение серых песков, и стоит ему шевельнуться, как он весь рассыплется, осядет на белой наволочке пепельной подушкой. Поэтому он просто лежал, просто смотрел, как длиннолапая косиножка слезла с нежно собранного полевого сухостоя, поставленного в стеклянную бутыль от их любимого лимонада, и возилась вокруг стакана воды, оставленного хозяином комнаты. Кисловатый запах витал в воздухе вместе с белыми пылинками, возвещающими о смерти.
Любимая материнская угроза «незаставляйменяподниматься» последовала с очевидной незамедлительностью. Маленькие прибегающие спазмы растворились в общем ощущении съеденного шерстяного свитера. Уолт медленно сел на мило подпрыгивающую кровать и потер бледные щеки. Щекам было сухо и грустно.
— Ну наконец-то, — Эбби сладко поманила Уолта рукой, — садись ко мне, мама хочет немножечко поиграть с тобой.
Уолт тихо сел рядом, задевая лодыжкой черный прохладных край сатиновой накидки. Больше всего в матери Уолту не нравились ее ноги.
— Замечательно. Ты как, приятель? — спросил Джо, отвернувшись, чтобы достать карты. Эбби немного оттянула ногу вперед, и пятка ее домашних черных тапочек с глухим чпок откупорилась прямо в пол. Джером устало смотрел в правый край широкой линзы очков. Его недописанный любовный роман бесплодно оставался в недрах его кабинета.
— Так-с-с-с-с, ну что, поехали.
Колода трепыхалась в тасующих руках, словно маленький каминный огонек, поблескивая оранжевыми рубашками. Видный холостяк иностранного разлива немецкого сорта Джо Керхерц выловил двух джокеров из общей стопки, сунул себе в карман и отсчитал каждому по тринадцать карт. Уолт молча взял свои.
— У вас на руках карты разных мастей. Дружок, ты знаешь, что такое мас-с-ти? — опять спросил Джо, рассматривая голую пятку Эбби. Она довольно хихикнула и закинула ногу на ногу. — Первый кон всегда начинается с двойки треф, а дальше идем по часовой.
Джером потер двойку между набухших костяшек и выложил на стол.
— Этот кон начался с треф, значит, каждый теперь должен положить карту той же масти. Если на руках такой нет, то можно выложить любую другую, только в первом кону нельзя с-ш-кидывать пиковую даму и червовые.
— Как захватывающе! — Эбби туповато уставилась на одинокую карту на столе.
— За даму пик и червовые карты вы получаете очки, но ваша задача — набрать как можно меньше, уяснили? Дорогая, на первом кону можно скинуть карту побольше, от них лучше избавляться.
На стол незамедлительно полетела трефовая дама.
— Умничка, — Джо под столом чиркнул носиком натертого ботинка о задок эббиных тапочек. Туз треф.
Уолт неохотно мял карты в руках. Вместо крестей он видел чье-то четвертование.
— Очень мило с вашей стороны было прийти сегодня на похороны. Я уверена, Уильям был бы рад, — Эбби нетерпеливо потаптывала ножкой, выжидающе смотря куда-то на Уолта.
— Ну что вы, я ведь был с ним даже не знаком. Говорят, он был мудрым человеком, хотя я не разделяю все эти религиозные… сказки. Очень сожалею о вашей утрате, Джером, потерять отца, еще и так неожиданно. Так, ну чего мы ждем.
Уолт посмотрел на Джерома, но его глаз так и не увидел. Уолт никогда не знал, куда смотрит его отец. Единственный взгляд, который он видел — взгляд крестового валета.
— Тройка? Уолт, а побольше ничего не нашлось? Ладно, теперь с-с-следите внимательно. Я забираю эту взятку, видите, моя карта самая с-ш-тар-с-шая. Проверяем: во взятке нет ни червей, ни пиковой дамы, а значит очков за нее я не получаю. Чем меньше очков, тем лучш-ше, помните? Теперь кон начинаю я.
Трефовый король.
— Да, это все очень прискорбно. Мне сказали, что это был столбняк.
Валет крести.
Джером все молчал. Пятерка треф.
— Да, все этот проклятый гвоздь. Кто мог знать. Не стоило ему в таком преклонном возрасте начинать копаться в нашем саду. За ним же уже давно никто не ухаживал.
Шестерка треф. Взятка Джо. Новый кон.
— А я говорила свекру: Уильям, вы всю жизнь за книжками просидели в своей этой семинарии, не трогайте вы сад, надорвете спину. Полоть — это вам не молиться. А муж… Джером же все пишет у себя в кабинете, ему вечно некогда.
Десятка бубен. Джо хищно оскалился.
— Да, Джером, подзапустили вы свой с-с-ад. Совсем не следите. А ведь могут и всякие вредители завестис-ш-ь. Не приходила такая мысль?
Уолт вглядывался в россыпь красных ромбиков, как иудейский жрец бы всматривался в покатывающиеся гвозди, выбирая те, которым он бы прибил Иисуса к кресту. Четверка бубен.
— Я работаю над новым романом, — шестерка бубен, — мне совершенно некогда…
— Ох, да-да, точно, слышал, последнее время работа у вас совсем не клеится. Я, правда, ваших книг не читал, но, говорят, вы решили сменить, как бы лучше выразиться, формат?
Эбби закатила глаза. Двойка бубен. Взятка Джо. Новый кон, его последняя проверка: девятка бубен.
— Напоминаю, что если у вас нет масти, с которой начинался кон, вы можете положить любую другую, взятку вы точно не возьмете.
И что в ответ? Четверка крести. Слабость.
— Пытаюсь написать, — десятка треф. Безразличие, — любовный роман, сосредоточиться на л…
— И как? Получается?
Эбби захохотала. Ее шестерка пик. Ее любовь к черному. Кон закрыт. Джо тоже захохотал. Его карты смеялись вместе с ним: среди них одна жалкая, жалкая червовая четверка, но никто и не подумал подкинуть ему червей. Хотя бы немного, хотя бы одного малюсенького червячочка. Это было настолько уморительно, что даже немного скучно.
— Ну что, время поохотиться на Стерву!
— Джо, ну не при детях! — лукавила Эбби и будто бы распрямилась.
— Пиковая дама — коварная карта, поэтому ее так и называют. Если за одну карту черви полагается одно очко, то если вы заберете взятку со Стервой, то получите за нее сразу тринадцать очков. Начинать с пик и значит охотиться на Стерву, — и выложил девятку пик.
Четыре пик. Одно копье, протыкающее ребро Христа. Один ржавый гвоздь.
— Отец просто хотел навести порядок в саду перед отъездом в пансионат, — ответил Джером. Десятка пик. — Плохой идеей было выселять его из нашего дома, а не то, что он решил копаться в этом чертовом саду.
Эбби на секунду застыла с картой в руках, будто впервые осознала, что Джером может сказать что-то так, чтобы его в конце не перебили. Зато Джером перебил — десяткой девятку.
У Эбби — пиковая восьмерка. Джером берет взятку и начинает новый кон с пикового валета.
— Джером, ничего себе. Тоже решил поохотится на Стерву?
Эбби взволнованно застучала ножкой. Семерка пик.
— Уже поохотился, — сказал Джером не то себе, не то своим очкам.
Джо широко улыбнулся и выложил пикового короля.
— Детка, — зачем-то употребил он любимое материнское обращение, — я, конечно, рискую, но С-с-стерва ведь не у тебя?
Уолт опустил глаза в свои карты и тихо улыбнулся.
Он вдруг почувствовал, что все знает. Понимаешь? Все видит. Посмотри. Его отец вечно дома, но дома ли. Его мать вечно гуляет, но мать ли она. Дедушка умер кислой смертью. Почему кислой? Он менял карты местами, но слово не складывалось. Какой же буквы не хватало?
И-Н-А-Ф-Х-А-В-А-С-А-А-М-М-А
МА-ФА-ВА-СА-НИ-ХМА
СМАНИ-М-ФАХАВА
Какой же буквы не хватало? Что-то умерло вместе с дедушкой в ту ночь. Что-то продолжает умирать прямо сейчас, умирать своей кислой смертью. На какую же букву оно начинается?
Уолт положил пятерку пик.
Джо облегченно выдохнул и забрал взятку. Джо Керхерц, как и Уолт, больше не мог ждать.
Двойка пик.
Туз пик.
Туз черви.
Стерва.
Уолт забирает взятку, забирает четырнадцать очков.
— Ну вы даете! — Джо.
— Это же просто игра, детка, не расстраивайся, — Эбби.
Репликой Джерома было молчание.
Семерка крести.
Дама черви.
Король черви.
Туз бубен.
Уолт забирает взятку, забирает два очка. Итого шестнадцать.
— Почему вы решили отправить дедушку в пансионат? — Уолт спрашивал отца.
— Детка, твой дедушка был уже очень стар, ему нужен был, ну, уход, сиде…
— Но он не хотел туда. Не хотел.
Восьмерка крести.
Валет черви.
Восьмерка черви.
Восьмерка бубен.
Восемнадцать очков.
— Уолт, — Джером потер глаза, очки лесенкой спрыгнули на край носа. — Твой дедушка был уже очень стар, ему нужен был…
— Почему ты просто повторяешь за ней? Всегда. Почему ты хотел, чтобы дедушку увезли? Я бы ухаживал за ним, как ухаживал, пока он болел. Помогал ему во всем, носил ему еду. Приносил ему воды! Я! Не кто-то еще, только я. Только я один приносил ему пить.
— Сладкий, ты еще слишком маленький для этого. А Уильям, он ведь был такой упертый, ты же знаешь.
— Никакой он не упертый!
— Нет, детка, еще какой упертый. И повернутый. Старость шутит страшные шутки с головой. Затуманивает разум. Превращает в незнакомого человека.
Девятка крести.
Десятка черви.
Шестерка черви.
Семерка бубен.
Двадцать очков.
— Неправда, дедушка был в порядке.
— В порядке? Он уже давным-давно был не в порядке. Всюду совал свой нос, диктовал нам как жить. И даже тебя, разве тебя он не приучал к этим всем ритуалам, читал все эти книги.
— Он верил в Бога! И я… я тоже, я тоже верю.
— Ни во что ты не веришь. Он внушил тебе это. Решил за тебя что правильно, а что нет. Что добро — а что зло. Читай он тебе что-нибудь другое, например, этого, как его… как его там, Джо?
— Ниц-с-ше.
— Вот-вот, Ницсше. Если бы дедушка говорил бы тебе, что Бога нет, и ты бы ни во что не верил. Религия вся эта — просто бессмыслица, и все образованные люди уже давно об этом знают. Только Уильям со своей сворой церковной об этом не знали. И не хотят узнать!
Валет бубен.
Девятка черви.
Пятерка черви.
Пятерка бубен.
Двадцать два очка.
— Это из-за приюта он умер. Из-за того, что вы хотели отправить его туда. Не хотел он наводить никакого порядка. Напуган. Он был напуган! Вы хотели забрать его от меня!
— Не говори глупостей, Уолт! — вдруг посмотрел Джером в сторону сына. В глазах его горел страх и почти плавил линзы очков.
Дама бубен.
Семерка черви.
Тройка черви.
Тройка бубен.
Двадцать четыре очка.
— Я слышал от кого-то, что он умер вовсе он от столбняка.
Три пары глаз.
— Я имею в виду, что говорили, кто же это был, ох, запамятовал, кажется. Да, я имею в виду, что у вашего, гхм, Уильяма, — Джо нервно просмеялся, — был сильный ожог гортани.
Король бубен.
Двойка черви.
Тройка пики.
Четверка черви.
— Да, дружок, ты умудрился собрать все двадцать шесть очков. Любопытная игра. В некотором роде ты обыграл нас всех. Ну что, еще партейку в «черви»?
Уолт забежал обратно в комнату дедушки. Ожог гортани. Он ходил кругом, не мог остановиться, не остановиться, как тут остановишься. Ожог. Убийство. Конечно, это была она. Пиковая дама. Смог бы отец? Стерва. Уолт был уверен, что это она. Кто кроме нее?
Уолт, Уолт, Уолт. Дедушке плохо. Дедушка хочет пить. Вечер.
Был такой темный и холодный вечер. Ох, Уолт. Как же тебе было темно и холодно. Только потом твои пальцы, кисти, локти, твои плечи будут гореть огнем. Ожог гортани. Кто кроме нее? Уолт. Уолт, дедушка хочет пить.
— Господи, почему запах в этой комнате такой кислый! — его щекам больше не было сухо.
Уолт снова посмотрел на сухостой, на бутыль, на стакан. Внутри плавала мертвая косиножка. Бедная, кислая косиножка. Упокойся с миром. Такая милая, любимая косиножка, утонувшая в стакане с уксусом.
И была вокруг лишь одна твердь и небо, ибо отказал им Господь в воде и земле плодовитой. Ни одной живой души не видели они подле себя, и как бы в горизонт ни всматривались, вокруг царила лишь тишина и смерть одинокая. И в наказание за грехи их послана была им в царство скорби человеческой одна яблоня, приносящая плод. Возрадовались они и хвалили себя за труд, и стали есть плоды древа того, пока не отравила языки их кислота яблочная. Тогда разгневались они и хулили Господа за несчастие свое. Все вечности мира скитались они по тверди мертвой и питались только плодами ядовитыми, не в силах вспомнить правила игры, пришедшей к ним от Дьявола. Или́, или́! Ламма́ савахвани́! Прочитай правила, о грешник, и не вкусит язык твой более кислые яблоки, виною отравленные. Прочитай прямо сейчас, и да обратишься ты в праведника, узнавши.

Хозяин
Мы свернули на просёлочную дорогу. Вика смело несётся по кочкам, джип раскачивается, словно лодка, попавшая в шторм. За машиной вьётся облако золотой пыли. Внутри прохладно — кондиционер работает на полную. Однако смотреть вперёд без тёмных очков невозможно — прямо по курсу дрожит злое полуденное солнце. Уже несколько дней подряд оно одно властвует на июльском небе, не позволяя облакам заслонять себя.
Выпрыгивая из выжженных полей, в стёкла тычутся оводы. Они напоминают мне Викиных парней, которые всегда надоедливо за ней увивались. Ждали у подъезда, знакомились в кафе, магазинах, на заправках. Впрочем, ей это всегда нравилось — даже когда едет за рулём, она замечает не только дорожные знаки, но и заинтересованные взгляды из проносящихся мимо машин. В ответ она дарит легкую белоснежную улыбку — у неё их много — а потом выпускает в окно дым и стряхивает длинным ногтем пепел с тонкой ароматической сигареты. Выкрашенные в блонд волосы развеваются на ветру.
Мы порой не видимся по несколько месяцев, а сегодня решили вместе поехать к Викиным друзьям на дачу — искупаться в бассейне в жаркий день. Едем к некоему Гоше — она знает его давно. Въезжаем в коттеджный посёлок, крыши особняков выглядывают из-за двухметровых кирпичных заборов. Гоша встречает нас у ворот одного из них. Горбатый армянский нос, улыбка с идеально ровными для его возраста зубами, глаза ребенка, который устал от игрушек, но всё же чего-то ждёт. Рядом — некрасивый мужчина, тоже давно за сорок, лицо ничего не выражает, маленькие глаза, изуродованные уши. Это Рафик. Минуя клетку с похожим на медведя псом, который волочит туда-сюда гремящую цепь и с ненавистью скалится на нас с Викой, проходим на веранду, к длинному дубовому столу.
Так много еды, что кажется, будто я попала на свадьбу. Рафик торжественно снимает с мангала ароматные, дымящиеся шашлыки из свинины, баранины, курицы. К ним в вазочках с восточным орнаментом — аджика, ткемали, белый соус. Букеты зелени. Лаваш. «Рафик сам печёт». Огромные мясистые плоды «бычьих сердец» нарезаны крупными дольками. Трехэтажная, как особняк, ваза с фруктами: гроздья винограда ниспадают на бордовые, лаковые ягоды черешни и прозрачные кружки сицилийского апельсина. Соленья, нарезки. Вино. Гоша одобрительно смотрит на этот искусно выложенный Рафиком натюрморт, потом зовет нас в кусты — там выросла ежевика размером почти с палец. С гордостью, как всякий радивый хозяин, срывает с куста чёрные ягоды, протягивает: «Смотрите, какая выросла!». Потом важно идёт к вольерам, откуда раздается удивленное «ко-ко-ко», достаёт загаженные, в перьях яйца, складывает в корзинку и тоже вручает нам.
Потом мы едим в тени виноградных листьев. Пьём гранатовый сок. «Вино я не буду», — отрезает Вика. «А что так? Остались бы здесь. Места много». «В другой раз — сегодня есть ещё дела». «Я так не играю. Где вы такое вино ещё попробуете?» Вика неумолима. Рафик наливает Гоше и себе. Мне скучно от медленных рассудительных речей, я беру кастрюлю и отбиваю по ней шампурами арабский ритм. Гоша радуется, просит ещё, встаёт, задорно потряхивает плечами, и кажется, что он давно не веселился.
«А вы ещё не были внутри, пойдёмте покажу, недавно ремонт доделал». Гоша водит нас по комнатам, и мы качаем головами, выказывая приличный случаю восторг. Непонятно, для кого столько спален с парчовыми обоями и кроватями под балдахинами. Ковры. Камины. Тяжёлые люстры. Кресла-качалки. Письменные столы, за которыми никто никогда ничего не писал. Комнаты напоминают гостиничные номера дорогого отеля в каком-нибудь Адлере.
Зайдя в очередную спальню, понимаю, что Вика с Гошей где-то остались. Хочу вернуться, но Рафик тянет меня дальше: «Сейчас они придут. Пойдём, покажу балкон». Идём по второму этажу, потом по третьему, возвращаемся с другой стороны на веранду. Вики с Гошей ещё нет. «Где они?» «Ну что ты как маленькая». «Мне надо видеть Вику». «Сейчас придут», — повторяет и смотрит своими маленькими глазками. Звоню — не отвечает. Рафик недовольно зыркает. Резко встаю и прохожу коридор насквозь — там мелькнула тень. Стою возле открытой двери на другую сторону дома. Вика плавно перемещается вокруг нового лексуса. Гоша пытается её приобнять или хотя бы коснуться, но не может — она все время выскальзывает, как облако, которое нельзя поймать.
Через пару минут возвращаются. «Что там с бассейном? — спрашивает Вика. — Мы искупаться хотели». Хотя мне купаться уже не хочется. «Да насос что-то забарахлил, не получилось сегодня воды набрать», — вздыхает Гоша. «Ну я планировала в свой единственный выходной поплавать и позагорать. Тогда надо срочно на озеро», — важно заявляет Вика, и мы начинаем прощаться.
Гоша с лицом обиженного ребёнка неохотно ведёт нас к воротам. Пёс лает, как бешеный, скалит жёлтые зубы. Гоша останавливается: «Босс, ну хватит тебе. Что ты лаешь — свои. Хороший пёс. Алабай, охранный. Я как-то захотел проверить его, молодой он ещё был, а у нас тут таджики работали в посёлке. Я ему — фас, он как рванул, таджика повалил, в клочья ногу ему. Думал, совсем разорвёт, но оттащили. Зато с хозяином ласковый». Гоша вошёл в клетку, и пёс, виляя хвостом, подполз к его ногам. «Мясо сырое ест, Рафик, подай ведро». Тот послушно протянул. Гоша вынул огромную телячью голень и протянул псу. Тот схватил зубами и ушёл в угол клетки.
Мы снова летим по шоссе. Наша цель — карьеры. Вика, как обычно, громко включила электронную музыку, под которую она отжигает в клубах. Мы с ней не сходимся во вкусах — я никогда бы не поставила такое. На правой руке, рядом с обручальном кольцом, замечаю новое, с ослепительным бриллиантом. «Откуда?» Вика отмахивается: «Гоша подарил». «Ты с ним спишь?» «С ума сошла?» Я знаю — не спит. «А с какого фига такие подарки принимаешь?» «Ну он захотел подарить и подарил. Если человеку приятно делать подарки, пусть делает». Мне нечего возразить. И незачем. «Можно ли судить Вику?» — возникает в моей голове вопрос, и я смотрю на небо в поисках ответа. На нём появились облака и, кажется, Вика играет с ними в догонялки. Можно ли судить облака?
С Викой легко и весело. Хотя у нас нет общих интересов, есть что-то такое, что связывает нас. Просто Вика — моя сестра.

Это Гриша
— … где Машка?!
— Разве она не с тобой?! Я думал, вы пошли купаться.
Солнечная рябь на морской воде такая яркая, что глазам больно, в висках пульсирует. Как бы ни хотелось Игорю стереть из памяти те пятнадцать минут, он не сможет сделать этого никогда. Запах вареной кукурузы, надрывные чаячьи вопли, смех, реклама мебельного салона по радио, боль в мизинце, когда он споткнулся о чей-то шезлонг. Они метались по пляжу в панике, пока Машку не привел загоревший дочерна сухопарый дед. Машка, которая исподлобья смотрела на любого незнакомца и никогда не подходила вплотную даже к игоревым приятелям, доверчиво ковыляла, держась ладошкой за дедов палец, а в другой руке несла что-то ярко-розовое.
— Мампап, это Гриша! Он будет меня охранять! — она протянула им игрушку, и Игорь шумно выдохнул, сообразив, что долгое время стоит, держась руками за горло, словно забыл, как выпускать из себя воздух.Дракон Гриша с глазами-бусинами, шуршащими крыльями и погремушкой на хвосте оставался с ними следующие полтора года. Собственно, до Берлина, когда все и полетело в тартарары.
Берлин Игорь возненавидел.
Черт понес их тогда в Германию, это надо вообще было додуматься: отдыхать в скомканном, сером, невнятном мусорном городе с его извращенной логикой метро и прочего транспорта, с уродской стеной этой, шрамом эпохи, прорезающим районы — мемориал, тьфу — с бетонными громадинами, с вонючими переходами, изрисованными граффити. Игорь вспомнил поезда, которые словно специально притормаживали напротив их окон, чтобы пассажиры получше разглядели, чем Игорь с женой и дочкой занимаются при свете желтых ламп: штор в отеле не было предусмотрено. Память милосердно вытеснила и название отеля, и станцию метро, но Игорь хорошо помнил гулявший по району запах бензина, дегтя и то ли нагретого металла, то ли сгоревшей проводки.
И вот, Берлин. Снова. Спустя два года. Начальство велело Игорю подготовить тезисы к конференции, а на вопрос «когда?», сухо буркнуло: «Тезисы — еще вчера, а вылет днем».
Не знаю, злобно думал Игорь, засовывая в чемодан пару белья и рубашек, чем мы тогда думали, покупая билеты, но берлинский отпуск стал началом конца. Он, наивный, думал, что если вывезет семью из рутины на недельку, то сможет спасти разваливающийся брак: они с Линой оба были трудоголики и работе посвящали больше времени, чем друг другу и Машке. Игорь подумывал о том, чтобы сменить работу, но всякий раз подворачивался то один выгодный контракт, то другой, а когда он все же пытался поговорить с Линой, не мог справиться с раздражением, и любой разговор заканчивался криками и взаимными обвинениями. И отпуск, конечно, не помог.
Все и так катилось к чертям, но последней каплей стал потерянный Гриша: пропажа обнаружилась в самолете на обратном пути, Машка рыдала, а Лина поджала губы, отвернулась к иллюминатору и, пока шасси не коснулись земли, не вымолвила ни слова.
Вечером же собрала вещи и улетела с Машкой к маме в Екатеринбург. Официально развод до сих пор не оформили, но Игорь чувствовал себя так, будто его просто вышвырнуло из прожитых совместно лет. Машку он больше не видел.
Иногда звонила Лина, иногда он ей, но всякий раз, держа телефонную трубку, Игорь не мог отделаться от накатывающего воспоминания: солнечная рябь, боль в мизинце, запах кукурузы, крики Лины, дракон Гриша, «он будет меня охранять!..»
Не уберег, думал Игорь, не уберег ты, Гришка, нашу семью, а мы не уберегли тебя. Работу, кстати, он сменил. А толку-то. Жизнь наполнилась пустыми синими вечерами, в которых не было ничего, кроме нечастых телефонных разговоров.
Если бы можно было отмотать время назад…
Такси везло его куда-то по серым улицам. Игорь не смотрел в окно: какая разница, где именно ночевать в ненавистном городе?
Похожий на кролика портье взял его документы. Почему-то обрадовался.
— Герр Вихрриев?! — английский у портье был безупречен, но звучное бранденбургское «рр» выпирало так же, как и крупные передние зубы. — Вы останавливались у нас в июне 2017?
— Ну, положим, — Игорь растерялся.
— У нас для вас кое-что есть! Вы не поверите, но два года назад положили в сейф на случай вашего возвращения! — последние слова портье произнес уже на бегу, слегка подпрыгивая, что окончательно делало его похожим на крупного грызуна; Игорь мельком подумал, что для завершения образа не хватает только выглядывающих из кармашка часов на цепочке. Портье уже возвращался, держа в руках небольшой сверток:
— Герр Вихрриев! Ваш дракон!
— Мой … что? — но он уже понял, что портье протягивает ему Гришу. Гриша спокойно посмотрел на Игоря, словно говоря «ну наконец ты вернулся», а его ярко-розовые крылья немедленно приковали внимание всех, кто стоял рядом.
Портье заулыбался и затараторил коллегам что-то по-немецки.
В сумерках Игорь вышел в город.
Не планировал вообще-то: собирался отсидеться в номере, утром выступить с докладом и сразу вернуться обратно, что он забыл в этом городе, что вообще можно делать в этом богом забытом районе? Но случайно задел рукой валявшегося на столе дракона, крыло призывно зашуршало, и сердце пронзила такая нечеловеческая боль, что Игорь ахнул, схватился за грудь и обнаружил себя уже сбегающим по лестнице.
Игорь был готов к тому, что на него обрушится смесь запахов бензина, выхлопных газов, дегтя и чем там еще так воняло в прошлый раз, но вместо этого легкие наполнились ароматом цветущих лип. Моросил дождь. Игорь забыл в номере зонт, но возвращаться не хотелось: он быстрым шагом пошел по улице куда глаза глядят. Только через квартал заметил, что держит Гришу за шуршащее крыло.
Фонари дрожали в лужах оранжевыми пятнами. Из дождя и аромата лип перед Игорем проступал город. Берлин — но не тот, каким он его помнил. На месте уродливых кирпичных развалин обнаружился небольшой костел со стрельчатыми окнами, из приоткрытой двери доносились звуки органа. Там, где, как Игорю казалось, в прошлый раз они набрели на свалку, служившую пристанищем местных бездомных, теперь были кусты жасмина, и, вдохнув очередной раз, Игорь задержал дыхание и прикрыл глаза: сладко.
Он бродил, не помня о времени, ни разу не сверившись с картой. Он любовался аккуратными домиками с черепичными крышами, цветущими аллеями, гладил гривы каменных львов у подножия лестниц, раскрыв рот, смотрел на ажурные флюгеры и решетки, вдохновенно топал по лужам, не обращая внимания на то, что в туфлях давно хлюпает вода. В какой-то момент он все же задался вопросом, где находится, и немедленно получил ответ, глянув вверх. Вот она, знаменитая башня, в прошлый раз показавшаяся ему уродливым шаром на непропорционально длинной игле. Изящная, она прокалывала потемневшее и чистое от туч небо, в котором загорались холодные звезды. Игорь шел мимо уличных кафе, мимо бесконечной череды столиков, где текли бурной рекой разговоры и смех; его обдавало волной запахов — вот вино с пряностями, вот жареное мясо, а вот яблочный пирог с корицей; он прижимал к груди Гришу, тот шелестел в такт шагам. На мосту Игорь остановился.
Черным контуром на фоне неба вырисовывался купол собора.
Два года, думал с тоской Игорь, два года я думал, что нет на свете никого уродливее тебя; два долгих года я винил тебя в своем горе.
Погладил перила моста и перевел взгляд на дракона. Что же нам делать, Гришка?
Игорь посмотрел на дракона, тот подмигнул в ответ. Или это свет фонаря отразился в глазах-бусинках?
В номере Игорь скинул туфли — на полу образовалась здоровенная лужа — и одежду, накинул жесткий махровый халат и распахнул окно. Помещение немедленно наполнилось ароматом цветущих лип. Запах был таким плотным, что Игорь пошатнулся. Кинулся к столу, на котором лежал телефон, по дороге споткнулся и ударился босой ногой о ножку стола, взвыл, опрокинул стопку документов, наконец добрался до телефона, набрал номер, приложил телефон к уху. Сердце пропустило удар. За окном кто-то заиграл на губной гармошке.
Гудок. Еще гудок. Господи, он же даже не посмотрел на время — сколько сейчас в Екатеринбурге?!
— Алло? — голос спокойный, не похоже, чтобы разбудил.
Игорь положил свободную руку на горло и выдохнул.
— Лина… Лина, пожалуйста. Позови Машку, у меня для вас сюрприз.

«Черное рабство» желтого цвета. История позапрошлого столетия о спасении в тюрьме
Марья держит в руках медицинский билет, на листках которого в столбик проставлены кудрявые врачебные отметки. Вчера ей исполнился двадцать один год. Сегодня о ней появилась запись в государственных бумагах. Поэтому завтра ее жизнь изменится.
Родом из Новгородской губернии, Марья Романовна Савинова теперь жила в Петербурге. До той записи она продолжала бы опостылевшую работу и, как прежде, забирала бы одну часть полученных денег себе, а три четверти отдавала хозяйке: за комнату, обед, содержание.
Теперь она сидит у стола в городской полиции и пытается прочитать сделанную о ней в распластанной книге пометку. Буквы вверх ногами, и все-таки по слогам удается «схватить»:
«1870… Ноябрь… за кражу денегъ къ тюремному заключенiю».
Долг Madame
Книга, лежавшая перед Савиновой, — обычная ведомость. В ней сказано, что происхождения Марья — мещанского, а по роду деятельности — публичная женщина. Украла она небольшую сумму, все верно, кажется, рассчитав. К примеру, токарь Савельев стащил 3 биллиардных шара из трактира и «присужден к заключению на четыре месяца». А солдатская вдова Авдотья Никифорова за прошение на улице милостыни — на три недели. Марье нужен был месяц или больше — чтобы содержательница борделя перестала ее искать, трясти кулаками и требовать возврата ею навязанных долгов. Конечно, на дворе 1870 год, и есть закон, в котором сказано, что денежные претензии содержательниц не могут служить препятствием к оставлению борделей. Но в нем же и про сытые обеды, и про башмаки, и про платья — обеспечивать и кормить, оберегать и не притеснять. На самом деле, все сложнее, и Марья решилась на воровство. Долг Madame эти деньги не покроют, но отдавать она их и не собиралась.
Дом терпимости
В Петербурге в середине XIX века, как и во всей дореволюционной России, открыть бордель и нанять девиц на работу может любая женщина от тридцати до шестидесяти лет. Бюрократии почти никакой: снять помещение подальше от школ и церквей, получить полицейское разрешение и быть готовой предъявить медкарточку каждой девицы при проверке. Все нюансы благопристойного ведения хозяйства публичного дома еще в мае 1844-го подробно разъяснят в циркулярах МВД и назовут «Правилами для содержательниц домов терпимости». По этому поводу литератор Николай Греч напишет другу Фаддею Булгарину: «Доктора здесь в отчаянии. <…> Перовский издал постановление о борделях…».
Позднее, в 1861 году, Правила выйдут в новой редакции, расширятся и как будто ужесточатся. Теперь задумавшая предприятие женщина может быть не старше пятидесяти пяти и должна иметь справку о собственной благонадежности (подтверждают в местной полиции). Этот документ вместе с паспортом она относит во Врачебно-полицейский комитет и уже здесь получает «пакет документов» на право ведения деятельности: разрешительное свидетельство, казенный формуляр для списка сотрудников и уже обновленную памятку-правила зарегистрированного работодателя.
В них, например, предупреждают, что за побои женщин или неявку последних к медицинскому освидетельствованию содержательницу посадят в исправительное заведение. Перевоспитание и все сопутствующие ему расходы придется оплатить самой.
В том же 1861-м денежные отношения между хозяйкой и девицей можно фиксировать в расчетных книжках. Деликатная рекомендация об этом также появляется в Правилах. Бухгалтерия ведется с двух сторон: поступления и расходы вписываются столбиком, и раз в неделю хозяйка и работница демонстрируют их друг другу. Такая отчетность обещает уравнять права нанимающего и наемника, а в спорных случаях предоставит полиции «право на разбор». Примечательно, что белая бухгалтерия фактически обрекает на «черное рабство» из-за формулировки в Правилах: «Содержательницам дозволяется принимать к себе женщин… не более как на год. <…> Денежные претензии… не могут служить препятствием к оставлению… борделя во всякое время, если не были ведены… расчетные книжки». То есть уйти просто так не получится.
Одновременно с узаконенными борделями существуют полулегальные, для которых, вопреки статусу, тоже есть правила. Главное условие — запрещение непотребства в общественных местах. Разврат терпится только в притонах и секретных квартирах.
Тяжелый хлеб
«На службе» Марья приносит до 7 рублей в день. Согласно циркуляру, 1,75 из них остаются ей в личное расположение. Хозяйка забирает 5,25 рубля и за это дает «…сообразно средствам борделя: помещение, освещение, отопление, сытный и здоровый стол, необходимое белье, платье, башмаки и вообще то, что нужно для существования и что не составляет предмета прихоти или роскоши».
Килограмм ситного хлеба (т.е. из просеянной сквозь сито муки) стоит 9 копеек, ржаного — 5 копеек. Выходит, что если Марья Романовна захочет купить хлеба, чтобы потом раздать бродягам на Сенной (ее-то обеспечивает Madame), то не сможет донести его от булочной. Дневного заработка ей хватит на 20 кг ситного или 35 кг ржаного хлеба. Так почему же она крадет чужие деньги? Жажда разбогатеть? Страх остаться голодной, как в добордельный период? Нестерпимое желание присвоить чужое? Но зачем тогда добровольно сознается?
Признание
Она сидит у стола в городской полиции и смотрит на свои башмаки. Их простые овальные носы, чуть стертые и припыленные, торчат из-под юбок ненового, но еще нарядного, слишком праздничного платья. Ее отвлекает околоточный надзиратель, немолодой, с острыми оттопыренными усами человек. Зачем же вы сами решили сознаться, спрашивает он, и Марья Романовна нервно вздрагивает, однако тут же находится:
— Затем, чтобы по справедливости.
Надзиратель вздыхает. Еще раз окидывает публичную женщину тупым вопросительным взглядом и что-то подписывает в лежащие перед ним бумаги.
Правила клуба
Перед поступлением в бордель девицы проходят освидетельствование у врача. Государство опасается «любострастных болезней» — венерических заболеваний и страшного сифилиса. Последним, согласно официальной статистике, в 1869 году болеет 1,3% населения Санкт-Петербурга, город лидирует среди других в Империи. Именно по этой причине еще в 1843 году упомянутый литератором Гречем министр внутренних дел Лев Перовский и создает Врачебно-полицейский комитет — с целью «правильного медико-полицейского надзора над женщинами, промышляющими «развратом».
Поэтому проститутка обязана беспрекословно подвергаться врачебному медконтролю, поэтому хозяйка должна осматривать девиц каждый день. Публичных женщин в Санкт-Петербурге лечат в особом отделении Калинкинской больницы. Замалчивание болезней и обнаружение их на освидетельствовании обязует девиц выплатить содержательнице определенную сумму. На деле все, как всегда, по-другому. Осмотр проходит спешно и бессистемно, а те, кого выловили лечиться, до конца не выздоравливают и спешат вернуться к работе. Никакой сифилис не обнуляет тягостные, беспросветные долги. Кабальная система взаимоотношений Madame — проститутка не подчиняется циркулярам.
Поступая на работу, девица отдает паспорт. Вместо него — заменительный, или попросту «желтый» билет — клеймо невозвратности в «чистый» мир. На первой странице фотография, имя, сословие. На последней врач ставит отметки. Все остальные листы отданы «Правилам для публичных женщин».
Марья знает Правила наизусть, может рассказать, как стих: и про опрятность, и про частое обмывание водой детородной части, про то, что нельзя ходить по нескольку вместе, переезжать без разрешения полиции, про то, что содержательница не вправе требовать, чтобы предметы прихоти и роскоши непременно покупали у нее и что уйти от Madame можно во всякое время. И, конечно, про то, что ничего из этого, кроме требований к Марье, не работает. Долги, безденежье и побои — вот и весь заработок. Ее никто не отпустит, и никто за нее не заступится. Ведь публичная — это значит чья угодно, но не своя собственная. Ровно об этом спустя полвека заговорят, сокрушаясь, герои «Ямы» Куприна, из-за которой последнего не раз обвиняли в ненужном чрезмерном натурализме.
Марья крадет впервые за все время служения Madame. Крадет у проверенного клиента, надеясь вырваться из лап публичной любви и сопутствующего ей всеобщего презрения.
Освобождение
Савинова Марья Романовна была заключена под стражу в городскую тюрьму в Тюремном переулке (ныне — пер. Матвеева). Ее дальнейшая судьба обрывается, но остается надежда, что побег из дома терпимости удался ей вполне.

Детский ужас и взрослая ирония
О стихах ленинградского поэта Олега Григорьева
Олег Григорьев — человек известный. Мало кто не знает знаменитое четверостишие про электрика Петрова, качающего ботами: оно и само стало народным, и сыграло большую роль в возникновении традиции черного юмора в советском фольклоре. Биография Олега Григорьева говорит о том, что у него, помимо поэтического и художественного талантов (Григорьев учился рисовать, но, по собственным словам, «не отстоял себя как художника»), был тот самый талант «плохой жизни», который так ценил другой ленинградец и современник Григорьева, Сергей Довлатов. Довлатов считал, что один только и есть талант «плохой жизни», при наличии которого ты начинаешь творить — самобытно, взахлеб, от сердца. Олег Григорьев был два раза судим (несправедливо) и отбыл один судебный срок, много пил, не дожил до пятидесяти лет, не смог стать ни художником, ни прозаиком (а хотел), за всю жизнь издал три книжки с детскими стихами. Единственная дочь Мария воспитывалась в детском доме, и, видимо, унаследовала отцовский талант — после рождения собственного ребенка погибла, выпав из окна. Есть от чего начать писать.
Одна из трех книжек, изданных при жизни Григорьева, досталась мне в наследство от старшей сестры. Сказать, что мы ее любили — ничего не сказать. Хлесткие и меткие строчки, полные аллитераций и неожиданных поворотов сюжета, я запомнила с тех времен на всю жизнь:
Пес привязан на цепи,
А попробуй, отцепи.
Здесь явственно слышно, как звякает цепь бедного пса.
Или:
Вдоль реки бежал Аким,
Был Аким совсем сухим,
Побежал он поперек —
Весь до ниточки промок.
А тут само имя героя «Аким» кажется немного высохшим, по аналогии с рифмой «сухим», а достаточно очевидный факт (если зайти в речку — промокнешь) сформулирован как древнегреческая теорема.
Это из детства. В более позднее время так же навек отпечатались в моей голове стихи с выставки митьковского искусства:
Сизов торговал на вокзале
Рождественскими открытками.
Его схватили, его связали —
И вот он умер под пытками.
И еще:
Девочка красивая
В кустах лежит нагой.
Другой бы изнасиловал —
А я лишь пнул ногой.
Смешно, ярко, талантливо. Олег Григорьев описывает мир до невозможности метафорично: он ходячий анти-штамп, каждый раз удивляется и миру, и языку:
Папа идет, сердит, —
Шляпа ему не идет.
Я на папе сижу —
Пальто на мне не сидит.
«Как интересно!» — словно восклицает Олег Григорьев: папа идет, и шляпа идет, я сижу, и пальто сидит! Как это удивительно, вы только посмотрите! Кажется, секрет такого взгляда он открывает в одном четверостишии:
Посиди в чулане —
И как можно длительно
Серый город станет
Просто ослепительный.
Действительно, автор как будто выходит из темного чулана, и мир бросается на него своим шумом, блеском, цветом и необычными ситуациями.
В этом мире часто что-то бьется, звенит, рушится, кто-то ругается.
Вечером девочка Мила
В садике клумбу разбила.
Брат ее мальчик Иван
Тоже разбил… стакан!
Кажется, не только стакан, но и клумба разбивается со звоном.
Многие стихи Олега Григорьева можно отнести к жанру черного юмора. Поэту приходилось оправдываться перед читателями, что он никого не бил и не насиловал. Чтобы не возводить на автора напраслину, следует разделить автора и его лирического героя, поэтическое «я» автора.
Олег Григорьев говорил, что в стихотворении должен быть какой-то удар, имея в виду поэтический накал, но его героя бьют в буквальном смысле слова. Лирический герой постоянно падает, получает пинки и пощечины и просто по роже. Ему достается от конкретных людей: «Звонко и как-то весело// Жена оплеуху отвесила», «Крест свой один не сдержал бы я,// Нести помогают пинками друзья» и от мира в принципе: «Я ударился об угол,// Значит, мир не очень кругл», «Земля тормознула резко,//Я о шкаф ударился с треском». И еще:
Меня ударили вчера
Тяжелым аппаратом
Вчера я круглый был с утра,
А к вечеру — квадратный.
И еще:
Меня ударили доской —
Лежу я с болью и тоской.
И вот:
Ударила градина в лоб —
Это еще за что б?
Или:
Упал цветок в большом горшке,
Попал мне прямо по башке.
И еще:
Чем-то ударили в бок,
Я тихо осел и прилег.
Насилие — неотъемлемая часть этого яркого и резкого до боли в глазах мира. Все герои Григорьева или терпят удары, или дерутся: Славочка и Боренька в «Былине» разбили друг другу носы, Валерия Петрова кусают комары, «На кухне дерутся опять// Сизов решил подразмяться…», другой Сизов (а может, тот же самый), торгующий рождественскими открытками, умирает под пытками — цитировать можно бесконечно.
Олег Григорьев пишет:
При внезапном громком стуке
Поднимаю вверх я руки,
Потому что в этом мире
Я как кукла в детском тире.
Может быть, автор действительно чувствует себя мишенью. Но его лирический герой отнюдь не всегда «поднимает руки», он старается пнуть мир в ответ:
Коля съел мое варенье,
Всё испортил настроенье.
Я синяк ему поставил —
Настроение исправил.
Или:
Я встал и бутылкой кефира
Отрубил его от эфира.
Герой может ударить или пнуть в ответ на что-то или просто так (как девочку в кустах). Бывают ситуации, когда герой ничего не делает специально, все происходит само:
Тело, выведенное из состояния покоя,
Сломало стул, стол, кровать и многое другое.
Даже не сам герой, а — тело. Может быть, его, а может быть, чужое, главное — безликое и неразумное. Мир Олега Григорьева такой же: яркий, громкий и жестоко нелогичный. Что-то происходит с героем, что он не может понять, получает неожиданный удар, пытается ответить или даже нет, просто пытается что-то сделать — а мир рушится или отвечает злобой. И герой в ответ тоже злится, пинает мир, то ли пытаясь играть по его правилам, то ли защищаясь. Лирический герой живет в мире, по умолчанию несправедливом. Но самая потрясающая интонация получается, когда герой принимает это несовершенство и просто грустит, как, например, в тюрьме:
(…)
Я вылепил ей из хлеба
Человечка мужского,
А она к нему прилепила
Человечка другого.
К его голове я приклеил
Локон ее волос.
Потом нас по разным точкам
Тесный «столыпин» развез.
А тех человечков с полки
Ночью украла крыса.
Один человечек в локонах,
Другой человечек лысый.
Или вот, прекрасное стихотворение, тут и тема библейская, и настроение, называется «Яблоко», заканчивается так:
И вдруг я отчетливо вспомнил
Это было когда-то со мной:
И червь, и сад, и знойный полдень,
И дерево, и яблоко, и я с женой.
В этом стихотворении ничего традиционно для Григорьева плохого не происходит, просто яблоко, которое дает ему жена, оказывается с червяком. Но контекст такой, что дух захватывает, становится ясно, почему оно все так.
Многие современники поэта говорили, что ему так и не удалось повзрослеть, что он долго выглядел как семнадцатилетний, не умел жить и был безнадежно инфантилен. И что поэзия его — детская и наивная. Поэзия его действительно непосредственно и очень хорошо передает детский ужас перед несовершенством мира. Но сам факт того, что этот ужас был описан, требует взрослой фигуры. Кто-то пишет это стихотворение, кто-то видит, что ребенку плохо, кто-то свидетельствует о той злости и грусти, которые испытывает ребенок. И этот кто-то рисует картину несправедливости по отношению к уязвимому существу — неважно, ребенку или взрослому, — очень иронично, вызывает улыбку.
Лирический герой Олега Григорьева в чем-то похож на Петю из четверостишия «Тюк»:
Петю в дорогу так закутали,
Что с тюками его перепутали,
Закинули на грузовик, —
Хорошо, что он поднял крик.
Ребенок пассивен, он не действует сам, с ним что-то происходит, кто-то его закутал (из благих, видимо, побуждений), но, закутанный, маленький Петя становится неразличимым среди других предметов, и единственная возможность хоть как-то заявить миру о себе — громко закричать. Лирический герой Олега Григорьева кричит как маленький ребенок. Поэзия Олега Григорьева привлекает внимание и остается в памяти, это крик ребенка, зовущего на помощь. Этот тот крик, от которого вздрагиваешь как от удара. Ребенок попал в непонятную и неприятную ситуацию. Хочется написать «абсурдную», но есть сложность. Абсурд — это опять категория взрослого мира, он подразумевает, что есть нормальная жизнь. Для ребенка вся жизнь целиком непонятна, он еще не накопил опыт для того, чтобы делать выводы, какая ситуация нормальна, а какая нет.
Поэзия Олега Григорьева — очень взрослая. Может быть, как человек, он и не сумел повзрослеть, но его поэтический мир очень ироничен, а это взрослое качество. Лирический герой не понимает, зачем электрик Петров намотал на шею провод, но автор это понимает очень хорошо. А может, и сам лирический герой понимает. Как говорится в другом стихотворении: «Юмора не понимают.// Дети плачут, а я-то смеюсь». И здесь отчасти понятно бешенство Сергея Михалкова, прочитавшего творения Григорьева и захлопнувшего перед ним дверь в советскую литературу: Михалков очень хорошо понимал, что это стихи взрослые, иронию он трактовал как издевательство, сам он писал для детей по-другому.
Установка Сергея Михалкова — в стихах воспитывать ребенка, объясняя и проясняя, рисуя картину мира, в котором есть мама, папа, они занимаются полезными делами, а дядя Степа милиционер «видит все издалека» и, если что, исправит и защитит. Все это тоже хорошо и ценно, и, в конце концов, «А у нас в квартире газ» — отличные стихи. Так можно успокоить. Но отрицать, что мир несправедлив — это загонять естественные детские чувства злости и отчаяния в чулан. А Григорьев апеллирует именно к ним и, как сказали бы психологи, «работает с ними».
Олег Григорьев — человек слишком талантливый, чтобы говорить о нем как о проклятом поэте или несправедливо обиженном диссиденте, искренне писавшем хорошие детские стихи. Я лично рада, и даже очень, что при издании «Чудаков» советская цензура дала сбой. Тем не менее, читая и восхищаясь, надо отдавать себе отчет: прежде всего в собственной детском ужасе и злости, нашедших гениальное поэтическое воплощение. И также надо понимать, зачем нужна эта злость: это необходимый путь к тому месту, где «и дерево, и яблоко, и я с женой».
Иллюстрация: рисунок Олега Григорьева. Галерея «Антиквариум»

Как спряталась смерть
До восьми лет я жила в городе Прокопьевске Кемеровской области. Тогда это был активный, хоть и небольшой шахтерский город — тринадцать действующих шахт, примерно столько же угольных разрезов, угрюмые мужчины с подведенными угольной взвесью глазами, всегда грязные от жирной пыли пятки, сугробы до второго этажа и уютные печки в квартирах, дребезжащие трамваи и громкие похороны.
Впервые я увидела покойника лет в пять. У соседнего подъезда на двух табуретках стоял гроб, обитый красным бархатом и черными кружевами. Вокруг гроба толпились серьезные люди, громко завывала старушка-плакальщица. Мы с мамой шли мимо, и в этот момент спины разомкнулись, я на несколько секунд увидела серого покойника со странно острым носом и зачесанными набок жидкими волосами. А с другой стороны гроба показалось любопытное лицо девчонки — она вытаращилась на покойника, сжала губы, чтобы не прыснуть от смеха, и исчезла за скорбящими взрослыми.
Когда я немного подросла, мы с друзьями не пропускали похорон в соседних домах. Тревожное любопытство гнало нас смотреть на мертвых людей. Особенно интересно было разглядывать знакомых умерших. Помню странное впечатление от лица вредной старушонки, которая гоняла нас за хулиганство. В гробу ее лицо выглядело спокойным и даже добрым. Кроме того, на похоронах часто угощали конфетами и печеньем. Угощения вызывали яростные споры, можно ли есть сладости с похорон. Авторитетная толстенькая Наташка уверяла, что нет — будут неприятности. По ее мнению, конфеты надо было закопать, как и покойника, сделать «секретик». Мы тогда увлекались такими похоронами-секретиками — в ямку опускали красивые пуговицы, лепестки цветов, фантики и другие мелкие сокровища, хоронили жука или бабочку, накрывали стеклышком. Получалось красиво. Но похоронные угощения все ж бесстрашно съедали, скрестив на всякий случай пальцы по совету той же Наташки.
Самое интересное начиналось, когда на похороны заказывали музыку. Обычно так хоронили фронтовиков или ударников труда. В назначенное время к гробу подъезжала «группа людей со скорбными лицами и музыкальными инструментами», как говорил про похоронные оркестры Жванецкий. Крепкие мужчины подхватывали гроб, медали и ордена раскладывали на подушечки и доверяли нести соседским детям или специально присланным пионерам, если покойник был особенно важным для города. Музыканты шагали за гробом, оглушительно выпиливая марш Шопена. Эти дребезжащие звуки было слышно издалека, поэтому к месту шествия сбегались все свободные горожане. Пока по дороге скорбно двигалась процессия, на обочинах оживленно обсуждались все ее участники — был ли покойный нравственным человеком и где вдова взяла такой шифон. В моем детстве смерть была такой же частью повседневной жизни, как, например, сопли или сон. Я с раннего возраста думала о смерти с ужасом, интересом, любопытством, тревогой, вертела эту мысль то так, то эдак, сжилась и подружилась с ней.
В восемь лет моя семья переехала в Москву. Мы поселились в коммуналке на первом этаже старой пятиэтажки в районе Масловки. Под окном в палисаднике орали вороны, кошки плодили котят у наших дверей, а по стенам кухни топотали длинные черные тараканы, раздражая маму. Я подружилась с очередной Наташкой — мне везет на это имя среди близких подруг. У нее-то я скоро спросила — а чего ж не хоронят? Наташка пожала плечами, рассказала, что не так давно помер «один мужик», но, кажется, врала. Однако мои рассказы о похоронах воодушевили ее, и мы похоронили голубя в картонной коробке, украсив «гроб» сиренью и черемухой. Меня немного мучил вопрос — неужели в Москве не умирают? Спросить, конечно, не решалась. Однажды во дворе кто-то раскидал еловые ветки, и мама сказала, что увезли покойника. В другой раз я увидела, как в соседний дом вносят длинную нарядную крышку, обитую голубым шелком и белыми кружавчиками. Я даже не сразу поняла, что это гроб, да и потом долго сомневалась. Поразмыслив, я решила, что покойников в Москве куда-то прячут. Увозят их в красивых гробах, замаскированных под подарочные коробки, закидывают следы еловыми ветками. Некоторое время я напрягала логику, пытаясь догадаться, куда же, но скоро догадки надоели, и я отвлеклась.
Мама, которой тогда не было и тридцати, видимо, тоже скучала по привычному присутствию похорон в повседневной жизни. Поэтому скоро мы с ней начали посещать кладбища. Конечно, не всякие, а только Ваганьковское и Новодевичье. Я думаю, маме хотелось заодно рассмотреть и доступных, хоть и мертвых, знаменитостей. На Ваганьковском было тихо и спокойно. Мы бродили от Высоцкого к Есенину, рассматривали старинные саркофаги и заросшие древние кресты. Таких кладбищ я еще не видела, меня восхищали плачущие мраморные ангелы, зеленый мох на надгробиях, многолетний птичий помет на могучих камнях. На Ваганьковском я уверилась, что в Москве никого давно не хоронят, только знаменитостей.
Новодевичье в те годы было закрыто для свободного посещения и пускало посетителей только раз в году — 9 мая. Мама объяснила, что туда необходимо попасть не только из-за Леонида Утесова или Любови Орловой, но и ради Зои и Шуры Космодемьянских. Я еще не была пионеркой, но зачитывалась историями про пионеров-героев. 9 мая было тепло, мы надели яркие летние платья и отправились пораньше, к открытию. У закрытой калитки собралась толпа. Я стояла, стиснутая со всех сторон, и слушала оживленную болтовню. В основном люди обсуждали, кого теперь хоронят на Новодевичьем, сколько стоит место, положат ли Кобзона и Пугачеву сюда или на Ваганьковское. Кто-то выдвинул версию, что Кобзона могут и у Кремля положить, возник немедленный спор, достоин ли певец такого места. В основном склонялись к тому, что нет, не достоин. Так я поняла, что догадка была верной — похороны в Москве надо заслужить.
А потом калитку открыли, и толпа нажала. Меня больно вдавили в шершавую стену, маму оттерли, кирпичи впились в кожу, в глазах потемнело. Кто-то заорал над ухом «раздавите ребенка, раздавите!», меня дернули за руку, затрещало платье, и я наконец оказалась в руках испуганной мамы. Кусок ткани остался у стены, мне было стыдно, саднил ободранный локоть и болели намятые бока. Кладбище, все в парадных чистых надгробиях, раздражало тем сильнее, чем хуже выглядела я. Оно вообще не было похоже на кладбище, скорее, на музей. Мама указывала мне на могилы знаменитостей, но я уже упрямо надулась и обиделась. «Что мы тут делаем? — ныла я, — это не для простых людей!» Это факт меня, справедливого октябренка, мучил больше, чем ссадины. Памятник Зое и Шуре в алых пионерских галстуках героически возвышался за оградой. Я исподлобья смотрела на пионеров-героев и с нежностью вспоминала печальных ангелов Ваганьковского. «Пойдем домой», — попросила я, но дорогу преградила экскурсия. Экскурсовод привела группу человек из двадцати. «А вот и Космодемьянские. По традиции к памятнику не пускают никого, кроме пионеров. Кто хотел возложить цветы? Вы, мужчина? А вот девочка, мы девочку попросим», — и она сунула мне в руку красные гвоздики, открыла калитку и подтолкнула в спину. Я, оглядываясь на маму, мучительно стыдясь своего рваного платья и ободранной руки, подошла к памятнику. «Повернись, девочка, повернись!» Мне в лицо защелкали фотоаппараты, и я, бросив гвоздики, побежала по широким аллеям.
Последними в кладбищенской иерархии стали Ленин и обитатели Кремлевской стены. Мы с мамой дважды вставали в шесть утра, чтобы занять очередь в Александровском саду. В первый раз, отстояв два часа под холодным весенним ветром, мы отправились обратно несолоно хлебавши из-за внезапной китайской делегации. Во второй раз Ильич нас все же принял. В тишине и темноте светилось желтое лицо. Мы молча прошли мимо под шарканье ног. Дойдя до могилы Брежнева, я громко спросила: «Мама, помнишь, как его в гробу уронили?» Мама почему-то быстро увела меня к стене, где я тоже проявила любопытство: «Как это покойники влезли в стену? Какие такие урны? Что значит сжигают? Так вообще можно? А кого сжигают? А почему Горького сожгли, а Брежнева не сожгли?» Страшная догадка осенила меня — москвичей сжигают, а пепел высыпают в урну! Разумеется, под словом «урна» я подразумевала обычную помойку. Теперь я в ужасе заглядывала в урны, боясь, что с сигаретным пеплом смешивается чей-то прах.
Потом я подросла, многое стало понятнее. Однако смерть в Москве пряталась все дальше и дальше. Я узнала, что, кроме Ваганьковского и Новодевичьего, есть и другие кладбища в городе. Но Москва не показывает своих покойников. Москва как будто стесняется мертвых, как я — рваного платья. Теперь даже не может быть крышки гроба в подъезде и еловых веток во дворе. Люди просто исчезают, как будто их и не было. Четырнадцать лет я живу в подъезде на пятнадцать квартир. За это время неизвестно куда, неизвестно когда исчезли девять человек. Я знаю, что они умерли, но не видела их похорон. В таком городе я живу — без ритуалов, без соседского прощания, без плакальщиц, без конфет и примет. Делом занимаются похоронные агенты — быстро, слаженно, мгновенно, с сухими глазами. Дети не хоронят жуков под стеклышками и голубей в коробках. Возможно, они не очень-то и знают, что есть в этом городе какая-то смерть. Она хорошо спрятана. Тем сильнее она бьет, когда внезапно появляется рядом и уносит кого-то родного.

Мои часы всегда показывают: «Сей час!»
Я очень люблю часы. Простые, наручные, которые многие носят на запястье. Вернее, возможно, для всех они и простые, но для меня наличие часов на руке всегда ощущается как нечто особенное. Для кого-то часы — это атрибут статуса, для кого-то элемент стиля, а кто-то заменил традиционный механизм на умные часы или вообще ограничивается цифрами на экране смартфона. Но в моем мире наручные часы — это вещь для души, они показывают мои личные отношения со временем. А взгляд, брошенный на циферблат — то впопыхах, то украдкой, то в томительном ожидании, — всегда интимен. Ведь это ход моего личного времени, мое настоящее. И я прекрасно помню тот момент, с которого началась эта нежная привязанность к такой, казалось бы, незначительной вещи.
Дождливое лето, мне десять или одиннадцать лет и я в деревне с бабушкой. Сельская библиотека неподалеку исправно снабжает меня книжками, и это мое единственное и любимое развлечение. Созвон с родителями редко и всего на пять минут. Дорого, межгород. Один или два раза в месяц они меня навещали, и каждый раз этого дня я ждала, как праздника. И вот конец августа, меня уже должны забрать домой, в город, я с самого утра прислушиваюсь к звукам со двора: пытаюсь уловить звук колес папиной «Ласточки» — жигулей четвертой модели цвета «Балтика». Полдень, наконец-то приехали! Бегу навстречу, обнимаемся, скорее, помогаю перенести вещи в дом. Обед и обмен всеми новостями. Радость встречи позади, наступает спокойное и тихое время, мама и папа отводят меня в сторонку, почти безмолвно сообщая мне, что они привезли какой-то секрет. Говорят, садись, закрой глаза. И вытяни руку вперед, не бойся! Чувство предвкушения, интереса и даже волнения. Я доверчиво протягиваю руку и ощущаю холод на запястье. Открываю глаза — родители вовсю улыбаются, а у меня на руке блестят новенькие часы. Впервые в моей жизни. Настоящие, как у взрослых. Ну, почти — серебристый циферблат, стрелки-карандашики и карамельно-розовый ремешок. Это был такой контраст: серый и дождливый полдень за окном, вокруг нас — выгоревшая и слегка пыльная терраса, и вдруг мои яркие новые часы! Это было как послание, часы как будто сообщали мне, что впереди новый этап: возвращение домой, школа, ждут друзья и игры, протяни руку — и вот они. Смена времен года, периодов в жизни маленького человека, это ход времени. Летом для меня время было вязким, бесконечным. Оно обволакивало меня и как будто останавливалось. Мы с бабушкой в деревне, замерли, застыли во времени и ничего не происходит, мы просто живем и наблюдаем из нашего небольшого окошка с облупившейся краской за природой и течением жизни вокруг. И вот пора домой, в город. Уезжать мне всегда было грустно, но я находилась в предвкушении нового, и тихая печаль быстро отступала. Меня ждут перемены, и на загоревшей за лето руке идет отсчет времени до их начала.
Восприятие времени меняется, события ускоряются. Мне двадцать и я слежу за своими минутами уже на другом циферблате, но их покупка снова связана с родителями. Тогда был июнь, и в воздухе летал тополиный пух, а я, студентка четвертого курса, с тубусом наперевес выходила из подземного перехода и искала глазами папу. Он часто встречал меня на станции после пар в университете, и мы ехали на его серебристой «ласточке» Kia забирать с работы маму. А сегодня по случаю еще и зашли в универмаг. И хоть мне совершенно ничего не было нужно, я остановилась у сияющей витрины с наручными часами и сразу поняла, на что потрачу накопленные деньги — на золотистый металлический браслет и большой, почти мужской циферблат. Пора идти домой, а я зависла у витрин. Папа подходит и заговорщически, шепотом, говорит, что, мол, раз нравится, давай купим, вещь хорошая. И спустя пару дней мы все же их купили, вложившись пополам. Это наше с ним приобретение, наш секрет, вещь, которая объединяет. А впереди меня ждали двухмесячная практика в новой фирме и последний курс университета. Ход времени ускорился в разы, и я его как будто ощущала физически. Пришло осознание, что если я хочу все успеть, надо спешить. Круговерть обучения, спорта, работы, поездок на выходные с друзьями на Волгу. Сколько всего вокруг: вот провожали закат — и уже встречаем рассвет. Вот новый день, и мои часы на руке не просто показывают время — они подчеркивают его ход. Я не наблюдаю, я живу.
Прошли годы. Может шесть лет, может, семь. Папы уже нет с нами, бабушки тоже. Времена изменились бесповоротно, и произошедшее начало разрушать сложившиеся теплые отношения в нашей большой семье. Хоть родственников огромное количество (бабушка моего папы была весьма плодовита), но поддержку найти нелегко. Один человек из этой семьи — яркое исключение, человек-легенда. Ее возраст стремится к ста, она всегда аккуратно подстрижена и улыбчива. За неимением своих детей, папина тетушка любила его как родного сына, ее любовь по наследству от папы перешла ко мне. На день рождения меня всегда ждал подарок от нее — аккуратный конверт с купюрой внутри и пожелания купить что-нибудь хорошее, чего бы мне хотелось. И обязательно надо потом приехать к ней в гости и показать ей обновку. И, хоть я уже давно не студентка и сама зарабатываю себе на жизнь честным трудом, не принять конверт от бабушки не могу. Это вне установленных негласных правил. Она очень хочет меня порадовать и жутко расстраивается, если я не беру подарок. И вот после очередных моих именин у меня остался конвертик, а у бабушки — мое обещание прийти к ней в гости. Новые часы мне хотелось давно, и я решила инвестировать содержимое конверта в часть их стоимости. Механизм японский, служить должны долго. Бабушке я, конечно, сказала, что купила их полностью на ее деньги. И мы представили, как будто она сама мне подарила эти звонкие стальные часики. Она улыбалась и долго ими любовалась при встрече — затем вынесла вердикт, что вещь и вправду хорошая. Говорит, пусть это будет память обо мне. Сразу стало как-то грустно, как будто мы собрались прощаться. Мы сидели рядом за столом на бабушкиной кухне: мне двадцать семь, ей — девяносто семь. Между нами семьдесят лет человеческой жизни, опыта, семьдесят лет радостей и горестей. Двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят дней, которые хочется или вспоминать с улыбкой, или поскорее забыть. Мы одновременно смотрели на мои новые часы, но они показывали для каждой из нас совершенно разное время. Всё её прошлое, все семьдесят лет, что нас разделяют, для меня (я очень надеюсь!) — будущее. Я смотрю на циферблат с надеждой, с мыслью, что надо многое успеть, а время так бежит! Она смотрит на него с грустной улыбкой и считает, что уже всё успела, а спешить нет смысла. И надо лишь не пропустить время начала передачи «Романтика Романса» на канале «Культура» в воскресенье…
Новый, 2020 год. Еще в январе у меня было четкое представление о том, как должен пройти этот год. Впервые в моей жизни я имела план. Уже оплаченная поездка в Италию с мамой в марте, билеты для похода с мужем театр на апрель, договоренности уехать с ним же в мае в Крым, спасаться от аллергии. А в июне — в деревню: две недели уединения на природе со своим мужчиной, мечта. Продолжать можно долго, но то, что случилось в 2020 году, все знают — границы страны закрыты, люди боятся людей, все сидят дома и надеются пережить эпидемию. Накануне карантина мы с друзьями вместе смотрели фильм, тогда еще можно было собираться больше двух без страха. Мы обсуждали героев, сюжет, идею автора картины. Фильм был прекрасен, но главное, что запомнилось мне и долго не отпускало — коричневый ремешок на руке главной героини и маленький золотой циферблат. Мной было решено: остатки денег от последней зарплаты необходимо инвестировать в нечто очень важное — в свое душевное равновесие и ментальное здоровье. Ну и что, что следующая зарплата неизвестно когда? Я покупаю. Устраиваю себе пир во время чумы, не иначе. Ведь первая неделя карантина прошла для нашей маленькой семьи из двух человек (и одной кошки!) очень тревожно. Я продолжала жить по инерции энергично, но в пределах четырех стен. А потом я заболела, и руки резко опустились. Время как будто замерло внутри нашей квартиры, несмотря на хаос за ее стенами. Все остановилось, и ничего не происходило. Но стрелки на новых часах неустанно перемещались, а это значило, что жизнь — она не может остановиться. Планета продолжает крутиться, и день продолжает сменять ночь. Все проходит, и это пройдет.
Каждый раз мы смотрим на часы с надеждой, хотим осознать, что у нас еще достаточно времени. И каждый раз часы показывают нам одно и то же: точное время — это момент, и этот момент — сей час!

Неженская доля, или женщины в «мужских» профессиях
Старшую школу я заканчивала в Лицее Гуманитарных Наук. В этом учебном заведении основной упор был сделан на гуманитарные предметы, а именно русский язык, литературу, английский и историю. Эти направления мне нравились, и я с большим интересом делала исторические конспекты, зачитывалась различными произведениями на английском, писала диктанты по русскому и решала различные тесты для подготовки к экзаменам. Но всё же очень тянуло и в сферу точных знаний, а задачки по алгебре с геометрией и лабораторные по физике с химией затягивали не меньше периода правления Александра I или идиоматических глаголов в английском.
В 10 классе пришлось задуматься о выборе будущей профессии. Вся семья ожидала, что я, как и сестра, выберу какую-то «женскую» гуманитарную специальность и стану преподавателем истории или переводчиком.
Подростком я росла очень сложным и своенравным. Несмотря на увлечение многими предметами и хорошие отметки, за уроками мне не сиделось, а на домашнее задание я тратила минут пятнадцать, после чего бежала на тренировку по спортивному туризму или на прогулку с друзьями. Туризм был главной «болезнью» и «зависимостью». Сходить в поход, поучаствовать в соревнованиях, уехать в лес на все выходные, пожить в палатке или отправиться в однодневное путешествие. Это было просто необходимо, и хотелось забрать это увлечение и дух свободы с собой.
В мечтах после окончания университета я без титанических усилий получала перспективное предложение в хорошей компании или даже несколько предложений. Это непременно было бы связано с командировками и положительными впечатлениями, новыми знаниями и навыками. Но не только романтические рабочие будни и ожидание безоблачного будущего сидели в моём сознании. Перед глазами был мамин пример. Женщина, которая многого добилась сама: получила два высших образования, занималась бизнесом, воспитывала двоих детей, помогала родителям, сама управляла автомобилем — вишнёвой девяткой. Вот такой символ успешной и независимой личности.
Неимоверное желание обрести финансовую свободу, посмотреть мир, совершить восхождение в горах Непала заставило признать для себя несостоятельность гуманитарных направлений. Выбрать техническую специальность было непросто, но внутренний авантюрист не колеблясь остановил выбор на геологии. Всё, что мне представлялось: путешествия, изучение пород и минералов, добыча полезных ископаемых, постоянные перемещения, интересные знакомства и множество неизведанного… Это точно моё.
Учёба в университете оказалась насыщенной и интересной. В двух группах геофизиков из сорока пяти студентов училось всего четыре девушки, что стало для нас — представительниц слабого пола — неоспоримым преимуществом и поводом для поощрений со стороны преподавателей. Уже на третьем курсе мечты об успешном трудоустройстве и карьерной лестнице с удобными перилами и ступеньками, по которым возможно перескакивать через одну, улетучились: даже на производственную практику девушек принимали с неохотой или не принимали совсем. После пятого курса с двумя красными дипломами в руках (успела отучиться на переводчика) внутри бушевало отчаяние и разочарование. Спрос на сообразительных дам, даже с отличным знанием английского языка, был по-прежнему невелик. Работа меня не страшила, подрабатывала я все пять лет учёбы, но хотелось уже отправиться изучать Большой Барьерный риф или уникальный по своей природе остров-плюм Исландию. Но подобных вакансий мне не попадалось, а все остальные предложения были только для мужчин. Оставался вариант уехать в небольшой нефтяной городок, где можно было заниматься решением бюрократических задач в нефтедобывающей организации. Интуиция подсказывала, что нужно продолжать поиски.
Наконец, спустя год непонятной занятости и безуспешных попыток, мне удалось попасть на первое собеседование по специальности. Из сорока человек, участвовавших в собеседовании-отборе, приняли всего троих. Я попала в счастливую тройку, как мне казалось, только по причине того, что на собеседовании я была единственной представительницей не мужского пола. За год неудач уверенность в своих силах сильно поубавилась.
Начинался новый этап жизни — желанный, но пугающий неизвестностью. Меня приняли на должность полевого специалиста, что подразумевало работу на буровой с приборами телеметрии, различными наземными датчиками и прочим сложным оборудованием. Функционал мне нравился, а занятость на буровой площадке ассоциировалась с жизнью в палатке. Казалось, я была готова к этому прыжку. Мама очень переживала и даже расплакалась на перроне, когда я затаскивала сумку с вещами в вагон. В купе было очень уютно и хотелось читать…
И вот я уже еду навстречу неизвестности… Назад дороги для меня не было, хотелось доказать себе самой, что материализация мысли абсолютно реальна, а поставленная цель будет достигнута, если приложить упорство, трудолюбие и терпение. Важным оставался и финансовый аспект. Обстоятельства складывались так, что зарабатывать достойно стало необходимостью.
После недельного вводного курса в Тюмени я попала в город Пыть-Ях, который стал перевалочным пунктом между буровыми. Мне выдали рабочую форму, ботинки, резиновые сапоги, каску и другое обмундирование телеметриста. Со всем этим добром я устроилась на заднем сиденье внедорожника, и водитель повёз неопытного стажёра на месторождение. После одиннадцати часов бездорожья мы наконец добрались до площадки. Осознание выбора настигло в жилом вагончике, где я разрыдалась как маленький беспомощный ребёнок. За окном светилась высоченная буровая установка, слышались тяжёлые мужские голоса.
Невозможно подготовиться ни морально, ни физически к тому, о чём совершенно не имеешь представления. На помощь пришли слова любимой бабушки: «В любой работе всегда и везде самый сложный — первый год. Нужно просто перетерпеть». Фраза спорная, неоднозначная, но в сложный период принятия всех особенностей новой работы я успокаивала себя мыслью о том, что через год станет понятно, стоит ли готовить пути отступления и менять вид деятельности.
Начались рабочие будни. Каждая вахта длилась сорок два дня, а бывало, и гораздо дольше. Я научилась и освоила работу приборов телеметрии, программного обеспечения, всех нюансов сопутствующего оборудования. Любые настройки и калибровки спустя год практически не вызывали вопросов. Бессонные ночи, перенос тяжестей, минимальные бытовые удобства и баня только в женский час оказались не главным испытанием. Основная сложность заключалась в восприятии тебя окружающими. Коллеги в компании, рабочие на буровой, менеджеры проектов — все воспринимали девушек-телеметристок за хитрых особ, желающих удачно устроить личную жизнь. Безусловно, специалисты встречаются разные, а цели также могут быть не связаны с самореализацией в профессии.
Мне хотелось стать первоклассным специалистом, способным решать задачи любой сложности. Я понимала, что проигрываю любому мужчине, если речь идёт о физической силе, которая также была важна для работы на буровой. Чтобы компенсировать этот аспект, женщине нужно понимать принцип работы приборов, уметь программировать и диагностировать возможные ошибки. Очень пригодилось и знание английского языка. Спустя два года и два повышения я нашла своё место, сопровождая бурение удалённо на нескольких скважинах и выполняя максимально возможный спектр задач из офиса. За советом и помощью ко мне как опытному специалисту обращались и обращаются коллеги любого пола и возраста.
На сегодняшний день опыт работы в нефтяной сфере перевалил за семь лет. Мне удалось покататься по удаленным уголкам нашей страны, удивиться и полюбить эти бескрайние просторы, привыкнуть к могущественным ветрам и морозам Сибири. В обычной жизни я уж точно не захотела бы посетить Уренгой или Нягань, отправиться за полярный круг или полететь на вертолете через бескрайние болота в глухую тайгу. Не перестаю радоваться предоставленной возможности увидеть эту красоту своими глазами. Увлечение походами из детства трансформировалось в путешествия за границу, а желание открывать новые страны, города и материки только усилилось. Вот так сбылась детская мечта. В реальности просто больше трудозатрат. Но это мой личный осознанный выбор.
Сложный вопрос статуса и восприятия женщин в профессиях, женщинам не свойственных, очень часто поднимается в моем мужском коллективе. Мнений масса, и если раньше мы бурно обсуждали женское предназначение в рабочем вагончике на буровой, то сегодня беседы ведутся уже в большом московском офисе. Несмотря на вполне комфортную рабочую локацию, офисный характер работы на текущей позиции, мнения у мужчин, в основном, сходятся к негативному отношению к женщинам-специалистам в сфере бурения. Далеко не все готовы воспринимать всерьез высококлассного специалиста с большим полевым опытом, знанием иностранных языков, амбициями, хорошими показателями, если этот специалист — особа женского пола. А ирония в том, что на текущий момент лишь небольшой процент моих коллег-мужчин имеют схожий опыт и подготовку. На заработок мужчин данные критерии влияют в меньшей степени, поэтому зарплаты у специалистов с меньшим опытом и более низкой квалификацией или на уровне моего, или выше. Несправедливость подобного рода — вовсе не особенность отрасли. Это, скорее, закономерность современности. Женщины зарабатывают меньше мужчин во всех сферах, согласно мировой статистике. Причин такого положения дел довольно много, а споры и рассуждение о гендерном равенстве — занятие бесконечное. Неоспорим тот факт, что специалистов-женщин во всех сферах становится всё больше, а эта статистика, в свою очередь, говорит нам о неизбежном равенстве и балансе в будущем.

Травелоги группы ЛЕФ. Как путешествовали и писали об этом Маяковский, Третьяков и Родченко
Участники группы ЛЕФ ставили всё с ног на голову. Левый фронт искусств постановил — миру нужно новое искусство — и явил миру новое искусство. Лефовцы начали писать — и ввели диктатуру факта, превратили прозу в кино, обрушили на читателя «интересные сами по себе» вещи. Такими же были их путевые заметки. В них Владимир Маяковский, Сергей Третьяков и Александр Родченко писали про утыканную кактусами мексиканскую ночь, небоскрёбы для провинциалов и американские горки на поездах.
Как писать?
Идейные очки и диктатура факта
Представители нового искусства писали о путешествиях по-новому. Во-первых, они наблюдали мир сквозь идейные очки. Оптику ЛЕФа определяла вера в государство будущего, которое в муках рождалось в Советской России, и их неверие в государства прошлого, которые могли сиять тысячей огней, но всё-таки были обречены. Лефовцы отмечали плюсы иностранной жизни, их поражала передовая архитектура, технический прогресс. На это стоило посмотреть, но Запад стар и тосклив, а советская страна кипит энергией. Нью-йоркским отелям и дворцам Маяковский предпочитал разрушенную московскую мостовую. Он сравнивал: «Вот мы — «отсталый», «варварский» народ. Мы только начинаем. Каждый новый трактор для нас — целое событие. Ещё одна молотилка — важное приобретение. Новая электростанция — чудо из чудес. За всем этим мы пока ещё приезжаем сюда. И все же — здесь скучно, а у нас весело; здесь все пахнет тленом, умирает, гниёт, а у нас вовсю бурлит жизнь, у нас будущее».
Во-вторых, лефовцы преклонялись перед фактами, они пытались создавать сверхдокументальную прозу — прозу-фотографию, прозу-хронику, фиксируя всё то, что видели. Этот принцип киноглаза Дзиги Вертова, только на бумаге. Осип Брик объяснял Третьякову, как писать о путешествии в Китай: «Ты в вагоне — кодачь каждый штрих и разговор. Ты на станции — всё отметь вплоть до афиш смытых дождем». Свой травелог Третьяков назвал путьфильмой. Маяковский тоже вырабатывал в себе «фактический» стиль: «В работе сознательно перевожу себя на газетчика».
В-третьих, они писали с юмором. Чего стоит описанное Третьяковым начало путешествия: «Звонок. Свисток. Скок на площадку. Оттуда остервенелые люди. Между вами — чемодан. Матербранка.
Наконец вы оборачиваетесь и машете, чем машете — неважно, ибо уже машете водокачке.
Не высовывайтесь глядя в свое прошлое.
Пройдите в купэ. Вы начали новую жизнь — товаро-пассажирскую».
Маяковский с иронией «переживал» отказ в латышской визе: «Я человек по существу весёлый. Благодаря таковому характеру я однажды побывал в Латвии и, описав её, должен был второй раз уже объезжать её морем».
Почему именно травелог?
Схватить читателя
Лефовцы писали травелоги для советских граждан, абсолютное большинство которых за границу не выезжало. Тем не менее Маяковский считал жанр популярным и многообещающим: «Езда хватает сегодняшнего читателя. Вместо выдуманных интересностей о скучных вещах, образов и метафор — вещи, интересные сами по себе».
Заметки о путешествиях издавались, тем более что у лефовцев был свой журнал. Путьфильма Третьякова «Москва — Пекин» была опубликована в ЛЕФе в 1923 году. В 1927 году «Новый ЛЕФ» опубликовал письма Родченко из Парижа домой (превращение личного жанра в публичный было ещё одним приёмом нового искусства). В 1926 году в Госиздате выходят путевые очерки Маяковского «Моё открытие Америки». Он выступает, делясь путевыми впечатлениями, его публикуют газеты.
Куда ехать?
Маршруты, встречи, «голова болит»
Проблема путешественников 20-х годов — получить разрешение не только на въезд, но и на выезд. Маяковский впервые покинул Советскую Россию как технический работник дипмиссии.
Поэт девять раз выезжал за границу. Чаще всего он ездил в Берлин и Париж, центры русской эмиграции. Поэта манили Северо-Американские Соединённые Штаты (САСШ, как они назывались тогда), страна заводов Форда и подпирающих звёзды небоскрёбов. Его маршрут в Америку скорректировал визовый вопрос — Маяковский не собирался ехать в Мексику, но только там, в конце концов, смог получить разрешение на въезд в Штаты, и то на границе его арестовали. Поэт мечтал объехать вокруг света, даже составил маршрут через Токио, Буэнос-Айрес и Константинополь, но это путешествие так и не осуществил. В 1929 году Маяковскому было отказано в выезде за границу.
Родченко выехал за границу единственный раз — работать. С марта по июнь 1925 года он занимался советским павильоном на Международной выставке в Париже (рекламные плакаты Родченко и Маяковского получили серебряную медаль). За границей лефовцы держались друг друга. Встретившись в Париже, Родченко и Маяковский как следует погуляли. 29 мая 1925 года Родченко пишет жене: «Володя приехал вчера, с ним бродил вечером и ночью по Парижу, сегодня не ходил на выставку, голова болит». А в письме от 31 мая просит не докладывать Лиле, что они с Маяковским пили.
Третьяков тоже поехал за границу работать. В Пекин его пригласил Китайский Национальный университет — преподавать русский язык. Он уже был в Китае. Гражданская война застала его на Дальнем Востоке. Когда Владивосток заняли японцы, Третьяков тайно перебрался в Китай в трюме парохода. Оттуда добрался до Читы, потом до Москвы.
При следующем въезде в Китай его досмотрели с пристрастием: «Меня тормошили недолго, но подозрительно. Вся заботливо сложенная требуха разворочена, как кишки ядром. Из-под белья извлекают книгу мою, стихи и долго вертят подозрительно».
На чем ехать?
На лучших океанских пароходах
Футуристы и лефовцы с особым пиететом относились к достижениям техники. У Маяковского аэродром Бурже вызывал «сверхлуврский интерес». Третьяков детально описывал, как движутся поезда. Родченко искренне расстраивался, что передовой транспорт будет служить легкомысленной публике. Ему было обидно, что «на лучших океанских пароходах, аэро и проч. будут и есть опять эти фокстроты, и пудры, и бесконечные биде».
В 1925 году Маяковский начал путешествие в Америку с перелёта Москва – Кёнигсберг. Это была первая международная пассажирская авиалиния в Советской России. Её обслуживал пятиместный Fokker F.III с открытой кабиной пилота и с толстыми крыльями, в которых возили контрабанду. По словам Маяковского, лётчик приседал на хвост и махал крыльями встречным самолётам, а в Кёнигсберге напугал всех, затормозив у самых дверей таможни. Машина, покорная человеку, — идеал Маяковского.
Третьяков делился самолётными впечатлениями в заметке «Сквозь непротёртые очки»: «У пассажиров бывает два невротических момента. Первый — желание выброситься. Мысленно переживается полёт, задых, кувырк и удар плашмя о землю в кровавый студень. Второе — страх перед только что подуманным».
До Мексики Маяковский добирался из Франции на пароходе Espagne, который шёл 18 дней. В «Открытии Америки» он перечисляет, из чего состоит пароход — «две трубы, одно кино, кафе-столовая, библиотека, концертный зал и газета», а ещё три класса. Поэт, щеголявший своей близостью к пролетариату, купил билет в первый.
В Соединённых Штатах Маяковского впечатляет огромное количество поездов, чистенькие электровозы, бесконечные железнодорожные линии, рельсы у самой воды или на высоте нескольких этажей, многоуровневые вокзалы.
Третьяков описывает движение поездов в Забайкалье, больше похожее на американские горки: «Средина ночи. Переваливаем Яблоновый хребет. Поезд буквально лезет на стену, задыхается. Слабосердные в вагонах тоже задыхаются. Перевал. Дальше спуск, что на салазках. Фьюуу — держи! Поезд катится так весело, что в нескольких местах устроен специальный тупик, взлетающий вверх. Если поезд у начала тупика не остановится и не докажет своей выдержки…, то он ворвется в тупик, вскатит на гору, а потом назад опять на гору, и так пока не остановится».
Он же говорит о поездной романтике, о том, чем можно себя развлечь — записки, шахматы, преферанс. Он же поёт «дифирамбы» проводникам: «Проводник вагону человек глубоко посторонний и меланхолик. Название станций он знает наизусть. Один из пассажиров, дачник, погнул себе язык, запоминая название станции, сообщенное ему проводником «актоеёзнает», умиляясь чисто-итальянскому скоплению гласных в этом полуазиатском имени».
Что смотреть?
Растопырить глаза
На города, а не на природу, потому что за городами будущее. Маяковский писал про случай в своём детстве: «После электричества совершенно бросил интересоваться природой». Океан казался ему скучным. Его манили горящие электричеством улицы, небоскрёбы, инженерные чудеса. Но Куба и Мексика поразили его ландшафтами и палитрой. В одной фразе о Гаване Маяковский использует сразу четыре цвета: «На фоне зелёного моря чёрный негр в белых штанах продает пунцовую рыбу». Описывая дорогу из Веракруса (куда причалил Espagne после остановки на Кубе) в Мехико на поезде, пишет: «В совершенно синей, ультрамариновой ночи чёрные тела пальм — совсем длинноволосые богемцы-художники».
В другом месте: «На фоне красного восхода, сами окраплённые красным, стояли кактусы. Одни кактусы. Огромными ушами в бородавках вслушивался нопаль, любимый деликатес ослов. Длинными кухонными ножами, начинающимися из одного места, вырастал могей. Его перегоняют в полупиво-полуводку — “пульке”, спаивая голодных индейцев. А за нопалем и могеем, в пять человеческих ростов, ещё какой-то сросшийся трубами, как орган консерватории, только тёмно-зелёный, в иголках и шишках». В мексиканской столице тоже безумная палитра: «Мехико-сити плоский и пестрый. Снаружи почти все домики — ящиками. Розовые, голубые, зелёные. Преобладающий цвет розовато-жёлтый, этаким морским песком на заре».
Нью-Йорк впечатлил поэта при первом знакомстве. И как Нью-Йорк обрушился на Маяковского, так Маяковский обрушивает его на читателя. «Больше, чем вывороченная природа Мексики поражает растениями и людьми, ошарашивает вас выплывающий из океана Нью-Йорк своей навороченной стройкой и техникой. Я въезжал в Нью-Йорк с суши, ткнулся лицом только в один вокзал, но хотя и был приучаем трёхдневным проездом по Техасу, глаза всё-таки растопырил». Это цивилизация после объявлений «В Мехико-сити без штанов вход воспрещается».
Поезда повсюду, на Бродвее столько света, что можно читать чужую газету на иностранном языке, кино и театры, магазины. Но когда первое впечатление проходит, Маяковский делает неутешительный вывод: Нью-Йорк — это город-показуха, созданный для втирания очков провинциалам.
Для Маяковского Нью-Йорк — нагромождение предметов, город без плана, город, где правит доллар и средневековая мораль. Ему нравились небоскрёбы — самые чудесные здания («Одни дома длиной до звёзд, другие — длиной до луны»), но его раздражают украшения небоскрёбов и особенно стиль бозар. Шум Нью-Йорка — неорганизованный, в нём не звучит мотив строительства нового мира (в отличие от СССР).
Что хорошего осталось от Америки после того, как Маяковский разочаровался в небоскрёбах? Чикаго, который не прячет свои фабрики и живёт без явного хвастовства. Завод Форда в Детройте — если отрешиться от рабочего вопроса. Бруклинский мост с его стальными канатами — именно сюда Маяковский отправился на первую прогулку со своей будущей возлюбленной Элли Джонс.
Мост через Ист-Ривер стал ещё одной любимой достопримечательностью поэта наравне с Эйфелевой башней, которую он в стихах приглашал в СССР и обещал «до солнц расчистить <её> сталь и медь». Мост, как и башня, поражал поэта, прежде всего, как огромная железная конструкция в воздухе. Маяковский посвящает им стихи.
Эйфелевой башне:
Не вам —
образцу машинного гения —
здесь
таять от аполлинеровских
вирш.
Для вас
не место — место гниения —
Париж проституток,
поэтов,
бирж.
Бруклинскому мосту:
Я горд
вот этой
стальною милей,
живьём в ней
мои видения встали —
борьба
за конструкции
вместо стилей,
расчёт суровый
гаек
и стали.
Жаль, что Маяковский не увидел ажурного моста ученика Эйфеля в Порту.
Про Париж Маяковский всегда писал разные вещи — он то ошеломляет его, то надоедает ему. Во французскую столицу он, конечно, ехал не для того, чтобы, как художники былых времен, приложиться к мощам искусства. В стихах говорил — «Парижская жизнь не про нас». Но всё-таки ездил. Поэту нужна была конфронтация, это было топливом для его искусства.
Родченко тоже недоволен Парижем, он пишет: «Париж из Москвы один, а в Париже он совсем другой». Художник профессиональным взглядом осматривал уличную рекламу, но она не произвела на него особого впечатления. Маяковский пошёл дальше — предлагал пустить электрическую рекламу по Нотр Даму и вставить лампочки в глаза химер.
Родченко посетил Лувр, ходил в кино и цирки, посещал шоу. Танцы полуголых женщин, которые пропагандировали культ женщины как вещи, ему не нравились. Художнику нравилось метро, где рабочие пели «Интернационал». Эйфелева башня ему тоже приглянулась — он мечтал жить рядом, чтобы не теряться во французской столице.
Родченко развенчивал понятие французского шика. «Шиковали» в Париже скорее соотечественницы: «Француженки очень мало красятся и не очень шикарно одеваются, многие совсем некрашеные. Это наши, приезжая, перефранцузят».
Как объясняться?
Айскримы и гачупины
Ни Маяковский, ни Родченко не знали иностранных языков. В Германии Маяковский мог как-то объясниться, во Франции ему помогала сестра Лили Брик — Эльза Триоле, в Америке — старый друг, поэт-футурист Давид Бурлюк. В очерке «Как я её рассмешил» поэт рассказывает, что в совершенстве он владел только одной фразой на английском — вы не могли бы налить ещё чаю? А вот Сергей Третьяков языки знал и даже занимался переводами (он был одним из первых переводчиков Брехта на русский).
Лефовцы, слыша иностранную речь и наблюдая незнакомые надписи, наполняли свои заметки стритами, этуалями, айскримами, корнерами, блё, тикетами, гачупинами, муви. Третьяков стал свидетелем забавной истории о смешении языков: «Пытаемся поужинать — разговор только по английски, да и то бой-лакей японец понимает его лишь в пределах названий блюд. Сидящий неподалеку тучный русский орёт бою — «хам». Вы думаете, он ругается? Нет, он требует ветчины».
Что есть?
(Кроме «хама»)
Родченко описывал свои французские трапезы: на завтрак в восемь утра он ел две булки с маслом и выпивал две чашки кофе, на второй завтрак в полдень ел зелень, бифштекс, сладкое и выпивал полбутылки вина, в шесть-семь обедал. Иногда попадался мерзкий суп. Из вин ему пришлось по душе «Шабли». В Париже он страдал от отсутствия чая и папирос без мундштука.
Маяковский стал гостем Диего Риверы на традиционном мексиканском обеде. «Сухие, пресные-пресные тяжелые лепёшки-блины. Рубленое скатанное мясо с массой муки и целым пожаром перца.
До обеда кокосовый орех, после — манго.
Запивается отдающей самогоном дешёвой водкой — коньяком-хабанерой».
В Америке было принято есть на бегу — день миллионов начинался с паршивого кофе и одинакового жирного бублика. Несмотря на сухой закон, выпить в Нью-Йорке можно было в любом заведении — начиная со второй комнаты. Маяковский, похоже, тоже посещал эти «тайные» коктейльные бары: «Джентльмена пропускают в соседнюю комнату — там с засученными рукавами уже орудуют несколько коктейльщиков, ежесекундно меняя приходящим содержимое, цвета и форму рюмок длиннейшей стойки».
А вот в Пекине после стихов Третьякова есть вряд ли бы захотелось: «Из язв харчевен тучный выпах гангреной пищи обложил»…
Куда идти на шопинг?
Шуба за доллар
В 1920-е годы Европа была дешёвой для советских граждан из-за высокого курса рубля. За один рубль давали примерно 10 франков. Германия с неконтролируемой инфляцией была раем для всех иностранцев. В Берлине Маяковский и Брики вели роскошную жизнь («как всё в Германии дёшево!»). Они жили в отеле Kurfurst в районе знаменитой Курфюрстендамм, которую в те годы называли Нэпским проспектом. В Берлине Лиля смогла купить шубу за сумму, равную одному доллару.
В 1924 году Маяковский пишет ей из Парижа: «Первый же день приезда посвятили твоим покупкам, заказали тебе чемоданчик — замечательный — и купили шляпы, вышлем, как только свиной чемодан будет готов. Духи послал; если дойдёт в целости, буду таковые высылать постепенно». Знаменитое «голое» платье Лили тоже было парижским подарком от «Володика». О себе Маяковский пишет, что «постепенно одевается», хотя и «без энтузиазма».
Но даже без энтузиазма Маяковскому удалось то, что некоторым не удаётся даже с энтузиазмом. На фотографиях он то в костюме, с тростью, в шляпе, то в кепке, то в канотье. Пролетарский поэт — икона стиля. Маяковский одевался в парижском магазине английских товаров Old England где покупал рубашки (в основном однотонные пастельных тонов: нежно розовые, песочные, голубые), галстуки, носки, пижамы. Там же он приобрёл резиновый складной таз для душа — единственная вещь, которая смогла рассмешить героиню очерка «Как я её рассмешил». Таз, как и мыло, следовали за поэтом повсюду — он маниакально боялся заразы.
Родченко тоже приоделся в Париже. Он докладывает жене: «За гроши, то есть за 80 рублей, я купил костюм, ботинки и всякую мелочь». Он покупает себе воротники, галстуки, фуфайки, подкладку под кожаное пальто, перчатки, жене планирует купить пояс, шляпу, туфли, чулки, пальто, папиросы на пробу. Также художник приобретал фото- и видеоаппараты. Матери в подарок вёз граммофон.
Родченко, теоретик и адепт прозодежды и критик общества потребления, возвращался в Москву — по его собственным словам — совсем западником: «одетый в 10 рубашек, три костюма и с чемоданом аппаратов».
Самая известная покупка Маяковского во Франции — Renault для Лили Брик. В октябре 1928 года он пишет, что пока нет нового договора, нет и денег: «На машины пока только облизываюсь — смотрел специально автосалон». Но поэт получает гонорар за пьесу «Клоп», советуется со своей парижской возлюбленной Татьяной Яковлевой и в ноябре покупает для Лили Renault NN за 20 тысяч франков. Снизу машина была светло-серой, сверху – чёрной. Предвосхищая пересуды, Маяковский пишет:
Ну что ж,
простите, пожалуйста,
что я
из Парижа
привёз Рено,
а не духи
и не галстук.
По дороге Москва — Пекин шоппинг был совсем другого рода: в Екатеринбурге продавались каменные мундштуки и кольца с аметистами и топазами, в районе Вятки — корзины. В Омске предлагали масло, на станции Буй поезда наполнялись бомбами сыра. Третьяков пишет: «Для человека, любящего покушать, — путь Москва — Чита это проход в верхних торговых рядах».
Доллары на территории Советской России в поездах не принимались. Третьяков рассказывает прямо-таки булгаковскую историю, только в роли нечистой силы у него выступал Совнарком: «Гораздо сложнее было положение немца и других иностранцев, когда в вагон-ресторане у них отказались принять американские доллары в уплату за обед и потребовали червонцев, которых у них не было. Я живо представил себе это ощущение — набит карман бумажками, лучшей в мире валютой, и вдруг, как под декретом Совнаркома эта валюта превращается просто в смешную пачку клозетных бумажек». Иностранцам приходилось ждать Манчжурии, где в буфетах принимали доллары и иены.
Сколько денег брать?
«При себе 637 долларов»
Сколько же денег везли лефовцы за границу? Об этом есть только обрывочные сведения. Маяковский явно не экономил на перемещениях. Перелёт Москва — Кёнигсберг стоил 100 долларов. На пароходе Espagne Маяковский путешествовал в первом классе, хотя и жаловался Лиле на цену билета. И в первом классе он поехал после того, как в Париже его обокрали.
Родченко пишет 10 июня 1925 года: «У Володьки несчастье. Вытащили из кармана все его деньги для Америки, 130 долларов, он теперь без копейки. Но ему одолжат в посольстве, мне он был тоже должен 280 фр., наверно, уже не отдаст». В другом месте говорится, что у него украли бумажник с 25 000 франков. Поэт обратился в Торгпредство СССР и получил аванс за собрание сочинений — 2 000 рублей.
Когда Маяковский въезжал в США, он заплатил залог 500 долларов. В разрешении на въезд говорилось, что границу пересекает художник, «имеющий при себе 637 долларов». По нынешнему курсу это больше 8 000.
* * *
Маяковский писал в блокноте из чёрной кожи, на скамейке в парке, улавливая звучание городов. Родченко писал в гостиничных номерах перед сном о том, как прошёл его день. Третьяков писал в крепком блокноте «формата печной заслонки», в поездах, почерком, который было невозможно разобрать. Совершили ли они революцию в травелоге? И да, и нет. С одной стороны, они перевернули традиционный взгляд на Нью-Йорк и Париж, называли их скоплением предметов, считали недоразумением без плана, из достопримечательностей признавали только Эйфелеву башню и Бруклинский мост. Лефовцы создавали прозу, в которой не было места полутонам. Они вводили новые темы, изобретали новые способы — по кадрам разложили путь из Москвы в Пекин — и новые слова. С другой стороны, они сами становились западниками, когда впервые видели Манхэттен, шикарно обедали или шли за покупками. В любом случае, лефовские травелоги — прекрасная альтернатива стандартным путеводителям, где всё предсказуемо, выглажено и неконфронтационно.
Иллюстрация: Владимир Маяковский в Нью-Йорке. МУзей Маяковского в Москве

Три истории назад
В комке глины и ржавчины удивительным образом опознали железную шкатулку Марфы Васильевны. Как она уцелела в доме, пустовавшем уже тридцать лет — непонятно. И не только уцелела, но и сохранила внутри себя три истории: камень, записку, письмо.
* * *
17 октября 1974 года в четыре часа пополудни его мотоцикл вспыхнул, и он сам моментально превратился в столп пламени, боли и крика. Все это произошло на глазах десятка его друзей, ни один из которых не кинулся помочь. Потом каждый будет клясться, что стоял на месте он не из-за ужаса, а будто кто крепко держал его за шиворот. Через семь минут стало тихо, но, когда они наконец бросились на помощь, помогать было уже некому.
Октябрь стоял сухой и теплый, светлая передышка перед ноябрьской слякотью и суровой зимой. Брат забрал меня из детского сада, и, пока мы шли домой, люди оборачивались нам вслед. Я пойму потом, что они уже знали, но мы тогда просто смеялись и пинали сухие осенние листья на дороге. В нашем доме разбили окно, из разлома вылетал страшный вой бабушки. Мы увидели ее внутри, вместе с милиционером АркадьПетровичем. Рядом валялись кирпич и мятый тетрадный лист со старательно выведенными словами: «одного уже и вас всех тоже». Было страшно. Бабушка плакала, милиционер молчал, и мой брат наконец не выдержал: «Да что случилось-то?» Бабушка замолчала, опомнилась, обняла нас: «Сереньку зарезали». На стене тикали часы, 18:20, семнадцатый день октября.
Шёл суд, но нам уже сказали, что все напрасно. Десять человек видели, как убийца всадил нож в нашего брата. Десять человек кинулись его оттаскивать, но смерть наступила мгновенно. Десять человек дали показания, полностью доказывающие его вину. Его семья продала корову, затем двух коз, отец съездил в соседний город, и из зала суда вышел невиновный преступник. Мир превратился в страх. Они все так же жили через пару домов от нас. Бабушка не выпускала меня из дома. Мы не верили, что Сережи больше нет, мама плакала каждую ночь, бабушка перестала улыбаться, а тот человек продолжал ходить по улице и кричать моим братьям и сёстрам страшные вещи.
К нам приходил батюшка Алексий, дядя Мирон для тех, кто не знал. Он наказал бабушке и мне молиться, и да воздастся всем за грехи их. Он наказал смириться, ибо в смирении — спасение. Тогда бабка взглянула на него и прошептала: «Гореть ему, батюшко, гореть ему адским пламенем заживо». «Да ты что, не греши, дитя он неразумное! Сколько ему там, шестнадцать? Бог его накажет, Марфа! Не бери на душу!» «Пусть пока дитя. Они теперь в восемнадцать во взрослых вырастают, вот в восемнадцать лет и сгорит пусть». Батюшка вздохнул, перекрестил нас, прочел молитву, спрятал крест и торопливо ушел. Мне же Бабушка сказала, чтобы я никому не рассказывала об этом разговоре. Но помнила.
Та страшная семья наконец переехала, прошёл год, жизнь немного вошла в колею. Я стала ходить в школу. После того разговора с бабушкой я успокоилась, надо было просто ждать. Весенним днём 1974 года нас снова заперли дома. Убийца стал совершеннолетним, они с друзьями весь день и всю ночь веселились, стреляли из отцовского ружья и поколотили немало прохожих. Однажды я увидела, как бабушка достала из своей железной шкатулки тетрадный листок. С того дня я ежедневно следила за бабушкой. Когда? Когда? Когда же?
Осенью мы поминали Серёжу, прошло ровно два года с того дня. Бабушка запретила нам плакать, надо вспоминать хорошими словами, чтобы ему там было хорошо. К нам пришли соседи, сели, вздыхая, за стол. Бабушка еще хлопотала на кухне, не садилась. Мама позвала, но та отмахнулась: «Рано еще садиться, погоди!» В двадцать минут пятого бабушка наконец села за стол, выпила не чокаясь. Мы вспоминали брата, когда по улице кто-то пробежал и крикнул, остановившись у нашей калитки: «Баб Марфа, убивец сгорел!» Все оцепенели, кроме бабушки. Она неторопливо разлила по рюмкам, чокнулась с моей кружкой и наконец улыбнулась.
* * *
Тюм***ая обл.
Аб****ий р-н.
Дер. Бер*****ва, ул. Зар***ая
Бел***ой Марфе Вас.
«14 марта 1944 г.
Здравствуй, дорогая мама!
Беспокоишься обо мне, верно, да не надо. Добрался хорошо, впустую ждали, что сразу отправят на фронт, дали пока ружья и отправили смазывать, а мне чего, я батино ружье чистил, когда еще ниже его был. Ты, помню, ругаешься, а он смеется да мне кивает: “Чисть, мужичок”.
Мама, Тоня придет к тебе, ты ее приветь, поговорите обо мне. Жить мы решили вместе, когда вернусь. Ты по-сь обо мне, чтобы вернулся.
Привет передавай всем, Коле, Ленуше, Матвейке. Бабушке спасибо скажи за носки и пояс, нет-нет, да и поддену, хоть и не по форме. Тоню встретишь — скажи обязательно, письмо ей скоро будет.
Твой сын, Арсений»
* * *
Ягоды уже отходили, во дворе оставалась только бордовая, с седым налетом малина. Рвать ее было запрещено: «На продажу снесу», — наказала бабушка. Нашу ягоду мы с ребятами сжевали еще зеленой, так и не дождавшись, и последний куст постоянно бередил меня.
Я слышала, что бабушка вошла в дом и загремела тазом, заводя тесто. Оглядываясь, аккуратно ступая, я пробралась к кусту. Вокруг было тихо-тихо, на свете остались я и малина. Крупная ягода висела прямо передо мной, я протянула к ней руку, задев лист, и вдруг прямо за ним увидела лицо бабушки! Она смотрела прямо на меня и, в отчаянии, что не заметила ее, я бросилась в избу. Взбежала по ступеням, вскочила внутрь и замерла. Бабушка с руками по локоть в муке невозмутимо посмотрела на меня и, улыбаясь, сладким голосом спросила: «Что, Марфуш, испугалась чего? Чего глядишь на меня сычом? Накуролесила чего?»
К бабушке ходили со всей деревни, она знала травки, шепотки и могла наговорить. Поп наш этого не одобрял, сулил Страшный суд, но бабушка помнила еще, как ходила к поповой матери крестить его, так что слова его всерьез не принимала.
Кроме наговоров бабушка лечила с помощью настоящего чуда: черного, удивительно тяжелого для своего размера, явно неземного камушка. Правда ли, нет, она говорила, что он упал с неба, а подобрала его еще бабка ее бабки. Камушек остро пах кровью и холодом, лежал в тайнике, и бабушка доставала его редко, а потом долго мыла руки, шепча молитвы. Я держала его в руке лишь однажды — бабушка увидела, заругалась, отняла, но с тех пор я вновь ждала возможности ощутить его тяжесть. Иногда бабушка со мной делилась своими «словами», а бывало ни с того ни с сего прогоняла меня домой, а по пути я встречала людей, которые шли к ней.
Бабушка знала все на свете, но так и не узнала, куда же пропал ее камень. Однажды ее позвали лечить в город, и вернулась она только через три дня. Изба была в порядке, как она ее и оставляла, и все же что-то толкнуло, рассказывала она тяте, проверить тайник. Камня там не было. Бабушка озлилась вначале, но потом плюнула: «Так, мол, тому и быть, хорошо хоть ненадолго Боженька дал».
Она умерла через пару лет. Убрала избу, надела чистое платье, будто чувствовала что-то. Поп говорил хоронить за оградой, как травницу, но люди застыдили его, настояли на упокоении в освященной земле. Люди шептались, открыла ли бабушка кому свои тайны и знания и кивали иногда в мою сторону.
Мне же в то лето шел двенадцатый или тринадцатый год. Заговоры и ворожба были интересны только для запугивания уличных мальчишек. Когда те дразнили меня — хмурила брови и начинала беззвучно двигать губами. Мальчишки разбегались, а их матери потом приходили к родителям жаловаться. Тятька смеялся и шутливо журил меня. Я была его любимицей, первой дочкой. К именинам он даже привез мне с мануфактуры, где работал зимой, дивную железную коробку. Вся разрисованная цветами и ягодами, а в центре, в вязи узоров красовалась надпись «I. Л. Дингъ. 1907». Сначала даже боязно было ее открывать, но тятька с улыбкой поторопил: «Открывай, Марфа, к дню ангела тебе». Ребята столпились вокруг меня, всем хотелось посмотреть. Внутри — разноцветные, чуть припорошенные инеем крохотные, круглые леденцы. Коробку я открывала редко, но конфеты все равно закончились. Только и оставалось, что водить наслюнявленным пальцем по уголкам, где еще оставалась белая пудра. Когда же и ее не стало, в коробку перекочевали мои тайные сокровища — стеклянные бусы да бумажная староверческая иконка, которую мать наказала никому не показывать.
И небесный камушек.

Вебинар Ирины Лукьяновой «Зачем учить детей писательскому мастерству?»
В феврале 2020 года Creative Writing School совместно с Ridero провели вебинар с писателем и преподавателем, автором литературной мастерской для подростков Ириной Лукьяновой «Зачем учить детей писательскому мастерству?».
Вместе обсудили, как у пишущих детей меняется взгляд на мир и на чтение.
Вебинар продолжил цикл онлайн-встреч «CWS Будильник» с мастерами Creative Writing School – писателями, филологами, журналистами. Онлайн-встречи помогут слушателям разбудить в себе внутреннего автора и сделают занятия творчеством регулярными.
CWS Будильник: не проспи вдохновение!

День России
Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
Всю предыдущую ночь я блевала. То ли из-за волнения, то ли из-за роллов «Филадельфия» со скидкой. Я договорилась встретиться с другом у метро «Чистые пруды» за пятнадцать минут до начала шествия. Взглянула сначала в зеркало, потом на часы и поняла — пора.
Солнце скрылось за облаками, как за выпуклой линзой лупы. Воздух был бледным. Я запрыгнула в полупустой автобус и обрадовалась работающему кондиционеру. Любимое место у окна в конце салона оказалось свободно. Мне нравилось сидеть там, потому что это кресло находилось выше остальных. Нравилось быть выше остальных. Физически и морально. С первым пунктом подкачали родители — во мне было сто шестьдесят сантиметров чистой тревоги. Со вторым в тот день не было проблем.
Я думала, что я лучше всех в этом автобусе, потому что ехала на свою первую в жизни политическую акцию, а они ехали в неизвестном мне направлении. Гордость распирала изнутри, как дрожжевое тесто. Я начала разглядывать людей с высоты своего трона.
Шумная компания пенсионерок сидела лицом друг к другу в начале салона, каждая широко расставила ноги, но исподнее прикрывали подолы выцветших платьев и высокая рассада, торчащая из потерявших товарный вид пластиковых пакетов. Они громко обсуждали рецепт мази от варикоза из последнего номера «Вестник ЗОЖ»: растопить на медленном огне свиной жир и добавить свежие измельченные цветки календулы.
Напротив сидел парень, словно сошедший с тайской рекламы средств по отбеливанию кожи. Тонкий и почти прозрачный. Из сахара. Если выйдет на улицу в ливень, обязательно растает. Он быстро стучал худыми длинными пальцами по экрану смартфона, слышались глухие удары по стеклу. Парень поднял на меня глаза, они были густо подведены черным. Мы улыбнулись друг другу, не меняя положение уголков губ.
На очередной остановке зашел мужчина и сел рядом со мной, хотя в автобусе было полно свободных мест. Я достала телефон, открыла браузер, ввела: «Почему люди садятся рядом в общественном транспорте». Вторая ссылка говорила, что к красивым подсаживаются в последнюю очередь. На мне была новая футболка из Uniqlo и любимые штаны со свопа, мужчина просто не разглядел. Я запомнила, что от него пахло солидолом, а в фаланги пальцев въелась грязь. Мужчина несколько раз шумно шмыгнул носом, будто старался втянуть в себя весь воздух вокруг, а потом достал из нагрудного кармана безупречно чистый платок и тихонько высморкался. Как много я не знала о людях тогда и не знаю до сих пор.
Потом мужчина вышел и его место заняла девочка-подросток. Я смотрела в окно, а девочка дотронулась ледяными пальцами до моего запястья. Я повернула голову и увидела, что она в хлам. Глаза стеклянные, но не пьяная, может, «скорость». Или мефедрон. Он был популярен в тот год. Девочка спросила у меня, сколько времени, а я сделала самое серьезное лицо из всех возможных и спросила в ответ: «Какая разница?». Она смотрела на меня еще секунд пять, ответила: «Ну да». И тоже начала разглядывать людей, изо всех сил жуя жвачку и качая ногой.
Автобус стоял на светофоре, когда водитель открыл дверь своей кабины и очень громко спросил:
— Не жарко?! Может, включить кондиционер посильнее?!
Он смотрел на нас в зеркало заднего вида. Там отражались его черные глаза, густые брови и белый воротник праздничной рубашки. Он действительно хотел, чтобы всем было хорошо и комфортно.
Все люди в автобусе, включая меня, дружно ответили: «Нет!». Водитель улыбнулся, захлопнул дверь, и мы поехали дальше.
Статья 17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.
— Уважаемые граждане, расходитесь! Ваша акция не согласована. Вы мешаете проходу других граждан. Уважаемые граждане, расходитесь! Ваша акция не согласована. Вы мешаете проходу других граждан.
Я стояла у выхода из метро «Чистые пруды» и оглядывалась по сторонам. Людей становилось больше с каждой минутой. Достала телефон, написала другу «Ты где?» и снова убрала в сумку. Я думала, меня могут задержать. Хотела сохранить заряд батареи: написать в правозащитную организацию, выложить селфи.
Все вокруг были группами, редко парами: оппозиционные активисты, журналисты, потомственные московские интеллигенты. Люди, которых я хотела видеть своими друзьями и коллегами, но которые в упор не видели меня. В тот год я была в самом начале своей карьеры, делала интервью с создателями фотоателье, фитодизайнерами и сыроварами. Был еще один мясник, которого я возненавидела после того, как согласилась прислать ему текст на согласование. Он вносил правки и параллельно жрал мой мозг чайной ложкой, а я вежливо и обтекаемо соглашалась, боясь спровоцировать скандал.
Я мечтала делать политические расследования, писать репортажи из утопающего в песке села Шойна или на худой конец освещать протестное шествие в тот день. Я знала, что с пресс-картой чувствовала бы себя в сто раз увереннее, проходя мимо вереницы сине-белых пазиков. Их окна были завешаны плотными шторами, но в промежутках ткани через стекло проглядывались розовощекие лица росгвардейцев.
Хотелось курить, но было страшно привлекать внимание. В трех шагах от меня стоял парень в полицейской форме. На его запястье были объемные бордовые G-Shock, подруга в том году покупала похожие ее младшему брату в честь окончания школы. В той же руке полицейский сжимал пластиковую бутылку «Пепси», газировка была едва начата, но этикетка уже заметно поистерлась в его вспотевшей ладони. Волнуется. Наверное, сегодня для него это тоже в первый раз. На его плече зашипела рация: «Задерживать всех в непонятных футболках, задерживать всех в непонятных футболках». К стоящей вдоль тротуара толпе людей резко подъехал автозак. Из него вышли мужчины в бронежилетах и аккуратных беретах. Они взяли под локоть женщину с длинными жесткими волосами, убранными в пушистый хвост, на вид ей было лет пятьдесят, и о ее взгляд было легко споткнуться. На ее футболке было написано «Сегодня он, завтра — мы». Вполне понятно.
Над площадью пронесся гул. Толпа зашевелилась, направилась в сторону Лубянки, но улицу перегородила цепочка крепких молодых парней в серо-голубой пятнистой форме. Они стояли, широко раздвинув ноги, и старались смотреть сквозь нас. Я была с людьми, но совершенно одна. Это пугало и нравилось одновременно, казалось, можно слиться с толпой и чувствовать себя в безопасности. Я проверила сообщения на телефоне. Друг написал: «Все перекрыто, я ушел в сторону Сретенского бульвара, догоняй».
Я свернула в переулок, подчиняясь течению людей. Над головой заиграли колокола Сретения Владимирской Иконы Божией Матери. За спиной послышался шорох шин очередного автозака. Старый автобус со скрипом остановился, распахнул двери, и под каждый удар колокола из него, как из порванного пакета с семечками, сыпались росгвардейцы. Они хватали рандомных людей и заталкивали в пазик вместо себя. Я ускорила шаг.
Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова
Миновав узкий переулок, я почувствовала себя спокойнее. Люди вокруг тоже словно выбрались из подземелья. Из-за облаков выглянуло солнце, толпа шла вниз по Бульварному кольцу, с разных сторон доносились музыка и смех. Я решила записать сторис, все-таки сегодня День России, пусть друзья из других городов и стран знают, как отмечают такие праздники в Москве. Я достала телефон, открыла камеру в Instagram, подняла руки повыше и повернулась на 360 градусов. В кадр попало много полицейской техники, осталось только написать что-то вроде «С праздником, страна!» Готово.
Спустя минуту я услышала сигнал сообщения. Нажала на красную цифру «один». Это было сообщение не от друга:
«Я надеюсь, ты просто проходила мимо?»
Я выдохнула и решила ответить честно:
«Нет».
«Очень плохо. Значит, тебе важнее хайп, чем мое здоровье».
На здоровье мама прежде никогда не жаловалась. Да и вообще никогда не жаловалась. Это было не в ее стиле. Но я все равно косвенно заботилась о маминых нервных клетках и скрывала неугодные взору публикации в социальных сетях. В тот день мама отдыхала на даче, обычно там был плохой уровень сигнала.
«Это шантаж?» — спросила я в ответ.
«За что борется толпа не из Москвы? Что вам за это обещали, что вы так жопу рвете?»
Мама жила в параллельном инфополе. В мире ее Facebook-публикаций протестующие приезжали на митинги вагонами из соседних областей, кидали взрывпакеты в мирно стоящий ОМОН и уставшие, но довольные, возвращались в условную Тулу на последней электричке с заработком в кармане.
«Денег, конечно, по 500 рублей каждому», — написала я.
«Цинизм тебе не идет и не со мной, пожалуйста».
«То есть, тебе можно мной манипулировать, а мне тебе слова не скажи?»
«Я просто хочу понять, чего ты хочешь. Осчастливить весь мир? А на то, что твой родной человек из-за этого несчастлив, тебе плевать».
Я почувствовала жар в затылке от беспомощности и обиды.
«Ну, класс. Ты давишь на меня тем, что тебе плохо из-за моих действий и ты несчастлива, а меня ты спросила, что делает меня счастливой?» — Я перебирала пальцами очень быстро.
«Я не давлю, я пытаюсь понять чего ты хочешь от этой жизни».
«Хочу жить в свое удовольствие. Мне нравится выражать свою точку зрения, оказывать поддержку. Я считаю, это хорошее дело и мне от этого тоже хорошо».
«То есть, ты фигней маешься, пишешь эти посты, участвуешь в сходках только ради своего удовольствия?»
«Не только, но и в том числе, разумеется, а ты сейчас обесценила весь мой труд, назвав его “фигней”».
«А ты мой. Причем труд всей моей жизни за несколько минут. Взяла и в унитаз слила».
«Мне очень приятно, что ты так считаешь. Что я еще могу сказать. Прости, что так разочаровала».
Я убрала телефон в сумку, вытерла глаза и увидела, что толпа привела меня к Центральному рынку. В тот год во всех дальнейших разговорах с матерью фигурировала только тема здоровья.
Статья 31
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
У входа на рынок толпа людей оказалась окружена ОМОНом. Начались задержания. Я увидела своего друга, он стоял рядом с политиком Н. Докричаться до него я не могла, поэтому быстро полезла за телефоном. Хотела написать, чтоб друг отошел от Н., иначе заберут обоих. Пока я копалась в сумке, Н. увели в автозак. Мне удалось подобраться ближе к другу, он стоял на лестнице, я дернула его за штанину.
Я думала, что почувствую облегчение, оказавшись рядом со знакомым человеком. Но мой друг в тот день представлял собой классическую мишень полиции: тотал блэк, надпись «No fear» на футболке, модные кроссовки. Презрение к власти в каждом жесте.
Мы хотели выглядеть смелыми друг перед другом, но неловко жались к стеклянным крутящимся входным дверям рынка. Я то и дело забегала внутрь с серьезным лицом — проверить обстановку. Проверять, конечно, было нечего, но эта дверь была словно портал в другой мир: без злобы, насилия, страха. Люди внутри рынка не знали о том, что происходит снаружи. Они приехали провести выходной с друзьями, семьей и бокалом игристого. Люди снаружи приехали провести выходной в борьбе за свои права. Мне был близок каждый из них.
На улице кричали. Кто-то от ужаса, кто-то от боли. ОМОН уже не сдерживал себя. В огромных шлемах они действительно были похожи на космонавтов. Омоновцы выстраивались в ряд, клали руку на плечо впереди стоящего человека и цепочкой врывались в толпу протестующих, разрезая ее. Это напоминало игру в змейку на старой «Нокии». Только здесь у змейки не было ограничений. Она могла сожрать ровно столько, сколько хотела сожрать.
Дубинки активно шли в ход. Я подумала, что если попаду в лапы космонавтов, то стану цифрой в статистике «ОВД-инфо». Проведу весь день в участке, а кроме бойфренда никто не заметит.
— Смотри, столик освободился, давай сядем типа мы просто гости ресторана? — сказала я другу, показав на уличную веранду рынка.
Он согласился. Мы заняли плетеные стулья и приняли самый непринужденный вид из всех возможных. Романтичная пара отмечает День России. Настоящие посетители рынка оставили нам в наследство два недопитых «Апероля Спритц», где лед уже практически превратился в воду. Я взяла запотевший бокал в руку и вспомнила молодого полицейского, который крепко сжимал бутылку с «Пепси» у метро «Чистые пруды». Вокруг продолжали винтить людей. В метре от меня омоновец уложил парня лицом в асфальт. Я отвернулась, чтобы не смотреть им в глаза.

Одын, два, тии, четыле
Я лежу в детской кроватке, хотя давно из нее выросла. Ноги, колени, локти — все упирается в бортики. Рука, на которой лежит голова старшего сына, занемела. Я читаю молитву. Двадцать шестой раз. Говорят, нужно сорок каждый день, чтобы помогло. Я согласна и пятьдесят — лишь бы услышать наконец: «Мама, я тебя люблю». Или хотя бы просто — Мама. Но глаза слипаются, язык заплетается. На часах почти два ночи, а вставать мне в пять утра — проснется младший просить свою порцию молока и внимания. «Потерпи! — уговариваю себя. — Еще немного». Слова молитвы вылетают на автомате. Я вообще многое делаю словно робот. Машина, заточенная под уход, кормление и бесконечные занятия. Никаких лишних улыбок, никаких отвлеченных хотелок.
Глажу лоб старшего сына. Откидываю его светлые волосики. Прислушиваюсь к рваному дыханию. Опять что-то плохое снится. Дую на лоб: я не знаю других способов развеять кошмары. Мои никто не прогоняет, поэтому под утро я частенько вскакиваю с криком. Мне снится будущее в коррекционной школе и испорченная жизнь сына. Мной испорченная.
Я разобрала по минутам всю его жизнь, все три года и два месяца, препарировала каждое свое движение — где же я ошиблась. Почему медкнижка моего долгожданного первенца пополняется страшными аббревиатурами: ЗПРР, МА, ММД. Я не хочу знать их расшифровки. Никаких задержек психоречевого развития, моторных алалий, минимально-мозговых дисфункций. Хочу просто обычного сына. «У мальчика явное отставание в развитии. Слышала, вы хотите перейти в группу по возрасту. Вы уверены? Он цвета-то хоть знает?» — вновь и вновь цедит в моей голове воспитатель, вышедшая на замену и видевшая сына лишь однажды. И мне не доказать ей, что в свои три года он знает, конечно, знает цвета, даже сиреневый и бордовый, животных от гепарда до тапира, все-все буквы и цифры до десяти. Просто молчит и не особо стремится общаться с окружающими.
«Он у вас немой или глухой?» — еще одна фраза, которую хочется забыть. Выскрести из себя, закупорить в Омут памяти и никогда, никогда его не открывать — словно ящик Пандоры. Но, увы, эти слова вновь и вновь скользят ядовитой змеей по каждой клеточке мозга. Обвиняют, жалят, укоряют. «А мой в два стихи рассказывал. А ваш чего молчит? Пора бы уж!» — вещает очередной папа на площадке. Почему-то мужчины всегда наглее в своем «а мой-то». Врожденная вежливость не позволяет мне выругаться и отправить заниматься своими делами. Я только шепчу: «Пока не знаем». И ухожу, покидаю это поле боя.
— Не надо! — вскрикивает во сне сын. И я, изо всех сил борясь с дремотой, покачиваю его: «Тсссс, все хорошо, маленький». Во сне, видимо, его ведут к очередному врачу. «Не надо!» — кричит он, завидев белый халат. Это самое четкое, что мы от него слышим. Дай, не надо, скажи и папа — вот и весь его арсенал. Наиболее оптимистичные смеются, что этого вполне хватит для жизни. Во мне оптимизма — ноль, а любое загаданное желание звучит как: «Пусть он скажет: Мама, я люблю тебя». Разве много прошу?
Младший кряхтит во сне. Муж, не открывая глаз, покачивает, поглаживает его. А меня в очередной раз охватывает стыд. Я обещала не отдавать предпочтение ни одному из сыновей, но из раза в раз выбираю старшего. Начиная с родов.
Я знаю — врачи всегда в первую очередь спасают мать, но в первых родах из меня вылетало: «Если что, спасайте его, не надо меня». Со вторым мысли бились совсем другие: «Меня. Вы должны спасти меня. Меня ждут дома. Я не могу своего сына оставить одного в этом мире. Я нужна ему».
Смотрю на кроватку с младшим. И тихим-тихим шепотом:
— Малыш, тебе всего месяц. Я подарю тебе еще много любви. Только потерпи. Ты такой молодец.
Молодец и мой спаситель. Двадцать часов в сутки его не видно и не слышно. Он только и делает, что спит. Оставшиеся четыре часа я дарю ему столько тепла и молока, сколько могу. Впрочем, думая о старшем. Об очередных занятиях, логопедических методиках, которые должны вытянуть из него звуки и слова. Закрываю глаза и вижу, будто удочкой вытягиваю из его горла Аааа, Оооо, Ууууу. Но только в моем воображении. На деле — тишина.
Глажу сына по лицу, наблюдаю, как подрагивают длинные реснички. Видеть его веки мне даже приятнее, чем открытые, смотрящие куда угодно, но только не на меня, глаза. «Посмотри в мои глазки!» — уговариваю я его днем. Он кивает и смотрит… Раз, два… Отводит взгляд. Если считать очень быстро, можно досчитать до трех. Если повезет, то даже начать говорить четыре. Но это слишком длинное слово, и взгляд обрывается уже на: «Че…». Прерывистый взгляд — один из признаков аутизма. Нынче я вижу его в каждом движении, в каждой аккуратно выстроенной в ряд машинке. Не игра, как считают многие, а опасное рядкование. И голоса врачей: «Нет, это не аутизм» — звучат неубедительно. Тех же врачей, что в два с половиной на мои переживания говорили: «Что вы хотите — мальчик, северный ребенок…». И в три: «Где же вы были раньше? Разве не видели». Извините, я вам больше не верю.
В сон я так и проваливаюсь возле старшего, скрючившись, словно младенец. С мыслями, что мне, взрослой девочке, очень нужна сейчас мама. Не за тысячи километров, а прямо здесь и прямо сейчас. У нее уже взят билет, и через месяц она будет баюкать меня в объятиях. Главное — продержаться и не сойти с ума.
Просыпаюсь. От первого же движения морщусь: тело затекло. Все-таки детская кровать не место для взрослых. Но так спокойней. Мне. Двигаюсь медленно, чтобы не разбудить старшего. Двигаюсь быстро, чтобы успеть к плачущему младшему, прежде чем его легкое хныканье перейдет в слышимый соседями рев. В очередной раз раздваиваюсь в этой необходимости угодить всем.
— Иду, иду. — Плач становится громче, но мгновенно прерывается, стоит крошечному носику учуять меня и молоко. Хотя, наверное, в его мозгу это общий запах. Молочная мама. Почти молочный поросенок, поданный семье на обед. Разбирайте на кусочки и требовательно тяните руки: «Еще. Еще».
Чтобы не уснуть, беру телефон, с вечера оставленный на тумбе. Уменьшаю яркость экрана до минимума. От этого болят глаза, зато не разбужу никого. Шесть утра. На экране мобильного высвечиваются непрочитанные сообщения. Их немного. Видео от подруги с подписью: «Учимся читать». Ее дочь старше моего всего на полгода. А что могу противопоставить я? Учимся говорить? Тру глаза с набегающими слезами от чувства собственной ущербности. Даже родить здорового ребенка не смогла. Видео не смотрю, но улыбающийся смайл с поднятым вверх пальцем отправляю. А вот следующее — не переживай, все будет хорошо, просто говори с ним больше — оставляю без ответа. Больше говори, больше читай, больше играй… «Какие у вас игрушки есть дома? — ехидно спрашивала меня невролог на последнем приеме. — Так в них же еще и играть надо!». А я и не знала. Для красоты купили. Жаль, что колкие ответы я придумываю лишь спустя несколько дней.
Младший отваливается от груди, как сытая пиявка. Теперь проспит до девяти, а то и до десяти. Но старший поднимется через час, так что спать уже нет смысла.
Сообщение от лучшей подруги открываю с опаской. Вчера, не сдержавшись, завалила ее своими страхами об испорченном будущем сына. Плакала через буквы, что нет ни сил, ни веры. И лучше бы я замолчала, а он говорил. А ее ответ малодушно читать не стала. И вот теперь открываю.
«Мать, ты же понимаешь, что у тебя депрессия. Ты записалась к психологу, что я тебе скинула? Ты никому не поможешь, если будешь продолжать в том же духе. Волнуюсь за тебя».
К психологу я и впрямь записалась. Онлайн. Куда я пойду с двумя детьми? Но смысла в этом особого не вижу. Чем он мне поможет? Научит ребенка за меня говорить? Да и стоимость консультации — две тысячи. Это два занятия у логопеда. Или прием у хорошего невролога. Или восемь книжек с заданиями… И лишь треть от цены лекарств, прописанных сыну. Говорят, если оформить инвалидность, то будут что-то платить. Но мы вроде пока тянем. «Будем тратить сколько нужно, не волнуйся!» — говорит муж, а сам сжимает зубы, когда я озвучиваю цену недели в реабилитационном центре — почти сотня. Тысяч. К счастью, рублей. Я уже отправила запрос на точную сумму. И записалась попутно к нескольким профессорам в Питере. В нашем мини-городе на Крайнем Севере мы обошли уже всех врачей, отвергающих лечение и диагнозы друг друга. Надо двигаться дальше. Страшно, конечно, тащить с собой двухмесячного ребенка: двое суток на поезде, самолеты зимой от нас не летают — погодные условия не позволяют. Но и упускать время больше нельзя.
Бездумно листаю ленту в соцсетях. Просматриваю фото улыбок, путешествий и достижений чужих детей. Думаю, сколько в них процентов честности, а сколько притворства. Пересчитываю лайки под своим вчерашним постом: улыбающаяся я, прижавшийся старший и прячущий лицо на моей груди младший. Фальшивое: «Мы счастливы».
Поднимаюсь с кровати, смотрю в окно на медленно поднимающееся солнце. Говорят, самая темная ночь перед рассветом. Только у нас, видимо, бесконечная полярная ночь. Север же.
Допиваю вторую чашку чая, когда слышу, как по полу шлепают босые ноги и сын что-то лопочет в поисках меня. Хочется спрятаться. Пусть ищет — вдруг, не найдя, как закричит: «Мама». Делайте вид, что не понимаете его — уговаривают нас окружающие. Польза от этого совета только одна: сын научился самостоятельно наливать себе молоко и отрезать хлеб. С тех пор муж ножи не точит — боится за сына, а может, за меня. Слишком уж беспокойно на меня поглядывает, когда я на пару секунд выпадаю из реальности с ножом в руках.
Кормлю сына манной кашей. Говорят, она не полезна, но он ее любит.
— Каша, манная. Ее делают из пшеницы. Дуй, если горячо. Да, вот так, еще подуй. Кушай. — Я похожа на ходячий справочник, озвучивающий все свои действия. Тарелка пластиковая, красная. Футболка хлопковая, голубая. Ложка металлическая, серая. «Озвучивайте все, что делаете — и ваш ребенок заговорит в полтора года», — советуют в книгах о материнстве. Интересно, у их авторов есть дети? Больше одного, идеального? Или только я бесполезна в роли птицы-говоруна?
— Молодец, теперь бери полотенце. Вытирайся. Да, вот так. Будешь еще что-то? — Мотание головой в ответ и тихое, словно мяуканье полудохлого котенка, «неаааа». Хоть что-то. «Да» от него не услышишь, только резкий кивок.
— Тогда пойдем умываться. Открываем кран, включаем воду. Нет, слишком горячо, сейчас сделаю теплую. Смешиваем горячую и холодную воду, и получается… — пауза, — правильно, теплая.
Иногда мне кажется, что я уже сошла с ума и никаких детей у меня нет. Я просто зачем-то говорю вслух. Недавно поймала себя на том, что в магазине начала объяснять, что нам надо купить, продуктовой тележке. Не очень громко, но женщина, стоящая рядом, как-то слишком быстро отошла от меня.
Начинается стандартный день бесконечных занятий. Логомассаж языка и щек. Лекарства. Разбрасывание круп по кухне — развитие мелкой моторики. Я говорю. Он молчит. Потом тычет во все предметы: «Скажи». И я в сотый раз повторяю: холодильник, трактор, кошка, папа, микроволновка, экскаватор, корова… И так до боли в горле. Достаю очередную книжку, которая должна развить ребенка, но пока только натирает мозоль на моем языке.
— Ну, получше, конечно. Да-да, разговорится, — слышится из комнаты. Муж говорит со своей мамой. Как всегда, якобы оптимистичный. А может, и правда верит, что все будет хорошо. В конце концов, это я по ночам сначала долго отхлопываю слова для лучшего запоминания, читаю сказки и пою колыбельные, пока горло не захрипит. Массирую каждую мышцу. Молюсь. А потом рыдаю до захлебывания. Впрочем, муж зарабатывает деньги, любит сыновей до безумия и обнимает меня, когда мне это нужно. И я точно сойду с ума, если в лучшее перестанет верить и он.
— Я вчера слышал, как он сказал — один. Непонятно, конечно, но все-таки, — продолжает муж, а мне хочется чем-нибудь в него кинуть. Если бы. Вечно ему что-то слышится в бессвязном лепете.
Открываю книжку. На странице с цифрами. Наверно, чтобы потом ехидно сказать: «Ага, как же, слышал ты».
— Одын. — Слышу и замираю.
— Два. — Растерянно смотрю на сына, тычущего в цифры.
— Тиии. — Чувствую, что текут слезы. Отворачиваюсь — сын нервничает, когда я плачу. А за спиной звучит:
— Четыле. Пят. Шесь…
Пауза. И завершающим выстрелом:
— Сем!
— Макс! — кричу. — Он считает! Он вслух считает!
Тут же замолкаю. Не спугнуть бы. Вдруг это случайность, которая больше не повторится. Но сын опять повторяет: «Одын, два, тиии…». Муж приходит на слове «четыле». Я утыкаюсь в него и трясусь всем телом, не в силах сдержать рыдание. И тут звучит какое-то жалобное: «Ма-ма».
— Он ска-ка-ка… Зал. — Я заикаюсь от нервного перенапряжения. Понимая, сколько работы впереди. И все же — главный шаг мы сделали. Пусть пока и «одын».

