Апрель 2021
Кроваво-алый
Лучший в мире костюм
Родившись по любви
Синефил
Смотри и ешь
Впервые за тридцать лет
Износ основного фонда
Илия
Исповедуйся мне, Шницель
Когда загорится красный
Красный мальчик
Круг
Люда. Пейзаж одной души
Мальчик, которому надоели горы
Мартьян
Не свои
Оборотная сторона
Осциллограф
Под водой
Пока не поздно
Пока, мама, скоро увидимся
Преображение
Родня с небес
Свобода
Спасение
Тригонометрия
Трое в лодке
Уроки итальянского
Шалопаи

Аудиовизуальный перевод: черный юмор, мат и неверные скрипты
С 21 июня по 2 июля в Летних мастерских Creative Writing School впервые пройдет курс «Аудиовизуальный перевод: как переводить фильмы, сериалы и Youtube» Надежды Гайдаш и Анны Савиных.
В чем специфика такого перевода, с какими проблемами сталкиваются и новички, и профессионалы, и почему такая работа может быть интересной, мы решили выяснить непосредственно у мастеров.
Расскажите о первом фильме или ролике, который вы перевели? Что для вас стало самым сложным в этой работе?
Надежда Гайдаш: Я люблю Люси. Точнее, «Я люблю Люси» — черно-белый американский сериал с блистательной комедийной актрисой Люсиль Болл в главной роли. Мне вручили кассету с серией (да, это было в прошлом веке), распечатку скрипта и отправили домой с наказом: «Проговаривай!» Скрипт на поверку оказался сценарием, который совпадал с реальностью в лучшем случае на 70 процентов. Проговорив все три раза с пылом религиозного фанатика, я привезла на студию распечатку перевода (в трех экземплярах, скрепками, обязательно с пронумерованными страницами) и принялась мониторить поздние эфиры телеканала СТС. А на студии мне тем временем дали еще работы — значит, всех все устроило. Сложнее было получить адекватную отдачу — студия все-таки не образовательное заведение, учить было не их делом, а кто пытался, делал это не всегда удачно.
В конце концов я даже посмотрела эту свою серию через пару месяцев: это был классический бюджетный закадр с четырьмя актерами в одной студии, который пишется на скорость, по несколько серий за одну сессию. Разумеется, за три «проговора» этой несчастной серии у меня в голове сложилась идея озвучки вплоть до последней интонации, и, разумеется, она не совпала с итоговым результатом. После этого я много лет не смотрела собственные переводы, и зря — можно многому научиться, сверяя свой текст с режиссерскими правками.
Зато у меня нет проблем с переводом на слух — во многом я этим обязана именно плохим скриптам «Я люблю Люси» и многих других старых сериалов. Впрочем, я все-таки не очень люблю эту самую Люси.
Анна Савиных: Если мы говорим именно о переводе, то это был сериал, который в русской озвучке называется «На дне», а оригинальное название — «Eastbound & Down» — спортивный термин. Это комедия о бывшей бейсбольной звезде, который приезжает в свой родной город на юге и там пытается вернуть былое величие. Это злая комедия, не очень знаменитая, но я в нее совершенно влюбилась! Там такой чудесный противный главный герой! Он устраивается физруком в школу и не затыкаясь рассказывает о своих прежних подвигах. Вызовом для переводчика здесь стали спортивные термины и вся сниженная разговорная лексика. Не знаю, как я со своим тогда небольшим опытом с этим справилась, потому что художественно все это перевести — одно, а вот запихнуть в тайм-код — совершенно другое!

Как вы работаете с понятиями, которых нет в русском языке? В тексте можно поставить сноску, а что делать с фильмом?
Анна Савиных: Тут вариантов несколько, и все неидеальные. Во-первых, попытаться объяснить это в тексте. Не во всех случаях это можно сделать, потому что покажется странным, если, к примеру, персонаж, всю жизнь играющий в бейсбол, начнет объяснять базовые понятия. Во-вторых, обойти сложное слово, заменить более общим термином или вообще назвать «этой штукой». Третий вариант — дать кальку. Пусть будет умное непонятное слово, оно сработает на колорит. Ну например, «touchdown»: часть зрителей не поймет, что это такое, часть зрителей не заметит ничего странного. Но я подчеркиваю, что все это не идеальный выход из положения.
Приходится ли переводчику думать об артикуляции и смысловых паузах героев?
Надежда Гайдаш: Это зависит от типа перевода. Если вы делаете субтитры — вам до этих пауз как до фонаря. Про аудиодескрипцию я даже не скажу — это для меня очень новая тема, но, скорее всего, нет. В закадре артикуляционная синхронность роли не играет, а вот паузы важны. В липсинке не отвертеться — вы попали на соблюдение всех артикуляционных особенностей оригинала, как минимум, если рот говорящего видно на экране.
Насколько сильно отличается специфика вашей работы от работы литературного переводчика?
Надежда Гайдаш: В определенном смысле так же, как и перевод поэзии отличается от прозы. Чтобы фильм озвучили именно так, как вы перевели, нужно соблюсти массу формальных требований. Иначе вы сделали просто подстрочник, и специальному человеку — укладчику — придется доводить его до ума. Но чаще всего этот специальный человек в бюджет не заложен. Предполагается, что переводчик создает текст, готовый к записи.
В организационном смысле АВП в гораздо большей степени конвейер, чем литературный перевод. Обычно это жесткие дедлайны, не вписавшись в которые, вы в лучшем случае подводите несколько человек, которые ради вас собрались у микрофона, а в худшем — сорвете давно запланированный и анонсированный эфир.
Анна Савиных: Чаще приходится жертвовать смыслом, потому что у нас есть «надсмотрщики»: темп, ритм и хронометраж. Переводчик не имеет права отставать от картинки. А еще у нас есть цензура во главе с Роскомнадзором. Но тут очень много зависит от заказчика. Если работать на федеральные каналы и твою продукцию будут показывать по телевизору, то ты не должен использовать ничего грубого. Если вы делаете детскую передачу или детский мультик, то там довольно часто абсурдные требования. Самый мягкий вариант цензуры — это тот, с которым работаю я. Нам запрещены четыре матерных корня и слово «манда».
С другой стороны, сериалы — это такая вещь, где все всё время матерятся. И частенько приходится ломать голову над тем, как это передать, не хочется же все сглаживать! Нелепо заставлять героев все время чертыхаться. Одному из знакомых переводчиков все время достаются сериалы с перестрелками, где кроме мата иногда бывают только предлоги. Вот он выкручивается как может. Мой любимый оборот в его переводах, которым он заменяет матерщину: «хлебать мой суп». В английском языке есть слово «fucking», которое может использоваться в любом контексте и заменить любую часть речи, его у нас везде заменяют «долбаным», это, конечно, тоже печально.
Что-то меня понесло на матерщину, это, конечно, не единственное отличие. Кстати, в художественной литературе есть смежные с аудиовизуальным переводом жанры. Так, некоторым образом на него похожи драматургия и комиксы.

В литературном переводе часто встречаются казусы, связанные с некачественной работой, когда выходят второе и третье издание с улучшенным или полностью измененным переводом. Есть ли такая проблема (и возможность что-то поменять) в аудиовизуальном переводе?
Надежда Гайдаш: До записи — сколько угодно. После записи текст не ваш, и не вам его менять.
Дело в том, что целевая аудитория АВП — это не зрители. Целевая аудитория аудиовизуального переводчика — режиссер дубляжа. Именно он создает на основе вашего текста и оригинальной картинки цельное локализованное произведение. Именно он зарежет фразу, над которой вы два дня думали, потому что ну все равно не легла. Именно он позволит себе такие ломаные и рубленые фразы, которые вам и не снились — потому что у него актеры это сыграют так, что никто и не заметит. Честное слово, кроме вас никто заметит. А дальше весь готовый озвученный материал, как и ваш перевод, принадлежит заказчику — каналу или стриминг-платформе, и уже только им решать, хорош или нет перевод, звук и так далее.
Своей сиюминутностью АВП ближе к устному, а не литературному переводу. Если ошибка уже допущена, то устный переводчик не сможет обойти всю аудиторию зала и рассказать «знаете, неделю назад я на 44-й минуте конференции вот в этой фразе накосячил». В АВП эта проблема решается доэфирными проверками как на стороне производителя, так и заказчика, а еще мы все очень-очень стараемся перевести правильно с первого раза.
А еще в литературном переводе есть много чего, что невозможно в АВП — доиздания, переводческие сноски, вступительные статьи «от переводчика» и так далее. На что нам остается только позавидовать, подтянуть штаны и обходиться без них.
Триллеры переводить одно удовольствие: все подолгу молча ходят по пустому дому и боятся
Анна Савиных: Проблема существует, но берут тот перевод, какой есть в наличии. Так, если купили несколько сезонов сериала с чужой озвучкой и новый приходится озвучивать самим, то нужно подстраиваться под прежний перевод. Но есть и исключения. Когда вышел третий сезон «Твин Пикса», то к его релизу мы показывали первую и вторую части. Первый сезон надо было переозвучивать заново по чисто техническим причинам: не осталось звуковой дорожки. Мы взяли текст перевода 90-х годов, хотели его просто повторить, но поняли, что делать этого не стоит, потому что там очень много неточностей, вплоть до того, что переводчики не опознали цитату из «Ричарда III» Шекспира («Зима тревоги нашей позади») и поставили туда что-то совершенно несуразное. Но это действительно исключение, потому что это «Твин Пикс» и с ним все будут носиться. По поводу массовой продукции никто заморачиваться не будет, конечно.
У вас есть любимый жанр (триллеры, мелодрамы, детективы)? А любимый фильм? Расскажите, почему.
Анна Савиных: Ой, триллеры переводить одно удовольствие, потому что там все подолгу молча ходят по пустому дому и боятся! Боевики в этом плане тоже хороши, но с ними сложнее, потому что в них много всяких выкриков. Хотелось бы сказать, что я люблю юмор, и это действительно так, но перевод шуток забирает очень много сил. Ну а если серьезно, я люблю что-нибудь английское. Люблю детективы, сериалы по хорошим книгам, вот недавно делали «Темные начала». Недавно я переводила сериал «The Irregular» по мотивам рассказов о Шерлоке Холмсе, но от Холмса там не осталось ничего. Все персонажи — и Шерлок, и Майкрофт, и Ватсон, — не похожи на конандойлевских категорически, а главные герои — это беспризорники с Бейкер-стрит, которые помогают великим сыщикам. Наверное, я могу сказать, что люблю исторические фильмы. Люблю переводить сериалы, где действие происходит в прошлом.
Надежда Гайдаш: Это сложный вопрос. Хорошее кино, хорошие сериалы есть во всех жанрах. Честно говоря, я страшно люблю переводить черный юмор, хоть он мне и редко попадается. Фильм «What We Do In The Shadows» тогда еще мало кому известного режиссера Тайки Вайтити вышел у нас в моем переводе под ужасным названием «Реальные упыри» — переводчиков кино редко допускают к переводу названия. Из того, что я не переводила, мой самый любимый — «A Film With Me In It» Йена Фицгиббона с Марком Доэрти и Диланом Мораном.

Часто ли переводчик сам выбирает проекты? Или приходится брать то, что предлагают?
Надежда Гайдаш: Как я уже говорила, аудиовизуальный перевод — это конвейер. В контексте конвейера выбор — довольно условная штука. Какой-нибудь канал закупил к новому году пачку чего-нибудь старого доброго — и вам достался «Крепкий орешек», а если бы вы позвонили на студию за день до того — переводили бы документалку.
Можно ли зарабатывать только на аудиовизуальном переводе? Если нет, с какой работой вы это совмещаете?
Надежда Гайдаш: Это довольно бессмысленный вопрос. В Москве и, например, в Сургуте — разные уровни жизни. Как можно обсуждать сферического переводчика в вакууме?
Я работаю менеджером в IYUNO — SDI Media Group (SDI Media Russia) и действительно в последнее время перевожу крайне мало — я нанимаю переводчиков и сопровождаю озвучивание до сдачи готовой локализованной клиенту. Я отошла от перевода не потому, что не могла на нем заработать — я зарабатывала достаточно хорошо. Но не каждому человеку комфортно быть фрилансером. Мне сложно организовывать свой рабочий процесс, заниматься поиском клиентов, а вся эта угнетающая меня мишура — неотъемлемая часть фриланса. Я знаю переводчиков, у которых каждый день выходной — для меня каждый день на фрилансе был рабочий.
Зарабатывать аудиовизуальным переводом можно, стать богатым — вряд ли. Ставки выше, чем в литературном переводе — но ниже, чем в литпереводе, ставок и быть не может. Я знаю, что для начинающих аудиовизуальных переводчиков ставки бывают ниже 40 рублей за минуту — это очень немного. Можно набить руку и переводить быстрее, можно стать узким специалистом, чтобы переводить документалки, можно стать матерым дубляжником, за что платят больше, но и работа не в пример сложнее. К сожалению, набивать руку придется довольно долго. И всегда будет масса других занятий, на котором вы заработаете больше, и в отдельных случаях — гораздо больше, чем на АВП, это правда жизни.

Как выглядит процесс работы? Вам выдают распечатанный текст?
Анна Савиных: Да, конечно, мы переводим не только с видео, хотя и такое бывает. Однажды мне пришлось переводить со слуха восьмую серию сезона (не видя первых семи). Но там случилась накладка. Надо было перевести быстро. Это был сериал «Табу», сериал, действие которого происходит в начале XIX века. Что оказалось очень кстати, потому что в том веке люди говорили медленно и разборчиво.
Вообще правообладатель должен присылать «драфт» — видеоряд, который нельзя показывать, и «скрипт» — текст с диалогами. И тут начинаются сложности, потому что «скрипты» бывают разные, иногда до десяти вариантов: сценарий до сьемок, расшифровка после сьемок и так далее. Финальный вариант «скрипта», который будет потом показываться, у переводчика бывает не всегда. Иногда можно перевести по «драфту», а потом выяснить, что в итоговом варианте добавлены, убраны или переставлены какие-то сцены.
С какими проблемами сегодня сталкиваются переводчики, работающие с аудиовизуальным материалом, и какие попытки предпринимаются, чтобы их решить?
Надежда Гайдаш: И двадцать лет назад, и сейчас молодому переводчику, который хочет заняться самообразованием, очень легко запутаться — терминология АВП никем не регламентирована. Когда-то в Советском Союзе блестящая школа перевода состояла из двух с половиной человек — сейчас теле- и киноиндустрия готовы встретить тысячи и тысячи. Советская школа перевода не породила советской школы — ей были просто не нужны переводчики в таких количествах. Поиск в интернете может дать массу противоречивых терминов — тут будут перемешаны и переводные термины, и язык режиссера и актеров — причем частично эти термины дублируются, а частично противоречат друг другу.
Мы сейчас ведем работу над унификацией терминологии, создании рамки компетенции аудиовизуального переводчика, а впоследствии хотим выпустить учебные пособия и создать независимый экзамен для переводчиков. Мы — это не только SDI Media Russia (IYUNO — SDI Media Group) в лице меня и Стаса Малашкина, но компания RuFilms во главе с Алексеем Козулявым (а также при участии Дарьи Астанковой, Дарьи Сахненко, Екатерины Милёхиной, Валерии Карачевской и Ивана Борщевского), «Альба Мультимедиа» в лице Евгении Малёновой, декана факультета иностранных языков ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, и Евразийская Лига Субтитровальщиков во главе с Еленой Конотоповой. Очень надеемся, что уже этим летом сможем представить первые плоды нашей работы.

Неизвестное известное: о новой книге Кадзуо Исигуро
В апреле в России выходит новый роман Кадзуо Исигуро «Клара и солнце», первый роман писателя после получения им Нобелевской премии по литературе. Книга рассказывает об искусственной девушке, которая может испытывать человеческие чувства и ищет себе хозяина-человека. В журнале New Yorker в марте вышел глубокий разбор этого текста. Мы решили перевести его, ведь статья поможет понять не только новый роман Исигуро, но и расскажет о творческом методе остранения и связи Исигуро с Набоковым и другими авторами.

Кадзуо Исигуро использует искусственный интеллект, чтобы показать границы нашего собственного
В начале восьмидесятых, когда Кадзуо Исигуро только начинал как романист, нашу планету сотрясла короткая мода на то, что стали называть «Марсианской поэзией». Она была запущена стихотворением Крэйга Рейна «Марсианин шлет открытку домой» (1979). Здесь Рейн последовательно использует прием остранения — как его назвали русские формалисты — по мере того, как наш ошеломленный марсианин упорно пытается понять странные человеческие привычки и гаджеты:
«Модель Т — это комната с замком внутри — поворотом ключа мир получает свободу движения»
(“Model T is a room with the lock inside — a key is turned to free the world for movement”) 1.
И дальше в тексте:
«В домах спит заколдованный аппарат, который всхрапывает, когда ты берешь его в руки»
(“In homes, a haunter apparatus sleeps, that snores when you pick it up”)
В течение нескольких лет вместе с обычной порцией Теда Хьюза, Шеймаса Хини и Филипа Ларкина британские школьники учили эти строки, контрабандой попавшие в программу:
«Кэкстоны — это такие механические птицы с множеством крыльев И некоторые из них ценятся за их окраску — они заставляют глаза течь / или тело кричать без боли. Я никогда не видел, чтобы какая-то из них летала, но иногда они садятся на руку»
(англ. “Caxtons are mechanical birds with many wings And some are treasured for their markings — they cause the eyes to melt or the body to shriek without pain. I have never seen one fly, but Sometimes they perch on the hand”).
Учителям нравилось стихотворение Рейна и, видимо, удобная для образовательной системы «Berlitz» тема марсианства, поскольку на ней можно было объяснять остранение через прямой перевод. Что такое заколдованный аппарат? Телефон, мисс. Молодец. Что такое кэкстоны? Книги, сэр. Великолепно.
Остранение — это мощный инструмент, когда он позволяет поставить под сомнение знакомый мир, когда что-то реальное оказывается действительно странным. Однако он наиболее эффективен, если это чье-то остранение, что подчеркивает субъективность каждого отдельного человека (ребенка, лунатика, иммигранта, эмигранта). Стихотворение Рейна превращает остранение в систему и в результате делает непонимание марсианина чем-то привычным, как только мы включаемся в это. И поскольку марсиане на самом деле не существуют, то их неправильное восприятие куда менее интересно, чем человеческое разнообразие. В конце концов, это норма для марсиан — неправильно анализировать человеческий мир. Человеческая субъективность гораздо более впечатляющая — дискретная, иррациональная, тревожная. Читателю хочется более близкого остранения: что, если вместо пришельца (alien), посылающего открытку домой, взять иностранца-резидента (resident alien), или дворецкого, или даже человеческого клона, который будет делать то же самое?
Но одно дело достичь этого эффекта в поэзии, которая может нанизывать один образ на другой, и совсем другое — в романе, который привязан к определенной точке зрения. В прозе сложно не персонализировать остранение. Выдающийся русский формалист Виктор Шкловский, анализируя использование этого приема у Толстого, отмечал, что в его романах автор не дает героям называть вещи своими именами и вместо этого описывает их как будто впервые. Например, в «Войне и мире» Наташа посещает оперу, которую она не любит и не понимает. Описание Толстого обусловлено именно перспективой Наташи, и таким образом опера показана в «неправильном» виде — как будто взрослые люди поют без причины и абсурдным образом размахивают руками перед разрисованными стенами.
Самым экстатическим мастером остранения в XX веке был Владимир Набоков, питавший слабость к визуальным трюкам марсианского толка — он может, например, сравнить поношенный мокрый черный зонт с «уткой в глубоком трауре» или описывать, как «адамово яблоко заходило вверх-вниз». Но в его самом трогательном романе, «Пнине» (1957), остранение — это условие и приговор несчастного героя, русского профессора-эмигранта Тимофея Пнина. В стиле Толстого Пнин видит все в Америке как бы впервые и часто ошибается: «Странная сетчатая корзинка, чем-то смахивающая на увеличенную бильярдную лузу — только без дна, — висела неизвестно зачем над дверью гаража». Позднее Пнин путает резиденцию парамасонского общества «Shriners» или дом ветеранов с турецким консульством, потому что видит толпу людей в фесках, которые входят в здание.
На англоязычной литературной сцене и Крэйг Рейн, и Мартин Эмис, поклонявшиеся Набокову, были такими экстравагантными «марсианами». Письмо такого типа по замыслу авторов должно доказать свое мастерство через пышную оригинальность богатых фигур речи; то, что Эмис называл «прозой, давшей обет убогости» (vow-of-poverty prose), не должно было находиться за этим почетным столом. Клише и китч с отвращением отвергаются как смертельные враги. (Набоков часто отказывал в таланте таким авторам, как Камю и Манн, поскольку они не соответствовали тому, что он считал «маркой»).
Кадзуо Исигуро, непревзойденный мастер «прозы, давшей обет убогости», сидел бы далеко от этого стола. Большинство его последних романов рассказаны тоном ледяного спокойствия; в них широко используются клише, банальности, недосказанности, высокопарное многословие. Его новый роман, «Клара и Солнце» (издательство Knopf 2), придерживается той же веселой нейтральности:
«У нас с Джози было много дружеских споров о том, как одна часть дома должна быть связана с другой. Она бы никогда, к примеру, не согласилась бы, чтобы шкафчик с пылесосом стоял прямо внизу большой ванной комнаты» («Josie and I had been having many friendly arguments about how one part of the house connected to another. She wouldn’t accept, for instance, that the vacuum cleaner closet was directly beneath the large bathroom”).
Ага, говорим мы себе, мы снова вернулись в трагикомический и абсурдистский мир Исигуро, где описание нового школьного пенала («Не отпускай меня»), расписания дворецкого («Остаток дня») или просто ожидания все не приезжающего автобуса («Безутешные») может занять страницы.
Однако «Клара и Солнце» подтверждает давнишнее подозрение, что настоящим наследником набоковского остранения является именно Исигуро, который все эти годы у всех на виду скрывал это под литературной маской апатии и хитрых уверток. Исигуро, как и Набоков, любит использовать ненадежных рассказчиков, чтобы с их помощью фильтровать — то есть остранять — мир. (Из всех его работ лишь предыдущий роман, «Погребенный великан», обращается к относительной стабильности повествования от третьего лица и потому, возможно, слабее других). Часто этими рассказчиками выступают люди, которые эмигрировали из знакомого мира, как клон Кэти в «Не отпускай меня», или же иммигранты в собственном мире. Когда дворецкий Стивенс в «Остатке дня» отправляется в Корнуолл, чтобы навестить свою бывшую коллегу, мисс Кентон, то сразу становится очевидно, что он никогда не выезжал за пределы своего небольшого графства близ Оксфорда.
Эти рассказчики часто утаивают или подавляют в себе что-то неприятное — и Стивенс, и Мацуи Оно, герой «Художника зыбкого мира», скрывают свое участие в нацистской политике. Они неправильно смотрят на мир, потому что смотреть на него «правильно» слишком больно. Бесстрастность нарраторов Исигуро — это риторическое зеркало их остранения; бесстрастность — результат сложного соглашения между подавлением чувств и правдой. И мы, в свою очередь, сначала убаюканы, затем спровоцированы и, наконец, «остранены» их седативным равновесием. «Не отпускай меня» начинается следующей фразой: «Меня зовут Кэти Ш. Мне тридцать один, и я вот уже одиннадцать с лишним лет как помогаю донорам». Этот обыкновенный голос поначалу кажется столь знакомым, однако вскоре он становится странным и, наконец, резко отличающимся от нашего собственного.
Вы можете сказать, что по крайней мере со времен Кафки остранение различных сортов всегда было богатейшим художественным ресурсом — в кафкианской фантастике и ужасах, в научной фантастике и антиутопиях, в разных формах ненадежного повествования, в путешествиях героя-фланера (как в прозе В.Г. Зебальда) и литературе изгнания и эмиграции. Исигуро достиг совершенства во всех этих жанрах, иногда соединяя несколько форм в одной книге, но каждый раз по-своему. Зебальд, к примеру, справедливо восхваляется за те необычные вещи, что он делал в своей прозе от первого лица, где его герои блуждают по пугающе непривычному английскому и европейскому ландшафту. Но Исигуро дошел до этого раньше, и, вполне вероятно, стиль «Остатка дня» (1989) мог повлиять на англо-немецкого автора «Колец Сатурна» (1995). Вот как Стивенс описывает, как он уезжает от знакомых территорий, когда он отправляется от Дарлингтон-Холла:
«В конце концов, однако, я перестал узнавать местность и понял, что так далеко еще никогда не забирался. Я слышал рассказы людей, кто плавал под парусом, о той минуте, когда берег пропадает из виду. Думаю, та смесь легкой тревоги и возбуждения, о которой говорят применительно к этой минуте, весьма напоминает мои ощущения за рулем, когда пошли незнакомые места. <… До меня внезапно дошло, что Дарлингтон-холл и вправду остался позади. Должен признаться, я таки ощутил легкую панику, которую еще усугубило опасение, что я, чего доброго, свернул не там и забираюсь куда-то в глушь» (пер. В.А. Скороденко)
Это мог бы говорить один из сложных интеллектуалов Зебальда: он все время думает о литературе и смерти, бродя по неожиданно жуткой и незнакомой Европе — «глуши». На самом деле Стивенс всего лишь едет в невинный кафедральный город Солсбери.
Клара, протагонист и нарратор нового романа Исигуро, — это своего рода роботизированная версия Стивенса и кузина Кэти Ш. Она одновременно сиделка, слуга, помощница, игрушка. «Клара и Солнце» открывается чем-то наподобие «Истории игрушек» или классической детской книги «Плюшевый мишка» (в которой слегка порванный плюшевый мишка, терпеливо ждущий в магазине, сначала отвержен матерью, а затем схвачен ее радостной маленькой дочкой). Клара — это Искусственная Подруга (Artificial Friend, AF), которая с нетерпением ждет, когда ее выберут в магазине; действие происходит где-то в ближайшем будущем, по всей видимости, в американском городе. Насколько можно сказать, Искусственные Друзья, которые заряжаются солнечной энергией и снабжены искусственным интеллектом (ИИ), представляют собой нечто среднее между игрушкой и роботом. У них есть волосы, и они носят одежду. Их особенно ценят как товарищей для детей и подростков. Девочка по имени Джози — про которую Клара в своей педантичной манере ИИ говорит, что ей «четырнадцать с половиной», — видит нашу рассказчицу в окне магазина и с радостью выбирает Клару как свою Искусственную Подругу.
В этом романе Исигуро работает с двумя видами остранения. Во-первых, здесь есть относительно прямое остранение научной фантастики. Исигуро лишь слегка очерчивает контуры своего антиутопического мира — вероятно, потому что он не обязан следовать всем систематическим квази-реалистическим принципам, требуемым традиционным научно-фантастическим жанром. Мы должны ориентироваться внутри вымышленной вселенной, которая весьма похожа на нашу, но здесь все бесконечно смотрят или печатают на своих ручных «продолговатых предметах» (oblongs), люди как-то стратифицируются по одежде: «Мать работала в офисе, и по ее туфлям и костюму можно было сказать, что на высоком уровне» (“The mother was an office worker, and from her shoes and suit we could tell she was high-ranking”), а дорожные рабочие называются «специалистами по ремонту». В этом бесцветном, бесчеловечном месте дети фаталистически разделяются на лузеров и победителей; родители последних — называемых «возвышенные» — решают заняться их «реализацией» и с детства готовят их к элитным колледжам и светлому будущему. Лучший друг Джози, Рик, не вошел в число «возвышенных», и теперь ему приходится бороться за то, чтобы получить место в «Atlas Brookings»: «их набор невозвышенных составляет меньше двух процентов» (“their intake of unlifteds is less than two percent”). Родители более привилегированных ровесников Джози удивляются, почему родители Рика не стали заниматься его «реализацией». Может быть, они просто струсили? Кажется важным, что входящая в число «возвышенных» Джози имеет Искусственную Подругу для общения и утешения, а более бедный и «невозвышенный» Рик — нет.
Более тонким вопросом, чем эта нравоучительная номенклатура, является герменевтика, которая всегда интересовала Исигуро. Клара быстро учится, но она компетентна лишь настолько, насколько позволяют ее алгоритмы, и мир вне магазина может ошеломить ее. Ее «неправильные» реакции наводят на размышления, и поскольку именно ей доверено рассказывать эту историю, то читателю приходится обращать на них внимание. Ей не хватает словарного запаса для дронов, и она называет их «механическими птицами» (“machine birds”). Она создает удачную формулу для описания того, как мама Джози всегда наспех пьет кофе по утрам: «мамин быстрый кофе» (“the Mother’s quick coffee”). Когда Клару берут в поездку, то она удивляется, что машины на другой стороне дороги «на большой скорости несутся на нас, но водители никогда не совершали ошибок, и им всегда удавалось миновать нас» (“come speeding towards us, but the drivers never made errors and managed to miss us”).
Вот как Клара интерпретирует блок жилых домов: «их стояло шесть в ряд, и фасад каждого из них был расцвечен слегка другим цветом, чтобы жители не поднимались по чужим ступеням и не входили по ошибке в соседский дом» (“There were six of them in a row, and the front of each had been painted a slightly different color, to prevent a resident climbing the wrong steps and entering a neighbor’s house by mistake”). Когда Клара слышит, как Джози плачет, то эти надломленные стенания для нее в новинку, и она описывает с прямой точностью: «Ее голос был не просто громкий, он как бы закручивался вокруг себя самого, так что две версии ее голоса были слышны вместе, обособленные на две раздробленные части» (“Not only was her voice loud, it was as if it had been folded over onto itself, so that two versions of her voice were being sounded together, pitched fractionally apart”).
Наш интерес и сочувствие к ее неправильным представлениям обусловлены ее близостью к нам: Клара похожа на ребенка или на взрослого человека с аутизмом, который старается искать ключевые сигналы и повторять за другими. Как и в «Остатке дня» и «Не отпускай меня», Исигуро создал своего рода «симулякр» человека (дворецкий, клон), чтобы направить остраняющий взгляд на боль и скоротечность человеческого существования. Боль входит в романный мир так же, как и в обычной жизни, через болезнь и смерть: Джози страдает от неназванного заболевания. Во время их первой встречи в магазине Клара замечает, что девочка была бледной и худой и что «ее походка была не такой же, как у других прохожих» (“her walk wasn’t like that of other passers-by”). Позднее мы узнаем, что у Джози была сестра, которая умерла в детстве. Когда Клара впервые слышит всхлипывания девочки в комнате (тот самый «звук, закрученный вокруг себя самого»), Джози зовет свою маму и кричит: «Не надо хотеть умереть, мама. Я не хочу этого» (“Don’t want to die, Mom. I don’t want that”). Когда состояние Джози начинает ухудшаться, мы понимаем, что Клара была выбрана как особый тип Искусственной Подруги, которой может понадобиться утешить умирающего ребенка и которая может бесполезно пережить свою хозяйку.
Как искусственный интеллект может осмыслять смерть? Коли на то пошло, как человеческий интеллект может осмыслять смерть? Нет ли чего-то искусственного в том, как все люди сговорились скрывать неизбежность своего исчезновения? Мы придаем огромное значение надежде на долголетие, но в космических масштабах — с точки зрения Бога или умного робота — даже долгая жизнь на самом деле короткая, и неважно, умрет ли человек в девятнадцать лет или девяносто. «Не отпускай меня» выводит глубокую аллегорию из этих вопросов: сюжет романа предполагает, что свободная и долгая человеческая жизнь в конце концов оказывается лишь несвободной и короткой жизнью клона.
«Клара и солнце» продолжает эти размышления — мощно и трогательно. Исигуро использует своих нечеловеческих, слишком человеческих рассказчиков, чтобы посмотреть на те значения, что мы придаем нашим жизням, и назвать их блефом. Когда Паскаль писал, что условие человеческого существования — это «скопище людей в оковах, и все они приговорены к смерти, и каждый день кого-нибудь из них убивают на глазах у остальных, и все понимают — им уготована такая же участь, и глядят друг на друга, полные скорби и без проблеска надежды», то беспросветность такого трагического видения уравновешивалась уверенностью в существовании Бога и последующего спасения. Исигуро не дает таких обещаний. Позднее в романе мы узнаем, что Искусственные Друзья тоже подвержены «медленному угасанию» (“slow fade”) по мере того, как заканчивается срок действия их батарей. Конечно, мы сами тоже подвержены такому медленному угасанию; это могло бы быть определением человеческой жизни.
Клара хочет спасти Джози от преждевременной смерти, но она может делать это только внутри ее понимания и ее ресурсов, что делает особенно значимым название романа. Поскольку Искусственные Друзья питаются от солнечной энергии, они теряют энергию и жизненную силу без лучей солнца; логичным образом, солнце становится для них животворящим языческим богом. Клара пишет «Солнце» с большой буквы и часто говорит об «особого рода питании от Солнца» (“a special kind of nourishment from the Sun”), «Солнце и его доброте к нам» (“the Sun and his kindness to us”) и так далее. Когда Клара оказывается в доме Джози, то первым делом оценивает в кухне то, что «это отличная комната для проникновения Солнца» (“an excellent room for the Sun to look into”).
Еще до того, как она покинула магазин, произошел неприятный инцидент. На улице начались дорожные работы, и рабочие поставили изрыгающую дым машину рядом с окнами. Для Клары это значит только одно: что три выхлопные трубы машины производят достаточно дыма, чтобы он закрыл солнечный свет. У нее есть название, «Cootings», так что Клара называет ее «Машиной Cootings» (“Cootings Machine”). Несколько дней окна застилает дым и пар. Когда один из покупателей упоминает «загрязнение» (которое Клара пишет с большой буквы) и указывает через окно на машину, добавляя, «насколько опасным для всех было Загрязнение» (“how dangerous Pollution was to everyone”), Клара решает, что Машина Cootings «может быть машиной для борьбы с Загрязнением» (“might be a machine to fight Pollution”). Но другая Искусственная Подруга говорит ей, что «это что-то, специально созданное для увеличения этого» (“it was something specially designed to make more of it”).
Клара начинает видеть противоборство зловещей Машины Cootings и Солнца как битву сил тьмы и света:
«Солнце, я знаю, делало все возможное, и к концу второго ужасного дня, хотя дым был еще хуже, чем прежде, все же его очертания появились вновь, пусть и очень слабые. Я забеспокоилась и спросила менеджера, сможем ли мы получать дальше наше питание» (“The Sun, I knew, was trying his utmost, and towards the end of the second bad afternoon, even though the smoke was even worse than ever, his patterns appeared again, though only faintly. I became worried and asked Manager if we’d still get all our nourishment”).
Так Клара начинает строить свое мировоззрение — настоящую космогонию — вокруг своего животворящего бога. Если Солнце питает Искусственных Друзей, то оно должно питать и людей. Если Солнце — это бог, то кто-то должен ему поклоняться или даже договариваться с ним, как Авраам с Богом. Так что Клара просит Солнце:
«Пожалуйста, сделай, чтобы Джози стало лучше… Джози все еще ребенок, и она еще не сделала ничего плохого» (“Please make Josie better… Josie’s still a child and she’s done nothing unkind”).
Она даже подготавливает специальный «договор». Клара говорит Солнцу, что она знает, как сильно оно не любит Загрязнение:
«Предположим, что я бы могла как-то найти и уничтожить эту машину, чтобы положить конец ее Загрязнению. Могло бы ты тогда в обмен помочь Джози?» (“Supposing I were able somehow to find this machine and destroy it to put an end to its Pollution. Would you then consider, in return, giving your special help to Josie?”).
Клара даже пытается испортить первую попавшуюся ей Машину Cootings, не подозревая, что это не единственная такая машина в мире.
Другие писатели могут стараться сделать свой научно-фантастический мир более связным и целостным. Исигуро, как кажется, не сильно заботит, почему Искусственная Подруга каким-то образом понимает концепции божественной благодати и «греха» («она не сделала ничего плохого»), но не может уяснить, почему дома раскрашены в разные цвета. Какой-то другой автор мог бы обыграть антиутопические экологические последствия в мире, в котором солнце затмевает губительная тьма. Эти смыслы определенно заложены и в «Кларе и Солнце», однако Исигуро куда больше сконцентрирован на человеческих отношениях. Я думаю, что только Исигуро мог так укоренить этот искусственный нарратив в привычном нам быту; только он может добавить к Клариному описанию битвы солнечного света и тьмы такую прозаическую печальную коду: «Я забеспокоилась и спросила менеджера, сможем ли мы получать дальше наше питание».
Исигуро приглашает нас разделить логику субъективного мировоззрения Клары и одновременно показывает, что такая логика порождается именно этой субъективностью — «солнце равно жизнь равно Бог» — и при этом очень близка к нашей. Ее остранение — это наше остранение, напоминание о том, насколько условно представление о реальности. Не больше, чем Клара, мы понимаем — с теологической перспективы — почему умирают дети; и поэтому все мы, от просто богобоязненных людей до ортодоксальных верующих, создаем свои собственные системы «просьб» и «договоров» с высшими силами. Если ребенок начинает умирать, то, опять же теологически, ничего не можем с этим сделать: солнце будет продолжать одинаково светить — «а что еще оставалось делать? — и освещало обыденное», как об этом писал Беккет — на справедливое и несправедливое.
В какой-то момент во время мольбы за Джози Клара пытается польстить Солнцу: «Я знаю, что фаворитизм нежелателен» (“I known favoritism isn’t desirable”). Эта фраза производит резонанс, но она имеет мало смысла в мире, построенном на систематическом фаворитизме, где одни классы общества «возвышены», а другие нет. В мире Клары фаворитизм не только желателен, но и составляет неотъемлемую часть жизни; она сама — его продукт. Связь между все нарастающими несправедливыми и страшными видами социальной селекции (фашизм, генетическая инженерия, «возвышение») и космической своевольностью наших судеб — одна из главных тем Исигуро: наши отвратительные попытки «фаворитизма» против непостижимого безразличия Бога или вселенной. Поскольку все мы умираем не равным образом, но в конце концов одинаково, то эта случайность ставит под вопрос все понятия неких заданных образа, плана, отбора. В некоторых своих ипостасях теология — это всего лишь метафизика фаворитизма: молитва оказывается почтовой открыткой с просьбой об услуге, которую отправляют вверх. Вопрос о том, читает ли кто-то эти открытки, и является предметом поисков и сомнений Исигуро в его последних романах, в которых этот мастер, столь отличающийся от своего поколения, продолжает создавать свои обычные, странные, безбожные аллегории.
- здесь и далее приведены цитаты из оригинала статьи[↑]
- в России выходит в издательстве издательстве «Эксмо»[↑]
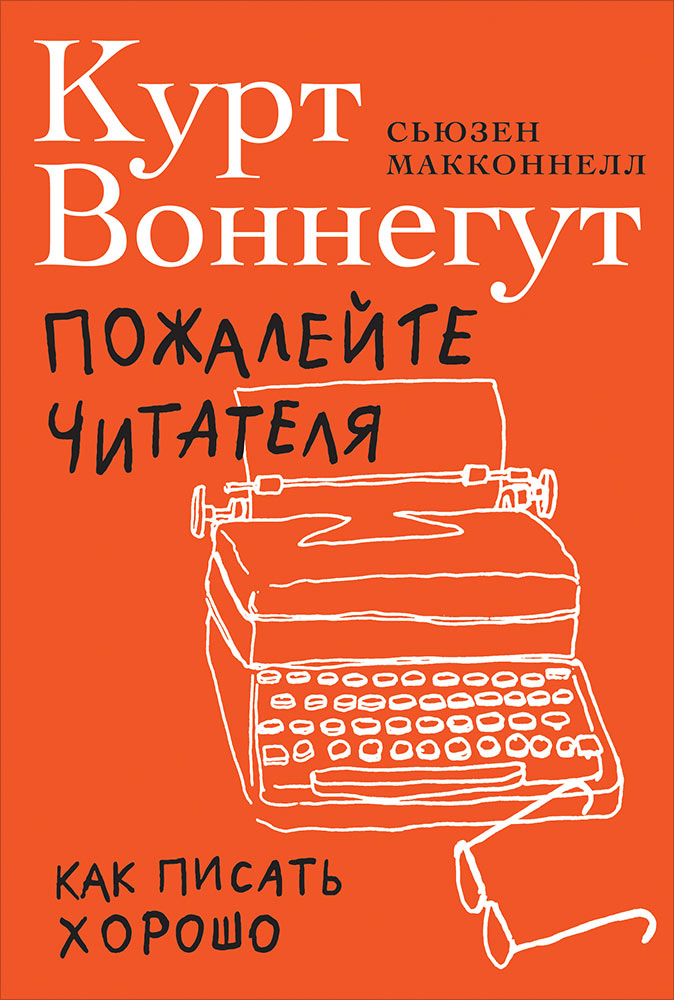
Пожалейте читателя: Как писать хорошо
В издательстве «Альпина Паблишер» вышел сборник советов Курта Воннегута молодым писателям. Собрала эти советы из его романов, эссе, лекций, статей, интервью и писем писательница Сьюзен Макконнелл, бывшая студентка Воннегута, которая много лет с ним дружила. В итоге получилась любопытная биография мастера американской литературы, дополненная размышлениями о литературном творчестве и рекомендациями начинающим авторам. Представляем одну из глав книги, посвященную поиску идей.
Глава 20
ВОПЛОЩЕНИЕ
Откуда вообще берутся истории? С помощью каких трюков их создают?
Трюк первый: будьте внимательны.
Это было настоящее пиршество — отправиться на прогулку с Воннегутом, говорит его друг Сидни Оффит. Потому что Воннегут замечал то, чего не замечает большинство людей, и реагировал на увиденное чаще большинства. С таким же упоением он открывал новую информацию. И обожал распространять ее.
У Курта Воннегута были «большие уши». Так джазовые музыканты именуют тех своих коллег, которые особенно хорошо чувствуют музыку.
Я вышел на галерею, сел на жесткий стул с прямой спинкой. Так я частенько сидел в каретном сарае, когда мне было двенадцать лет и я еще был в буквальном смысле слова невинным существом — хорошо было сидеть совсем тихо на галерее, ловить все звуки, всплывавшие ко мне снизу. Я не хотел подслушивать. Я вслушивался в музыку слов [курсив мой. — С. М.].
Кстати говоря, английское слово eavesdropping («подслушивание», буквально — «свешивание с карнизов») идет от короля Генриха VIII, который распорядился установить горгулий на карнизах (eaves) своих дворцов, чтобы каменные создания взирали на всех сверху, напоминая, что у стен, так сказать, есть уши и что все разговоры могут подслушивать лазутчики, поэтому надлежит вести себя осторожно. Я только что узнала это из документальной программы канала PBS. Воннегут обожал такие фактики. Его «большие уши» отлично улавливали и их.
Один кусок в «Рецидивисте» (написанном от лица недавно вышедшего на свободу заключенного) читается так, словно Курт лично бродил по парку за зданием Нью-Йоркской публичной библиотеки на Манхэттене и просто записывал то, что удавалось подсмотреть и подслушать.
Осмотрелся: приятно тут, в Брайент-парке. Ландыши уже пробиваются крохотными своими колокольчиками через увядший зимою плющ и бумажный мусор по краям дорожек.
<…>
В конце концов пришлось-таки подняться из-за транзистора, который запустили на полную громкость. Какой-то молодой человек с транзистором плюхнулся на скамейку прямо напротив меня. По виду из испаноязычных. <…> Шла программа новостей. Ведущий сообщил, что воздух сегодня утром некачественный.
Нет, подумать только — некачественный воздух!
Молодой человек вроде и не слушал, что по радио передают. Может, он по-английски и не понимает вовсе. Ведущий этак весело, как щенок разлаявшийся, одно сообщение за другим выкладывал, можно подумать, что жизнь — бег с препятствиями, устроенный на потеху публики: барьеры всякие необычные напридумывали, ямы особенные вырыли на дорожке, да еще машинами ее перегородили. Заставил этот ведущий и меня испытать такое чувство, будто я тоже в состязании участвую, разлегся в ванне с водой, а ванну три муравьеда волокут, или там не знаю кто еще. Причем могу и выиграть этот бег не хуже других.
А он про следующего бегуна рассказывает, которого приговорили к смерти и должны были посадить на электрический стул в Техасе.
<…>
Тут на дорожке между скамейками — моей и той, где этот, с транзистором, сидел, — появились двое бегающих трусцой для здоровья. Мужчина и женщина, одинаковые оранжевые с золотом фуфайки на них и кроссовки соответствующие.
<…>
Да, так вот про этого молодого человека с транзистором. Подумалось: транзистор для него как протез для инвалида, приспособленьице такое, чтобы смотреть на жизнь с искусственным энтузиазмом. Он уж и замечать перестал радио свое, как я не замечаю, что у меня передние зубы вставные.
<…>
Но вдруг транзистор сообщил нечто до того кошмарное, что я, вскочив со скамьи, бросился вон из парка и смешался с толпой свободных предпринимателей, поспешавших по Сорок второй к Пятой авеню.
Будьте такими, как Воннегут и как волк из сказки про Красную Шапочку. Большие Уши и Большие Глаза замечают немало ресурсов для художественной прозы.
~
Идеи — вот что было главным для Курта как для писателя: его зачаровывали возможности человечества и его недостатки. Воннегутовские тексты — пример прозы, которая вырастает из идей.
Скажем, вы извлекаете из культуры какое-то понятие и воплощаете его в своей прозе буквально. На основе трюизма «Все люди сотворены равными» Воннегут создал потрясающий рассказ «Гаррисон Бержерон»: там власти пытаются реализовать этот принцип во всем.
Или, к примеру, вы загадываете желание — и позволяете своему воображению вволю порезвиться с ним. Устали от того, что ваше тело время от времени устает? Вам не нравится ваша фигура? Ваш пол? Что, если бы вы могли иногда «парковать» свое тело в каком-то специальном месте или обмениваться телами с другими? Прочтите рассказ «Налегке»1.
Берете проблему, которая представляется вам острой и насущной, смешиваете с вашим личным опытом, добавляете «а что, если…» (тут снова пригодится ваше воображение), и — оп-па! — у вас готовы боеприпасы для книги. Может получиться, скажем, «Колыбель для кошки» — если вы Воннегут.
Источником вдохновения для этого романа стала компания General Electric, та наука, которая лежала в основе ее работы. В те дни это было вполне обычное дело — когда ученые, занимавшиеся исследованиями, совершенно не беспокоились о том, что породят их открытия <…>. Думаю, власти были очень заинтересованы в том, чтобы ученым казалось, будто они вообще никак не связаны с вооружениями.
А может получиться роман «Малый не промах»:
Эта книга… о парне, который уже вырос, ему уже за сорок, отец у него был помешан на оружии. Это был дом, где имелись десятки ружей, пистолетов и прочего.
Курт Воннегут-старший был как раз таким вот человеком, «помешанным на оружии». Что, если бы Курт Воннегут- младший решил поиграть с отцовским ружьем и случайно убил кого-нибудь?
В возрасте одиннадцати лет этот ребенок играл с одним из отцовских ружей, что ему запрещалось делать, разумеется. Он загнал патрон в винтовку 30-062 и, черт побери, выпалил из чердачного окна — и, представьте себе, убил какую-то домохозяйку, за восемнадцать кварталов от своего дома, угодил ей пулей прямо промеж глаз. И это, сами понимаете, наложило отпечаток на всю его дальнейшую жизнь, стало основой для всей его репутации. И, разумеется, этого оружия вообще не должно было существовать. Во-первых, он оказался на планете, где существовали такие вот чудовищно нестабильные устройства, ему достаточно было просто чихнуть рядом с ним. Я хочу сказать — оно хотело, чтобы из него выстрелили, его сделали для того, чтобы из него стреляли. У этой штуки не было никакого иного предназначения. И существование столь ненадежного прибора в пределах досягаемости какого-либо человеческого существа просто недопустимо.
~
Ваша фея-крестная может убедить вас написать рассказ или роман на определенную тему, словно бы проводя вас от одного события или жизненного впечатления к другому:
Кончилось тем, что я написал роман о художнике под названием «Синяя Борода». Мысль о романе пришла мне после того, как «Эсквайр» заказал статью об абстрактном экспрессионисте Джексоне Поллоке. Готовился юбилейный номер к пятидесятилетию журнала, и в этом номере давали статьи о пятидесяти уроженцах Америки, более всего способствовавших изменениям в судьбах нашей страны после 1932 г. Я хотел написать об Элеоноре Рузвельт, но меня опередил Билл Мойерс.
Фея-крестная вполне может подтолкнуть вас к чему- нибудь такому.
Однажды на вечеринке Нокс Бергер, бывший однокашник Курта по Корнеллу и коллега по тамошней The Sun, с вызовом спросил у него: «Когда ты соберешься писать следующий роман?» После первого воннегутовского романа тогда прошло уже десять лет. Ответом Курта стали «Сирены Титана».
А еще фея может просто взмахнуть волшебной палочкой — и…
«Мать Тьма» зародилась благодаря случайной встрече «с одной большой шишкой из военно-морской разведки» на еще одной вечеринке (в Чатеме, на мысе Код): у этого человека были «очень интересные взгляды насчет шпионажа», и Воннегут подумал: «Бог ты мой, надо мне засесть за еще одну книжку» .3
По-видимому, он уже ощущал в себе готовность заняться этой темой — кошмаром Второй мировой.
~
Характер какого-то реального человека, его взгляд на мир, особенности его поведения могут стать своего рода дверью в вашу будущую историю. Прототипом главного героя воннегутовского романа «Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер» стал один бухгалтер, чей офис располагался над офисом, где работал Воннегут, когда впервые поселился на мысе Код. Это был очень славный человек, который всегда очень ободрял и утешал своих клиентов. Через перекрытия Воннегут слышал его бормотания4.
~
Иногда сюжет целиком рождается из вашей собственной жизни. Милая в своей обыденности любовная история (о том, как Курт ухаживал за Джейн, которая станет его первой женой), легла в основу рассказа «Долгая прогулка в вечность»5. На одной вечеринке у них дома Джейн разыграла для меня эту сцену, изобразив, как Воннегут, опустившись на одно колено, сделал ей предложение. Разумеется, в рассказе он такие детали изменил — как и имена (свое и Джейн).
~
Можно начать с чего угодно — и двигаться вперед, и смотреть, куда это вас заведет, раздвигая жировые слои, которыми покрыт ваш мозг. Пока не выйдет на поверхность ваше сознание, постепенно выдвигая из вашего рта невидимую пленку, один оборот за другим. (Извините за это смешение воннегутовских метафор.) Так К. В. исторгал из себя «Сирен Титана».
~
А еще можно украсть чужой сюжет.
[Для «Механического пианино»] я радостно содрал сюжет романа «О дивный новый мир», чей замысел, в свою очередь, был радостно содран с романа Евгения Замятина «Мы».
~
Вынюхивание подходящих сюжетов постепенно входит у писателя в привычку. Воннегут настолько пропитался этой привычкой, что даже ссудил излишки результатов работы своего буйного воображения Килгору Трауту, своему же персонажу-фантасту, сочиняющему десятки безумных научно-фантастических сюжетцев.
- Здесь и далее рассказ «Налегке» /Unready to Wear/ цитируется в переводе А. Криволапова. /В русском переводе рассказ выходил также под названием «Виток эволюции»./[↑]
- Т. е. с патроном 7,62 на 63 мм[↑]
- Источник не указан[↑]
- Подробнее об этом прототипе см. в главе 26 книги С. М. /глава «Как придумывать персонажей»/[↑]
- Здесь и далее рассказ «Долгая прогулка в вечность» цитируется в переводе Е. Романовой. Сам Воннегут писал в предисловии к сборнику «Добро пожаловать в обезьянник»: «В честь нашего удачного союза включаю в сборник отвратительно приторную любовную историйку, написанную для “Дамского журнала”, где ее озаглавили — прости, Господи! — “Долгая прогулка в вечность”. Помнится, я-то называл ее иначе: “Черт знает что такое”»[↑]

Что такое клиффхэнгер?
Англоязычный блог “Writers write” опубликовал статью о клиффхэнгерах. Слово это может быть вам не знакомо, но уверяем, каждый знает, какой эффект может произвести этот приём. Писатели прибегали к нему уже в XIX веке. Заинтригованы? Представляем перевод статьи.
Читая книгу, вы когда-нибудь испытывали чувство, что просто не можете её бросить? Наверняка хоть одна такая была. Вы открывали её перед сном и во время обеденных перерывов. Вы читали, потому что очень хотели узнать, что же случится дальше. Скорее всего, автор книги использовал парочку клиффхэнгеров, чтобы настолько вас увлечь.
Что такое клиффхэнгер? Согласно Оксфордскому словарю, это «драматичное и захватывающее окончание эпизода сериала, оставляющее зрителя в состоянии, когда он просто не может пропустить следующий эпизод».
Писатели используют клиффхэнгеры, когда пишут окончания сцен, глав и книг. Получаются своего рода вопросы без ответов, и читатель чувствует, что обязан читать дальше, чтобы узнать, что же произошло.
Один из самых известных примеров использования клиффхэнгеров — «Тысяча и одна ночь». Шахерезада рассказывает истории королю на протяжении 1001 ночи, заканчивая каждую клиффхэнгером, чтобы заинтересовать слушателя и спасти себя от казни.
Мастером использования клиффхэнгеров был и английский писатель Чарльз Диккенс. В его времена романы публиковали по одной главе в литературных журналах. Представьте, как могли действовать на читателя правильно использованные клиффхэнгеры. Говорят, новости о Дэвиде Копперфилде с нетерпением ждали по обе стороны Атлантики.
Что уж говорить про телесериалы, каждый сезон которых заканчивается очередным клиффхэнгером. Вспомните историю с сериалом «Даллас» в 1980 году. В конце второго сезона в главного персонажа Джей Ара Юнга стреляет неизвестный. Зрители ждали целое лето, чтобы узнать имя нападавшего. Тогда лозунг «Кто стрелял в Джей Ара?» стал самым обсуждаемым в мире.
Современные авторы используют клиффхэнгеры чаще, потому что читатель в наше время слишком искушен. У нас есть 10 вариантов клиффхэнгеров. Не призываем вас заканчивать каждую сцену или главу таким образом, но всё же полезно иметь в своем арсенале этот приём.
- Вопрос без ответа. Это наиболее удобный клиффхэнгер. Задайте провокационный вопрос в конце главы и проверьте, чтобы следующая не начиналась с ответа на него.
- Потеря. Физическая или эмоциональная. Главное, постарайтесь, чтобы читатель понял чувства вашего героя. Вы должны написать так, чтобы было ясно: персонажу будет очень нелегко пережить потерю.
- Соблазн. Пусть ваш персонаж уже увидит то, чего очень давно хотел, но не достигнет.
- Надежда. Пусть персонажу покажется, что нечто новое, исключительное и очень ему необходимое вот-вот произойдёт. Дайте знак!
- Физическая опасность. Поместите главного героя или кого-то, кто ему сильно дорог, в опасную ситуацию. Если до этого вам удалось создать связь между вашим героем и читателями, они точно продолжат читать.
- Предчувствие. Используйте символы и знаки для того, чтобы намекнуть на опасность, которая может ожидать персонажей.
- Тик-так. Закончите вашу главу с чувством нарастающей срочности. Нет ничего хуже приближающихся дедлайнов, мы знаем.
- Оговорка. Пусть один из персонажей невзначай обронит нестандартную фразу. Читатель зацепится за нее и с мыслью «здесь что-то не так» отправится искать объяснение в следующей главе.
- Неожиданные новости. Если в конце главы зайдёт протагонист вашего романа с ужасающими новостями, это будет отличный ход. Пусть главный герой ещё чуть-чуть помучается.
- Выбор. Старый добрый трюк, которым тоже можно воспользоваться. Поставьте героя перед трудным выбором, не забудьте описать все «за» и «против» и переходите к следующей главе.
Иллюстрация Ивана Билибина к одному из самых известных примеров использования клиффхэнгеров — «Тысячи и одной ночи», 1934 год, Русский музей.
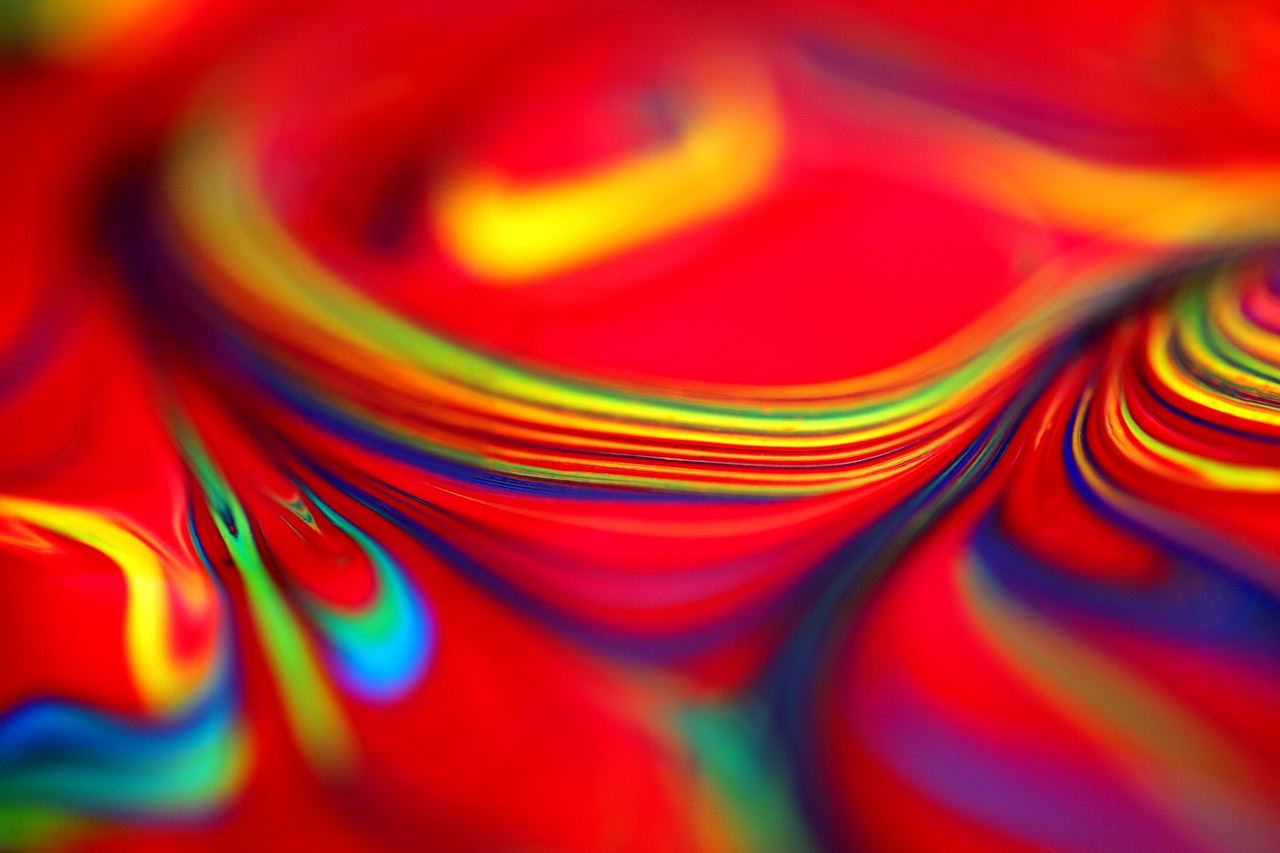
Кроваво-алый
Первое, что вспоминается о ней — удивительная способность цеплять женские взгляды. Она любит красивых женщин, а они любят ее. Слетаются на эту ее огромную любовь, как мотыльки на свет. Мы ехали в метро, напротив пара, еще зеленые, крепко сцепленные за руки. Несколько секунд она смотрела девушке в глаза тем особенным взглядом, вспоминая который я вздрагиваю и немного краснею. Вагон остановился, и пара начала выходить, а девушка, не отнимая руки у своего избранника, еще раза три оборачивалась на нее. Ревность, оказывается, можно привить.
Ее любимый цвет — красный. Свои картины она рисовала кроваво-алым. Иногда красный делил полотно с черным, но ему было не перекричать страсти красного, который был весь она. Ее руки касались также, как рисует красный цвет.
Ее было просто любить. Но терпеть невозможно. Совсем еще мальчишка, только девочка и скоро тридцать.
Август был первым. Но он быстро собрал вещи и, закуривая на ходу, двинул в сторону площади трех вокзалов, где месяцы садились в поезд с билетом в один конец. А где этот конец — никто не знал. Только изредка слали они оттуда письма, которые прилетали прямо в наши головы фотокарточками из прошлого.
Помнишь июнь? Я продала седло, и мы на месяц уехали в Европу. И жили у местных, и ночевали под дверями океанариума в Генуе, и в аэропорту Бергамо. Кругом прокуренные голоса женщин, на узких улочках не совпадающие фасадами крыши.
Бездомные и бездонные ночи. Декабрь? Столица просит жрать крупными купюрами. Из обветшалого окна невозможно сквозит, и гирлянда умело прячет зашарпанность коммуналки, и даже чайника нет, а мы танцуем между просевшей кроватью и сохнущим посреди комнаты бельем. Сентябрь помнишь? Российские побережья. Хамы-водители, очаровательные рынки, на которые мы ходили, как прилежные ученицы в школу.
Тяжелые сладкие арбузы, маленький щенок в светлом беже, который нам так взаимно полюбился. Крым в палатке, до моря несколько метров, снаружи на брезент налегают бездомные псы, а сквозь маленькое окно в крыше космическая простыня светится. В каком-то поселке мы убегали от мужиков, которые словами обвиняли нас в любви друг к другу. Я потом все ночи тряслась от страха, а ты терпела мои слезы и говорила так по-мужски, защитнически: «моя девочка», хотя талия твоя была такой же беззащитной, как и моя. На шее у тебя висел обрубок карандаша, в котором пробита дырка для цепочки. Ты не снимала его, хотя он так часто мешался ночами. Я цеплялась и душила тебя. И мы смеялись во время наших нелепых раздеваний, смеялись над звуком животов, разгоряченных и прилипших друг к другу, над тем, как случайно бьются лбы, колени и локти. И сколько же они шлют этих карточек. Тонны неразобранной почты.
А была ли вообще та Италия, крымские ночи, недоеденная овсянка, которую ты выбрасывала под окно голубям и очень ругалась на мальчишку, что кидался в них камнями? А наши случайные встречи с иностранцами? А ссоры, слезы, измены были? Или ты нарисовала все это своим кровавым акрилом, кусочек которого я храню в столе? Он затвердел, как камень, и в него вросла маленькая бумажка с надписью «влюбленность».
Было ли это?
Будь здорова, любовь моя. Ты только не люби писателей. Целовать тебя — не привилегия, но писать о тебе пусть будет только моей.

Лучший в мире костюм
Она влюбилась в него мгновенно. Рухнула в эту пропасть без дна, не думая, не спрашивая себя — зачем и что будет дальше. Увидев, сразу поняла — Он.
Жила в соседней деревне, странно, что не помнила его. В детстве, может, пересекались.
Родители его накануне позвонили, сказали, что хотят заказать костюм. Как портниха, имела хорошую славу. Несмотря на молодость, действительно умела превратить кусок ткани в отменную вещь.
Пережив первые мгновения оглушающего узнавания, спокойно открыла свою портновскую коробку, достала метровку. Несмотря на то что сердце дрожало, пальцы привычно работали.
Как можно измерить любовь?
Длина спины — моя защита, длина рук — объятия надежные, длина ног — шаги, которые мы проделаем вместе.
«Возлюбленный мой бел и румян;
голова его — чистое золото;
глаза его — как голуби при потоках вод».
На столе лежал отрез шерстяной ткани. Провела рукой, почувствовала нежное тепло.
Завернусь в ткань, словно в любовь твою, буду внутри, как в доме, и услышу биение сердца.
Вернувшись домой, немедленно принялась за работу. На большом столе — с метровой линейкой, простым карандашом уверенно рисовала свое будущее. Выкройки получались нежные и воздушные. Длина плеча — тяжесть, которую ты сможешь вынести, обхват шеи — твое мужество, объем груди — моя колыбель.
Вспомнила, как в детстве прыгала с забора, а он был рядом все время, руки протягивал, она фыркала, но однажды оступилась, полетела, а он — поймал.
Обхват талии — сила, с которой ты меня поднимешь, длина бедер — длина ног моих.
«Руки его — золотые кругляки;
живот его — как изваяние из слоновой кости;
голени его — мраморные столбы».
Развернула ткань, приклеила выкройки с помощью булавок, крошечным обмылком начала обводить, переводя свои бумажные мечты в другую, более осязаемую реальность.
Наступил черед ножниц — наиболее важный момент, когда уже ничего не сможешь изменить. Конец. Случилось. Седое небо заплакало.
Швейная машинка стучала, словно диктовала приговор. Все уже решено за тебя. Другого пути не будет.
Под теплым светом торшера, надев наперсток, сшивала куски ткани, словно раненое животное собирала. С каждым стежком тихо роняла слова, вшивая, впечатывая, заговаривая ткань.
Внезапно укололась. Первым желанием было слизнуть кровь. Но потом медленно размазала каплю по ткани. Чтобы всегда быть с тобой.
Пришила пуговицы. Застегну, закрою твою душу накрепко, чтобы ни одна женщина не смогла увидеть. Только я буду знать.
И, наконец, последнее. Отгладить старательно. Запах горячего утюга и влажной марли, пар над тканью — словно туман над нагретой землей.
«Уста его — сладость, и весь он — любезность.
Вот кто возлюбленный мой».
На следующий день пришла к ним в дом, прижимая к груди бумажный пакет, перевязанный бечевкой. В молчании смотрела, как его одевают. Костюм пришелся впору. Черный цвет ткани подчеркивал бледность лица. В молчании смотрела, как уложили в длинный деревянный ящик, колыбель его вечную.
Я — стрела, летящая к цели. Но цель не узнала стрелы.

Родившись по любви
Сумела родиться так странно в северной Якутии с аллергией на холод, будто Родина меня отвергает. Будто любовь моя безответная. Руки чешутся, губы обветриваются, а девять месяцев зимы укутана в свитера и ватные штаны.
Но мне всё равно, когда меня зовут друзья в поход на сопку через сугробы. И мне было всё равно, когда я не отказывалась прогуляться с мамой после садика по морозу.
Задирала голову и смотрела на звёзды — раньше это было возможным, огней в городе еще не было так много. Звёзды были чем-то далёким, маленькой девочке непонятным. А вот хруст снега, звук от стука тушек рыб друг о друга на рынке, хвойный лес — это да, это мой мир. Он мне тогда казался огромным. Неудивительно, если лужи представлялись океанами для муравьёв, а камни — их горами.
Ещё тогда начавшая изучать мир, я полюбила два «блюда». Бруснику летом, которую можно загребать с куста рукой и есть жадно. Кислую, с запахом земли. И сырую жеребятину, восхитительную до жути! Закрепившую за мной статус дикарки у друзей из центральной России. Строгаю её папиным якутским ножом и с упоением ем с перцем, солью и горчицей. А вот сырую рыбу строгает папа, это дело сложнее и мои ручкам неподвластное. Обязательно жду зимы не ради минус полусотенного мороза, конечно, а ради столь северных изысков.
В Якутске, спящем под туманном, уродства хватает. Страшная грязь по весне и осени. Обгоревшие, чёрные, как гнилые зубы, деревья летом. Убитые зайцы на прилавках зимой. А вот у ветхих домишек, в одном из которых я прожила несколько лет, нет сезона.
Они здесь круглый год. Затапливает подъезды из-за тающего снега. Странно это в городе-то нашем, где дома все на сваях из-за Мерзлоты этой вроде как Вечной. А эти «деревяшки», так мы их обозвали, стоят себе на голой земле без опоры. И утопают в талых водах.
Дощечки кладут от входной двери в здание до верхней ступеньки лесенки подъезда, чтобы ноги не промочить. Но я любила хлюпать по самому полу. Выдавливать ногами воду из глубин с чавканьем.
Любимого человека мы принимаем полностью. Со всеми его изъянами. Вот и здесь так же…
Доносимые отовсюду на якутском «одье», «айка» и «чукурушка». Непереводимые на русский, но понятные по смыслу, потому что ты здесь родилась и выросла.
Менталитет закрытый, немного грубоватый. Удивительный местами, когда побеждает добро. Неудовлетворение властью. И удовлетворение ей, когда на пост пришла Авксентьева, поразившая не то что страну — мир! И снова неудовлетворение… ушла с поста.
Противоречивая. Разрушенная, когда летом горят леса и вся она задыхается от смога. Созидательная в том, что народ её изобретательный. Как-то ведь выживает на этой земле столько веков. Дома — серые прямоугольники и перекошенные деревянные — прямо в центре города. Летний Новый год с традиционными забавами, видами спорта и поклонением своим богам. Якутия моя обращается к шаманам и выживает в суровости.
Живёт в суровости. А я люблю её…

Синефил
В жизни Семёна был возраст, осененный бесстрашным отчаянием. На губах он носил в те дни яркий, вспыхивающий от чувства новизны металлический привкус антоновки. Так было и в тот день, когда он сбежал с продленки и на осеннем ветру кусал мерзлое яблоко, положенное мамой в портфель. Возле афиши «Иллюзиона» стоял взрослый в пуховом шарфе.
Тогда почти все были взрослее Семёна. Девятиклассники казались полубогами, пятиклашки — демонами учёности, учителя — передвижными истуканами острова Пасхи. Выправляя из-под шарфа подбородок и губы, подходил к Семёну этот взрослый, на самом деле семнадцатилетний обманутый мальчик, может быть, даже поэт. Подружка не пришла, и он грустил.
— Как тебя зовут, шкет?
— Сёмик, — сказал Семён, чувствуя знакомый металлический привкус антоновки и бесстрашного отчаяния.
— Как смотришь на то, чтобы пойти в кино?
— Не знаю, – ответил Семён.
Через пятнадцать минут они сидели в тёплой пещере «Иллюзиона», и семилетний мальчик думал, что это, должно быть, тот самый святой дух, о котором пишут и говорят. Он спустился в виде выдохшегося пыльного луча и теперь, трепеща и замирая, приходит и освящает, падает и осеняет грешными видениями бесплодный холст в конце зала. Это был святой дух живых картинок, мимолётный рой ангелов-арлекинов, бестиарий брейгелевой палитры, разбившийся витражами в сочную разноцветную кровь солнечного божества.
Фильм Семён не понял — он его пережил. Как переживают сон о судьбе. Как собственными словами, сбиваясь на лепет, спотыкаясь о рыдание, передают рассказ про какую-нибудь несчастную дворняжку. Это история, которую задали прочитать на внеклассном чтении и которая с тобой, Семён, даже близко никогда не случится — так зачем тогда, зачем же так страдать?
С этого дня началась тайная жизнь Семёна, мальчика-синефила, злостного прогульщика и отъявленного игрока в фантики и на пробки. Семён играл только на деньги. Был беспощаден к сопернику и скрупулёзен в технике. Копейки, добытые за неделю, как нежнейший, самый чуткий любовник собирал он в горсть и приносил пред заветное окошко кассы. Билетёрша, точно апостол Пётр перед райскими вратами, взвешивала все недельные «за» и «против», и после раздумий, за время которых Семён успевал упасть на самое дно отчаяния и снова воскреснуть, впускала его в чёрный, ещё спящий рай, пока не открывший своих страшных радужных глаз, в подземелье гиперболических невесомых игрушек.
За несколько месяцев, до конца второй четверти Семён посмотрел «Неуловимых мстителей», «Хон Гильдона», «Апачей», «Сказку странствий», «Могилу светлячков», «Пиратов двадцатого века», даже «Девять дней одного года» и «Ватерлоо» Бондарчука.
Будущее казалось прекрасным, все чудеса мира ожидали Семёна: «Великолепная семёрка», «Кинг Конг», «Асса», «Игла» и «Сталкер» Тарковского. И только три тетради в клеточку, посвящённые его страсти, испещрённые названиями фильмов и профилями героев, показывали, что Семён окончательно погиб. Картина его успеваемости была удручающей.
Катастрофа была неизбежна.

Смотри и ешь
Папа принес «Сникерс».
Папа принес счастье.
Есть лакомство надо было строго по рекламному канону: надорвать упаковку, полуприкрыть глаза и, ориентируясь по запаху отдушки, откусить кусочек таким образом, чтобы карамель тянулась, оставляя на губах след — сладкую золотистую ниточку.
Я ела — брат смотрел. Брат ел — я смотрела.
«Сникерс» требовал демонстративного потребления, как предмет роскоши.
В начале 1990-х батончик «Сникерс» был секс-символом и супергероем. Думаю, мастера киноэпики вроде Нолана немало позаимствовали из тех рекламных сцен, когда гладь молочного шоколада трескалась, как земная кора, продолговатая плоть батончика делилась пополам, и в разрезе открывалась сокровищница: крупные румяные орехи в карамельной лаве на подушке нуги, одновременно солоноватой и сладкой. Как она дразнила язык! Будто светская кокетка — юного дебютанта.
Начало 2020-х. Я расплачиваюсь карточкой и, будучи не в силах терпеть, прямо на пороге супермаркета — к чёрту безуглеводку! — разрываю коричневый бумажный хиджаб «Сникерса», закрываю глаза и… падение. Провал. Что-то вроде поцелуя с бывшим спустя лет десять после расставания. Не просто невкусно — еще и грустно как-то.

Впервые за тридцать лет
Лена оторвала заусенец, и на пальце выступила капелька крови. Лена задержала руку перед собой на весу, чтобы не испачкать белые джинсы. Отец за рулем что-то рассказывал, но девушка поддакивала невпопад, глядя перед собой через лобовое стекло, сосредоточившись на разделительной полосе. По радио ведущие зачитывали новости про инаугурацию президента и премьеру «Брата-2». Лена думала: «В следующий раз, когда загорится красный, я спрошу». Была середина дня, вторник, город казался полупустым.
Зима, Лена сидит в поликлинике, в душном кабинете, уставленном фикусами, засунув лицо в стеклянный куб — врач прописал лечение в солевой камере, слишком уж часто девочка болела. На стене перед глазами заботливо приклеены блеклые страницы из детских журналов, чтобы высидеть положенные двадцать минут было проще. Лена рассматривает ребусы и картинки. «Мы веселые ребята, мы ребята-октябрята». Но веселиться Лене не хочется. Руки жжет от колючего свитера, нос — от неприятной процедуры, а глаза — от слез. «Ты же обещала», — проговаривает Лена про себя усталым голосом отца. После процедуры медсестра рассуждает вслух, не ожидая ответа: «Что-то глаза красные, соль такая злая?» Но Лена не понимает, что значит «злая соль», и ей сейчас не до решения загадок. Лена знает, что надо закутаться в шарф поскорее, чтобы бабушка, которая ждет на холодной скамейке в коридоре, не увидела, что Лена плакала.
Отец что-то сказал, но Лена не расслышала. Она наконец отвела взгляд от асфальта и посмотрела на профиль отца. «У тебя кровь», — не поворачивая головы, спокойно повторил отец. «А, да», — рассеянно кивнула Лена, пытаясь одной рукой нащупать в сумке носовой платок. «И руки дрожат». — Тон замечания был ровный, почти безразличный. «Я не курила с тех пор, как села в самолет». Лена поняла, что нарушила данное себе обещание — они стояли перед зеброй, ожидая, когда загорится зеленый сигнал светофора, а вопрос так и застрял внутри. Больше всего на свете ей хотелось дернуть ручку и вывалиться из машины прямо на проезжую часть. Было плевать: пусть даже на полном ходу, только чтобы не начинать этот разговор.
— Ты так и не сказала, почему решила приехать сейчас, я думал, у тебя четверть в разгаре, конец учебного года. Ты что, бросила своих учеников прямо посреди незаполненных контурных карт?
— Можешь остановиться?
— Что? Здесь?
Она выбралась из машины, оставив дверцу открытой. Отец выбежал за ней: «Тебе плохо? В бардачке есть бутылка с водой». Лена села на низкий поребрик, подтянув к себе колени, и разрыдалась. Отец опустился рядом, но так, чтобы даже случайно с ней не соприкоснуться.
— Послушай, ты знаешь, я не паникер, но было бы здорово, если бы ты сказала, что случилось.
— Я тебя ненавижу. — Слова было сложно разобрать, потому что лица видно не было.
— Это давно не новость.
Лена молчала. Отец начал говорить.
— Слушай, мы никогда не были образцовой семьей, но…
— Мы и семьей никогда не были, — перебила его дочь.
— Нет, когда-то были.
Маленькой Лене здание в стиле советского модернизма — НИИ, в котором работал отец, — всегда казалось каким-то внеземным, как будто инопланетяне выкинули его со своего корабля за ненадобностью. Советский Союз хоть и боролся с излишками, но этот дар принял, и с тех пор это многоэтажное чудище ровно в восемь утра поглощало толпу спешащих на работу научных сотрудников в темных плащах. Когда Ленина бабушка начала сдавать, стало понятно, что, кроме шестнадцатилетней Лены, ухаживать за ней некому: мама умерла одиннадцать лет назад, а отец почти жил на работе.
Лена сидела на полу в полупустой квартире в окружении коробок.
— Саша, иди сюда!
В дверном проеме показалась сначала стремянка, а потом голова Лениного мужа.
— Что?
— Как ты думаешь, надо разобрать все эти бумаги или просто выкинуть?
— Выкинуть! Насколько я помню, в новой квартире у нас есть центральное отопление.
— Очень смешно! Вдруг тут что-то важное.
— Тогда разобрать. Только решайся скорее, завтра рано утром приедут грузчики.
Проезжая по набережной, машины сигналили — автомобиль, рядом с которым сидели двое, мешал движению.
— Откуда ты узнала про пожар? — Услышав этот вопрос, Лена разрыдалась еще сильнее.
— Когда мы переезжали, — Лена шумно втянула воздух, — я нашла две коробки с документами. Бабушка их хранила. Я разобрала их только сейчас. Искала фотографии, которые можно оцифровать, а нашла вырезки из газет.
— И что там было?
— Фармацевтическая гонка. Ученые из Ленинграда — вы с мамой на общей фотографии в белых халатах. Пожар в лаборатории. Смерть научного сотрудника. Завлаб героически спас своих подчиненных.
— Я не смог ее спасти.
— А остальных смог! — Девушка сорвалась на крик.
— Ты хочешь, чтобы мы обсуждали это здесь, у всех на виду? Поедем домой!
— Нет, мы никуда не поедем! Потому что я так больше не могу!
— Ладно. Слушай, я понимаю, как тебе тяжело, но постарайся дослушать до конца. Мы с твоей мамой много работали. Я почти не бывал дома, не видел тебя, все думал, что успею потом наверстать. Наверное, поэтому, когда Катя погибла, мне было так тяжело. Я даже не знал, как уложить тебя спать. Не мог успокоить. Когда ты стала постарше, я постоянно просил тебя пообещать мне не грустить. Смотреть не мог, как ты плакала.
— Я не об этом тебя спрашивала!
— Мы должны были закончить работу над лекарством через год, максимум полтора. Впереди были клинические испытания. И вдруг — пожар. Замыкание. Катя хотела спасти наши записи, образцы. Я пытался ее вытащить, но в дыму было ничего не разобрать.
— И что? Ее смерть ради вашей работы? Твоей работы! Она всегда была тебе важнее всего!
Отец изо всех сил старался продолжать как можно спокойнее. Он заговорил об этом впервые за тридцать лет и должен был закончить.
— После пожара я никак не мог оправиться и стал работать еще больше. Это стало навязчивой идеей. Все время думал только об этом. Почти не ел. Не спал. Казалось, что уже сошел с ума. Но мы все-таки разработали препарат. Он прошел испытания, получил регистрацию. Его аналоги используют до сих пор. Но случилось это только спустя несколько лет. Мы не успели.
— Не успели?
— Ты не помнишь, но твоя мама болела. Внешне это еще было почти незаметно, но мы знали, что времени у нас немного.
Лена молчала.
— Я сутками сидел в лаборатории, потому что мне надо было найти лекарство. Лекарство для Кати. Но я не успел.
В машину их загнал гаишник, выписав штраф за неправильную парковку. Лена не переставая курила в открытое окно.
— Ты уверена, что хочешь улететь прямо сейчас?
— Да. Контурные карты, сам знаешь. — Лена немного помолчала. — Но теперь, видимо, я могу вернуться.

Износ основного фонда
Солнце в Н-ске зимой встаёт поздно.
В ледяной темноте, освещаемый лишь холодным светом далёкого фонаря, инженер-ремонтник Владимир Иванович пытался осознать поворотный момент своей безрадостной жизни.
— Твою-то мать, Володя, чем ты думал, когда херачил по резервуару ключом? Совсем идиот? Доигрался? Что теперь делать будешь? Что, довела тебя Нинка твоя? А мать говорила — не женись на ней. И Машка такая же, в неё, жирная избалованная оторва, и отца ни во что не ставит. Никогда ты, значит, не думала, что я стану таким неудачником. Думала она… тебе там думать нечем, курица! Ну что, Володя, отвёл душу? А теперь вон, пятно по речке расплывается. Пиздец!
Хорошо, хоть ещё никто не заметил пока. Что делать собираешься?
***
Полутора часами ранее, в хрущёвке, утонувшей среди замогильной тьмы, Нина с плохо скрываемым раздражением следила за тем, как муж, пыхтя, собирается на работу.
Володя ходил сгорбившись, глядя под ноги, почти не поднимая взгляда. Не самец. Серая заводская мышь в серой мышиной спецовке. Несмотря на утренний душ его лысина уже успела покрыться потом, а остатки седеющих жидких волос обречённо приклеились ко лбу. А ведь когда-то у него была шикарная шевелюра, куда она любила запускать ногти.
— Опять за других работать идёшь? Тебе хоть заплатят? — поинтересовалась она с издёвкой.
Натягивая засаленную вонючую спецовку, Володя виновато улыбнулся, уголки губ чуть поднялись. Ох, эта вечная полуусмешка сжатыми губами, она ещё больше её выбесила. Муж это заметил, тяжело вздохнул и опять спрятал взгляд. Вечные вздохи слабака.
— Пап, дай денег в кафе сходить. Тысячи полторы, — без приветствия потребовала сонная Машка, выплывая телесами из свой подростковой комнаты.
— Доченька, я тебе на прошлой неделе давал, сейчас не могу.
— Ну я и не сомневалась. Почему-то у моих подружек, у кого отцы на заводе работают, деньги на кафе раз в неделю есть. Опять буду унижаться и клянчить, чтоб угостили.
— Доченька, ну ты пойми, мы на ремонт стиральной машины много потратили…
Маша не дослушала и хлопнула дверью. Из комнаты громко заиграла современная русская попса.
Нина презрительно поморщилась. Она была уверена, что какие-то деньги у Володи заныканы на непредвиденные расходы. Мог бы и побаловать дочь. Когда она выходила замуж, то думала, что через десять лет он будет ходить в костюме по Москве, а не в этой чёртовой спецовке по Н-ску. Пятнадцать лет назад он был видным женихом, на которого засматривались подруги и чей портрет висел на доске почёта передовиков производства. Теперь те подруги уже в столице, а развитие карьеры мужа остановилось почти сразу после рождения Машки. Бог дал зайку, но без лужайки.
— Никогда не думала, что ты станешь таким неудачником! — кинула вдруг Нина вслед уходящему мужу, закрывая облезлую дерматиновую дверь.
***
Главной работой Владимира Ивановича, которого на заводе все звали Иваныч, было следить за техническим состоянием старого резервуара с нефтью. По неведомым причинам его отставили куда-то на задворки завода и уже лет десять не опорожняли и не ремонтировали. Он и так уже был не новый и совсем прохудился («как и я со своим здоровьем и нервами из-за домашних», — иногда думал Иваныч). Суровые н-ские зимы, осадки потихоньку делали своё дело, и резервуар всё чаще приходилось латать. Ещё Владимиру казалось, что нефть непостижимым образом настаивается, словно забродившее вино, все эти тонны чёрного золота становятся ещё более чёрными, густыми и ядовитыми, и разъедают стенки резервуара изнутри. Конечно, это бред, уверял он себя, он же инженер, что за суеверная чушь?
— Износ основного фонда — 80%, — отчитался он как-то руководству, — дышит на ладан, надо менять, а то в воду уйдёт всё.
Руководство обещало разобраться. Иваныч надеялся, что разберутся поскорее, ещё немного и резервуар не выдержит, а семью кормить надо, жаловаться больше некому и бежать некуда.
Тем утром было особенно темно и холодно. Удручённый утренним скандалом, Владимир достал инструменты и принялся за каждодневную рутину, но мучительные воспоминания упрямо лезли в голову.
— Никогда не думала, что ты станешь таким неудачником!
— Сегодня не хочу, живот болит.
— Тебе премию дадут? В Турцию хочу.
— Опять буду унижаться и клянчить, чтоб угостили.
— Опять за других работать идёшь? Тебе хоть заплатят?
— Пап, я хочу айфон.
— Ты же взрослый мужик, почему у нас до сих пор нет машины?
— Сегодня не хочу, голова болит.
— Когда тебя повысят? Мишку, вон, повысили, Люба шубу прикупила.
— Никогда не думала, что ты станешь таким неудачником!
— Не могу больше! — в сердцах заорал от нахлынувшей волны обиды Иваныч и со всей дури хватил по резервуару разводным ключом. Всю ненависть и злобу, всю подавленность, всю горечь от несложившейся жизни и брака он вымещал на ненавистной цистерне. Он бил и бил, вспоминая слова про неудачника, и металл начал поддаваться, а чёрная ядовитая жидкость устремилась ему навстречу, отзываясь на тьму в его душе.
***
— Хорошо, хоть ещё никто не заметил пока. Что делать собираешься? Пойдёшь признаешься и в тюрьму? А семью кто будет кормить? А стоит ли того вообще эта семья? Ты счастлив, Володя, ответь себе честно? У тебя сплошные скандалы дома. Изобразишь, что всё без тебя случилось? Всё равно тебя стрелочником сделают и — тоже в тюрьму.
Такой вариант ещё есть, крысиный, свалить всё на Витьку. Он тебя попросил подменить, свой пропуск дал, охранник на входе, как всегда, сериал про ментов смотрел, даже глаза не поднял. Может и прокатить, если камеры проверять не будут, а ты быстренько сейчас домой свалишь. «Какой резервуар? У меня выходной сегодня. Нет, новости не смотрел». Ну это ж совсем сучий вариант. Хорошего парня засадят вместо тебя. Вы с ним уже лет семь работаете, он так же латает это корыто, так же пашет ради семьи. Готов грех на душу взять? У него ребёнок маленький. Он не заслужил, всегда хорошо к тебе относился. Да и тебя пару раз подменял. Он добрый такой, котов подбирает. Твою-то мать…
Ох, что же теперь будет? Это же говно всё в окрестные реки и океан утекёт. Сколько раз я говорил начальнику, что ремонтировать его пора. И что? «Работай, Иваныч, мы в курсе проблемы». Доработался.
Что же делать? Самому в тюрьму или Витьку в тюрьму? А всё ради чего? Этой опостылевшей семьи, работы, бега как белка в колесе? А может, ебись оно всё конём? Бросить всё и удрать? Всё лучше, чем эти два варианта. Сегодня как раз самолёт до Москвы. Там шабашить буду. Тысяч сто отложено, на билет и ночлежку хватит…
Решено, самолёт. А Нинка c Машкой пусть подавятся.
Солнце в Н-ске забрезжило первыми лучами.

Илия
Его имя значит «крепость Господня». Мать его и назвала. «Илия, — говорила она его лучистым доверчивым глазам, — так звали моего отца, твоего дедушку. И деда твоего отца так звали. Богатыри они были!» Ей было тридцать, когда он родился, и соседки ворчали «Поздно!»
Мать и сын идут по дороге к старому храму на горе. Белым днем августа и не знают, как быть: в приходе больше нет старосты. Оттого все ждут, трепещут, рассказывают небылицы. И мать с сыном тоже, друг другу. Дорога пыльная и горячая, пробивается сквозь ряды советских многоэтажек. В такой они и живут. Когда мать совсем перестала работать, она начала собирать рамки для фотографий. Тбилисские барахолки щедры! Снимками в изумительных рамках увешаны стены. Тут все они: деды и бабки, сын и обе дочки. Проклятого матерью мужа нигде нет. Илия хранит маленькую карточку в одной детской книжке о пиратах, но Нино об этом не знает. Так ее зовут — Нино. И ее мать так звали. Просветительница Грузии. Поэтому, рассказывала маленькая Нино, бабушка и стала учительницей.
В семье говорили: большая Нино и маленькая. Большая была коренастой, земной женщиной с азиатскими чертами. Она знала, как работать, как руководить, связывала волосы в пучок. Дочь было не отнять от матери, и это изводило большую Нино. От ручек на подоле и молящих глаз, от своей выслуживающейся младшей дочки она бежала в директорский кабинет. Единственная девочка среди двух братьев, после той первой, погибшей младенцем непонятно от чего. Давно, после войны. Одно время маленькой Нино и жить приходилось в школе. Учителя ее любили, а одноклассники не видели. Будто и не было ее и ее ровно подстриженной челки. Кроме двух популярных девочек — те терпеть не могли директорскую дочку. Нино тогда было четырнадцать, грустный отец ее только что умер свою медленную южную смерть, и злость, чтобы не разорвать и затопить всю школу и весь город, и страну до самого батумского моря, потекла тогда внутрь. Никто и не думал, что в маленькой Нино так много места. Ей было двадцать пять, а она все спала с матерью в одной постели — ждала любви.
Бедра ее расширились, талия и запястья утончились, как и мать, она умела казаться. Гулять и на танцы ночью ее отпускали с боем: не прослыть! А Нино хотелось гулять.
— Смотри, чтоб на хату тебя не завезли опять. Умру и так ранней смертью, вот чтобы без приключений, вертихвостка! — говорила большая Нино.
Когда стыдная история однажды приключилась, мать сильно избила дочь. Но сейчас покореженная изнутри директорским присмотром и им же избалованная Нино, душистая и сладкая во всем, наряжалась на танцы и радовалась. Мимо вершины Казбеги, сквозь хребты и над озерами плыли советские восьмидесятые.
Потом Нино вышла замуж. Впопыхах вышла, странно, но думала, что большая любовь. Мать рыдала перед нею на коленях, умоляла, хваталась за подол, но в дом все же въехал Равиль. Он был музыкант, кудрявый троечник, и источал дурацкое незлое тепло. Не было в нем как будто ничего опасного, но большая Нино его все равно опасалась и презирала.
— Деток давай родим поскорее, так хочу много деток и большой дом! Как они будут нас любить, представь себе! — говорила маленькая Нино мужу.
Он чувствовал себя взрослее, сильнее с ней, и шел на заработки и пить. Его время теперь было страшное и веселое. Нино плакала, мать ей пеняла. Время больше не плыло, можно было только хватать его ртом и не чувствовать вкуса.
Нино идет по улице Котэ Марджанишвили. Младший ребенок свисает с одной полусогнутой руки: это мальчик. Нино говорит со старшей девочкой, за что-то отчитывает. Мальчик улыбается наивным светлым лицом. Среднюю девочку не замечают, а она смотрит на брата с обидой, игрушечно грозит ему бутылкой воды, понарошку, но с настоящей отчаянной злобой бьет водою. Не касаясь, но замахиваясь. 0,33 литра помещаются в ладонь; зависть по лицу. Мальчик следит глазами за бутылкой, улыбается. Редкость такой цвет: голубой, всепринимающий.
Когда отец Эки, Майи и Илии наконец умер от пьянства и беспомощного одиночества, Нино обрадовалась. Но не заметила, кажется, и сама. Она сходила в церковь, заказала все, что нужно, но фотографии из дома сразу убрала. Зато фотографий большой Нино прибавилось. Она умерла за десять лет до того, и с тех пор злость стала вытекать из маленькой Нино, капать куда попало. После смерти Равиля, казалось, она хочет разрезать детей пополам и вытрясти из них отцовские остатки.
Старшая печальная Майя, похожая на лягушонка, злилась на нищету, с которой они без отца и бабки впервые столкнулись. Средней Эке было только стыдно. За себя, за отца, за мать, за всех. Казалось, что стыд и тяжесть несделанных выборов лежали на ней, невысокой, черноволосой, похожей на серьезного мальчика. За всех нужно выбрать, всех отпрощать. За брата она плакала, хотелось выбрать и за него. Эка злилась на отца, что бросил ее, больше всех. И чертила, чертила свои проекты, стесывала за ночь по нескольку карандашей.
Майя и Эка сбежали. Так думал Илия. Старшая, Майя, еще при отце. Илия считал, что ей досталось больше него и чувствовал себя обделенным. Средняя, Эка, уехала к маститым архитекторам, когда выиграла в Италии стажировку, и через год перестала звонить матери. Только Илия и остался. И сам он не знал, отчего так. Самый младший, он не помнил отца, когда тот еще говорил с ними. А видел его только несчастным, и пьяным, и жалким, и верил в маленькую Нино. Он верил, что она слабая и нуждается в нем, мужчине, чтобы стать счастливой, доброй и большой, пока глубоко в его животе сидела ее ненависть.
Илия и мать идут по дороге к храму и крестятся на бетонный каркас.
— Тут будет церковь! — говорит маленькая Нино. И Илия улыбается.

Исповедуйся мне, Шницель
Если б я имел большое тело и сильный кулак, то врезал бы отцу по его красной ржавой щеке, чтоб он почувствовал боль. В тринадцать лет больше всего на свете мне хотелось, чтоб отец испытывал обжигающую боль при каждом движении челюсти, как напоминание о гнусном намерении забить двенадцать коров; забить для пасхальных столов этих истинных католиков, которые будут прославлять Воскресение и облизывать косточки моих любимых Бетти, Эльзы или Шницель.
К сожалению, вместо тяжелого кулака у меня была лишь куриная лапка, и отец переломил бы её двумя пальцами, поэтому я пытался найти другое решение. Утро поднималось, я мог бы ещё успеть выпустить животных в лес, но декабрь всё равно погубил бы их, поэтому единственным способом сохранить им жизни был разговор с отцом.
Я надел свитер и беззвучно пошагал в столовую, где мать уже подавала завтрак. Мерзкое чавканье отца доходило до второго этажа вместе с хриплыми словами о предстоящей бойне и выручке, которую он получит с каждой туши.
— Эльзу, конечно, дорого не продашь! Старая! — услышал я отчетливо.
«Убить и продать Эльзу, единственную на ферме, кто помнит ещё деда», — вздрогнул я и продолжил ловить звуки снизу.
— У Радуги должно быть отличное мясо, она молодая, но не очень подвижная. За неё буду просить больше, — вышло из отца вместе с крошками.
«Радуга, это я ей придумал такое имя», — пронеслось в голове, и я спустился в столовую.
Тихо отодвинув стул, я сел за стол, отец даже не заметил моего появления и взахлеб говорил:
— Афродиту и Симону уже заказали Штайнеры, а Пятнышко придется отдать мэру. Бесплатно. Одну оставим себе, устроим завтра пасхальный пир и пригласим святого отца. Да, обязательно надо освятить мясо. — На этих словах отец залил в себя рюмку настойки и перевёл взгляд на меня. — О, Филипп, ты дорос до настоящего фермера или пока лишь пастушок? Пойдешь на бойню?
Внимание отца отразилось во мне мелкой дрожью, все мысли и аргументы, заготовленные и стройно расставленные в голове, разбились о тот ужас, который я всегда испытывал рядом с ним. Тело онемело, ватные конечности повисли под столом, и я уже был готов кивнуть ему, как вдруг из мясорубки детских страхов всё-таки просочилось:
— Отец, может, не надо! Не надо убивать их!
Кривая отцовская улыбка тут же исчезла, красные ядовитые прожилки выступили на зрачках, он резко встал, ударил своей медвежьей лапой мне по уху и заорал:
— От кого тебя мать родила?! Такого нежненького и сопливого! Уж точно не от меня, — и вмазал мне еще раз. — Пошёл вон! Вечером разберусь с тобой, уродец!
Я взлетел в свою комнату и зарыдал. Не от боли, а от отчаяния, которое окончательно похитило меня. Смятая жалкая фраза не помогла, отец пойдёт до конца.
«Не надо убивать их. — Мой еще не сломанный гормонами голос звучал в пустоте. — Не надо убивать их!»
В слезах и полусне я пролежал до вечера, пока не услышал громкий, не пощадивший спящих хлопок двери.
Он вернулся!
Не останавливаясь на кухне, направился к лестнице. Скрип первой ступеньки, потом резко пятой. Половицы второго этажа затряслись, и я метнулся в угол, накрыв голову подушкой.
БАХ! Отец вышиб ногой тонкую липовую дверь и гигантской кучей ввалился в комнату, которая тут же сжалась в размерах и заполнилась вонью гнева и навоза.
— Пошли, щенок! — заорал отец. — Я убью тебя!
Он выволок меня в тонкой пижаме на мороз, и я побрёл перед ним, каждую минуту получая толчки то ли палкой, то ли (Господи, только не это!) ружьём.
— Иди к своим подружкам! Полюбуйся на этот фарш, из которого твоя мать сделает отменные котлеты, — заржал отец перед входом в хлев, и складки на его животе затряслись.
Запах крови, сена и, кажется, ещё молока расходился тупым отчаянием: ВСЕ БЫЛИ МЕРТВЫ и, как в амфитеатре, развешаны по кругу. Отец вытолкал меня на середину сцены, схватил за голову и велел смотреть на каждую тушу.
— Сопляк, коровий заступник, — крикнул он и опустил правую руку во внутренний карман жилета. Память тут же обдала меня воспоминанием об отцовском револьвере, и я потерял сознание.
Когда очнулся, отца уже не было рядом. На его месте лежала потёртая карманная библия, а через маленькие окна сочился ледяной фонарный свет, оголяя красные тела коров.
Схватив книгу, я побежал к выходу и резко толкнул дверь плечом. Замок был заперт. Несколько минут я простоял, вглядываясь в щели между досок, из которых тянуло прохладным воздухом.
Надышавшись, я повернулся и медленно перевел взгляд на первое тело.
«Эльза, — опознал я самую старую корову на ферме. — Эльза!»
Подвешенная за задние ноги, обгоревшая, ободранная, с распоротым брюхом.
Мне вдруг вспомнился щенок, который сдох несколько лет назад. Я держал его мертвое тело, пушистое и тяжелое, но не находил в нём жизни и никак не мог понять, куда она ушла. Стук колес! Удар! И ничего нет!
«Где ваша жизнь теперь? — тихо спросил я и начал перечислять имена своих подруг: — Бетти, Радуга, Афродита, Пятнышко, Симона, Шницель, Грета, Ида, Люси, Миледи, Астра».
Я узнал каждую: по мельчайшим изъянам рогов, известным только мне, по не обгоревшим остаткам шкуры, по толщине шеи и ног, по форме копыт, но самое главное, по тонкому, почти невидимому свету, который они еще продолжали излучать. Свет очень быстро гас и вскоре превратился в крошечных мотыльков, застывших возле меня.
«Надо отпустить их», — решил я и достал со дна серого мешка буханку хлеба. С трудом отломив кусок, я положил его корове в рот. Хлеб выпал. Я отломил еще и наколол кусок ей на зуб, отошёл на два шага назад и начертил в воздухе крест синей библией.
— Теперь исповедуйся мне, Шницель! — уверенно произнёс я, и от этих слов мотыльки задребезжали и пролетели сквозь крышу.
Вместе с ними поднялся и я, тринадцатилетний подросток, взлетел и с высоты увидел, как у двери хлева стоит мой отец и дрожащими пальцами пытается нащупать в кармане ключ. Без привычной резкости и тупости он отпирает замок и тянется открыть дверь, но останавливается, оборачивается, кидает замок на землю и медленно шагает в сторону дома, закуривая тяжелую сигарету.

Когда загорится красный
Некрасов всегда говорил, что думал. Из-за этого имел репутацию человека принципиального и несносного. А репутацию журналиста — выдающегося и скандального.
Доподлинно о Петре Некрасове было известно немного: бездетный, безбожный, пьющий. Женатый лишь однажды, но уже девять лет как вдовый, а ныне живущий с какой-то Лизой. О ней он часто упоминал, но ни с кем не знакомил. Впрочем, любым скучным фактам про Некрасова друзья и недруги предпочитали анекдоты. Например, как однажды Петя прямо в кабинете шефа снял штаны и подтер себе зад авторским договором (шеф взъелся за колонку, в которой Некрасов назвал владельца газеты вором). Или как Петю вывели в прямой эфир популярной радиостанции, чтобы он рассказал о последних событиях с места взрыва на шахте, где погибли горняки. Когда ведущие в студии спросили: «Какие новые подробности стали известны к этому часу, Петр?», он ответил, что ничего нового нет, поскольку все и так давно знают, что… После чего в цветистых выражениях объяснил, что он думает о главе горнодобывающей компании, главе региона, главе роснедр, главе минприроды, главе кабинета… Звукооператор успел вывести его из эфира за секунду до того, как Некрасов добрался до высших эшелонов власти.
Этот случай стоил Глебову, главному редактору радиостанции, нескольких неприятных бесед в нескольких высоких кабинетах, но Некрасова он выгнать из эфира не дал. Их с Петей дружба была постарше как минимум одного из хозяев тех кабинетов, а самоуверенные молодые люди Глебова в последнее время раздражали. Схожая в повадках и манере одеваться молодежь заполонила эфир и коридоры его радиостанции. Глебову не нравилась их энергичность, привычка с ходу переходить на «ты» и как сплетню перетирать несмешную шутку про глебовский гастрит и Петин жгучий характер: Хворь и Крапивыч, гы-гы-гы! Главное, они и понятия не имели, что перевирают не классика, а бывшего их с Петей главреда, который еще с четверть века тому назад прозвал прижимистого Глебова и пьющего Некрасова Хорем и Калинычем.
Не считая глупо изуродованных прозвищ, за прошедшие годы дружба Некрасова и Глебова никак больше не пострадала, поэтому в годовщину двадцатилетия радиостанции в эфире Некрасов, как и всегда, был в списке гостей.
Накануне праздника ему позвонила Варя, ведущая утренней программы:
— Все мажоры завтра в сборе. Ты как, Петь, придешь?
— Буду. Надо ж будет глаголом жечь. Глебушка такое вряд ли.
Глебов был человеком честным, но гибким, и эту его эластичность Пете сложно было переварить.
— Ха-ха. Значит, узнаю тебя по бутылке с горючей смесью, — пошутила Варя и повесила трубку.
Помолчав секунду-другую, Петя бросил через плечо:
— Слышишь, Лиза — «мажоров»! Опять, значит, пластические этюды в программе вечера. Тошно, ой-е-е-ей. Тошно.
Лиза не ответила. Она умела слушать, и это было главное: Петя знал, что ей не все равно.
Вечером следующего дня он начал собираться, вновь замечая, как много стариковского появилось в его движениях. Ноги с недавних пор ставит на всю подошву. Глаза, даже в очках, щурит сильней. С мелкими пуговицами управляется медленней. Старые рубашки ему жмут. Джинсы, напротив, сидят свободно. Пете неловко перед Лизой за свой выросший живот и атрофичные ноги, поэтому переодевается он в ванной. Закончив с одеждой, пару раз проводит щеткой по лохматой бороде, всовывает ноги в разбитые ботинки, вешает на плечо сумку и, крикнув «я ушел!», захлопывает за собой дверь.
К дворцу приемов, где отмечался день рождения, Некрасов прибыл одновременно с крупным министерским чином Гординым. У входа дежурили дюжие ребята в черных костюмах. Они остановили Некрасова и жестом показали, что первым пройдет гость, подъехавший на машине со спецномерами. Петя возражать не стал. Телохранитель распахнул заднюю дверь автомобиля, профессиональным взглядом просканировал местность и, раскрыв зонт, принял под него лощеного человека с гладко выбритыми щеками. Тот ступил на мостовую; в желтом свете фонарей блеснул острый носок дорогой обуви. Гордин сразу заметил Петю. В потертой дубленке, одышливый — выглядел он нездоровым, немного жалким даже. Первый в этом году снег лип к линзам его очков, таял, и мокрые стекла рикошетили искрами уличного света. Казалось, у Пети вместо глаз лазерные лучи.
— Ты чего это мокрый, Петь? От слез? — Проходя мимо Некрасова, Гордин сверкнул из-под зонта барской улыбкой.
— Оплакиваю поправки в закон о печати.
— Ну-ну, не стой тут, пойдем вместе. Расскажешь, что тебе не нравится.
— Вам и без меня расскажут, Александр Борисыч. Идите, а то тост в свою честь пропустите.
В итоге вошли они почти одновременно. Глебов подобострастно обрадовался Гордину и искренне — Пете. Официант подошел с подносом, с которого все трое взяли по бокалу шампанского.
— Замечательно, — сказал Гордин неизвестно чему.
— А чего, водку не наливают? — пробурчал Некрасов.
— Из администрации прислали букет, — хихикнул Глебов.
Со стороны троица выглядела неестественно, как будто их держали вместе под дулом пистолета.
— Варя Морозова еще с вечера предупреждала про мажоров. Надо ее найти, сказать спасибо.
— Мажоры, Петя, в Швейцарии на лыжах катаются. А здесь — служивые люди.
— Служба ваша и опасна, и трудна. Известное дело: можно наработать на шале в той Швейцарии, а можно на геморрой.
— Ничего, теперь есть хорошее средство лечения. Закон о печати называется. Знаешь, как работает? Пустил пару раз Петю Некрасова в эфир, послушал, как он ругается нехорошими словами, и вынес предупреждение радиостанции. Вынес еще пару — и все, нет больше той радиостанции. Или того Пети на ней нет. Это уж как договоримся. Этим способом можно ПОЛНОСТЬЮ излечиться от геморроя.
— Ладно вам, Александр Борисыч. Какие предупреждения. Празднуем же. Петя не вас в виду имел.
— Ты за меня, Глеб, не говори, кого я имел, а кого нет.
— Не заводись, Петя. Алексан Борисыч по-дружески нас предупредил. Чего на рожон лезть?
— Я на рожон не лезу, а ты в голову мне не лезь. Совсем размяк. Кривляешься тут…
— Размяк?! Я размяк, Петя!? Это ты мне говоришь, который двадцать лет только и ходит по кабинетам, да стоит там, как школьник, выслушивает…
— Выслушивает? Или выслуживает?
— Ну ты и…
Категорически не желая услышать, кем его мог бы назвать старый друг, Петя несколько раз сморгнул. Картина, которую ему нарисовало воображение, рассыпалась: он все еще стоял на улице, шел снег, окна мерцали теплым светом, а в проеме застыла широкая спина гординского телохранителя. Через секунду тот скрылся; Петя остался по эту сторону высокой, лакированной, как катафалк, двери. Посмотрел пару минут на силуэты в окне, а потом застегнул дубленку, поправил сумку на плече и побрел к метро.
Уже дома, сидя в кресле с рюмкой дешевого коньяка, он признался Лизе:
— Я сегодня запросто мог похерить дружбу. Из принципа. Но в голове — в первый раз в жизни, представляешь? — вдруг красная лампочка включилась. Может, это старость, Лиз? Не пузо и шаркающая походка, а это: когда загорается красный свет. Что думаешь?
Он посмотрел на портрет, висящий на стене — Елизавета Вторая ответила понимающим взглядом. Британская королева тоже уже была немолода, и в голубых монарших глазах Петя видел только сочувствие.

Красный мальчик
Буланова, оперативный сотрудник со специализацией на ворах-карманниках, дежурит в отделе. В маленьком кабинете пахнет кофе. Рабочее место Булановой узнать легко: под её столом нет грязных резиновых сапог. Свои сапоги она моет с мылом и хранит в шкафу. Сейчас сезон: в лесу часто теряются грибники, и Сан Саныч поднимает «на прогулку» весь угрозыск. В шкафу слева висит светло-голубой плащ, справа — форменная курточка. На столе — стопки бумаг, карандашница, телефон, детская фотография сына Серёжи и собранный им же кубик Рубика. Этот кубик никому не давал покоя, всякий воришка, приходящий на отметку, тянулся разобрать, и однажды она залила кубик клеем. На окне у Булановой герань. Она отучила оперов выливать в цветочные горшки недопитый кофе, и герани теперь совсем хорошо. Рядом стопка газет, на газетах — стакан, в стакане плавает косточка авокадо. По стене развешаны грамоты за стрельбу.
У Булановой острые черты лица, нос и верхняя челюсть выдаются вперёд. Её начальник Сан Саныч однажды сказал: родись она мужиком, носила бы бороду и держала саблю под кроватью.
Буланова допивает кофе, встаёт вымыть чашку. Звонит телефон. Сан Саныч сообщает:
— Кафе «Уют» знаешь? Езжай. Возьми с собой Щипцова.
— Что там?
— Красный парень, — отвечает Сан Саныч. — Хозяйка этого «Уюта» только что сообщила, что в её кафе сидит парень красного цвета. Говорит, как будто сварили его.
— Кровь? Ожоги?
— А, чёрт их разберёт. Вроде нет. Говорит, подозрительный парень, три чебурека съел.
— В самом деле, подозрительно.
— Посмотри для проформы. Она обещала придержать.
Буланова надевает плащ, зовёт Щипцова. Они садятся в уазик. «Когда только зубы вылечит? Вонь на всю машину», — думает Буланова о Щипцове.
Кафе «Уют» нехорошо в любое время года, осенью особенно. На стенах пятна сырости, издалека пахнет мочой и прогорклым маслом. Буланова читает объявление на двери: «Коллективная чистка кармы по четвергам в 19:00» и хмыкает. Она велит Щипцову остаться у двери, входит в кафе одна под мяуканье французской певицы по радио.
Парень всё ещё сидит в углу зала, что-то жуёт. Лицо красное, рукава натягивает изо всех сил, а руки — как у солдатской прачки. Заметив Буланову, щурится. Ух, колючий. Она прикидывает: парень — ровесник её Серёжи, лет шестнадцать-семнадцать, — и вздыхает. У самой двери хозяйка кафе «Уют» протирает стол слабо разведённой хлоркой из тазика. Буланова кивает этой крашенной впрожелть толстухе. Больше в кафе никого нет. Буланова делает знак Щипцову, и напарник входит в зал. Красный парень вскакивает, увидев форму, но тут же оседает обратно на стул.
— Как зовут? — спрашивает Буланова.
Парень молчит и прячет руки.
— Что это? — свистит Щипцов.
— Забор красил, — отвечает парень.
— Прямо Том Сойер, — улыбается Буланова. — Не мусоль, хуже сделаешь. Я эти химловушки знаю.
— Так это что… — тянет Щипцов и умолкает, как будто сам сообразил.
— Ловушка, такие обычно в кассу с выручкой прячут, — говорит Буланова. — Предсказываю: кто-нибудь с минуты на минуту заявит нам о хищении… чего, дружок? Сколько денег-то взял?
Парень опускает голову ниже. Прикидывает, удастся ли ему оттолкнуть стервозную тётку, проскочить слева от мента и вылететь в дверь. Буланова чуть шире расставляет ноги.
— А я сразу поняла, что-то тут нечисто! — подаёт голос хозяйка кафе. Она выпячивает грудь, точно ждёт медали за бдительность.
Парень срывается с места. Падает стул вместе с грязной курткой, висевшей на спинке.
— Держи его! — командует Буланова Щипцову. Она не хочет пачкать плащ.
Мальчишка, как только оказывается в руках Щипцова, тут же и скисает. Признаётся, что обчистил магазинчик в деревне Баксаковка. Пролез через хлебное окно, ну, в которое хлеб разгружают. А в кассе с наличкой оказалась эта дрянь красная. Как жахнет в морду! Такое палево… Один был, конечно, один. Сам всё придумал. Буланова кивает, будто верит, но, конечно, чувствует: был сообщник. Ладно, разберёмся. Толстуха прижимает ко рту тряпку и радостно откликается:
— У меня баушка в Баксаковке живёт! Нет, я этот магазин точно знаю! Вон чё…
— Деньги где? — спрашивает Щипцов.
— Потратил…
— Когда успел? — интересуется Буланова, оглядывается на толстуху и велит мальчишке: — Пойдём-ка в машину.
— Н-не надо, я всё верну, нате, берите. — Он достаёт из карманов мятые, испачканные красным купюры, поднимает с пола куртку, вытряхивает из неё пачки сигарет, жвачки, бросает добычу на стол. — Вот!
— Сколько тебе лет?
— Шестна-адцать.
Взвизгивает дверь кафе. Входит полноватая девчонка. Без интереса смотрит на компанию, на деньги, разбросанные по столу, швыряет сумку в угол, как будто домой явилась.
— Ты чего не в школе? — подступает к ней хозяйка кафе.
— Ой, мать, не токсикозь, — отвечает девица.
Буланова видела эту девицу на Серёжиных школьных фотографиях. Это Илона, его одноклассница. А желтоволосая блонди, оказывается, её мать. Надо бы чаще бывать на родительских собраниях. Буланова выходит из кафе, оборачивается и замечает Илону в окне. Неприятная девица. Есть в ней что-то грязное. Надо расспросить Серёжу, мягко так, чтобы не разозлить.
Но, когда она возвращается домой, сын спит. Она смотрит на часы: девяти нет, а Серёжа в темноте под одеялом. Буланова идёт умыться, садится на край ванны. Она рано начала седеть, в остальном же выглядит моложе своих тридцати девяти. Никакой бабьей дряблости ни в теле, ни в лице, движения ловки, уверенны, ни одного жеста в пустоту. «Тобой орехи колоть можно», — говорит Сан Саныч. А ещё он говорит, что та тетёха из магазина в Баксаковке завтра приедет с корзиной деревенских даров для Булановой, уж не побрезгуйте, спасительница наша, все бы так служили, и в стране был бы порядок.
Буланова моет руки, долго глядит в грязную раковину. Потом опрокидывает бачок с бельём на бледно-розовый кафель. В прихожей звонит телефон, и её сердце повисает на одной тоненькой ниточке, готовое вот-вот оборваться. Она перешагивает кучу белья, идёт в прихожую и берёт трубку.
— Алё, это Илона, — говорит наглый голос.
— Серёжа спит, — отвечает Буланова.
— А я не к нему. Я к вам. Разве вы не догадались?
Серёжа слышит звонок. Он лежит под одеялом в одежде, весь потный и больной. Он думает об Илоне, о её большом рте, толстых ляжках. Илона — чудовище. Что она с ним делает? Вертит как хочет. Он летит сквозь сжатую щель, по лунной тропе ныряет в глубину, в самую темноту созвучий, всегда вниз-вниз, опускается на мягкий ил, где можно навсегда остаться, но в последний раз отталкивается со дна. Непроизнесённое имя смыкается вокруг языка колечком. Ему противно, его влечёт к ней. Она сказала: будут деньги, уедем втроём к морю. Везите меня, мальчики, к морю, сказала она и захохотала таким жирным, гадким, с ума сводящим смехом. Серёжа закрывает глаза. Низ живота каменеет, рука сама тянется под резинку трико. Он будет терпеть третьего. Лишь бы ещё раз коснуться большого рта Илоны.
Мать ходит и ходит за дверью, чёрт её возьми. Серёжа её ненавидит. Она правильная, душная. Так и хочется кинуть ей в лицо гнусность. Серёже давно снятся сны, где мать принимает отталкивающее обличье, и после пробуждения трудно отделаться от этих чувств. Илона говорит, что вылила на свою мать тазик с хлоркой.
— Заболел?
Мать входит в комнату, он выдергивает руку из-под резинки, зарывается в одеяло. Да что ей надо?
Она властно высвобождает его голову, трогает губами лоб и говорит:
— Идиот.
— Что? — спрашивает он, обмякая и тяжелея всем телом.
Мать включает лампу. Он натягивает на голову одеяло, но уже понимает: зря.
— Вещи теперь только сжечь, — говорит она.
— Ма…
— А с кожи три дня будешь оттирать. Я эту штуку знаю. Идиот.
Он замирает. Надо же, мать и вдруг — этот взгляд и невыразимое. Он уже готов скукситься, заныть: всё она, ведьма Илона, у неё бабка в Баксаковке, это Илона их в магазин воровать отправила, на море, говорит, уедем, мальчики, а сейчас так страшно, кругом красное и тошнит, пожалей меня, пожалей меня, пожалей…
— Мам, я…
— Завтра, всё завтра, — говорит мать, морщится, словно раскусила горькое, и выключает лампу. Серёжа думает, она скажет ещё что-нибудь, а её уже нет.

Круг
Много лет назад в такие же серые дни по одному ничтожному звуку он учился различать, в каком настроении родитель приходил. Могущественный хлопок двери, который пугал или вселял надежду. Пустяк, от которого зависела его жизнь.
Каждый вечер в том месте, где сердце, возникал безумец, строчащий на швейной машине, быстрее, быстрее, так быстро, что вдох не сделаешь.
Шуршание, ключ в замке, щёлк-щёлк, секунда и глухой хлопок.
Беспокойное тельце вжалось в сиденье. Сегодня этот день. Сглотнуть никак не получалось.
Сейчас зайдет.
Он смахнул несуществующую пылинку с тетради. Оглядел, словно в поисках поддержки, безупречно убранный письменный стол.
Сейчас зайдет.
Швейный безумец стучал так, будто его заклинило на предельной скорости.
Но первым зашел запах, он по-хозяйски занял небольшое пространство детской комнаты, кислый, противный, забрался прямо в нос. За ним вошел низкий, хриплый лязг: «Ты что это здесь?»
Отделился, как тень, кто-то третий. Он безучастно смотрит, как шатающийся человек замахивается на сгорбленную фигурку, сидящую за письменным столом.
Человек так органичен в этой чужеродной роли, вымещает-вымещает-вымещает несправедливости своей судьбы на том, кто ждет защиты и поддержки. Каждый тумак и оплеуха — вечными гвоздями заколачивают дверь между двумя родными по крови мужчинами.
«Ненавижу, ненавижу», — стучит в висках, но никому не слышно.
Обессилевшая фигурка сползает под стол. Пальцы растирают по лицу что-то липкое, а человек, тяжело дыша, уходит.
«Никогда, слышишь, никогда!» — Третий прорастает в фигурку, обнимает ее.
«Ты вырастешь, это закончится, больше никогда».
Липкое засыхает. Родитель возвращается, от его извинений гадко и тоскливо. Фигурка уже почти не верит, что это в последний раз.
Она зажмуривается и увеличивается, расширяется в бархатной темноте, вырывается из привычного контура, покидает серый, с вечным тухлым запахом завода городишко, отделяется и вырастает. И он уже не там, он здесь, в другом пространстве, пробует новую жизнь, думая, что отметины прошлого никому не видны.
***
«Ну что, теперь ты важная фигура!» — Чья-то ладонь дружески хлопает его по плечу. Дежурная улыбка. Рукопожатие. Кивок. Взгляд упирается в окно и тонет в белых и красных потоках многополосной бетонной реки.
Этот город не стал ему родным, нечеловеческое упорство и безустанный труд позволили лишь приблизиться к его равнодушному каменному сердцу и удостоиться мнимой частицы расположения.
Желтая вереница юрких такси уносит его к самому первому выстраданному заработку, бесконечным ночным сменам, дешевой еде и ободранным перилам колледжа. Потом еще две изматывающие работы, институт, где он не вспомнит ни одного имени или лица, только тысячи заполненных аккуратным почерком тетрадей в клетку, стажировка с ничтожной оплатой, дни, когда он был близок к тому, чтобы сдаться, и дни, которые не позволяли ему этого сделать.
Израненный одиночеством изгой, он толкал себя вперед по враждебному пути, с болью замечая, как другие замедлялись на пит-стопах и наполнялись энергией небезразличных, родных, любящих семей и, несмотря на остановки, с легкостью обгоняли его, обдавая беспечностью.
В такие минуты он снова яростно ненавидел, сжимал до боли кулаки, замахивался и, потрясенный, вдруг останавливался, сдувался и торопливо, как клоуна, выпрыгивающего из коробки, запихивал образ родителя обратно, в самый темный угол памяти.
Окунался в бессонные рабочие ночи и успокаивался в их безлюдной размеренности. Благосостояние его росло, каждый новый стежок жизни он доводил до совершенства, старательно прятал уродливо сшитые куски прошлого.
Был короткий период экспериментов, которые он прекратил, ведь каждый трип подсознание, обманутое запрещенным веществом, выкатывало переливающийся и ослепляющий, знакомый до ужаса контур, который брал его за подмышки, чтобы бросить в ледяную воду Тавды, гордо вел его по шуршащим листьям в первый класс, терпеливо учил заезду в гараж, сидя на пассажирском сидении «козлика», а потом неожиданно глушил его своими светящимися кулаками.
Осторожный перезвон хрусталя и чей-то знакомый смех заставили его обернуться.
Он смотрит на нее и не может вспомнить, когда дрожащей рукой доставал бархатную коробочку из кармана пиджака, осторожно, боясь спугнуть, касался ее пальцев, потом сжимал их в холодном салоне скорой, безостановочно пересекающей пространство города, спешащей к месту рождения новых людей.
Как десятки часов спустя всматривался в удивительно маленькое сморщенное лицо и искал себя, но не мог ничего увидеть, потому что волна страха и еще какое-то свербящее чувство из прошлого топили его сердце.
***
С тех пор что-то сломалось внутри, но он не признавал. Он управлял жизнью на автопилоте, как до предела уставший водитель, который едет по знакомому маршруту и, кажется, держит управление под контролем, проваливается всего на мгновение, но открывает глаза, когда капот уже сминается от удара.
На побелевших костяшках руки что-то липкое.
«Чья это кровь?» — хочет звучать он, но зубы сжаты.
Беспомощно оглядываясь, он обнаруживает себя в небольшой детской комнате. Под столом слышится шорох. В изумлении покачиваясь, он осторожно опускается на одно колено, затем на второе, заставляет себя наклонить голову и заглянуть под стол.
Руки дрожат, сглотнуть никак не получается, зрачки расширяются, моментально впитывая весь ужас, его отбросит и прижмет спиной к стене. Он сползет на пол, руки обнимут колени, и всё тело содрогнется от рыданий.
Осознание бесцеремонно зайдет внутрь и всё расставит по местам.
Он строил крепость вокруг себя, он ее укреплял, он делал всё, чтобы родитель больше никогда не мог приблизиться к нему, он методично выжигал прошлое и его героев, а зло проросло в нем, как сорняк, неприметно и глубоко.
Усилился шорох, и чьи-то детские руки неуверенно обняли его: «Пап, ничего, не плачь, я знаю, это в последний раз».

Люда. Пейзаж одной души
1
«Напиши мне, напиши, — лихорадочно шепчет Люда, выскакивая на крыльцо. — Напиши мне, ради бога. Я уеду из глуши. Отчего же всё так долго?..» Люда и сама не замечает, как начинает думать стихами, и деревянная дверь, за которой храпит пьяный Гаврилыч, захлопывается за ней, как крышка гроба. И Люда выпархивает на волю, воскресшая, юная, легкая, господи, куда только делись все эти долгие пятьдесят девять лет?
Люда хорошая, но любит мужиков. Зато уже три квартиры своих: покойного мужа, покойной свекрови и теперь Гаврилыч на подходе. Поэтому она каждый день благодарит Бога за посланное ей счастье, ей не надо сидеть санитаркой в комиссии по инвалидности, а можно ходить на нудистский пляж каждый день, уловлять в сети дачников и рыбаков — это у нее главное занятие.
Люда спешит на пляж, там уже ждет Пашенька, подруга и феномен. Пашенька происходит из древнего княжеского рода, когда-то она была актрисой, играла в столичных театрах и даже снялась в сериале, а потом судьба ее низвергла в эту полудеревню, и Пашенька живет теперь в двухкомнатной квартире с мамой, братом, мужем и тремя котами, однако смирилась («Это мой крест», — говорит Пашенька). Она очень грамотная и набожная, знает все молитвы, а по вечерам читает старинную Библию. Поэтому с ней можно обсуждать разные тонкие вопросы, например, попадают ли старые проститутки в рай, и если да, то на каких условиях?
Пашенька нигде не работает, потому что она птица небесная, ее питают Господь и Люда. Вчера вот дала груш и кабачки, а в прошлый раз приносила вкусный чеснок и петрушку. Люда всё крадет у соседей, абрикосы крадет, сливы, вишни, и картошку тоже, постоянно. «Ты мой Робин Гуд», — говорит Пашенька.
— Ну че? Написал че-нибудь? — спрашивает Люда, увидев Пашеньку, и сердце её замирает в сладкой тоске.
— Написал! — и Пашенька протягивает заветный телефон с эсэмэсками.
Это ей пишет Булыгин, музыкальный писатель из Петербурга. Он живет в Озерках в собственном доме, а в саду у него поют соловьи. Надо сказать, что главный секрет Люды — это огромная пизда, она у нее самая большая на всем пляже, и об этом знает весь местный бомонд. Неделю назад Пашенька и говорит, мол, давай мы твою дырку в Питер отправим, пусть они там все ахнут. Ну, сделали фотосессию: Люда в черных очках, Люда в залихватской бейсболке, Люда без ничего. Пашенька всё отправила по ватсапу виртуальной подруге Юльке в Питер, а та разослала своим, вот дошло и до Булыгина, а он теперь шлет эсэмэски восторга и признания.
«Ты роза таинственная, лилия чистоты, башня Давида, врата Небесные, дом драгоценный, хранилище завета, твое лоно — источник радости…» — читает Люда. «Я башня Давида…» — повторяет она, и сладкий наркотик затуманивает ее сердце.
2
Эсэмэски идут водопадом, слетаются воздушными стаями, а потом цветут всю ночь в Людиной душе. Каждый день Люда бежит на пляж, только уже не ради земных хуев, а ради небесных слов. Неделя божественной любви пролетает как одно мгновение, но однажды, конечно, все обрывается: Булыгин исчезает из эфира, а Юлька пишет что-то мутное про запой и юную певицу сопрано, которой надо дать будущее. Люда не верит, и каждый день снова, как солдат, выдвигается на пляж.
Нынче туда пришла Пашенькина подруга Жаклиндра. Вообще-то его зовут Женя, это красивый мальчик с фигурой футболиста и большой штукой между ног, но толку с того никакого, Жаклиндра ходит в алом парике, потому что она женщина, и по вечерам устраивает засады в общественных туалетах. «Иначе ее не возбуждает», — говорит Пашенька. Жаклиндра тоже любит приобщаться к мужским членам, но и духовными вопросами интересуется. Сегодня они обсуждают с Пашенькой, может ли человек считаться верующим в тот самый момент, когда он сосет хуй?
— Конечно, — говорит Пашенька, — но только если при этом он верует в Господа Искупителя нашего.
— Дак какая же это вера, если он совершает страшный грех, ведущий в геенну?
— Хуесосание не страшный грех, — авторитетно говорит Пашенька. — Если ты делаешь это с молитвой, перекрестившись, благословившись, памятуя Славную Владычицу нашу, присно Деву Марию, и всех святых, то большого греха нет. Все грешны. А небом нам даровано прощение грехов.
Люда слушает без интереса, ведь все слова мира теперь пусты для нее. Все жаворонки нынче вороны, а она ведь и в церковь давеча ходила, первый раз в жизни, три свечи поставила: одну за Пашеньку, чтобы было у нее много золота, другую за Жаклиндру, чтобы послали ей много крепких членов, а третью за себя, чтоб была у нее любовь неземная. Но… вести от Юльки из Питера неутешительные: Булыгин больше не пишет, и уже никогда не напишет.
3
Шестой час. Затосковала горькая душа по неизвестной родине, закричали петухи, проснулся Боженька и засветил утреннее солнышко. Люда открывает глаза, новый день не радует ее, как раньше. Тыква снова стала тыквой, Люда больше не башня Давида, она просто Люда, с храпящим Гаврилычем и тремя пустыми квартирами, такими же пустыми и бесхозными, как и она сама. Люда встает, голая, отчаянная, идет в другую комнату, там ждет ее высокое зеркало любви. Люда пристально смотрит в зеркало, где муть, разглядывает себя и по привычке шепчет: «Я роза таинственная, башня Давида…», вчерашний самогон дает о себе знать, но что-то внутри вдруг обрывается. Из зеркала смотрит непонятная старая тетка с дряблым телом и обвисшими сиськами. Люда недоумевает, берет помаду и пишет поперек себя большими буквами слово ХУЙ. Люда стоит и будто гипнотизирует себя, в какой-то момент ей кажется, что душа ее отлетела от тела, как воздушный шарик, и уткнулась в углу комнаты. В голове раздается голос души: «Люда, Люда. Твои глаза облезлые озера, в них плещется черная вода. Твое лицо похоже на вареное яблоко, желтое, брязглое, у тебя морщинистые щеки. Твои глаза круглые и желтые, я знаю, это такие старые пятаки, на которых гадает тетя Таня, и когда ты просыпаешься после бутылочки, в них плещется белая муть, как бывает в перегоревших лампочках. Глупая Люда, зачем ты стоишь передо мной голая, зачем ты распустила свои старые седые волосы? Теперь ты похожа на мертвую русалку, твои губы извиваются, расплываются в похотливой улыбке, ты поднимаешь руку, я вижу дряблые мускулы и бритую подмышку, это как у теток-позерок на картинках в любовных журналах. Ты кувырла, Люда. Ты прищуриваешь свои подлые глаза, наклоняешь голову, как Василиса в вечернем сериале, только твои щеки становятся отвислыми, а я не попадаю в рай».
Люда смотрит в зеркало, по его поверхности проплывают тысячелетия, и среди них — вся ее жизнь. Люда смотрит в зеркало и вдруг сквозь слезы понимает, почему Бога нет, почему Пашенька добрая и несчастная, почему Жаклиндра красивая и одинокая, почему Булыгин спивается в далеких Озерках под пение соловьев, почему вся эта жизнь была такой кривой и корявой. Это же она, она сама всё придумала, как пьяный художник, все эти мутные, неверные годы, инвалидную комиссию, череды мужиков и мужиков, одинаковых дней и ночей, она сама сняла этот фильм и теперь отсматривает его на поверхности зеркала, по ту сторону которого — пустота. «Господи Иисусе, прости меня, грешную….» — шепчет Люда единственную молитву, которую она знает (от Пашеньки, вестимо), и бессильная, бессмысленная, садится на холодную табуретку у окна.
За окном сад, в саду август. Вишни и сливы уже поспели, темнеют себе на ветках, и первые желтые листья слетают на землю в полуосеннем свете. Солнце просвечивает сквозь колышущиеся ветки, играет на них, а на подоконник падают волшебные тени. Откуда-то вылезла кошка, пьет молочко из блюдца под кустом, красный язычок её мельк-мельк. Ветер шелестит в ветвях, а Люда долго смотрит в окно, улыбается, словно бы в руках у нее вдруг оказался счастливый билет. Господи, и куда только делись все эти долгие пятьдесят девять лет?

Мальчик, которому надоели горы
В высокогорной долине жил мальчик Надир, красивый, как соловей, и упрямый, как десяток туров весной. Его семья по местным меркам считалась небольшой — родители, волосы которых уже тронула седина, да четверо отпрысков разного возраста, — Надир из них был младший, любимый и своенравный. Всегда и везде младших любят, так это видят остальные дети. Младшие видят другую сторону монеты. Они должны завязывать обувь, как старший брат, мыть посуду, как одна из сестер, работать по хозяйству, как отец или мать. Большим не стать в тени, поэтому младшие всегда хотят отойти в сторону, чтобы быть выше. Своенравный Надир годами слушал, на кого ему нужно быть похожим, после чего решил — он станет мудрым. Самым мудрым.
Утром очередного дня он вместе с братом и двумя сестрами готовил корм для овец: с десяток охапок лугового сена, ведро размолотого в труху зерна, несколько ведер воды в корыта вытянутой формы, расставленные вдоль загона, проверить соль-лизунец.
— Я хочу стать самым мудрым, — сказал Надир своему старшему брату Нимуруну. У Нимуруна уже пробились усы над губой, он был почти мужчиной.
— Тогда тебе нужно идти в горы, — взвешенно ответил Нимурун. В их роду было принято иногда уходить на несколько дней из дома, менять долину на пещеры высокогорья и там, наедине с самим собой, находить свой путь. — Ты знаешь, они мудрые и старые, у них на всё есть ответ.
— Мне надоели горы, — сказал Надир, который всегда хотел особенную дорогу. — Мне нужна мудрость, которую другие не могли собрать. Чтобы стать самым мудрым в долине.
— Тогда тебе стоит идти к морю, — прошелестела его сестра Лекия, которая вместе с другой сестрой, Наилей, бесшумно подошла к своим братьям. — Красота — это тоже мудрость, а красивее гор может быть только море.
— Куда ты хочешь уйти, Надир? Зачем? — У ограды стоял отец, он должен был выгнать отару и увести ее пастись на другой край долины, чтобы к вечеру вернуться.
— Надир хочет стать самым мудрым, — ответил за младшего брата Нимурун. — Поэтому хочет уйти.
— Мудрость в силе, — рассудительно сказал отец, — а сильнее гор только ветер, который покоится в долине между двумя хребтами на южном отроге.
— Мудрый тот, кто приносит пользу и помогает остальным. — Это мама Надира пришла посмотреть, почему семья собралась вокруг младшего сына. — Все мы живем только благодаря солнцу. А солнце повсюду, и мудрость не обязательно искать вдалеке от дома.
Но Надир был упрям, и он ответил, что готов уйти.
***
Семь раз село и встало солнце, прежде чем младший дошел до моря. Соленые волны упорно обтесывали гальку, другого берега не существовало, пенистые буруны напомнили отару овец, которая бежит к ногам, но никогда к ним не доберется. Надир закричал:
— Море, я хочу быть самым мудрым! Я хочу узнать у тебя то, чего никогда не смогу узнать у гор!
— Глупец! — заревело в ответ море. — Как ты можешь так говорить, ведь я тоже лежу на горах, их видят рыбы, способные добраться до моего дна. Никогда я не мерялось мудростью с горами и никогда не буду этого делать.
— Я хочу проникнуть в суть мудрости, достичь ее дна, как те рыбы, которые лежат у тебя на дне.
— Глубокомыслие никогда не заменит подлинной мудрости и не даст тебе счастья. Оно лишь убьет тебя. Иди домой, младший.
— Ты глупое, море, — обиделся младший. — А раз красота не дает мудрости, я пойду к могучему ветру.
Припасы, которые Надир брал из дома, давно закончились, мальчик питался ягодами и пил воду из ручьев, бежавших с гор к морю. Десять раз встало и село солнце, прежде чем он, оголодавший, но не сломленный добрался к долине на южном отроге. Здесь, в зеленой и тихой долине, дремал ветер. Надир принялся махать руками что было сил.
— Ветер! Ты давно в этом мире, и ты знаешь то, чего не знают горы! Дай мне сил и своей мудрости!
— Я раздувал паруса первых кораблей, — зашумел в ответ воздух. — Я слышал первую колыбельную и видел, как меняются русла рек. Но никогда не видел мир без гор.
— Дашь ли ты мне свою мудрость, ветер? — Надир упорно перекрикивал пробудившуюся стихию. — Я хочу видеть всё, что видел ты и знать всё, что знаешь ты!
— Это не под силу человеку. Иди домой и проживи свою человеческую жизнь.
Обиделся Надир, но ничего не сказал вслух — слишком силен был ветер. Вместо этого поклонился он и, клокоча внутри от ярости, пошел дальше.
Никто не скажет, сколько раз наступала ночь, прежде чем Надир взобрался на самую высокую гору. Там, стоя на ослепительно белом снегу, промерзший до самых костей, он дождался полудня, вытянул руки в небо и завопил так, что морозный воздух обжег его изнутри.
— Солнце, внемли моему зову! Я говорил с морем, я выдержал силу ветра, я достоин говорить с тобой на равных. Спустись ко мне!
И произошло невиданное — светило стало приближаться. Чем ближе оно было, тем стремительнее таял снег на вершине горы. У Надира начали тлеть волосы, кожа покраснела и по ней пошли волдыри. Но он не сдавался.
— Ты самое старое и самое мудрое, солнце! Я хочу стать таким же мудрым и полезным, как и ты.
— Возраст не дает мудрости, она приходит благодаря ошибкам, — трещало раскаленное светило. — А ты уже наделал достаточно ошибок, младший сын.
— Но я хочу мудрости.
— Иногда мудрость в том, чтобы вовремя остановиться. Иди домой.
— Я! Не хочу! Домой! — яростно крикнул Надир и на мгновение убрал руку от глаз. В следующую секунду мир вокруг погрузился во тьму. Мальчик ослеп от нестерпимо ярких лучей.
— Прощай, искатель мудрости, — услышал он в темноте равнодушный голос солнца, который постепенно удалялся. — Я не смогу тебе помочь.
***
Солнце вернулось на небо, и вершину горы вновь объял холод. Ослепший Надир начал мерзнуть и стал на ощупь спускаться. Спустя несколько часов изнуряющего пути он наткнулся на сухую пещеру, в дальнем краю которой лежали сваленный в кучу хворост и сухая трава. Надир забился в угол и стал плакать. Ослепший, замерзший, голодный — он хотел быть мудрейшим из всех, а сейчас лежал в одиночестве где-то далеко в горах. Младший не заметил, как провалился в сон.
Во сне он снова был зрячим и потому увидел, как в пещеру забежала юркая зеленая ящерица. Она приблизилась к младшему и стала его внимательно рассматривать своими черными точками. Надир снова начал плакать, но теперь вместе со слезами из него полились слова, он излил ящерице свою душу: красивое море, сильный ветер, равнодушное солнце и то, как он хотел быть самым мудрым, но так и не стал.
— Если ты не достиг высокой цели, это не значит, что ты проиграл, — ответила ящерица. — Человек, который не забрался на высокую гору, всё равно выше того, кто сумел встать на болотную кочку.
— Что мне теперь делать?
— А что делают все потерявшиеся? Возвращайся домой.
— Но я не знаю, куда мне идти.
— Ты знаешь и всегда знал, куда нужно идти. Просто не понимал зачем.
— Но я ничего не вижу. Я не смогу дойти.
— Ты родился в этих горах и вырос в этих горах, Надир. Если ты будешь относиться к ним с уважением, то горы никогда не дадут тебе пропасть.
— Кто ты? — спросил напоследок Надир.
— Я та, от кого ты бежал. И я рада, что ты пришел ко мне. — С этими словами ящерица щелкнула парня по носу хвостом и растаяла.
Надир проснулся в пещере, размазал по лицу кулаками остатки слез и пошел домой. Солнце вставало и закатывалось за горизонт, ветер доносил до Надира соленый запах шумевшего вдалеке моря, а ноги будто сами несли парня. Он спал тогда, когда больше не мог идти, и всегда это было мягкое и сухое место. Он ел то, что находил под ногами, и всегда это были спелые фрукты. Он шел туда, куда велело идти ему сердце, и ни разу горы не подвели его. Вскоре Надир вернулся в свою долину.
Дома начался переполох. Братья и сестры отогрели его, отец смазал его раны овечьим жиром и укутал в теплое одеяло, а мать напоила горячим чаем и села рядом. Даже овцы в загоне блеяли как-то в тон, будто хором приветствовали младшего, который потерялся и затем возвратился. Надир понял, что больше не хочет уходить так далеко.
***
Поздно вечером он сидел перед затопленной печкой. Вся семья ушла спать, остались только Надир с матерью. И младший сказал то, что его тревожило больше остального.
— Мама, я больше никогда не смогу посмотреть на тебя своими глазами.
— Я всё равно люблю тебя, сынок. Сейчас ты видишь гораздо больше, чем когда был зрячим.
— А еще я не стал самым мудрым из людей.
— Но ты стал мудрее и терпеливее. И я верю, что однажды ты станешь самым мудрым в нашей семье. Наше счастье, что ты вернулся, это самое главное. Теперь давай спать.
Она развернулась и вышла из комнаты, и Надиру на миг почудилось, будто по его руке скользнул хвост ящерицы.

Мартьян
I
По утрам Петр Петрович Оверченко стирает пыль с фотографий отца и матери, из своих черных рамок, как из кабинетов, следящих за сыном. Далее, совершив утренние дела, влезает в серый костюм, прослуживший ему тридцать лет. «Ну, вот и жених готов. — Мать заказала костюм на окончание института, а как примерил, взяла под руку, любуясь то ли совместным, то ли сыновьим отражением, и дальше: — Петя, котлетку?»
Сегодня Оверченко совершить утренний ритуал не дали. Темноту спальни взрезал дверной звонок. Противный, как припадочный кенар. Из подъезда пахнуло кошачьей мочой, парнишка передал коробку. Оверченко не удивился: ему, редактору главной городской газеты, присылают тексты ящиками с просьбой о рецензии, а то и о публикации. Но эта коробка, подозрительно легкая, явила Оверченко такое, что к портретам родителей он не подошел. Там, на дне, оказалась шишка размером с кастрюлю. «Ну вот, еще и на почте одни остолопы», — постановил Оверченко и выглянул за дверь, но тень почтальона, отстучав шесть пролетов, вылетела на воздух и там рассеялась.
Шишка предназначалась соседу Оверченко, студенту-очкарику, да номера возле дверных звонков так затерлись, что и не разобрать. С соседом Оверченко знаком не был и про студенческую шутку не догадался. Собирался было вернуть шишку в коробку, а ту — оставить на тумбочке, где заведенным отцом порядком выстроились обувные ложки, как из чешуек вывалилась записка с приказом: «Вырасти сосну». Где приветствие, подпись, хотя бы «пожалуйста»? «Мда… Отправителю от десяти до пятнадцати годочков», — подумал Оверченко, наскоро оделся и вышел в симферопольский ноябрь. Ноябрь обрызгал его из-под колес машины и чихнул старушкой. «СимфероПыль и СимфероГрязь — города родного ипостась», — написала двоюродная племянница Оверченко, «блогерка» и «поэт» Анфиса, за все хватавшаяся и ничего не доводившая до конца. В двух строчках три ошибки.
Анфису Оверченко ненавидел. Как-то, когда поток рукописей в его адрес приостановился, он думал, отчего такое сильное чувство проросло без повода. А повод был. Был. На семейном сборище он смотрел на Анфису — тощее, вертлявое создание в укороченных джинсах и белых носочках, — и понял, что еще лет пять, десять — и про него все забудут. Поколение Анфисы будет ходить на работу и опаздывать на свидания, целоваться в кино и ловить с руки такси, пить шампанское под «горько», ждать будущего по понедельникам. А он? Его молодость размазалась по старым черноусым снимкам. Даже эха оттуда не слышно. Захотелось потянуть на себя скатерть: раз в жизни чашки перебить. Сдержался. Потемнел лицом, как ему заметила хозяйка, сказался нездоровым и ушел. Отверг всякое общение с родней и уже год не получал сообщений и звонков.
— Что там с трупом? Пригласите, пожалуйста, Сойкину ко мне. — Оверченко, отряхивая костюм при входе в редакцию, наблюдал в зеркале и лицо секретаря. Толковое, как у немецкой овчарки.
— Сойкина отгул взяла, у малыша бронхит. А про труп… Момент. У меня записано: обещала туда съездить к вечеру и прислать вам по электронке.
— Видимо, на передовицу дадим микстуры от кашля.
Запершись у себя в кабинете, Оверченко с облегчением отметил, что серый, тошнотворно мягкий комочек пыли в углу исчез: «Ну, хоть убрались как положено».
II
Труп пролежал в симферопольской квартире двенадцать лет. И едва не всплыл в прямом смысле слова: трубу прорвало, задействовали все квартиры по стояку. В заброшенной квартире полы оказались сухими, да только вот на диване лежала мумия, которую и не сразу разглядели. Приехало телевидение, знакомые сообщили Сойкиной. А та отказалась обойтись заметкой. Старый дом, некурортный город, все всех знают и тут — такое. Никто из соседей не побеспокоился, чего это хозяйки давно не видно. Хуже того, они даже не знали, как ее зовут. Сойкина, регулярно подкидывая своего младенца то одной, то другой соседке, не могла поверить в эту историю, вот и попросилась на расследование. Точнее, уведомила редакцию в том, что начала его, и вскоре прислала часть репортажа.
«Следователь по делу Горловой признается: “Слой пыли — вот на что я обратил внимание. Столько на старом чердаке не скопить, на три пальца толщиной: пришлось счищать и производить опись. Пока ближе не подошел — поди догадайся, что это труп, а не скрученное на тахте одеяло”. В протокол попадают только детали по существу. А вот соседка припомнила, что на стене (напротив тахты, где нашли труп в ночнушке поверх рейтуз) были прикноплены вырезки из журнала. В основном цветы с подписями детским почерком: “Люблю биологию! Все живое! Спасибо, Елена Сергеевна”».
Войдя домой, Оверченко не сразу разулся. Смотрел на шишку долго, не мигая, пока та не стала выпуклой, не выехала на первый план действительности, а мир вокруг не обернулся фоном, что вибрирует, как воздух в городском окне. Отнес шишку на кухню и собрался было опустить в мусорное ведро, но поставил на стол и вышел, прикрыв дверь.
III
Навстречу Оверченко, прихрамывая, шел его отец, лет двадцать как покойный. Разговор между ними, как бывает в таких снах, начался с удивлений. Почти растворившись в сумерках, Оверченко-старший сказал:
— Так что, Петя, бобылем живешь? Впустую, выходит, мы с матерью толковали про внуков.
— Про каких внуков, я еще институт не окончил, ты ушел к своей Светлане, и мы…
— А я при чем тут? Мы тебя с матерью подняли, выучили, дальше твое дело. Ведь и девчонки были, приводил ты знакомить. Одна, беленькая такая, помню, тростиночка, как мать в молодости… Ба, да ты уж седой весь!
— Я не пойму, ты зачем пришел?
— Ладно-ладно, ухожу. Ты только, вот что, Петя, портреты наши убери. Сам теперь думай.
«А мама как? Теперь вместе вы, что ли? Что там вообще?» — поздние зарницы вопросов отсек звук будильника. Оверченко проснулся разбитый. Казалось, кроме отца, на него ополчились и старые недуги: недолеченные в детстве уши чавкают, лоб в испарине, колени хрустят. Распахнул шторы, за окном все такой же город: тротуары под листвой, караулят свои тени кипарисы. Взялся было за тряпку смахнуть пыль, да отложил.
Мелким глотком опустошил кружку с лекарством и сел напротив шишки, будто надеялся договориться. Кухонные часы показали девять, рабочий день начался, а телефон молчал. Подождал пятнадцать минут. И еще столько же. «И ведь никто… Никто не побеспокоится», — подумал Оверченко, набрал редакцию и сообщил, что заболел. Секретарь вздохнула.
«Труп выносили по частям, так как он сросся с тахтой. Для такой работы вызвали двух техников из ЖЭУ, которые за бутылку распилили и вынесли останки. Про это соседи рассказывают хоть и с омерзением, но наперебой. А вот почему дверь квартиры была завалена старыми швабрами, ведрами, метлами — никто не знает. Что была за человек Горлова — никто не помнит… Единственное, что соседи сделали для покойной, — собирали почту из переполненного ящика в коробку у ее двери. Потом письма перестали приходить».
Оверченко лежал на смятой кровати, вертел в руках шишку, та пахла дверцей маминого шкафа, шуршала сотней лепестков, каждый — размером с ноготь. Какой же должна быть сосна? Растут ли в Крыму такие? Надо выбросить. Очевидно, это дурная шутка, а то и вовсе ошибка.
Как большинство крымчан, Оверченко сторонился курортов и пляжей, но шишка требовала решения, и оставаться дома было невмоготу. Завернувшись в дутик, не по погоде пухлую куртку, он вышел из дома в направлении автостанции, по пути машинально освободив почтовый ящик от квитанций и писем. За спиной в рюкзаке царапала ноутбук шишка, а целью Оверченко был Никитский ботанический сад. Оверченко умел работать онлайн, но не доверял сетевым данным. А потому его газета хоть и публиковалась на сайте, но то была лишь дань времени, отнюдь не гордость.
Дорогой он думал, ведут ли по-прежнему старые лестницы сада к рощам бамбука, где стебли уходят в небо, организуя сумрак и мистику. На табличках — названия растений по-латыни: не произнести, не запомнить. А они помнят нас, людей, несмышлеными, четвероногими, злыми. Свидетели… Автобус вилял на серпантинах, а море прыгало вслед за ним, как дельфин. Оверченко даже развеселился, но оказалось, что сад на два дня закрыли на конференцию. Хотел сразу сесть на обратный автобус, да на лицо упала дождевая капля. И было в ней так много морского воздуха, что и с насморком не отмахнешься. Оверченко подумал, что Ялты не видел десять лет, с маминой смерти. Решил перед отъездом хотя бы пройтись по городу. И чем сильнее расходился морской, лиловый дождь, тем довольнее становился его взгляд.
IV
— Жень, эта пришла. Отнеси ей рогалик с чаем. За счет заведения.
У стойки кафе на набережной пахло сдобой. Оверченко листал меню, когда девушка-бармен указала на старушку в лисьей горжетке.
— Это она сегодня из-за вас далеко отсела. Обычно прямо тут, возле кассы.
Оверченко молча кивнул. Ему нравились ловкие руки девушки — не хотелось уходить.
— Нет у нее никого, вот и тянет поговорить. А я все отмахивалась, так, пару слов скажешь и суетишься дальше. Вчера-то, как в новостях показали, слышали, да? Мамочки мои, я всю ночь про ту тетку думала. Десять лет пролежала, и никто ничего. Будто и не человек вовсе. — Девушка что-то пометила красным фломастером в бумагах.
За стеклом отражались в тротуарах зонты.
«“К Елене Сергеевне не пойдешь с разговорами о погоде там, о птичках. Лицо приятное, но будто шторкой задернуто”, — вспоминает Горлову коллега, учитель музыки. — Впрочем, мне было двадцать, ей почти пятьдесят. Что я понимала… Зайдет ко мне на урок, музыку послушать, сядет в углу, неслышно выйдет еще до звонка. Кавалеры ее у школы не встречали… Вроде она с мамой жила, да той потом не стало. Знаете, некоторым людям нужен еще один человек для связи с миром”».
Расплатившись и выйдя под дождь, Оверченко дошел было до автостанции, но то ли от непогоды, то ли от простуды, рюкзак стал тяжел настолько, что он поймал такси, вернулся в кафе, где старушка еще держала у морщинистых губ, покрытых вишневой помадой, белую чашку. Потом зажглись фонари, а вместе с ними и вывеска «Отель». Оверченко любил во всем порядок, но тут не описал бы, как платил, вселялся и почему уснул прямо на покрывале, по диагонали двуспальной кровати.
V
«Никто из соседей Горловой, кроме студентки, которая углядела приведение в щелке заброшенной квартиры (“звонила и убегала”), не говорит о раскаянии. Винят ЖЭУ и Пенсионный фонд, те кивают на участкового, в полиции “такие дела” относят к ведению социальных служб».
На этот раз в Никитском саду Оверченко приняли. Сработала манера разговаривать тихо, но так, будто всем раздает поручения. А еще — журналистское удостоверение. «Хорош курить, подойди на вход, проводи человека к Илье Семеновичу. Он на Мартьяне, как всегда? А делегация? Ушли?» — кричала администратор в телефонную трубку.
Охранник в защитной куртке под дождевиком повел Оверченко на Мартьян. Оказалось, это мыс у берега моря, и там самое ценное, что есть во всем ботсаду: «Но так с наскоку и не поймешь, потому как больше мелочь и цветов путем нет». Оверченко шел за охранником след в след среди притихшего под дождем сада. Поднимался с земли пар. Как в детстве: листва под ногами, старые ступени, пруды, только вместо ботинок — маленькие тапочки, он отрывает их от тропинки, чтобы повиснуть на руках родителей. Мама говорит: «Ш-ш», отец больно сжимает руку, потому что они на экскурсии и кругом люди, и ведет ее женщина в больших коричневых очках от солнца. Вот и весь сад.
— Хм, ну что же вы, голубчик, за репортажем да в хмарь. — Илья Семенович, старик лет восьмидесяти с глазами-мышатами, убрал в карман лупу.
— Простите, а что это за место? — Оверченко ожидал, что его ведут в оранжерею, а тут кусок леса на утесе.
— Ну как же! Как же. Мыс Мартьян, а с греческого «свидетель», сберег нам Крым пятисотлетней давности. Вот, например, земляничник мелкоплодный — постарше Моны Лизы будет. Да мы его за стеклами-то не прячем, старик бодр! Поздновато вы, конечно.
— Мда. А вот на это вы что скажете? — Оверченко извлек из рюкзака шишку.
— Так-так. Шишка сосны желтой, крупная. Сувенир?
— Скорее, розыгрыш. А где тут у вас эти сосны?
— Ну, что вы, голубчик, они в Северной Америке произрастают. У нас жарковато будет. Вы именно крупными породами интересуетесь? Посмотрите тогда наш секвойядендрон. Одиннадцать метров высо…
— Извините, а сосна из этой шишки вырастет? — Оверченко смотрел под ноги.
— Не думаю. Видите ли, живые шишки реагируют на дождь, закрываются, ну, прямо как цветы. А почему? Потому что неблагоприятная погода для размножения. В вашей уже нет жизненной силы, она раскрылась когда-то, отдала все и засохла. Может, и бурундуки постарались, сойки. — Старик достал лупу. — Хм, лет десять тому, а то и все двенадцать.
VI
Сидя в том же кафе, так и не посмотрев за два дня Ялту, не разрешив загадку шишки, Оверченко погрузился в работу. Остывший кофе горчил сверх меры. Сойкина прислала финал репортажа.
«Горлова родилась в селе Кузнецы близ Симферополя. Там до сих пор живут три семьи — все Горловы. Заявляют, что не знают или не помнят ни саму Горлову, ни ее мать, а между собой являются не более чем однофамильцами. Что примечательно, почти незнакомыми. Архивы в связи с нелегкой судьбой нашего полуострова не содержат информации об отце Горловой, да и год ее рождения (1945) усложняет поиски».
В конце материала — две фотографии «кладбища невостребованных». Так охранник назвал журналистке последнее пристанище совершенно одиноких людей. Кадры загружались мучительно, по частям. Небо, подлесок, участок поля: охра и зелень. Ниже колоски и репейник, среди них таблички: «неизвестный мужчина», «неизвестная женщина». Таблички натыканы часто, если не вчитываться, можно предположить могилы домашних животных. На отдельном снимке вспоротая земля и свежий, прямо новенький крест, взмывший упреком. На нем имя и то самое тире между двух дат: «Горлова Елена Сергеевна, 1945 — 2009 гг.».
Материал Сойкина озаглавила так: «Смерть без свидетелей». Оверченко согласовал текст без правок, понимая, что в редакции его сочтут разболевшимся. Может, так и было. Он вытащил шишку из портфеля, повертел в руках, затем встал, попросил за стойкой фломастер и лист бумаги. Подошел к столику, где сидела старуха в лисьей горжетке. Та наспех развернула чашку вишневым следом к себе. Представился, сказал, что пишет о жителях Ялты, будет рад выслушать ее рассказ, но спешит, а потому просит ее домашний телефон. А вот листок, насаженный на шишку, с его номером. Звоните в любое время.
— А шишка мне на кой?
— Знаете, она старше Моны Лизы. — Оверченко покраснел, чего с юности не случалось. — Но из нее когда-нибудь вырастет сосна.
— Чего ж… Сохраню тогда. Пишите номер-то.
Оверченко не знал, поняла ли его старуха, но ему стало легче. Шагая к автостанции, набрал сообщение: «Срочная правка заголовка передовицы — “Жизнь без свидетелей”. Отдайте, пожалуйста, в печать». Ответ пришел сразу. Оверченко не хотел и смотреть, ожидая, что Сойкина уйдет в полемику и авторскую задумку, но там было только «Ок».

Не свои
Чашка в руке Ксюши слегка подрагивает, по золотистой поверхности пробегают одна за другой волны. Она говорит, говорит, говорит. Проглатывает окончания, забегает вперед и возвращается на три шага назад, как пятилетний ребенок, которому не терпится на детскую площадку, а родители двигаются с черепашьей скоростью. Иногда запинается, смотрит в экран телефона, что-то быстро печатает и продолжает говорить.
Илья слушает. Чай в его чашке пахнет ромом и специями. Уверенными движениями он складывает из красной салфетки тюльпан. Ни по узкому, слегка восточному лицу, ни по темным глазам, ни по расслабленной позе нельзя сказать, какие мысли у него рождает этот словесный поток.
За окном кафе хлещет ливень, свет от неоновой вывески отражается в каждой капле. Город фырчит, отряхивается и бежит по своим делам.
— Ну, мне пора, — тараторит Ксюша. — Надо еще на тренировку успеть, отчет для заказчика доделать и Машке позвонить. Даже не знаю, когда теперь…
Илья отдает ей тюльпан. Он сложен идеально ровно, будто выпущен на заводе по производству салфеточных тюльпанов. Подает серебристый плащ, слегка обнимает.
— Послезавтра встретимся здесь же часов в восемь вечера. Чай тут отличный готовят.
И Ксюша проглатывает заготовленную речь о миллиарде дел и отсутствии времени. Не возмущается бесцеремонностью нового знакомого. Умалчивает о еще паре парней, которые ей приглянулись в тиндере.
Она хватает со стула рюкзак, убегает, не расплатившись. На ходу раскрывает зонт, перелетает через лужи и в последний момент запрыгивает в 72-й троллейбус.
И вот сидят они в конце марта в том же кафе, но уже чуть-чуть другие. За плечами первый совместный Новый год и первый общий день святого Валентина. Сегодня Ксюша не в духе, хотя с блеском выступила на конференции, собрала десяток полезных контактов и даже одно предложение о работе.
— А ты… Ты просто все пропустил! Я смотрела в зал, искала тебя. Надеялась до последнего, что ты все-таки придешь. Но нет, у тебя нашлись дела поважнее. — Глаза у нее подозрительно блестят, нос морщится. Она отворачивается к окну и поправляет очки, втихаря смахивая слезинку.
— Нужно было найти и исправить ошибку в программе. Не успел до твоей конференции. Посмотрю в записи.
— Мог бы и потом поймать своего бага. Никуда бы он не делся. Я у тебя всегда на последнем месте, да?
— Кстати, я тебе организовал рабочее место на балконе. Так что теперь ты можешь переезжать насовсем. Когда у тебя окошко в расписании, чтобы мы могли перевезти остатки твоих вещей и Мистера Клауса?
В субботу, 23 апреля 2012 года около часа дня Ксюша под аккомпанемент звона посуды и кошачьего мяуканья переезжает к Илье. Ее сиамский кот Мистер Клаус тут же устраивается под раскидистой пальмой в гостиной, а Ксюша занимает все остальное пространство. Очень скоро все поверхности покрываются шелестящими стикерами с напоминаниями и мелкими поручениями. Только рабочий стол Ильи сбрасывает листки пару раз в сутки и остается чистым и пустым.
— Смотри, сегодня у нас ужин с Капустиными. Завтра я купила билеты на «Мастера и Маргариту», а потом поужинаем в «Пушкине». Послезавтра утром у меня есть пара часов между йогой и бизнес-завтраком, хочешь, можем с тобой покататься на канатке. Утром очередей быть не должно, хоть посмотрим, что там за чудо техники. Как думаешь? А потом вечером…
— А где в этом плане мы с тобой пьем чай и играем в го?
— Ох, да. Да-да, давай как раз послезавтра вечером на часик засядем. Потом мне еще надо будет домашку порешать для курса и Светке позвонить.
— Ксю. Можешь иногда просто быть, а? Не ставить галочки в списке, не планировать? Так можно вообще?
— Что не так с планированием? Если б не оно, я б и половины всего не успевала! Забывала б, упускала возможности. Нет уж, я так не играю
— Ты как моя мать. Наверное, вы с ней поладите. Она тоже всегда все успевает, везде со своим синим еженедельником, с ней до сих пор о встрече надо договариваться минимум за неделю. — Илья резко разворачивается на стуле и возвращается к работе.
Так проходит лето и большая часть осени. Илья работает, играет в го с Мистером Клаусом или выходит пострелять из лука в любимом тире. Ксюша скачет от спектакля к совещанию, от совещания к митапу, от митапа к командировке, иногда налетая на жизнь своего парня. В день годовщины их первого свидания она планирует поход в то самое кафе, потом прогулку в парке и кино.
— Ксю, мы не обязаны. Правда-правда. Никто не придет проверять, сделала ли ты все по протоколу, достаточно ли хорошо стараешься. Давай просто поваляемся в кровати, посмотрим «Стартрек», ну?
— Первая годовщина нашего первого свидания бывает только раз в жизни! А «Стартрек» можно смотреть в любой вечер. К тому же я уже все спланировала. Терпеть не могу отменять планы
— Знаешь, я тут как-то заботал. У твоего бесконечного планирования и попыток успеть все на свете есть название. FOMO. Fear of missing out. Страх что-нибудь пропустить. Говорят, модная беда. Только жизнь отравляет изрядно.
— А у тебя тогда, знаешь, что? JOMO! Joy of missing out. Ты погряз в своем болоте. Жизнь проходит мимо, а ты боишься выйти из зоны комфорта. Сидишь на своей уютной работе, живешь в своей уютной жизни, а сам вообще ничегошеньки не добился!
Ксюша хватает плащ и рюкзак с ноутбуком, хлопает дверью и пропадает на неделю. Семь дней она живет в гостинице, рыдает по телефону подружкам, смотрит по кругу сериалы, проходит в инстаграме марафон по психологии отношений, работает по двенадцать часов в сутки с околонулевым результатом и почти не спит.
А вернувшись обещает исправиться, стать более осознанной и просветленной. Они живут спокойной размеренной жизнью всю зиму. Катаются на беговых лыжах, варят глинтвейн, топят камин на даче и лепят пельмени. Ксюша отменяет все мероприятия, обучения, встречи. Учится дышать медленнее и медитирует дважды в день.
«Какой сейчас месяц? Вроде, февраль. Или январь. Не, все-таки уже февраль. Куда подевалась эта зима? Что я делала? Должна была прийти осознанность. Блин. Осознанность. Мысли приходят и уходят, мое сознание остается чистым. Оммммм. Черт. На хрен все медитации. Зачем так жить. Три месяца в анабиозе. И дальше так всю жизнь, что ли? Стоп. Мысли как облака проплывают мимо, остается ясное небо. Оммммммм. Все подружки, кроме меня, уже замужем и родили по ребенку, а у меня ни семьи, ни карьеры. Это опять страх упущенных возможностей. Мысли как облака на небе, пролетают мимо. Оммммм…».
Ксюша рывком встает и бежит на кухню, где Илья как раз жарит стейки.
— Зачем это все? Зачем я тебе? Я ж больная на всю голову. Хочу все везде успеть, вообще не ценю размеренную жизнь и прелесть момента…
— Девушки существа нелепые, но весьма забавные. — Он рассеянно улыбается и переворачивает стейк.
— Нет, серьезно?! Не хочу так. Хочу снова жизни, а не этого просветленного посмертия. Отпусти.
— Да разве я тебя держу? — Илья демонстративно разводит руками. В одной руке лопатка, на другой прихватка.
Илья и сам иногда не может понять, зачем ему эти отношения. Они никак не вписываются в его стратегию построения жизни. Он никогда не пытался порваться на британский флаг, чтобы получить от жизни все. Ксюша, похожая на миниатюрного рыжего генерала, который постоянно ведет военные кампании и планирует контратаки, иногда умудряется разбить его спокойствие и уверенность во всем. Но какое-то приятное теплое чувство заставляет его не просто терпеть бесконечные парады и маневры на своей территории, но и любоваться ими.
Одна за другой мелькают на страницах фейсбука Ксюшины новые жизни. Без Ильи, с новой работой, с Ильей и ежедневными медитациями, без мужчин и работы, с Ильей и кольцом на пальце, с модной диетой, без глютена и лактозы, с собственным финтех-стартапом, без копейки денег, с двумя младенцем на руках.
Пасмурным осенним утром Ксюша плетется на кухню, чтобы успеть что-то съесть до того, как проснется Анечка. Ноги коченеют — отопление еще не включили. Пахнет подгоревшим молоком и немытой посудой. Календарь на холодильнике орет на нее бесконечными восклицательными знаками и пометками «Срочно!» и «Важно», сделанными ее же почерком. Рядом с календарем прижат магнитом невзрачный бледно-желтый лист в клеточку, исписанный мелким почерком Ильи.
«Прости. Я много думал и понял, что уже лет пять мы могли быть счастливы друг без друга. В мире так много других людей. Среди них наверняка найдутся те, кто разделяет наши помешательства…»
Там еще много букв, обещание не бросать Аню и быть на связи. Их Ксюша прочитает потом. А пока она с внезапным облегчением смотрит, как по бледно-розовому рассветному небу расходятся волнами белые облака.

Оборотная сторона
1. Алёна
Надо было расстаться с ним сразу. В ту, самую первую встречу. До боли впиться ногтями в ладони, но сдержаться, не пойти за ним.
Как будто вчера… Звяканье приборов, вкрадчивые переливы саксофона («По пятницам — живая музыка!»), гул разговоров, аромат чесночных гренок.
Уже полчаса я почти не слышала, о чём говорит подруга. Мой взгляд то и дело возвращался к мужчине за столиком в углу.
Полностью погружённый в свои мысли, темноволосый с едва заметной сединой. Крепкий. Вернее, даже могучий. Костюм смотрелся на нём странно, как если бы медведя обрядили в белоснежную сорочку и пиджак. Казалось, поверни он руку — и затрещат нитки, лопнет ткань, обнажая бурую шерсть…
Но не это привлекло меня. Мало ли качков, интересующихся лишь своим отражением и количеством белка в завтраке?
Несмотря на фигуру, он двигался на удивление легко. Не вальяжно, как мои продуманно-небрежные однокурсники, а свободно, естественно. Будто находился у себя на кухне, а не в зале, полном разодетой публики.
Точным движением он располосовал ножом мясо, сделал глоток вина, щедро откусил от ломтя чёрного хлеба — всё очень спокойно, уверенно, красиво…
Мой взгляд замирал на его лице, а потом, как мячик на резинке, которые когда-то покупал в цирке папа, поблуждав по другим посетителям, снова и снова возвращался к нему.
Заметил. Посмотрел на меня. Так смотрят на соперника в покере перед тем, как тот откроет карты…
Мне вдруг захотелось вскочить и подойти! Прижаться щекой к его щетине, поцеловать морщинку между бровей, легко-легко. Узнать, как он пахнет…
Он подозвал официанта, ещё раз взглянул на меня и, расплатившись, медленно пошёл к выходу.
Я смутно помню, как прощалась с подругой. Как схватила пальто, бросила на столик деньги, толкнула тяжёлую дверь…
Потом был морозный воздух и колкие снежинки во рту от глубокого вдоха. Молчаливое приглашение взять его под руку и застывшие барханы петербургского льда под ногами.
А-лек-сей, «защитник», «предотвращающий». Его не могли звать иначе.
Потом было многое… Папино «Да он старше меня! Ты рехнулась?», мамино кокетливое «Бывший военный? А где служил?». Его внимательный взгляд: «Ты правда хочешь знать?» и моё спешное отрицание.
Весь мир вдруг съёжился, как дома в городе детства, когда приезжаешь уже взрослой. Остался только он. Его улыбка, запах, спокойная галантность.
А потом была тихая «роспись» в районном загсе, жёлтые тюльпаны в руках смущённой подруги, единственной свидетельницы нашего праздника.
Большие тёплые ладони на моих тогда ещё по-детски худеньких плечах… Его горячее коньячное дыхание, когда он каждую субботу возвращался откуда-то за полночь. Раздевался, ложился рядом и молча прижимался щекой к моему сердцу. А я, не зная, как отогнать эту неизвестную боль, гладила и гладила его волосы…
Дочь пришла к нам очень скоро после свадьбы. Она зародилась во мне в одну из белых июльских ночей, слишком жарких и светлых, чтобы спать…
Мне казалось, что с известием о моей беременности всё изменится. Прекратятся поздние возвращения домой, недомолвки, таинственные исчезновения по субботам… И мама прекратит смотреть на меня, как на наивную идиотку.
А через пару месяцев после того, как узнала о беременности, я случайно нашла пачку квитанций. Регулярно на протяжении нескольких лет он переводил какой-то женщине деньги. Большие деньги…
Сердце болезненно дёрнулось, меня затрясло. Я прерывисто выдохнула и прочитала едва слышным шёпотом:
«Олесе Ивановне Левченко».
«Дз-з-ээ-ээ-нь!» — проблеял дверной звонок, и я вздрогнула, едва не выронив квитанции. Покраснела, как будто меня поймали за чем-то постыдным, и быстро спрятала бумаги обратно в глубину шкафа.
— Алёна, привет! Как ты, хорошо? — Как всегда, не дожидаясь ответа, мама решительно просочилась на кухню с пакетами в руках. Меня замутило от сладко-приторного запаха её духов. Я прошла за ней, отрезала дольку лимона и отправила в рот.
— Выглядишь плохо, — бросила в меня мама, сопроводив диагноз коротким «яжеговорила»-взглядом. Я скривилась от лимона и слов. — Совсем похудела, в твоём положении надо набирать вес, а не таять, как свечка. — Ой, хлеба много у вас? Я обратно унесу. Вот котлеты из индейки, овощи паровые — иди мой руки, сейчас мама тебя покормит.
Я поплелась в ванную. Не было сил не то что спорить, даже просто слушать…
Когда котлеты были твёрдо отвергнуты, а овощи съедены под пристальным взором моей родительницы, последовал новый укол:
— А Алексей когда вернётся? Что-то часто он у тебя задерживается. — Быстрый колючий взгляд, нервно поправила причёску.
— Он руководитель, мама. Много работы, всё на нём, — устало отбилась я. И тут в памяти вспорхнули белые листочки квитанций. Я зажмурилась и сжала пальцами переносицу, как от головной боли.
— Ты меня прости, Алёна. Я твоя мама. Если не я, то кто тебе скажет… с замужеством ты поспешила. Вот хватаешься не пойми за кого, не слушаешь маму, а потом кукуешь одна с таким… руководителем. Можно было найти приличного человека, как твой отец!
Я опустила взгляд и увидела, как медленно кружатся чаинки в кружке. Сколько мне тогда было? Лет восемь? Я слишком рано вернулась из школы, мама была на сутках. Наш маленький секрет, как называл его папа. Он так не хотел расстраивать маму и рассказывать о тёте, которая зашла к нам в гости «буквально на минутку, чтобы переодеться». Мама ведь так не любит, когда гости приходят без неё.
А тут вдруг так некстати появилась я — сутулая, высокая, веснушчатая. Полная противоположность красавице-маме, строго взирающей на эту нелепую сцену с фотографии на стене. Красавице-маме, которую ни в коем случае нельзя было расстраивать, ведь хорошие девочки не огорчают мамочку и не выдают секретов.
— Это твоя дочь? — глупо хохотнула «тётя» и, застегнув распахнутую блузку, проплыла в прихожую.
Я была хорошей девочкой и ничего не сказала маме. Ни тогда, ни потом. Ещё много-много раз…
Я снова подняла глаза. Мама бурно жестикулировала и хлопала густо накрашенными ресницами. Переключилась на рассказы о чудесных омолаживающих массажах, которые помогают сохранять стремительно удирающую молодость.
— Мне надо прилечь, мама. Хочу спать.
Я накрылась пледом почти с головой и уснула.
Меня разбудили тёплые руки Алексея и его вкрадчивый голос:
— Алёнка, как ты?
Я открыла глаза. Он сидел на краю кровати и гладил меня по щеке. Внимательный взгляд, запах его парфюма. Приподнялась и посмотрела на часы: «22:34».
Гад. Меня снова начало трясти.
— Мне плохо…
Я вскочила и едва успела добежать до ванной. Живот болезненно сжался, и меня вывернуло. В этот момент я вышла из тела. Наверное, вместе с овощами матушки, с очередным приступом рвоты моё измученное тело покинула душа.
Как будто кто-то другой с этого дня стал целовать Алексея в щёку перед работой. Кто-то другой измерял рулеткой стены, чтобы заказать детскую кроватку и комод. Кто-то другой притворялся спящей, когда он ложился вечером в постель…
Я боялась задать тот самый вопрос, хотя заранее знала ответ. Кажется, самый мой страшный кошмар начал сбываться — я снова оказалась неудачной копией своей матери. Чувствовала себя жалкой, обманутой, раздавленной и… беременной.
В моих снах, как ни странно, было спокойно. В них я не помнила о случившемся, не подозревала, не боялась.
Однажды мне приснилось, что я держу на руках свою малышку. Крохотное тёплое тельце, доверчиво распахнутые глаза, тонкие пальчики…
— Девочка моя, Алёнка, я так тебя люблю… — услышала я сквозь сон и улыбнулась. Не открывая глаз, обняла Алексея за шею. А через мгновение всё вспомнила. Сердце ухнуло вниз, и вдруг я впервые почувствовала, как в моем животе легкой рыбкой задрожала дочка. Я вернулась в тело и будто впервые посмотрела на мужа. Он всё врёт. У него есть другая семья. Гад, сволочь, оборотень.
А я… Просто не выдержу этого разговора. Не смогу сказать и пары слов, как начну рыдать. А потом ещё начну умолять не бросать нас, унижаться. Нет. Хоть в чём-то мы с матерью не похожи.
Когда он уехал на работу, я встала, умылась и спокойно собрала вещи. Подошла к холодильнику и выпила целую бутылочку йогурта за дочкино здоровье. Открыла сейф и побросала в сумку несколько пухлых пачек. На первое время хватит.
Швырнула на стол кипу найденных когда-то квитанций. Стянула с пальца и положила рядом обручальное кольцо. Забирай его, Олеся Ивановна. Ты победила.
2. Оборотень
Алексея сегодня всё раздражало. Тяжёлые пакеты в руках, заигрывающий тон кассирши в магазине и то, что он опять опаздывал. Всегда куда-то опаздывал и снова и снова придумывал очередную ложь.
— Карта будет? — прошелестела кассирша и подняла на него густо накрашенные глаза.
Она чем-то неуловимо напомнила Алексею мать Алёны. Та же манера кокетничать не к месту, та же неуёмная страсть к макияжу.
В голове пронёсся её жеманный голос: «Куда спешишь всё время, Алексей? Алёнка одна вечерами скучает часто». Он тогда буркнул что-то про тяжелобольную бабушку. Улыбка на лице тёщи потухла, она впилась в него цепким взглядом: «Смотри, Алёнка двуличных не терпит. Был у неё такой, да недолго. Узнает, что обманываешь — сразу уйдёт».
Алексей поднял взгляд и всмотрелся в лицо дородного мужчины, окликнувшего его у супермаркета.
Волнистые светлые волосы до плеч, богатырский рост, смеющиеся голубые глаза — эдакий добродушный викинг… Гога Попов!
«Поп», «Попик», «Попыч» — так его звали за массивный крест на груди и «монастырские замашки». Он демонстративно избегал пикантных разговоров о девушках, которыми обычно бурлит каждая казарма, соблюдал одному ему известные посты, бормотал молитвы и открыто крестился перед каждым приёмом пищи.
— Ну здравствуй, Попыч! Вижу, процветаешь! — Крепкое пожатие рук, секундная сшибка могучими плечами.
— Грех жаловаться, — ещё шире расплывается в улыбке Поп. — Пару дней назад в ваш район переехал. Женат, четыре парня кормлю, тёща в Сибири. Сам-то как? Ещё в охране бегаешь?
— Я своё уж отбегал. Теперь пусть ребята мои пашут. — Алексей поудобнее перехватил тяжёлые пакеты.
— С кем-то из наших общаешься? Нет? А про Пашку Львова ничего не слышал, живой он там? Грешным делом, думаю иногда, может, зря наши его из той ямы достали — без ног да руки правой, врагу не пожелаешь…
— Не слышал, — соврал Алексей.
Взгляд Попыча упал на большую упаковку медицинских подгузников, пароходной трубой торчащую из пакета. — Ладно, Поп, бывай! Мать болеет, жена зашивается, спешу! — Алексей коротко пожал массивную ладонь Попыча и смешался с толпой.
Он приблизился к своей парадной, но прошёл мимо. Через два соседних двора, в угловую дверь кирпичной многоэтажки. Вынул из кармана ключ и пикнул таблеткой домофона. Пятый этаж, до конца коридора направо. Поставил на пол пакеты и достал ключи. Замок привычно щёлкнул и впустил его в тёмную прихожую.
— Паша, это я. Олеся Ивановна уже ушла? Укол вечерний поставила?
3. Паша
Разговор не клеился. Алексей молча разложил продукты, налил из пятилитровой бутыли воды в кувшин и задумчиво оглядел кухню.
Заметил, что к колесу Пашиной коляски прилип кусок бумажной упаковки от таблеток, но не стал подходить, чтобы его убрать. Принялся рассеянно переставлять вещи на полках, поставил кипятиться чайник. Потом как будто опомнился и неестественно-бодрым голосом стал рассказывать, что они с Пашей скоро поедут на реабилитацию, на этот раз в Китай. А Алёне придётся опять сочинять про командировку…
Паша почти не слушал. Он тщательно жевал принесённые Алексеем котлеты и машинально наблюдал за ним. Как за мухой, которая бьется возле открытого окна и никак не может найти выход.
Наконец, тарелка опустела. Единственной рукой Паша крутанул колесо и развернулся лицом к Алексею:
— Расскажи ей уже обо мне, Лёха. Она поймёт.
Алексей остановился и с вызовом посмотрел Паше в глаза. Потом прорычал тихо:
— Что рассказать, Паша? Как я сдрейфил из кустов вылезти, когда тебя душманы вязали?! А может, как потом ссался и ждал, когда доложат, что нашли тебя с глоткой перерезанной? Или рассказать, какая морда у меня была, когда тебя живого принесли? И как ты словом не обмолвился, что это я тебя кинул?!
— Не надо, Лёша…
— Или что я двадцать лет не бреюсь чисто, потому что на рожу свою поганую в зеркале смотреть не могу? Это она поймёт?!
Паша с усилием отвернул коляску к окну. Валил снег. Он вспомнил, что такой же снежище был как-то, когда они с дедом проснулись затемно, чтобы пойти в лес на лыжах. Бабка поворчала, но всё-таки встала, чтобы завернуть им с собой в промасленную бумагу пяток бутербродов. Дед в шутку назвал их «манной», когда они потом обедали в лесу и по очереди отхлёбывали из термоса пахнущий пробкой чай.
А после обеда разомлевший Пашка с трудом взбирался на горки, и дед подбадривал: «Терпи, Паля! Терпеливые в рай попадают…» А позже они, шутливо горланя, стучали лыжными палками по калитке, чтобы бабка скорей открывала.
Тем же летом дед поехал на дачу достраивать веранду и свалился с инсультом. Чудом дополз до калитки, по которой они так весело стучали зимой, и стал слабо бить по ней камнем. Где-то гремело радио, звенел велосипедный звонок, гудела цистерна с молоком. Соседские мальчишки всё-таки заметили его и вызвали помощь. В скорой он и помер.
А потом маленький Паля побоялся подойти к гробу. Он знал, что Дед сейчас в раю, а эта бледная фигура в несуразном пиджаке с красной гвоздикой в петлице — кто-то другой…
Паша на секунду прикрыл глаза, а потом снова повернулся к Алексею:
— А ведь ты так и не вылез из тех кустов, Лёха. Двадцать лет в них сидишь и боишься жопу в жизнь высунуть…
Алексей исподлобья посмотрел на него, но промолчал. На плите начал волноваться чайник.
— И жену свою дурой считаешь. Только дура мужика своего со всеми потрохами не примет. А не примет — так, значит, и хер с ней. Не жена и была.
Алексей отвернулся, выключил газ под истошно вопящим чайником. Потом налил кружку чая, добавил два кружочка сахарозаменителя и спросил ровно:
— Чай допьёшь, в шахматы сыграем?
***
«Уик-уиу, уик-уиу», — недовольно ворчала качель под малышкой четырёх лет. Она изо всех сил тянула ножки, чтобы раскачаться выше. Зажмурилась от яркого майского солнца, улыбнулась чему-то. А потом резко распахнула глаза и сиганула с качели.
— О-ох! Аня, ну куда ты с качели так скачешь? — Алёна привстала со скамейки навстречу малышке.
— Я не так скачу, я вот как скачу! — Девочка подогнула ножку и резво пропрыгала несколько шагов по ломаной траектории.
— Паса, Паса! Угадал, кто я? — Она подбежала к мужчине в инвалидной коляске, сидевшему рядом с Алёной. Схватила с шахматной доски, которая лежала на скамейке между взрослыми, коня:
— Я плыгаю, как ко-о-онь! — и залилась довольным смехом. — Папка с работы плидёт, покажем ему, как я умею, халасо?
— Покажем, Анютка, конечно, покажем, — улыбнулся Паша и потрепал её по светлому пуху волос.

Осциллограф
Искрящееся море. Волны, шурша, касаются ног. Оля с Глебом вдвоем стоят в полосе прибоя. Она в длинной, до колен, полосатой майке, раздуваемой теплым ветром. Он в узких купальных шортах: загорелый, поджарый. Ольга встала впереди, так, чтобы Глеб мог положить подбородок ей на плечо. Взял её длинный черный локон и у себя под носом соорудил подобие запорожских усов — мальчишка, пусть и за тридцать. Случайный турист, согласившийся их сфотографировать, уже выказывал признаки нетерпения. Сзади в эту минуту в волнах стали плескаться чьи-то дети, и поднятые ими брызги замерли на снимке, сложившись в сверкающий ореол.
Ольга нехотя вынырнула из отпускного фото, вернулась в осеннюю московскую реальность. В аккуратную квартиру на Шаболовке, где жили вдвоём шестой год. От своего «бутика флористики» — цветочного салона недалеко от центра — сегодня сюда добралась на автопилоте. И любимое домашнее платье с восточным орнаментом сперва надела шиворот-навыворот: так частенько случалось, когда голова была занята каким-то важным делом. Когда расскажет про все Глебу, точно поднимет на смех. Ну и пусть. Потом поймет.
Перед тем как перейти к намеченному, Ольга неторопливым взглядом обвела гостиную. Буйство экзотических цветов на обоях пропадало под новой лакированной стенкой; в ее темных фасадах обстановка комнаты казалась сделанной из жженого сахара. Между стенкой и окном расположился длинный рыжий диван. За ним — велотренажер. Купили давно, и тогда крутили педали вовсю; потом Глеб приспособил его под вешалку для пары офисных пиджаков. Вот и сейчас один из них был наброшен как плащ тореадора на вскинутые «рога» карбонового руля.
В стенке, в правой секции стояли друг на друге объемистые коробки с разнообразным добром, про которое вспоминали в лучшем случае раз в год. Оля начала методично открывать контейнеры один за другим. Быстрый взгляд внутрь — и закрыть. Потом дошла очередь до верхних полок. С одного из стеллажей вниз посыпались мишура и старые вырезки из модных журналов. Минут через десять нужная коробка нашлась, наконец, в самом дальнем углу. Из нее Ольга достала круглую жестяную банку с надписью Marienbad. Там своего часа ждало бабушкино «приданное»: кружева, мотки шелковых ниток и вышитая бисером подушка с иголками.
С банкой Оля перешла на кухню, присела на подоконник. Поднесла к свету одну из иголок, помнивших еще бабушкины руки, и сделала несколько безуспешных попыток попасть в узкое ушко красной суровой ниткой. Когда наконец получилось, свободный конец нити намотала на указательный палец, расправила левую ладонь. Стараясь не дышать, начала опускать иголку так, чтобы она зависла в двух сантиметрах над центром ладони. Замерла. Стала смотреть на иглу.
Какое-то время та стояла на месте. Потом начала еле заметно колебаться. Туда-сюда, маятником, сильнее и сильнее. Ольга выдохнула, успокоила иголку несколькими плавными движениями вверх-вниз. Затем опять поднесла к ладони. Теперь острие иглы, как заговоренное, упрямо смотрело в одну точку — и через пару секунд, и через минуту.
Оля отложила нитку, вытащила из заначки сигареты. Закурила в открытое окно, напуская в дом холод. Дым уходил в полумглу странными письменами, значение которых не удавалось понять… Все еще пребывала в рассеянном раздумье, когда щелкнул входной замок.
С тех пор как полгода назад Глеба в его банке повысили до начальника IT-отдела, с работы редко когда возвращался вовремя. Но в этот раз, похоже, обошлось без совещаний и вечерних авралов. И вот он уже топчется в прихожей — как всегда, пытается стащить ботинки без рук, не развязывая шнурков. Ольга отметила, что в последнее время Глеб выглядит уставшим. Видимо, на работе всё идет не так уж гладко.
Подошла к нему, обвила руками за шею. Когда-то могла долго так висеть на нём, подогнув колени и покачиваясь из стороны в сторону, пока нёс ее в спальню. Но сейчас любимый муж был какой-то неродной, слишком отстраненный.
— Глебушка, нам надо поговорить. Это важно.
— Отлично, давай за ужином, — дежурно поцеловал, пошел к холодильнику. Потом на кухню, и сразу включил этот свой бесконечный сериал про викингов: никакой тебе любви, одни мечи и битвы.
— Я сегодня гадала… — пошла за ним, села за стол напротив. — Я гадала на детей. Понимаешь, есть такой проверенный способ узнать, будут ли дети в браке.
Глеб оторвал глаза от экрана:
— Ну это же известный прикол — в фейсбуке давно ходит. Берешь железный предмет, привязываешь к нитке и держишь над ладонью. Если маятник — мальчик, если ходит по кругу — значит, девочка. Типа как осциллограф.
— Глеб, это не прикол! Это очень серьезно. Тем более что гадала я бабушкиной иголкой. Знаешь, какая там память рода!
— И что тебе сказала бабушкина иголка?
— Сказала, что у меня будет один ребёнок. Сын. Думаю, всё так и есть, я сама чувствовала. И тут — маятник! Ну прямо очень четкий. — Оля подалась вперед и взяла руку Глеба: — Помнишь, мы собирались ещё тогда, на юге?..
И снова захотелось посмотреть на то морское фото.
— Оля, ты не понимаешь. — Руку убрал, приглушил звук на пульте. — Сейчас на работе завал, а дальше будет только хуже. Мы ведь это всё с тобой обсуждали много раз. Надо подождать. Чуть-чуть.
— Да сколько ждать! — взорвалась Ольга. — Глеб, мы вместе с института. С ин-сти-тута! И мне уже тридцать два! А ты мне в последнее время даже цветы не даришь, про остальное вообще молчу…
— Так ты ж из своего салона сама их охапками носишь, — как-то стушевался Глеб. — Да и не в цветах дело. Ты же и так всё знаешь, и про напряги мои. Дай мне время, все решим, — и попытался снова скрыться от разговора в гуще нордической битвы.
Ольга пультом отрубила путь к отступлению.
— Глеб. Наверное, не нужно обманывать друг друга. Или обманывать меня. Может быть, у тебя кто-то есть?
— Слушай, — наконец-то посмотрел ей в глаза, и в эту минуту стал похож на себя прежнего. — Мне никто другой не нужен. А иголку бабушкину лучше к делу приспособь, у меня как раз пуговица на манжете отлетела. — Глеб широко улыбнулся, но быстро улыбку смазал.
— И все-таки запомни. — Ольга пошла на последний штурм. — У нас обязательно будет мальчик. Классный белобрысый шкет. И мы с тобой будем чертовски хорошими родителями.
— Даже не сомневаюсь, — бесцветно сказал Глеб и снова посмотрел мимо, в погасший телевизор. — Так, рыба, давай потом, а то опять все пропущу из-за тебя.
После ужина, когда Ольга свернулась на рыжем диване в гостиной, телефон Глеба засветился новым сообщением. Прочитал, улыбнулся, быстро настрочил ответ. Затем оба сообщения ловко и привычно стёр. Немного поколебавшись, взял с подоконника нитку и иглу. Подержал над левой ладонью. Иголка постояла в нерешительности, сделала несколько суетливых движений. Потом принялась описывать в воздухе широкие ровные круги.
На экране викинги бежали в компьютерный красный закат, потрясая щитами.

Под водой
Если б мог, я б остался тут навсегда. Нити солнечного света тянутся сквозь зеленую воду, вокруг мягкая, гудящая тишина и шорох волн. И все. Если б я родился маленькой, самой обычной водорослью… Но воздух кончился, я выныриваю.
Вокруг ярко, шумно, неприятно. Корячусь, как подбитый паук, по камням у берега, скачу по раскаленному песку, щурюсь в поисках нашего лежака. Уже боюсь, что потерялся, но тут вижу сверкающий мамин купальник. Пока пробираюсь к нашему месту, слышу ее низкий, почти мужской голос: «Я не знаю, ма… В баре зависает… Чистяев из банка уйдет — сольют всю команду, поэтому нервы, нервы… Помню, я держусь, я улыбаюсь… Ох, не начинай!» Я плюхаюсь на лежак рядом, мама убирает сотик и задает все вопросы, которые должна — как поплавал, не хочу ли пить и все такое. Протягивает бутылку и отворачивается. У нее волосы как волны горячего шоколада, маленький я любил в них тыкаться носом и делать вид, что чихаю, она говорила: «Ах, тузя-бутузя» и смеялась. Хочется сделать это сейчас. Я закрываю глаза и представляю, что вокруг опять вода. Волны мягко обнимают и толкают меня. Между ног вьются ленточки разноцветных рыбок.
Я загадал, если на обед будет рыба в яичнице, значит, все будет хорошо. Обошел весь ресторан, заглянул в каждую сковородку — напрасно. Я отменил загаданное, но, видимо, все же так нельзя, получается еще хуже, чем вчера вечером. Папе звонят, он спускается с веранды к бассейну. Сперва говорит нормально, потом начинает орать, возвращается за стол со стаканом из бара. Мама дернулась, но промолчала. Я смотрю в тарелку и думаю о том, как танцует морская трава на огромных валунах под пирсом. Можно лежать, как на мягком ковре с длинной шерстью. Смотреть, как лучи солнца гнутся и играют. Бесконечно играют для тебя.
Я наконец нашел вайфай — прямо на лавочке под нашим балконом. Грузится игра, до меня доносятся голоса из номера.
— Я одна целый день, мальчик болтается сам по себе, с другими отцы в дартс вон… Волейбол… А тебя или нет, или ты никакой!
— Значит, дома отработай по полной программе, тут заплати за все, и еще аниматором скакать? В десять лет без папы не развлечься?
— Так я что, невозможного хочу?!
— Нефиг жаловаться, знала, на что шла. Не раскачивай лодку! Пока я у руля, будет так, как сказал — кто меня слышит, тот в шоколаде. Или платьюшки в чемодан и к маме в Подольск… Ну не реви, ну все. Сама же меня заводишь, ну хорош уже, иди сюда…
После обеда в бассейне весело, играет музыка, у бара раздают мороженое и играют в дартс. Мы с Женькой на спор ныряем до дна, а потом играем в водное поло.
Вдруг я вижу папу — он бомбочкой плюхается в бассейн и начинает играть с нами в мяч, но все время мажет. Ловит меня и пытается поднять над водой. Потом хватает Женьку, тот орет «не надо» и пытается уплыть, но папа его догоняет и тащит наверх, тут подбегает Женькина мама и ругается. Папа смеется: «Да ладно, нормальные мужские игры», но она требует, чтобы он «убрал свои пьяные грабли» от ее сына или она позовет охрану. Папа хватает валяющийся на бортике водный автомат и дает очередь по собравшимся на шум, крича маме: «Чтоб я тебя больше рядом с этой тупой курой не видел!» Мама молча собирает пляжную сумку и уходит прочь. Я бегу за ней следом, путаясь в длинном полотенце. В номере она закрывается в душе. Я включаю телевизор, но все равно слышу, как она плачет. Закрываю глаза, падаю на подушки. Теплая зеленая волна поднимает меня и раскачивает. Гладкие коричнево-белые камешки лениво перекатываются по дну.
Мама будит меня, она причесана и накрашена. Она делает такое специальное лицо, как у актрис, которые играют в сериалах медсестер… Доброе и серьезное. Она говорит: «Нам нужно быть терпеливыми, у папы трудное время. Он делает все, чтоб нам жилось лучше». Я хочу сказать, что можно бы, наверное, жить и чуть похуже, но… Мама прикрывает мне рот ладонью и тихо говорит: «Ты вырастешь и поймешь, что все, что могла, я для тебя сделала». Она отворачивается к шкафу, чтобы выбрать платье на вечер.
Папа появляется в номере перед ужином, обгоревший до красноты. «Черт, — говорит он, — похоже, днем малость развезло. Ничего не натворил?» Он говорит, как большой неуклюжий медведь из мультика, и нам кажется, что днем и правда все забавно вышло. Мы смеемся, мажем его пантенолом. «Завтра мы с тобой нормально поныряем, — говорит он, положив мне на плечо горячую, красную, как у индейца, руку. — Хочешь, на камни сплаваем, там, говорят, рыбки…» Мама приносит ему светлую рубашку — пора на ужин. Мне нравится, как тут устроено все вечером — музыка, фонари, у входа встречают официанты, все нарядные, словно идут на бал во дворец, а не в пляжную столовку.
Народу много, не успевают разносить напитки. Папа машет официанту, но тот его никак не видит. Мама говорит: «Давай, сама принесу», но папа отвечает: «Еще не хватало» и начинает хмуриться. Мы с мамой тревожно переглядываемся и стараемся есть побыстрее. Папа хватает пробегающего мимо официанта — не нашего, другого, за край фартука, тот неловко разворачивается и роняет бокалы с красным вином. Папа вскакивает, пугая соседей, и орет на парня, сжимая кулаки. Парень хватает салфетку и тянется к папиной покрасневшей рубашке, тот отбивает его руку, и бедняга отлетает к соседнему столику. Мама, опустив глаза, собирает наши вещи. Я пытаюсь вспомнить, как это, когда твое тело обнимает теплая вода. Как это, когда тебе спокойно и тихо. Как сверкают искорки-рыбки, как мягкими клубами поднимается со дна песок… Но у меня ничего не получается. У меня ничего не получается, У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, ВЫ ВСЕ МЕНЯ ДОСТАЛИ, Я ХОЧУ, ЧТОБ ВЫ СДОХЛИ, СДОХЛИ, СДОХЛИ!!! Я кричу, пока не перехватывает горло, потом через стулья, столы, людей, мимо маминых рук, прижатых ко рту, мимо фонарей и пальм, я бегу, куда несут ноги.
На пляже темно. Тихо. Как будто ресторан за тысячу километров, на другом краю мира. Море шуршит. Для него все это мелочи. Я снимаю шлепки и стою в прибое, пена льнет к ногам ласковой кошкой. Захожу по колено, опускаю вздрагивающие руки в воду. Шорты мокнут… Ну и ладно. С облегчением ложусь на спину. Вода теплая, как воздух, и такая же черная, как небо, я парю, потерявшись в этом живом космосе. Мне мало, я выдыхаю и, почти не моргая, смотрю, как смыкается надо мной вода, растворяя жирные звезды. Вдруг я начинаю ощущать все море целиком, всю его жизнь — все впадины, все скалы, всех существ, что движутся огромными тенями в его глубине и что маленькими точками светятся на поверхности. Я больше не принадлежу ничему, кроме моря. Мне осталось только одно, самое простое… Сделать вдох.
…Мир вокруг ломается, трескается, разлетается кусочками, ранит снаружи и внутри. Горло саднит, больно дышать, голова тяжелая, словно в нее насыпан песок. Странный голос, как из кино про роботов. Чужой язык. В осколках чужих звуков вдруг — мамин голос. Потом вокруг становится все тише и тише.
Вернись ко мне. Отзовись. Тузя-бутузя… Где ты… Ответь, маленький мой.
…Открываю глаза. Мир целый. Поворачиваю голову. Наш номер. Шкаф вывернут, вещи валяются на полу и кроватях. Мама сидит рядом, в руках телефон. «Сейчас в больницу, исключить отек легких. Охранник успел почти сразу, но надо… Не знаю. Знать не хочу. Мам, все. Прилетим, разберемся. Готовь комнату». Она видит, что мои глаза открыты. Берет мое лицо в ладони. Смотрит. Ложится рядом и обнимает меня. Я закрываю глаза. Мне кажется, что кровать качается, и мы плывем… вдвоем. Крошечными фейерверками вспыхивают серебряные рыбки. Солнечная паутина мерцает на песчаном дне.

Пока не поздно
«Черти в погонах! Обещали же все разрулить!.. Получается, я что — проиграю завтра суд, и мои активы уйдут к Афонину?! Ну, нет!» — Артем Валерьевич Копылов, прозванный за внешность и амбиции Наполеоном московского девелопмента, швырнул в сторону мобильник и пнул угол своего рабочего стола так, что кожаное кресло, на котором он сидел, бесшумно откатилось к высокому окну. С высоты пятидесятого этажа башни в Сити не было видно ничего. Низкая облачность закрывала панораму осенней Москвы.
«Нельзя было его кидать. А теперь — десять лет спустя! — дождался момента… Ладно, какие у меня остались еще варианты? Надавить на главного свидетеля? Но это же женщина… с ребенком, — Копылов отвернулся к стене. — Нет, хватит с меня грехов юности. Если бы я тогда с этим Петром умнее поступил… не пожадничал… А может быть, рискнуть и пройти через ту чертову дверь, пока не поздно?»
Накануне Артем Валерьевич осматривал обветшалый старинный особняк, на снос которого безуспешно пытался получить разрешение. В пыльном подвале посреди комнаты он обнаружил старинный дверной проем с тяжелой дубовой дверью. Артем Валерьевич дернул кованую ручку, но дверь не поддалась, а за спиной возник крючковатый старик в сюртуке. Он представился смотрителем и рассказал о чудесном свойстве этой двери. Если есть в прошлом решение, о котором сожалеешь, то стоит через нее пройти, как вернешься в тот момент и сможешь все исправить. «Зачем? Разве нельзя по ходу дел все разрулить? — удивился тогда девелопер, но сейчас задумался. — Что там было про побочный эффект?..»
— Потеряю то, чем не дорожу, — повторил Артем Валерьевич слова старика и оглядел свой просторный кабинет. — Ха-ха! Главное, что ничего из того, чем дорожу, не пропадет!
В два счета Копылов вернулся к телефону и скомандовал водителю готовиться к выезду.
Так плохо ему не было с тех пор, как на третьем курсе физтеха попробовал курить гашиш. Вмиг все помутилось, и Артема Валерьевича накрыло ощущение внутреннего взрыва, как будто голова, руки, живот, ноги мгновенно раздулись, лопнули и в один миг собрались обратно.
Он открыл глаза и обнаружил себя в прежнем тесном офисе, который снимал на первом этаже умирающего с советских времен НИИ. Он сидел на том же жестком стуле, за тем же щербатым письменным столом, и на нем был тот же темно-серый костюм турецкого пошива, что десять лет назад. «Ни черта себе!» — только и мелькнуло в голове Копылова, как на столе запищал его старый кнопочный мобильный.
— Тёмыч, ты же обещал… — Голос Петра Афонина он узнал сразу.
— Петро, мои там такую бюрократию развели. В договор уперлись, крючкотворы…
— Темыч, ты чего — на курсовой разнице пытаешься нажиться? Я же тебя как друга попросил… Мои деньги верни. У меня завод гибнет!
«А мне-то что с того!» — чуть снова не вырвалось у Артема Валерьевича. Навалившись грудью на стол, он отчеканил:
— Я. Сейчас. Здесь. Сижу. В своем старом кабинете. Чтобы все исправить.
— Хотелось бы верить…
На том конце послышались гудки. Копылов швырнул телефон о стену так, что тот рассыпался. В прошлый раз завод обанкротился, и Артем Валерьевич за копейки перекупил его на аукционе. Теперь он, стиснув зубы, поднял трубку на аппарате, набрал добавочный своего финансового директора и велел тому сделать перевод. Сейчас же. И снова взрыв.
К концу дня облачность рассеялась. Закатные лучи подсветили просторный кабинет Артема Валерьевича огненными бликами. Он почувствовал, как руками сжимает мягкие подлокотники кожаного кресла. Девелопер открыл глаза и, превозмогая тошноту, заглянул в настольный календарь. Дела все те же… Только записи «Суд» нет! И фотография жены в серебряной рамке исчезла с полки. «Жаль, что только рамка… Неврастеничка», — покривился Артем Валерьевич и вызвал к себе секретаря. Он спросил про партнеров, бизнес, сотрудников — казалось, что все на месте.
— А когда Марина возвращается? Долго она еще в своей Швейцарии собирается отмокать?
— Какая Марина? — с недоумением спросила секретарь.
— Жена моя… — Артем Валерьевич медленно перевел взгляд на то место, где раньше стояла рамка с фотографией.
— Артем Валерьевич… вы же холостяк…
— Да ладно… Снова?
— Так вы вроде всегда им были…
— Молодец! Свободна. — На лице Копылова засияла улыбка, морщины на лбу расправились, грудь подалась вперед. Он чинно встал с кресла, застегнул верхнюю пуговицу вельветового пиджака и поправил прическу, глядя на свое отражение в окне.
Обед в его любимом итальянском ресторане в этот раз ему не понравился — все казалось пресным. Артем Валерьевич перелистывал список контактов в телефоне, раздумывая, с кем же провести этот вечер, когда в ресторан, приветливо улыбаясь администратору, вошла стройная блондинка лет тридцати пяти в тонком кашемировом пальто. За ней влетел белобрысый мальчуган лет пяти и сразу убежал в детский уголок. «Сынуля, аккуратно, пожалуйста», — ласково бросила ему вдогонку блондинка и сняла пальто. На безымянном пальце сверкнуло обручальное кольцо с двухкаратным бриллиантом.
— Марина?! Сынуля?!
Последний раз Копылов видел ее три недели назад. Он пришел домой после бани, когда часы начали отсчет новому дню. Марина мирно спала. На аккуратно сервированном столе его дожидался давно остывший ужин. Его любимые цыплята табака. Рано утром жена со словами «Я поехала» нежно коснулась его плеча, а он, не открывая глаз, буркнул что-то в ответ. «Я ее себе верну!» — решил Копылов.
Марина сидела за столиком одна. Артем Валерьевич приосанился, подошел к ней и повторил ту самую фразу, с которой началось их знакомство десять лет назад. Но мало того что она твердо попросила ее не беспокоить, родные серые глаза смотрели на него теперь совершенно безучастно.
Через полчаса Артем Валерьевич уже стоял перед особняком, в подвале которого недавно пытался перехитрить судьбу. Здание смотрело на улицу через восстановленные витражи на окнах и горделиво щеголяло отреставрированной лепниной и свежими фасадами. Не замечая ничего, Артем Валерьевич влетел на крыльцо, дернул дверь, но путь ему преградил здоровенный детина на голову выше него в черной форме.
— Пропустите, я владелец этого здания!
— Тогда я Филипп Киркоров! Папаша, отойдите на тротуар. Здесь частная собственность. И вы не ее хозяин!
— А кто по вашему хозяин?!
— Читай! — и детина указал на бронзовую табличку перед крыльцом.
После долгого описания исторических регалий особняка следовало указание: «Восстановлен благотворительным фондом Петра Афонина».
— Черт вас всех побери! Верните мне жену! — крикнул Копылов, развернулся и бросился обратно через дорогу. Водитель мчавшегося мимо черного гелендвагена не успел затормозить. Тело отбросило назад к крыльцу. «… Поздно», — было последней мыслью Артема Валерьевича.

Пока, мама, скоро увидимся
Все было решено еще полгода назад. Окончательно. И после этого то, что казалось какой-то призрачной идеей, вдруг придавило реальностью. «Неужели мы правда уедем?» — сомневалась Марина. Но куча бумаг, получение вида на жительство, курсы испанского, поиски квартиры в Барселоне безжалостно разбивали сомнения.
Три года Антон уговаривал Марину переехать в Испанию. Долгие разговоры, слезы, ссоры. Брак трещал по швам, однако же не треснул, не рассыпался. Антон был готов попрощаться со своей мечтой или с Мариной, и вдруг Марина согласилась. Счастливый и взбудораженный, Антон достал бутылку дорогого испанского вина, семь лет ожидавшего подходящего случая, и они распили его из пары бокалов, привезенных из Барселоны.
Однако без колебаний Марина прожила со своим решением две недели. Радостно составляла списки вещей и дел для переезда, а потом вдруг проснулась рано утром в холодном поту, со стремительно бьющимся сердцем.
«Господи, а как же я скажу об этом маме? Как она выдержит это? Ведь я уеду так далеко от нее. Может, не ехать?»
Отменять переезд Марина не решилась, сказать маме — тоже.
Мама была для Марины дорогой фарфоровой вазой, которую необходимо оберегать от всевозможных потрясений. Антон не мог понять, где там хрупкость в этой язвительной, везде сующей нос женщине, которая могла испортить любой праздник своими неуместными замечаниями. Марина прощала Антону его непонимание, потому что только она знала, что случилось с матерью после смерти младшей сестры Линочки. Как эта властная, гордая женщина превратилась в испуганное морщинистое нечто с трясущимися руками и едва слышным голосом: «Как… как это случилось?» Правда, это состояние длилось недолго. Потом посыпался острый град обвинений всем и вся — их «беспечному папаше», который всех бросил, «бестолочи Марине», «идиотским друзьям Лины». Ну, смерть и правда была загадочной, непонятной. Марине было пятнадцать, Лине тринадцать. Никто не думал, что обычный день рождения Лининого одноклассника на даче закончится так трагично. Почему Лина, которая прекрасно умела плавать, вдруг утонула в обычном маленьком прудике? Что тут сыграло роль? Много алкоголя, неосторожность, чей-то злой умысел? А кто-то говорил, что это самоубийство на фоне затяжного конфликта с матерью. Слухов было много и ясности так и не появилось.
С тех пор Марина решила больше никогда не расстраивать маму. Хватит с бедной мамочки ухода мужа и смерти младшей дочки. И с пятнадцати лет худенькая и хрупкая Марина взяла заботу о своей легко воспламеняющейся и капризной матери. Она стала ей мужем, обеими дочерьми и пожарной бригадой для тушения ее неожиданных возгораний. При таком раскладе у Марины не было ни единого шанса на личную жизнь. Однако вскоре у матери появился поклонник. Требовательность матери к постоянному присутствию Марины сменилась раздражением. «Тебе пора уже жить отдельно», — говорила мать, накручивая локоны перед приходом своего возлюбленного. Марина была послушной девочкой (в отличие от бунтарки Лины) и потому переехала в съемную квартиру, познакомилась с Антоном и даже вышла за него замуж.
Впрочем, к тому времени мать уже рассталась со своим любовником, поэтому свадьба ее не порадовала. Однако Марина не могла уже бросить Антона ради матери. Антон открыл ей другой мир — любви, нежности, свободы в интересах и желаниях. Марина поначалу робела, замирала и при этом чувствовала, как хорошо так жить, не думая о матери. Правда, после таких моментов Марину настигало острое чувство вины и она звонила матери и подолгу с ней разговаривала, словно пытаясь оправдаться за свое временное её забвение. Она чувствовала раздраженно-печальное одиночество матери и пыталась уладить ситуацию, предложив Антону жить вместе с ее матерью. Однако единственное, на что удалось упросить Антона — снять квартиру в пятнадцати минутах от мамы. Марина по три раза в неделю заходила к маме, часто приносила ей какие-нибудь цветы или приятные подарочки. Каждый Новый год, к большому неудовольствию Антона, они отмечали в гостях у мамы.
На Испанию у Марины поначалу тоже не было никакого шанса. До тех пор, пока у мамы не появился новый поклонник — Эдуард — и желание открыть свою кофейню вместе с ним. Тогда Марина вновь столкнулась с раздражением матери на ее частые приходы и ежедневные звонки по телефону. «Тебе что, делать нечего?» — спросила мать в очередной ее приход. И послушная Марина все поняла — и нашла себе новые дела. Так вот и получился этот переезд в Испанию. Мать же к тому времени опять рассталась со своим ухажером и мечтой о собственном кафе, что придавило Марину еще большим грузом вины за свой скорый переезд и счастливую жизнь.
Оставалась неделя до отъезда. Два чемодана в комнате: черный — Антона, серебристый — Марины, напоминали о скором старте новой испанской жизни. Прекрасной, солнечной, желанной. Вот только маме нужно сказать.
И Марина решилась. Купила в цветочном киоске пять разноцветных гербер и направилась к матери.
Мать встретила недовольно, хотя принесенные цветы вызвали снисходительную улыбку.
— Чего опаздываешь?
— Да я ровно вроде. — Марина нервно посмотрела на часы в телефоне. — Да, ровно в пять. У тебя с прошлого раза, видимо, спешат.
— Ну-ну, знала же, что у меня спешат, пришла б пораньше. Кексы стынут и кофе. Чего мнешься, проходи скорее!
Марина шустро вымыла руки, забрызгав кофту, и прошмыгнула на кухню. Стол и правда был уже готов. Шоколадные кексы, безе, кокосовое печенье — все то, что собиралась делать мать в своей так и не открытой с Эдуардом кофейне. В середине стола стояли в вазочке из голубого стекла Маринины герберы. Мать наливала свежесваренный кофе из старинной турки, попутно рассказывая про сволочь-Эдуарда, который уже нашел себе другую, ужасную соседку сверху, которая чуть не затопила всех, и свои прекрасные рецепты кексов для кофейни. Вскользь вспомнила Линочку, свою подругу Зинку, которая завела вдруг померанского шпица, и абсолютно бездарную театральную постановку в «Современнике».
В этом монологе Марине не удавалось ни слова вставить, и даже в паузы мать или игнорировала попытки Марины сказать, или быстро переключалась на другие темы. Было уже семь вечера, и Марина с отчаянием думала о том, что сказать, наверное, не удастся. А потом, в какой-то момент, вытерев потные ладошки о джинсы, Марина выпалила: «Мама, мы уезжаем в Испанию! — и чуть тише добавила: — Насовсем». В доме стало неприятно тихо.
Мать выпрямилась, так и не сделала выдох и резко хлебнула кофе из чашки.
— Несладкий, — пробормотала она, потянулась к сахарнице и раздраженно швырнула в кофе два кубика сахара так, что пара коричневых капель вырвались из чашки на голубую скатерть.
— Испания, значит, да? Что ж. Ну, хорошо. Очень хорошо, Значит, меня ждет одинокая старость. Значит, плохая мать, дочь плохо воспитала.
— Мам…
— Не надо мамкать. И цветы свои забери. — Мать выдернула из вазы подаренный букет разноцветных гербер и швырнула Марине. — Только о себе думаешь. Знаешь ведь, как меня ранит такое. Сказать даже нормально не могла. К таким новостям готовить надо. А вдруг у меня инфаркт бы случился, ты об этом не подумала?
И дальше понесся вихрь обвинений, которые всегда кочевали в словах матери от одного ее обидчика к другому, но теперь исчадием ада была Марина, которая никогда ничего не могла нормально сделать, и что, конечно, если бы жива была Линочка, то она бы никогда так не поступила. И что как жаль, что Господь забирает лучших. И что вообще это Марина виновата и в том, что Линочка умерла, и в том, что их отец бросил, и…
— Да пошла ты! — Марина резко вышла из-за стола, накинула плащ в прихожей и выскользнула из дома. В первый раз она сказала матери грубое слово поперек. Наверное, Антон бы гордился ею.
Мать ошеломленно посмотрела на хлопнувшую дверь и, выглянув в подъезд, прокричала: «Истеричка! Вся в отца!»
Но Марина уже не слышала, она неслась по тротуару, борясь с комом в горле.
Она с трудом бы могла вспомнить, как добежала до дома, переоделась и два часа неподвижно просидела в кресле, позабыв включить свет в потемневшей вечерней комнате. Как сквозь мутную толщу воды Марина видела, что пришел Антон и он что-то говорил ей. Легонько тряс ее за плечо. Потом какой-то невнятный, глухой диалог, невыразительные слова… Что? Зачем? Какой смысл? Не сон ли это?…
— Сказала?
— Сказала.
— Она бесилась?
— Да.
— Ну, ничего, перебесится. Ей полезно.
Марина начала всхлипывать.
— Милая моя, все будет хорошо.
— Антон, я не еду.
— Что?
Антон вглядывался в Марину, пытаясь в ее лице разглядеть несерьезность произнесенных слов. Морщился, напрягал слух, чтобы услышать хотя бы полубеззвучное опровержение этим словам. Но Марина молчала и, кажется, очень верила тому, что сказала.
Затем были расспросы, уговоры, крики. Анон разбил две чашки, бокал из Барселоны и экран своего телефона, когда звонил Марининой маме. Марина лишь всхлипывала и вздрагивала от звона бьющейся посуды и ударов кулаком по стене. А потом Антон абсолютно спокойным, но ужасающе холодным голосом сказал: «Ну, понятно все». Резко собрался и вышел куда-то. Он вернулся потом. Но уже не к Марине, а за своим черным чемоданом. И еще чтобы взглянуть в глаза Марине. Долго, пристально, как будто проверяя что-то. Тяжело вздохнул и ушел. Ну и все, а дальше все было очень спокойно, размеренно и даже скучно.
После развода с Мариной Антон переехал в Испанию. А Марина — на другой конец города, подальше от матери. И больше никогда не звонила ей и не приходила в гости. Лишь изредка приезжала к ее соседке, чтобы узнать, все ли в порядке с матерью. Все было в порядке.

Преображение
Она лежала, не двигаясь, не открывая глаз, утопая в подушках, и солнце светило ей прямо в лицо. Лежала и чувствовала, как это нежное сияние заполняет комнату, как в открытые окна вплывают запахи моря и апельсинов, вытесняя унылый запах лекарств, и внизу, в переулке быстро и весело заговорили по-итальянски, и кто-то проехал на скутере, и у Сант-Амброджо зазвонили к службе.
«Сейчас, наверное, лето, — тянулись мысли, медленные и тяжёлые. — Должно быть, август, последние летние апельсины зреют и падают, и остаются лежать прямо на улице — оттуда этот запах… И как красиво звонят! Какой же сегодня праздник? Какой? Господи, боже праведный…»
Звон разносился долгий, неровный, дрожащий, от него собственное тело ощущалось почти невесомым, даже спина не болела больше, и дышать становилось легче — и отчего-то тревожнее.
«Что же это со мной такое было? Видимо, я стала совсем плоха… Не соображаю ничего и счёт времени потеряла, а вчера кинула в стену чашку с лекарством — зачем я её кинула? И за ужином плюю на пол еду — боже мой, как стыдно… Мучаю Анечку… И Роберто… И правнуки меня боятся, в комнату не заходят, крадутся мимо на цыпочках. Господи, боже мой…»
Она с усилием приоткрыла глаза: комната была вся — размытые светлые пятна. Вон те, зелёные, в проёме окна — должно быть, распахнутые ставни, а в углу — розовое, её любимое кресло, в котором она не могла больше сидеть. В остальном всё было белым бело и залито солнечным светом, и свет этот кружился и дрожал, как листопад, как колокольный звон.
И Кто-то стоял в самом тёмном углу.
— Кто здесь? — спросила она.
Собственный её голос прозвучал так слабо, дребезжаще, что ей не захотелось его признавать своим.
Кто-то виделся лишь самым краешком глаза, самым дальним уголком сознания — был ли Он? Или это была только скошенная треугольная тень от стены?.. Она прищурилась, но никчемные полуслепые глаза всё равно не различили ничего, кроме размытых светлых пятен. Она потянулась за очками — очков на тумбочке не было.
— Кто здесь? Ответьте!..
Кто-то в углу молчал, и ей стало жутко, как порой становится жутко во сне: в безопасности, посреди солнечной комнаты, из-за какого-то странного пустяка, неясного предчувствия. «Может быть, Он пришёл за мной, — подумалось ей. — Нет, нет, только не сейчас!..»
И она рванулась прочь от Него, откинув одеяло, сметя рукой с тумбочки лампу, электронные часы и склянки с лекарствами, но далеко не ушла — так и осталась стоять босиком, судорожно дыша, опираясь на тумбочку дрожащими руками, такими страшными, ссохшимися, как палки — как вообще на них ещё можно опираться… Голова закружилась, ноги дальше не шли, подгибались. Тело совсем не слушалось.
— Аня! — позвала она всё тем же жалким голосом. — Анечка! Кто-нибудь!
Но никто не пришёл, даже не откликнулся, а Кто-то всё продолжал смотреть ей в спину… Колокола затихли, и уже только в голове то ли слышались, то ли нет какие-то фантомные звоны.
И она вспомнила.
Это было в Нижнево, на павлушинской даче, в тот далёкий, снежный январь — там тоже звонили, совсем по-другому, за рекой в Пустыни, и в другой стороне — в той деревеньке, как-то на «Д»… Там были сугробы до самых окон, и тёмная гостиная, и рубиновый уголёк лампады в углу, и тоже Кто-то незримый смотрел оттуда ей в спину — это всё было, было, как удивительно и как больно вспомнить это теперь!..
Ведь там были все: и Павлушины, брат с сестрой, и Верочка Рябова, и маленькая Наташа, и Лёвушка Хофф. Трещал огонь в печке, и они все вместе сидели до поздней ночи и жгли свечи, и говорили, и делали всякие глупости. Вызывали духов, держались за руки, говорили торжественно: «Приди!» — смех! Даже завесили зеркала — кого они боялись там увидеть?.. Наташа пугалась любого звука, малейшего дуновения ветерка, всё порывалась вскочить, убежать — но Лёвушка говорил строго: «Нельзя разрывать круг!» — а он ведь был влюблён в неё, Лёвушка. И Верочка сверкала через стол своими чёрными глазами… И все они были живы. Как они были тогда красивы…
«Постой, — сказала она мысленно Кому-то. — Это ведь Ты взглянул на меня из красного угла тем вечером? Постой, не уходи! Очки, должно быть, в ванной, я хочу увидеть Тебя… я сейчас!..»
И она зажмурилась, чувствуя комок в горле, оторвала руки от тумбочки и схватилась за стену, и сделала один крошечный неверный шаг к двери. И ещё один.
«У меня был платок, чёрный с белым, и то синее платье… Я надела тогда его, это точно, оно ещё так удачно сидело в талии… Боже мой, неужели у меня когда-то была такая талия?»
Через четыре шага рука её на что-то наткнулась — это оказалось большое настенное зеркало, она и не помнила, что оно здесь висит. Обеими руками она уцепилась за его раму, взглянула — и замерла.
«Это я».
То, что было по ту сторону зеркала, ей стало отчётливо видно и без очков. Там стояла она — высокая и прямая, и волосы были такие непривычно тёмные и густые, как гречишный мёд, и вились, и спускались на плечи, на чёрно-белый платок, и синее платье — то синее платье!.. Неужели у неё и вправду была такая талия, такая сказочно тонкая? А это лицо — неужели это её лицо?..
И она всматривалась в него, боясь дышать, боясь даже моргнуть, чтобы оно не растаяло, не превратилось снова в морщинистую беззубую маску. У её отражения была такая гладкая, как лилия, кожа, и чёрные брови вразлёт, и скромный, чуть печальный поворот головы — почему она не замечала этого тогда — когда всё это было?
«Этого нет, — думала она и чувствовала, как слёзы катятся по её лицу, капают на пижаму. — Этого больше нет, это никогда не вернётся. И никто из них не вернётся, и некуда больше вернуться. Может быть, это сон, так зачем же Ты показал мне его теперь!..»
Сердце так колотилось в груди, что ей казалось: сейчас она умрёт. Ей казалось: это словно ослепнуть на долгие годы, приучиться жить в кромешной тьме, смириться с этим — и однажды на пару минут прозреть во сне… Она смотрела в зеркало и не могла насмотреться, пытаясь запомнить себя такой. Руки медленно соскальзывали с гладкой рамы.
«Я расскажу об этом Анечке, — думала она. — Когда она придёт с работы, я ей расскажу».
Слёзы застилали ей глаза, откуда-то издалека доносились уличные звуки, и пахло морем и апельсинами, и солнце заливало комнату светом — таким нежным, таким белым, что ничего больше не было в мире, кроме этого света.
Роберто нашёл её вечером там же, перед зеркалом, и подумал, что она умерла. В комнате был разгром, на полу валялись вещи с тумбочки: лампа, часы, очки, россыпь пузырьков с лекарствами; сама она лежала, не двигаясь, он подбежал к ней, и она проснулась.
— Аня? — сказала она хрипло.
— Аня скоро придёт, — выдохнул он. — Как вы себя чувствуете?
— Я проснулась, а дома никого нет. Совсем никого! Почему вы бросили меня в мой день рождения?
Роберто вздохнул, поставил часы обратно на тумбочку и постарался сказать мягко:
— Ваш день рождения был месяц назад. Сегодня август, шестое. Ложитесь обратно в постель, Аня сейчас придёт.
Она ухватилась за его плечо, стараясь подняться, и что-то капризно забормотала.
— Я что-то хотела сказать и забыла, забыла, всё забыла, ничего не помню… Господи, да что же это такое, господи, боже праведный!..

Родня с небес
— Ну что, все собрались? Или кого-то ждем? — произнесла глубоким контральто Роза Исмагиловна и привычным жестом поправила очки на переносице одной рукой и пушистое облачко под седалищем — другой. — Где Роберт Павлович у нас, не вижу?
Роза Исмагиловна — казанская прабабушка Ивана Мохова, ушедшая в мир иной в самом конце двадцатого века, — сидела во главе большого кучевого облака, слепленного в подобие переговорного стола. Ее лицо и фигура то резко очерчивались, то расплывались в свежем утреннем воздухе, словно кто-то бесконечно настраивал фокус фотоаппарата. В этих переливах тем не менее безошибочно читался белый медицинский халат, накинутый на плечи поверх строгого костюма, и черная с проседью бабетта, возвышавшаяся на гордой голове. Рядом, слегка покачиваясь, висело сопровождавшее ее повсюду видение: пепельница с вечно дымящейся сигаретой.
Другие почившие родственники Ивана, разного пола, возраста и сословий, — из тех, кого на время задержали от вечного сна разные причины и надобности, — располагались на соседних облаках. Под ними, внизу, искрилась солнечными бликами река, пересекавшая зеленые поля и березовые перелески; справа разрезал небо надвое далекий самолет. Родственники перешептывались, вздыхали, на дальних облаках кто-то хихикал.
— Роберта Павловича сегодня не будет: исправляет ошибку юности! — объяснил чей-то голос.
Роза Исмагиловна про себя усмехнулась: «Музыкант!», затем громко откашлялась, призывая к порядку. Шум смолк.
— Итак, друзья мои, приступим. Что у нас на сегодня?
— Ежели позволите… Нынче наш Ванечка идет на свиданьице! — подобострастно доложила ей Анна Васильевна, смешная старушка в цветастом платочке, бездетная тетка прадеда со стороны отца.
— С той вертлявой девицей? Ах да, мы же сами назначили ей свидание в прошлую пятницу! — вспомнила Роза Исмагиловна и смягчилась. — Ладно, пусть мальчик немного развлечется. Кстати, надо помочь ему выбрать галстук. Это, черт побери, важнейший вторичный половой признак. — Роза Исмагиловна расхохоталась над своей биологической шуткой, которую, впрочем, мало кто понял. — Есть у нас эксперт по галстукам?
— Возможно, прапрапрадедушка Николай Филиппович? — после затянувшейся паузы робко предложила Маргарита, бледная девица с книгой под мышкой, троюродная сестра по материнской линии.
— Ну нет, только не этот развратник! Все, во что он вмешивается, кончается постелью!
— А разве…
— Ну конечно, нет! По крайней мере, не сегодня. К девице надо присмотреться: еще подцепим что-нибудь. Пожалуй, через месяц-два… Как считаешь, Иоанн Степаныч? — обратилась Роза Исмагиловна к древнему старцу в черном долгополом кафтане.
— А? Что? — вскинулся предок Иоанн Степаныч.
— Говорю: пусть сначала познакомятся поближе, верно? — проорала она в его заросшее сединами двухвековое ухо.
— Скверно, ох скверно, матушка! Но сплю-от хорошо, давеча жисть свою сызнова пересмотрел. До Наполеона дошел, а дале — все тямноооо…
— «Матушка»! — вполголоса передразнила его Роза Исмагиловна. — В прапрадеды мне годишься, сонная тетеря! Ладно, — отрезала она с хирургической решимостью, — сама выберу чертов галстук! Что у нас дальше?
…Ивановы почившие предки уже заканчивали утреннюю «летучку», когда к большому облаку для заседаний подплыла вдруг фигура недавно ими упомянутого прапрапрадеда Николая Филипповича, ловко одетого щеголя в соломенном канотье и с франтоватыми усиками, каковые были весьма модны в 1900-м году.
— Приветствую честную компанию! — без малейшего стеснения вымолвил Николай Филиппович, приподымая шляпу и нагловато улыбаясь. — Позвольте вам передать сообщеньице, кровные и некровные мои!
— «Сообщеньице»? От кого, позвольте узнать?!
Роза Исмагиловна обвела взглядом родню. Все они как один глазели на этого бездельника Николая Филипповича — даже древний Иоанн Степаныч.
— Со света божьего, от Ивана Владиславовича Мохова, разумеется, от кого же-с. Стал бы я иначе вас всех тревожить-с! — продолжил во всех смыслах ветреный Николай Филиппович.
— От Ваньки, правнука моего? — фыркнула Роза Исмагиловна, нервно стряхивая несуществующий сигаретный пепел в несуществующую пепельницу. — Интересно, как вы это сообщение получили? Сорока на хвосте принесла?
— Сорока не сорока, а нашлась добрая птичка, намурлыкала… Впрочем, тому несложно слышать, кто слушает! Иван давно желает по собственному разумению жить, и так, и эдак вам намекает: уж и комнаты освятил, на сеансы спиритические ходит, а вам и дела нет? Нехорошо, дамы и господа! Неладно-с!
Призраки стыдливо потупились: они подозревали, что поступают с Иваном неправильно. Но Розу Исмагиловну смутить было нелегко.
— Святого из себя не корчите, господин хороший! — прошипела она. — Мы вас как облупленного знаем, и не вам нас морали учить! Кто прапрапрабабке Софье Вениаминовне всю жизнь сломал, за ее спиной ни одной юбки не пропускал? Кто ее с шестью детьми бросил и на год с любовницей в Петербург укатил, деньги все промотал? Думаете, тут позабыли о ваших подвигах? — Она расстреливала его словами в упор, а потом перезарядила для контрольного: — А как вы померли, напомнить вам, дорогой родственничек?
— Не стоит, — излишне спокойно ответил Николай Филиппович; улыбка его исчезла, однако же — не его решимость. — Благоволите все же прослушать сообщение. Иван Владиславович просят усопших родственников немедля оставить всяческие вмешательства в его жизнь, вконец ему осточертевшие. А ежели его и теперь не услышат…
Тут Николай Филиппович приостановился.
— Что? — не выдержала бледная Маргарита.
— Они сами сюда прибудут, чтобы сию идею самолично донесть. Вот так-с!
Николай Филиппович на этих словах махнул обществу шляпой, зыркнул на Розу Исмагиловну и, развернувшись на прозрачных каблуках, поплыл прочь.
Усопшие родственники сидели в гробовом молчании. Даже Роза Исмагиловна не находила слов. Было слышно лишь, как тихо всхлипывает и сморкается в цветастый платочек бездетная тетка прадеда Анна Васильевна.
— Вот что, ребята, побаловались — и будет! — подытожил Иванов прадед Петр Михайлович. Он встал, одернул гимнастерку, поправил на голове пилотку со звездой. На груди его звякнули медали за оборону Москвы и Сталинграда.
— Петр Михайлович, — начала было Роза Исмагиловна неуверенным тоном.
— Всё! — рубанул военный прадед. Развернулся — и первым пропал в белой дымке.
Растерянные родственники последовали за ним. Таяли друг за другом в солнечных лучах двоюродные тетки и троюродные дядьки, родня по материнской линии, дальние родственники отца… Наконец, рядом с Розой Исмагиловной остались только бледная Маргарита, старушка Анна Васильевна и вечно дремлющий Иоанн Степаныч.
— Молчите? Да я и сама все понимаю, — сказала Роза Исмагиловна, гордо всхлипнув. — Надоели мы Ваньке своей заботой. Чуть до смерти, получается, не задушили…
— Коли так, пойду я, покамест не надобна, — вздохнув, поклонилась Анна Васильевна. — У меня вон Зорька стоит не доена… — И исчезла.
— А я книгу не дочитала, — робко сказала Маргарита, растворяясь в пространстве, пока губы ее договаривали: — Уж который год на пятьдесят девятой странице…
— Да не дочитаешь ты ее никогда, дура! — зло от отчаяния ругнулась ей вслед Роза Исмагиловна, взметнула вокруг себя облачный вихрь и распалась на конденсат.
На облаке остался лишь четырежды древний дед Иоанн Степаныч. Ему некуда было спешить. Он плыл над бескрайними полями, то смыкая, то разлепляя белесые глаза; и снилось ему, как двести лет назад молодым и пригожим целовался он в ромашках с Ивановой прапрапрапрабабкой Агриппиной, чье имя, кроме него, уже никто не помнил.
***
Иван Мохов, проснувшись утром в субботу, вдруг ощутил во всем теле невероятную свободу. Рядом с ним в теплой постели с одной стороны лежала вчерашняя девица, с другой — кот Альбатрос. Кот внимательно смотрел на Ивана умными глазами, словно интересуясь его самочувствием.
— Да все отлично, чувак! Сработало! — сказал ему Иван и подмигнул. И кот подмигнул ему в ответ.
Первым делом Иван выпроводил девицу, наскоро пообещав перезвонить на неделе. Потом, врубив музыку на максимум, он занялся завтраком и прыгал от восторга, когда яичница основательно подгорела, а тарелка выпала из рук и разлетелась на мелкие куски.
«Вот она! — думал Иван. — Настоящая жизнь!»
Весь день он безнаказанно совершал разные глупости, заказывал в интернете ненужные вещи, без толку слонялся по городу и ни разу не притронулся к университетским учебникам. Вечером ему позвонил приятель, предложил пойти в клуб. Приятель был сомнительный, компания непонятная, клуб какой-то левый, — но Ивана ни одно из этих соображений не остановило, и уже через полчаса, заряженный напитками и адреналином, он двигал конечностями внутри скачущей толпы.
В три часа ночи, вынырнув из тьмы подсознания, Иван обнаружил себя в неизвестном баре, в компании незнакомых людей. Было жарко и дымно, он с трудом выбрался на улицу, чтобы вдохнуть свежего воздуха. У самой двери он кого-то случайно задел, его резко толкнули в ответ, потом ударили с другой стороны, и, услышав издевательский смешок, он понял, что будут бить.
Шанс у Ивана был один. Он ринулся вперед, сбил с ног кого-то из нападавших и рванул наутек, отчаянно надеясь, что погони не будет. Но не прошло и секунды, как совсем близко за спиной услышал топот и крики — и припустил еще быстрее. Задыхаясь, он плутал в темноте мимо парковок, закрытых подъездов, мирно спящих детских площадок. Бок ныл от удара. Наконец, свернув за угол высотки, он внезапно выскочил на дорогу — прямо под летящие колеса случайного автомобиля. Тормоза заскрежетали, в воздухе запахло паленой резиной…
…Перед глазами его в последний момент что-то мелькнуло, какой-то смазанный образ — мужское лицо со старомодными усиками и в дурацкой шляпе — и неведомая сила отбросила его назад от машины. Иван откатился на обочину; в криках преследователей он с облегчением различил слова «ДТП» и «валим!». Тогда он наконец выдохнул и долго лежал без движения, слушая в трезвой ночной тишине, как колотится в груди и в висках его «настоящая жизнь».
***
Николай Филиппович наблюдал в задумчивости розовый закат, когда напротив него вдруг материализовалась знакомая голова, увенчанная высокой прической из черных волос с проседью.
— Вот как, значит, Николай Филиппович, — сказало ему проявившееся лицо еще до того, как Роза Исмагиловна отобразилась полностью. — Сами слово свое нарушаете, просьбы прапраправнука игнорируете. А нас попрекали…
Глубокий голос ее звучал почти нежно. Николай Филиппович беззаботно улыбнулся, прикоснулся рукой к соломенной шляпе и, хитро посмотрев на Розу Исмагиловну, произнес:
— Так что с меня взять, сударыня! Не вы ли меня знаете, как облупленного-с?
— Да что уж там, — помолчав, сказала она, и из-под очков блеснули восточной искрой ее красивые глаза. — Кто старое помянет… Прогуляться сегодня вечером не желаете?

Свобода
Руки мерзли так невозможно, что всегда коротко обкусанные ногти засиреневели. Таня натянула рукава свитера пониже и попыталась спрятать руки в оттянутые макаронины, но не гнулись пальцы. Новое кольцо на безымянном впилось лапками в узелок вязки, зацепилось камнем и пустило по свитеру петлю. Таня пыталась высвободить нитку из лапок, но она застряла.
— Тебе шоколадный, как обычно, или ты у меня опять на диете?
Таня вздрогнула. Подняла глаза и тут же уткнулась в насмешливые зубы.
— Я не… — начала Таня, но получилось тихо.
— На диете, значит. Два шоколадных и два… Танчик, как обычно? — и, не взглянув в ее сторону, пошлепал пальцем официанту куда-то в меню, — вот этих, побольше. И льда положите.
Зубы проводили официанта и вернулись к Тане. Ей показалось, что они немного оранжевые от пламени камина за ее спиной.
— Ну ты чего, все еще дуешься? — спросил рот и скривился в улыбке.
— Я не… — снова вышло тихо. Таня кашлянула. Рот поморщился.
— Я вон каких тебе цветов принес, а ты хоть раз посмотрела, а?
Таня покосилась на хрустящий пластиковый кулек, который официант до этого проворно и молча поставил в вазу. В кульке белые мясистые лилии смотрели на Таню расплющенными от тесноты пестрыми зевами. Таня не решалась отодвинуть вазу подальше. От пряного и солоноватого мясного духа, исходившего из кулька, ее подташнивало, кружилась голова.
— Вот именно. Может, ты спасибо хоть сказала бы, а? Хоть бы полспасибо, а? Чего я тебе еще должен подарить, а?
— Сережки, — сказала Таня прежде, чем смогла себя остановить, — их не дарил еще, например.
Сережек Таня никогда не носила — всегда боялась себе что-нибудь прокалывать, уж тем более ради непонятной ей красоты. А ту, что лежала сейчас у нее в кармане пальто, ей нашел Булгаков. Таня расставляла только что привезенные книги на пыльной полке над кроватью. За отсутствие книг в его комнате всегда цеплялся глаз, как за дырку или оторванную пуговицу. Старенькое клеенчатое издание «Белой гвардии» выскользнуло из рук и спикировало прямо в зазор между кроватью и стеной. Чертыхаясь, Таня припала к матрасу и начала загребать рукой пыль на полу, едва доставая пальцами. Что-то острое укололо ее в мякоть подушечки. Балансируя указательным и средним, Таня выудила из закроватной пыли камушек. Камушек оказался одинокой серебряной сережкой с колючей стекляшкой в лапках. Не раздеваясь, Таня залезла под одеяло. Стекляшка смотрела на нее мутным рыбьим глазом, пока не стемнело и уже нельзя было ничего различить.
Голос угрожающе посыпался откуда-то из-за зубов.
— Я тебе и колечко, и цветочки, и то, и се. И так перед тобой, и эдак. Как плясун на веревочке. Как каблук. Я сколько унижаться должен? Я… Ты…
Локоть по соседству с любопытством обернулся, вдавливая в рукав шоколадные крошки. Рот спохватился. Голос перестал оттуда вываливаться колючими комками, смягчился, кажется, даже заулыбался.
— Чего ты, в самом деле. По-человечески все же надо относиться, Танчик. Я просто свободная, широкая душа… И кольцо вот долго выбирал. Ты же знаешь, как я тебя люблю. — «Люблю» у него поскользнулось и вышло странным, похожим не то на «ублю», не то на «улю».
Таня посмотрела вокруг рта: на небритый подбородок, шею в голубом вороте. На шее еще коричневела старательная царапина от чьего-то длинного ногтя. Таню затошнило еще сильнее. Хотелось выйти на свежий воздух, не пахнущий подтухшим мясом. Рот напирал.
— Слушай, Танчик… Рванем на море, а? Ты все в Прагу эту намыливалась, но зачем тебе в такую холодину? Поехали. Хоть прямо сейчас, хочешь? Погреемся. Может, растаешь немножко там, а? Там море, синее, теплое, свободное… По песочку погуляем, а, Танчик? И…
Таня вдруг вспомнила, как на первом свидании у Вити к уголку рта смешно прилипла шоколадная крошка, и Таня попыталась стереть ее подушечкой большого пальца, но только размазала сильнее. Тогда она приподнялась на цыпочки и поцеловала в шоколадный след. Он был горьковатым. Витя улыбнулся всеми морщинками вокруг глаз, сгреб ее к себе, и под его курткой она была дома больше, чем у себя дома.
Таня выдернула наконец нитку. Из рукава вылезла и повисла длинная лохматая веревка. Вокруг камешка осталось тонкое красное оперение. Таня скрутила кольцо. Оно неожиданно громко звякнуло о блюдце.
Рот дернулся и замер.
— Тебе что, Танчик, кольцо мое не нравится? — спросил рот вдруг сипловато.
— Нравится, — сказала Таня, — очень. Но свободное слишком.
Таня встала, взяла сумку и протиснулась к выходу. Двумя руками она оттолкнула от себя тяжелую дверь. В грудь сразу ударил ветер и отбросил Таню на полшага, но возвращаться за пальто не хотелось. Обхватив себя макаронинами свитера, Таня пошла вперед, не разбирая дороги. Ветер заполнил нос и рот, и тошнотворный солоноватый привкус тухлого мяса наконец отступил. В лицо брызнули осколочки снега. Таня оттянула ворот и пустила осколочки во внутренность свитера.
Длинная красная нитка трепыхалась на ветру. Таня ее откусила, и она улетела куда-то в сумерки.

Спасение
Когда отец Феодор, благословляя их, в третий раз степенно произносил: «Господи, боже наш, славою и честью венчай их!», у Лихоносова страшно зачесался большой палец на ноге. И как ни пытался Лихоносов отвлечь себя мыслью, что сейчас, вот в эту самую секунду, все в храме молятся за него и Анечку, что супружество их освящается Божественной благодатью, чесался проклятый палец и тянуло всю ступню, как будто Лихоносова черти щекотали.
Скотина ты, сказал он себе, в такой момент не можешь постоять в подобии божьем, плоть свою не способен обуздать даже в такой фигне. А еще туда же, венчаешься вечным союзом. Не говоря уже о том, как паскудно лез к Анечке и пытался соблазнить ее до венчания, умолял, грудки эти, шея, трусики… Но не умолил, слава богу, не умолил.
Можно исповедоваться потом. Ждать-то всего ничего.
Вот она стоит, как свечечка, ресницы дрожат, ангел, ангел мой. А как она сказала: Сережа, пусть у тебя будет золотое, а у меня серебряное кольцо, пусть все правильно будет, по-божественному, ты — солнце, а я — луна, которая отражает… И как от этого сразу зачесалось в носу, вот прямо-таки захотелось рухнуть перед ней на колени, лбом вжаться в ее бедра, и молиться, и молиться.
Вот он, момент твоего торжества, Лихоносов, над всей этой шоблой, над теми, кто называл себя твоими друзьями, над Васей, который старается, держит венец, аж взмок, хотя от Бога он так же далек, как мышь от Ницше. И над остальными, кто ржал, что он, Лихоносов, не найдет себе жену чистую и верующую, а если найдет, то она будет жирной блаженной дурой с небритыми ногами, которая вечерами жует льняное семя.
Сами вы льняное семя! — Лихоносов с силой наступил себе на палец и вытаращился на отца Федора, но краем глаза и на Анечку, чтобы убедиться, что она по-прежнему красивее всех тут. Это, конечно, красота юности, но ведь не всякая юность красива, бывает она прыщавой, дерганой, угловатой, ему ли не знать. А он, Лихоносов, выходит, тридцатитрехлетний сатир, который свою юность промотал и к Богу пришел с пустыми карманами. И наркота бывала — но так, ничего серьезного! — просто чтоб мозги полетали, и секс кое-какой, и групповушка, хотя чего в ней хорошего, стесняешься жутко, боишься, как бы стояк не закончился, пьяный вечно к тому же.
И тебе, козлоногому, эта чистая девочка, нежная, с волосами, как белый южный камень. Но ведь отец Феодор же благословил! Ведь всякий заслуживает быть спасенным, а он нуждается во спасении, нуждается, его толком и не любил никто никогда.
Лихоносов много раз потом вспоминал — откуда же взялась Анечка? Вспоминалось как сквозь дымку, как будто правда тут было что-то сверхъестественное.
Кажется, он зашел тогда в крохотную темную Успенскую церковь при монастыре, он любил туда пробраться, спрятаться и подышать. То ли Анечка была там, то ли не там и не тогда.
Он только помнил коричневое длинное платье и ее пальцы, бледно-розовые пальцы, собранные в бутон. И что она ему улыбнулась, бегло и ласково. А может, и не ему, может, это для Бога была улыбка, а Лихоносов просто вмешался в чужой разговор.
Что он вообще про Анечку знал?
Что учится в университете на переводчика, что она тут одна, родители в деревне, где-то подрабатывает, она даже говорила, где, но Лихоносов не вслушивался, какая-то менеджерская ерунда, ему показалось — неважно.
Раньше, до того, как прийти к Богу, он бы, может, позвал ее переехать к нему. А тут сказал, выходи за меня замуж.
И как же он испугался. Стыдно вспомнить. Испугался, что она согласится, и тогда полночи не посидишь за компьютером, а еще, не дай бог, начнется этот пердёж про «разбросал носки», про «надо съездить по магазинам», про его, Сергеевы, вещи и бумаги. Снегоход тогда к следующей зиме точно не купить.
Но во всём теле Лихоносова гремела и стучала весна, и казалось, что будет и без снегохода хорошо. Страшнее было, что откажет, что — что тогда?.. Тогда какая-то дикая пустота, и он просто осыплется вниз. Не сложится в картинку.
Анечка тогда вообще промолчала.
Это она потом, уже потом, сказала, что тоже испугалась до ужаса, и шла в общежитие, как паралитик, у которого одеревенели горло и ноги. И соседка предложила ей покурить, и даже не сигареты. И тогда же — у нее губы дрожали, и даже капельки пота над губой выступили, как от передоза, — она рассказала, что у нее вообще никогда мужчины не было, что ей невыносимо, какая-то история в школе, что ли, кто-то ее то ли лапал, то ли в трусы ей залез, обычная девичья ерунда, это все показалось ему неважно, не так важно, как то, что он будет первый. А может, это и был передоз, а может, просто передоз чувств, он ведь и сам в те дни ощущал себя, как будто держится за голый провод.
Зачем же она потом согласилась?
Все эти месяцы, пока они ходили на лекции к отцу Феодору, пока были исповеди, покаяния, причастие, пока искали свидетелей, покупали иконы, рушник — Анечка сказала, что хочет только церковного венчания, — он все время старался не думать, что будет первым ее мужчиной, и, как назло, думал, конечно, когда отец Феодор, вращая руками, цитировал апостола Павла, что «жена не властна над своим телом, но муж». И каждый раз Лихоносов был так мучительно и стыдно возбужден после этих лекций, что не мог, вот просто не мог уснуть без какой-нибудь легкой порнушки, и потом вычищал историю поиска на ноутбуке, чтобы самому ненароком завтра не наткнуться.
Это как распечатать коробку с игровой приставкой, которую еще никто до тебя пальцем не тронул.
Как будто она сделана для тебя.
Ты хотя бы для одного человека в мире стоишь под номером один. Даже, может, не в сексе дело. Просто ты номер один для него. Для родителей — нет, для друзей — нет, срать они на тебя хотели, друзья твои, а для него — да.
Можно ведь и через это спастись, твердил Лихоносов, не очень понимая, от чего ему нужно спасаться.
Было много работы в те недели, он варил, пачку за пачкой, пельмени, проливал жирную воду на стол, где она лужицами застывала, а Анечка, заходя к нему несколько раз, вытирала рассеянно лужицы, что-то жарила, мыла, как-то неопределенно на него смотрела. И Лихоносов смутно раздражался от этого взгляда, не мог его никак перевести. Она приходила в блузке с тесно стоящими пуговицами, в гостях у него надевала синюю футболку, он привычно пытался в горловину этой футболки влезть, вдыхал Анечку, кисловатый запах ее кожи, какой-то ее крем, похожий на самые поздние, подсохшие цветы. Пыльца с ее крыльев.
Иногда спрашивал:
— Интересно, очень интересно, как же мы будем жить?
— С Божьей помощью, Сережа, — отвечала она, — как Бог даст, так и будем жить. Вот увидишь.
Может, и в Лихоносове она видела такое приложение к Богу, программу, которая установлена в ноутбуке по умолчанию.
После свадьбы у кого-то сломалась машина, кто-то не мог найти ресторан, Вася шумно и невпопад восхищался Анечкой, какие-то её подружки из общежития смотрели испуганными и печальными глазами. К тому же горячее оказалось не горячее, невесту никто толком не знал, а от Лихоносова никто не ожидал. Но в конце уже все смеялись, роняли бокалы в тарелки, все звенело и билось.
Приехали в отель.
Все было белое и гладкое, и Анечка, и одеяло, которое так заправлено под матрас, что хрен вытащишь. Лихоносову хватило сил только стянуть с нее лифчик, а потом он уснул, уткнувшись в ее шею, хотел что-то пробормотать, может, пробормотал, а может, и не смог.
Наутро Анечки в номере не было.
Видимо, пошла на завтрак без него.
Лихоносов быстро, волнуясь, принял душ и начал искать, что бы натянуть чистое. Анечкины вещи тоже куда-то делись. С чем там она вчера приехала, с сумкой?
Куда, интересно, она могла пойти с сумкой?
Номер недоступен.
Наверное, не зарядила вчера.
Лихоносов вернулся в ванную. Ее потрескавшейся коричневой косметички, ее зубной щетки тоже нет.
Номер недоступен.
Что за черт, нужно просто поехать домой. Или ждать ее? Почему она не оставила записку? Почему телефон недоступен?
В кошельке не оказалось ни одной банковской карты, Лихоносов несколько минут мучительно соображал, может, он их сам не взял вчера на венчание, может, забыл в ресторане, да нет же, он расплачивался в ресторане, все было здесь. Не может быть. Конверта — да, конверта с какими-то там подаренными им вчера деньгами нет тоже.
В телефоне болталось штук пятнадцать непрочитанных смсок, кто-то поздравлял, и тут же банковские уведомления о снятии наличных.
Сколько же она там наснимала, тыщ четыреста?..
Надо звонить в банк, надо писать заявление. Что писать? Что его жена… какая жена? Где свидетельство о венчании? У Анечки. Ок. Паспорт ее он мельком видел, фамилию помнит, номер, конечно, нет. В какой деревне живут ее родители? Живут ли? Можно в университет… В общежитие…
Черт, где ее теперь искать?
Лихоносов, ты не сходи с ума, она не могла ничего такого. Она просто юная девочка, она сейчас придет.
Номер недоступен.
Деньги мог снять кто угодно. Ее даже нет в соцсетях, ты же сам радовался, когда она сказала, что ее нет в контакте и в фейсбуке. Или есть?..
Что он вообще о ней знает? Что из этого правда? Почему он не спрашивал? Почему он не слушал, когда она рассказывала про работу? Была ли Анечка вообще? Может, это он, Лихоносов, ебнулся от одиночества.
Фотографии… Лихоносов дернулся к телефону. Фотографии Анечкины были деликатно, можно сказать, нежно вычеркнуты из телефона. Все. Ни одной не оставила. Когда?..
Но отец Феодор может подтвердить.
И друзья. Друзья скажут. Что они скажут? Но свадьба же была?
Была же свадьба?
Лихоносов вызвал такси, тыча онемевшим пальцем в телефон и со скрипом собирая какие-то слова из букв на экране.
Дома все было на месте.
На диване валялась комком его вчерашняя футболка, и сдувшийся, скомканный носок вылезал из-под нее. Лихоносов вдруг воровато ощупал себя, пытаясь понять, во что он одет и не голый ли он.
Сел на пол.
Уперся лбом в холодильник.
И тихо завыл на незнакомом ему языке.
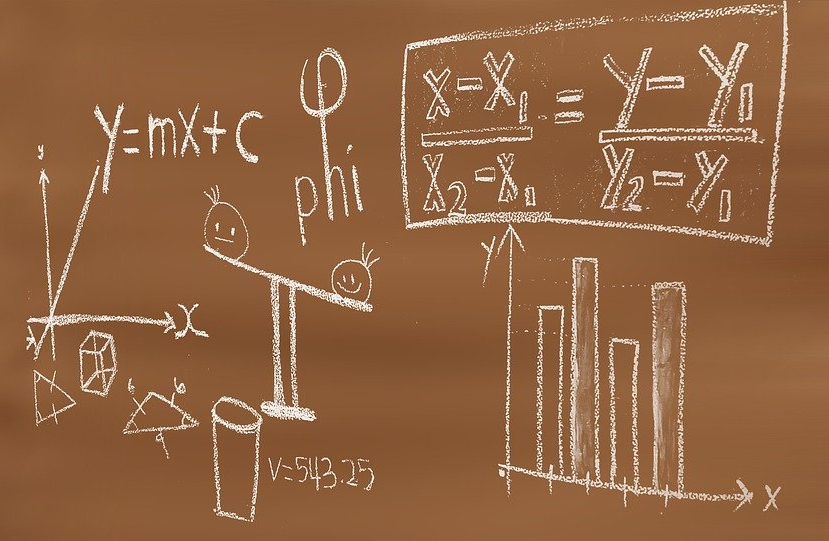
Тригонометрия
Наш психологический возраст — от шести до шестидесяти пяти, мы слушаем «Кино» и «Аквариум» в лучших традициях «Внутри Лапенко», пьем терпко-сладкое киндзмараули и учим новые созвездия. Время — половина первого ночи, и небо над Переславлем, днем застланное серыми облаками, проясняется, горит синим и мерцает звездами. Над крышей Алисиного дома ковш Большой медведицы, чуть правее — треугольная Кассиопея, а если встать спиной к крыльцу, можно увидеть яркий свет от Юпитера.
Все эти звезды мигают белым и желтым, иногда падают, и мы видим короткий и яркий хвост, прошивающий ночное небо. Еще через час становится заметно, как небо движется — мы движемся — положение созвездий меняется. Юпитер опускается ниже, Медведица прячется за темным углом дома, и мир сразу кажется чуть меньше, добрее и уютней. Земля вертится. Звезды движутся. Мы с Алисой и Олегом крепко держим друг друга в объятиях, цепляемся изо всех сил. «Я не один, когда я с вами».
Наутро мы с Олегом помято курим, сидя на деревянных ступеньках, а Алиса в кухне безуспешно пытается проглотить энтеросгель, прозрачной жижей выдавленный на алюминиевую ложку.
— Вот это мы вчера договорились о моногамии, — тянет Олег, разваливаясь на ступеньках. Я протягиваю ему крошечную баночку из толстого стекла — импровизированную пепельницу, которой нас снабдила Алиса.
— Допизделись, я бы сказала, — подхватывает Алиса, выходя на крыльцо. Между бровей у нее угрюмая складка.
— Да нормально, ребят.
— Нормально, конечно. Давайте только постараемся не разругаться. Думаю, дружба нам все-таки важнее.
Все согласно кивают.
На следующий день Олег увозит в Москву солнце, и мы с Алисой гуляем по проселочным дорогам под зонтом, как герои студии Гибли.
— Что ни выхи, то повод пойти к психотерапевту, — заключает Алиса. Я не знаю, шутит она или нет.
— Ну, ничего страшного-то не случилось, — отвечаю, а сама покрепче хватаюсь за ее локоть. Мне без нее — никак.
— Ага, мы всего лишь полночи распинались, как нам важна one true love, а потом не поняли, кто кого и к кому ревнует.
— That’s fair.
На мокрых сумеречных улицах мы так и не встречаем Тоторо, зато пару раз смачно ухаем в неловкое молчание. В дневнике я пишу: «Как бы выключить в себе драматичную влюбленную шестнадцатилетку?» Алиса, взглянув через плечо на мои строчки, спрашивает:
— Но стоит ли ее выключать?
Я пожимаю плечами. Дописываю в дневник: «У меня из-за них обоих bisexual panic».
— У меня краш на Алису, — говорю я Олегу сходу, вернувшись в Москву. — Или на тебя. И на тебя. На вас обоих. Не знаю, что с этим делать. Я очень не хочу проебаться — опять.
— Это взаимно. Вот это ты храбрая, что сказала, — отвечает он.
Я злюсь, потому что от моей храбрости никогда никакого толка. Как там? На словах я Лев Толстой, а на деле — ну тут понятно. Я так много говорю, сколько можно говорить, может, хватит трещать? Чувства-хуюства из точки внутри — кутерьма, карнавал, карусель. Фейерверк или атомный взрыв? Я не знаю. Я не сумею выбрать.
— Вы мне тоже нравитесь обе, и я не хочу выбирать, — говорит Олег.
— Но ведь ты выберешь.
— Да может и не надо выбирать, — немного раздраженно отвечает он. — Ты говорила с Алисой? Почему мы не можем быть вместе втроем?
Вот уж точно доболтались о моногамии.
— Потому что в ее уравнение я не впишусь.
— У нас тут не урок математики. И ты на самом деле не знаешь наверняка, что она думает.
— Знаю.
— Не додумывай, ты не спрашивала.
x = Олег
y = Алиса
z = Варя
print(x + y + z)
# error
# error ?
Мы сидим на высоких стульях в темном Крафтере на Тверской, пьем сидр и продолжаем играть в пинг-понг разговоров — в этот раз все втроем.
— Я не уверена, что мне нужен сейчас конвенциональный commitment в отношениях, — вдруг говорит Алиса.
Я приподнимаю вверх брови. Плот-твист.
— Шок.
— Мне скорее нужна попытка в уязвимость и комфорт.
— Мне тоже. С вами мне хорошо. Не страшно.
— Может?..
— Mortifying ordeal of being known, да?
— Точно.
Чокаемся гранеными стаканами с сидром. Vulnerability is the new bravery. Говорить с Алисой оказывается легче и понятней — она шутит, что это все из-за разницы в мужской и женской социализации. Мол, юноши не умеют говорить, но вот у Олега стало неплохо получаться, это ты его научила, да? Да, есть такое. Олег тоже смеется, говорит, спасибо, стараюсь, не всегда выходит, но потихоньку получается.
Потихоньку — говорим.
Я не хочу быть молчаливой миллениалкой из Салли Руни.
if Alisa’s answer == «no»:
heart_explosion()
Грудную клетку парализует, мое тело разом замирает в постукивании стекла о барную стойку. Алиса водит пальцем по кромке стакана, глядит из-под длинных ресниц. Олег нервно вертит в руках пачку кэптэн блэка.
if Alisa’s answer == «yes»:
— Думаю, мы можем попробовать втроем, если все этого хотим и никому сейчас особо не нужен коммитмент как в ромкомах восьмидесятых.
heart_shocked
(in a good way)
— Я думал, так бывает только в статьях на Вандерзине, — говорит Олег.
Мы с Алисой улыбаемся. В Телеграме появляется чат «Тригонометрия».
— У нас вся жизнь как статья на Вандерзине.
В метро на эскалаторе Алиса стоит ниже всех, прислоняется к Олегу, утыкается лбом ему в плечо. Моя рациональность все еще пытается не лезть, но Олег одной рукой притягивает меня к себе, обнимает за талию, и под мерное гудение эскалатора мое тело — переменная z — ложится в уравнение красиво и правильно.
print(x + y = x + z = y + z = x + y + z)
# success

Трое в лодке
Я наполняю ванну горячей водой, сколько здесь литров – пятьдесят, сто? «Про счета на электричество и воду пусть думает наш папа», — говорю я ребенку внутри, ложась в ванну. Наконец-то согреваются заледеневшие ноги, по рукам и груди идут мурашки, над ванной поднимается пар. «Нам с тобой нельзя болеть, — говорю я, — нам с тобой нельзя попадать в больницы, у нас же нет ни страховки, ни гражданства, нас здесь никто лечить не будет».
Сотни, тысячи километров пройдены, и мы с тобой здесь. Ты рос внутри на высоких сиденьях фур дальнобойщиков, на крышах товарных поездов, в грузовике с овощами, который подобрал нас в горах, вокруг перекатывались картошка и репа, мы ехали в высокогорное село, помнишь? Тебя, еще не рождённого, благословляли имамы и раввины, когда я — босая, простоволосая, — пряталась от обжигающего солнца, хамсина — ветра с Сахары, рыжей, ржавой, в темноте мечетей и синагог.
Не думай про папу плохо. Твой папа привез нас сюда, потому что хотел как лучше. Он думал, что здесь жить дешевле и безопаснее, и что здесь все время тепло — кто же знал, что осенью холодно и нет центрального отопления, правда? Он думал, что заработает, но не удалось. Ничего, еще три месяца, и я приду в больницу, в отделение скорой помощи, когда начнутся схватки, и пусть только попробуют нас с тобой не принять.
Твой папа, конечно, не был готов к тому, что ты появишься. Ты это поймешь потом, но мы были тогда, как двое спасшихся, выброшенных после кораблекрушения на берег людей, сдирали одежду, трогали друг друга жадно, слепо, сжимали до боли, до синяков, целовали, прикусывали кожу, стукались зубами, как будто не верили, что мы действительно живы. Мы живы, и ты это должен всегда помнить.
Раньше бы твой папа сказал: «Замерзла? На, выпей». Или: «Иди сюда, я тебя согрею». Ничего страшного, три дня это для него даже не срок, он может неделями пропадать. Мы не виделись месяцами до того, как ты появился, да и потом — сходились, расходились. У него всегда много друзей — он с ними пьет, спит на их матрасах на полу, курит их гашиш, но всегда возвращается, приносит нам с тобой денег и еды.
Раньше бы он был капитаном корабля, появлялся бы раз в полгода, привозил подарков из рейсов и экспедиций и уходил пить в бар с друзьями. После каждого его приезда я бы снова беременела, и через полгода встречала бы его с животом на причале. Но трагедия нашего папы в том, что он привязан к земле, он пытается себя потерять, забыть, но жизнь не отпускает его. Необходимость зарабатывать деньги, спускаться под землю, ехать на другой конец города, сидеть восемь часов где-то, а потом возвращаться, прибивает его к земле, как к кресту. Его сносит с трудных и законных путей на легкие и незаконные, его захватывает идея, и он не признает авторитетов, правил, кодексов.
Он и меня выбрал, потому я была летящая, быстрая, смелая, решительная, своя, из рабочего района на окраине. Вытаскивала из него пули, туго бинтовала ребра, промывала раны сливовым самогоном, слушала обещания. Он будет жаловаться, конечно, как я орала на него, бросала тяжелые блюда советского фарфора и бутылки в голову и била под коленку, целясь в больной мениск, но ты дели все слова надвое.
Вода в ржавой ванне начинает остывать, и я открываю кран, сажусь, спина сразу стынет от холодного воздуха. Выдергиваю затычку из стока, сижу, стараюсь наклониться так, чтобы горячая вода стекала по спине, но живот мешает. На лестнице слышны тяжелые шаги заплетающихся друг об друга ног, спотыкающихся в коридоре, я замираю, жду щелчка замка, но это не к нам, это в соседнюю квартиру. Грохает, закрывается дверь. У соседей слышны крики на сербском, звуки роняемой мебели и бьющейся посуды.
«Конечно, мы стали для нашего папы ядром на ноге, мертвым грузом, любовь любовью, а новые обязательства и ответственность — это смерти подобно. — Я чувствую, что начинаю раздражаться. — Он бы забыл мое имя, забыл, что я существую, если бы не ты».
«Представь, что мы на корабле, — говорю я, когда ванна снова наполняется, задерживаю дыхание, опускаясь в воду с головой и пытаясь успокоиться. — Представь, что о борта нашей ванны бьются волны. Мы с тобой должны доплыть, нам нужно проложить курс, посчитать всю навигацию, держать связь и не сбиваться с пути. Мы должны с тобой доплыть до берега, там, впереди, уже видны огоньки, и нас ждут с теплыми одеялами и кофе, как беженцев, нас ждет спасение».
Это хорошо, что ты столько всего увидел, сидя в безопасном месте. Нас обошли стороной все желтые лихорадки и брюшные тифы, гепатиты, лихорадка Денге и Эбола, мы были как благословленные свыше. Врачи, еще в России, сказали мне, что рожать нельзя, велика вероятность умереть. Но у меня больше никого нет, кроме тебя. Нельзя было тебя убивать.
Наш папа будет тебе прекрасным отцом, вот увидишь, даже если меня не станет. Он воспитает тебя, сделает из тебя настоящего путешественника, маленького первооткрывателя, музыканта, философа и взломщика, двойного агента, знающего девять языков, живых и мертвых. Папа научит тебя играть на пианино, меня он так и не научил, но это ничего. Я взяла с него слово, что он научит тебя всему, что умеет сам.
Я почти засыпаю, в тепле, наконец, меня разморило, и я пытаюсь не соскользнуть в ванну, кладу голову на руку на бортик.
Он заходит в квартиру, тихо прикрывает за собой дверь. Его оглушает тишина и ослепляет темнота в квартире после яркого, шумного, грохочущего города. Он подходит к ванной, видя полоску света из-за двери, открывает и смотрит на спящую женщину. Снимает сначала пальто, потом стягивает через голову свитер с шарфом вместе с майкой под ним, роняет на пол кольца с пальцев, расстегивает ремень, развязывает шнурки, стягивает тяжелые ботинки, цепляя один за другой. Выключает кран над уже начавшей переливаться ванной. Залезает в ванну, вода снова плещется через борт, стекает на пол. Он садится, вытягивает ноги вдоль её ног, обнимает, берет её под руки, перекладывает её голову себе на плечо, она просыпается.

Уроки итальянского
Едва начав движение, лифт дрогнул и остановился. Борис чертыхнулся. В последний день перед отпуском он и так сильно засиделся на работе, и ему не терпелось покинуть офис. К тому же он ещё полчаса назад сказал жене, что выезжает, и с минуты на минуту ожидал нового звонка.
Он раздраженно потыкал кнопки на панели — тишина и никакого движения. Посмотрел на телефон: сигнала не было. Привалился к дверям и увидел себя в зеркале напротив: усталый высокий мужчина, который не хочет быть здесь, но не может уйти.
— Это перебор, — сказал он вслух, комментируя свои подглазины.
С прежней непредсказуемостью лифт пришёл в движение, и несколько секунд спустя Борис вывалился из дверей, словно бы раздвигая их плечом, но столкнулся с Пашей.
— Глебов, ты трудоголик месяца, или даже года, я не знаю. На календарь тебя снимать надо. — Паша зубоскалил, тиская его ладонь и одновременно отодвигая Бориса с дороги.
— Просто в отпуск завтра, — приосанившись, сказал Борис. — А ты чего?
— Да я ключи забыл — мы тут погудели в баре, домой собрался и хватился… Ты и ноут с собой берёшь? — Павел зашёл в кабину и нажал кнопку. — У тебя портфель лопнет, Боря! Беги домой, выкинь телефон и две недели не вспоминай название этого балагана! Как тебя жена тер…
Двери закрылись, и Борис от души понадеялся, что неполадки с лифтом продолжатся.
Всего десять часов спустя — часть из которых у Бориса ушла на дописывание имейлов, а у его жены, Веры, на мастерскую упаковку чемоданов при его минимальном участии, — они сидели рядом и наблюдали взлётную полосу в иллюминатор. За стеклом, несмотря на начало лета, было серо, лил дождь. Борис вспомнил, что утром на двери подъезда видел объявление о скором перекрытии горячей воды, и улыбнулся: воистину, лучшее время, чтобы сбежать отсюда. Объявили взлёт, и расширяющееся крыло заслонило унылый асфальт.
Они оба обожали момент выхода из самолёта. Италия каждый раз встречала их слепящим солнцем и неповторимым воздухом — теплым, плотным, наполненным яркими осязаемыми ароматами цветов и фруктов, — и едва сделав первый вдох, они понимали, как рады вновь дышать им.
Борис как раз расплылся в улыбке, ступив на трап, как вдруг телефон зазвонил. Он поднял трубку, глазами показал Вере на второй, менее заполненный автобус, и пока они ехали, внимательно слушал.
— Нужно получить все разрешения за два месяца, не за шесть, — сказал голос шефа оттуда, со стороны дождя и серого асфальта. — Подключай всех, кого знаешь, прямо с понедельника.
— Я буду в отпуске, — сказал Борис, вставая в очередь на паспортный контроль.
— Ну сделай пару звонков, я же не прошу тебя в офис выходить. Я вот звоню тебе в субботу утром и ничего, жив. Ворк, Боря, энд лайф бэлэнс!
Борис сжал губы, соображая, что парой звонков дело не решить. Он понимал, что лучше него никто не справится или даже кроме него никто не справится, но отпуск…
Шеф предпочел принять это молчание за согласие и повесил трубку.
Вера, напевая, пританцовывала рядом, ожидая очереди. Их взгляды встретились, и она подняла брови вверх. Борис только ссутулился и покачал головой. Её взгляд стал пустым, уголки губ опустились, она перестала танцевать.
— Ты что, будешь работать?
Вместо ответа он указал ей на освободившегося пограничника. Она подошла к окошку, подала документы. Как при любом другом столкновении с бюрократией — в регистратуре больницы, на почте, в банке, — ему вдруг захотелось защитить её, быть рядом. Он качнулся в её сторону, но, следуя зеленому сигналу, лишь подошел к соседнему окну, сунул документы и проводил Веру взглядом, когда она, пройдя формальности, скрылась за полупрозрачной дверью.
Во Флоренции они остановились в уже знакомом отеле, съели джелатте в изведанном месте и по заведенному порядку сфотографировались под статуей Макиавелли у галереи Уффици. Это происходило почти на автопилоте, так что пока Вера заказывала мороженое (непременно шарик фисташкового и шоколадного плюс фруктовый вкус наудачу) или приценивалась к перчаткам в лавках у Понте-Веккьо, Борис планировал, кому и как он позвонит и напишет в понедельник. Он проиграл в выборе джелатте (комбинация Веры впервые оказалась вкуснее), забыл купить галстук с лилиями и привел их не в тот ресторан, который бронировал. В воскресенье он встал рано, помешав Вере выспаться, а вечером, когда она собирала вещи для дальнейших переездов, был очень рассеян.
В понедельник, получив в своё распоряжение канонический Фиат 500, они, обливаясь потом от напряжения, почти час пробирались по узким улочкам, ругая навигатор, пешеходов, итальянцев и прокатную компанию, расположившую офис в центре. Наконец улицы стали шире, а затем город кончился. Открыточные виды не заставили себя ждать — тут и там холмы, виноградники и изгибы дороги просились на фото.
Звуки уведомлений оповестили о том, что нужные люди вышли на связь: Вера пересела за руль, Борис устроился рядом и всю дорогу до Винчи говорил по телефону. Первое время Вера ахала, показывала рукой то туда, то сюда, пыталась снимать на свой телефон, не выпуская руля, но к гостинице подъехала, уже молча в руль вцепившись.
В Монтериджони они исходили весь городок за полтора часа, но еще полчаса сидели в машине, пока Борис не закончил звонок. В Монтальчино вечером они пробовали известное вино, но Борис спешил вернуться в номер: нужен был устойчивый вайфай. В Кортоне он сел за руль (дорога была слишком крутой и извилистой), но чуть не свалился в кювет, отвлекшись на телефон. Вера уже не просила его фотографировать, не советовалась насчет меню или планов на день.
Они подъехали к самолёту, и толпа запрудила подход к трапу. Люди переминались в очереди с ноги на ногу, и можно было подумать, что виной тому — раскаленный ярким солнцем асфальт. Когда они наконец встали на первую ступеньку, позвонил шеф. Борис набрал воздуха, собираясь поделиться деталями: дело продвигалось, но туго, просить о таких больших одолжениях было нелегко. Но шеф сразу начал говорить сам:
— Боря, привет! Знаешь, сворачиваем все это. Мне вчера звонили европейцы, будем гнать в Россию из Словакии, там у них линии освободились. Импорт, конечно, чуть дороже, да и хрен с ним. Давай там всем отбой. Отдыхай спокойно!
В горле Бориса забулькало. Шеф, решив, что это проблемы со связью, кричал в трубку «Алло!» Наконец, Борис выговорил «хорошо, всё понял» и повесил трубку.
Вера и остальные его обогнали. Он был последним на трапе, и стюардесса, улыбнувшись, сделала приглашающий жест. Он оглянулся на солнце за спиной, сделал глубокий вдох и вошел внутрь. Дверь закрылась, и ему осталось только сесть на своё место.
Вера сидела, повернувшись к иллюминатору. Ещё видно было солнце, и она чуть улыбалась. Борис вдруг почувствовал, что соскучился по ней, хотя вот она, рядом. Он взял её руку, и Вера ответила слабым пожатием. Самолёт начал движение, и, глядя на Веру, он также видел за стеклом удаляющиеся прямоугольники полей, черепичные крыши, нитки дорог.
Когда они набрали высоту, она спросила:
— Звонили по работе? Что там?
Он только покачал головой и отвёл глаза.
— Борис, ты что-то рано уходишь в последнее время. Ещё только шесть. — Паша придержал дверь, и они вышли в лифтовый холл вместе.
— Знаешь, записал нас с женой на курсы итальянского. Начинаются ровно в шесть тридцать, не могу опаздывать. — Борис пожал ему руку и пошёл по лестнице, не дожидаясь лифта.

Шалопаи
Теплый летний вечер был наполнен ароматом свежескошенной травы. Рядом с верандой стрекотали кузнечики. Милли мерно постукивала спицами, клубок подскакивал у нее на коленях и все норовил спрыгнуть на пол. Медленным, терпеливым движением она поправляла его и продолжала работу.
На веранду, покачивая головой, поднялся Тэд.
— Ты все про него думаешь? — спросила Милли с сочувствием и прервала вязание.
Тэд кивнул.
— Просто не верится, что Ларри умер, да? Одним другом и соседом меньше. И Барбару мне жаль, остаться одной на старости лет — не приведи господь.
— Она не одна, Милли, что ты. Сын, невестка, внуки из города вернулись. Кто на ферме вырос, в городе вряд ли приживется.
— Ой, не знаю, Тэд. Вот так живут люди душа в душу, а потом — раз и все. Ну, что ты все плечом поводишь? Жмет тебе лямка, что ли?
— Да как будто на шее что-то…
— На шею давит? Может, совесть? — сказала Милли и улыбнулась. Вдруг опомнилась и зашептала, хотя в доме, кроме них, никого не было: — А знаешь ли ты, что у Ларри была интрижка? — Милли откинулась на спинку стула.
— Ну, — поперхнулся Тэд, — знаю.
— А вот Барбара — нет. А ты откуда узнал?
— Да Ларри обмолвился как-то, — ответил Тэд, двигая плечом. Он рассматривал узор на салфетке, проводя пальцами по вышивке.
— А вот теперь он унес эту тайну в могилу. — Милли махнула рукой.
— Милли, я… Я давно хотел тебе сказать… Ох, не смотри на меня так!
— А я знаю, знаю, — спокойно ответила Милли.
— Как знаешь?!
— Вот так. — Милли пожала плечами. — Что было, то было. Я сначала, как узнала, плакала. А потом поняла, что никуда ты от меня не денешься. Фермер и городская девчонка? Ха, никогда! А ты ходил такой виноватый. Смешно, честное слово. Смешно… а я плакала. Да ладно, уж столько лет прошло… Посмотри на меня, Тэд. Помнишь, мы друг другу говорили: «В богатстве и бедности, в болезни и здравии… пока смерть не разлучит нас».
— Ох, Милли…
— Да я давно простила тебя. Я только ждала, когда ты покаешься. — Милли положила свою теплую руку на руку Тэда. — Теперь-то видишь, какое горе. — Она покачала головой.
Тэд закивал и совсем сник. Минуту они молчали, и Милли снова принялась за вязание.
— Знаешь, Тэд, сколько уж лет прошло, а я все время вспоминаю, как мы встретились в первый раз, еще детьми. Ты и Ларри удрали со свадьбы прямо перед венчанием и беззаботно бежали по полю и смеялись… И мне так хотелось быть с вами, а мама меня тянула за руку и, знаешь, я же проплакала всю церемонию. Я не слышала, что творилось вокруг меня, а только представляла, как вы носитесь там, такие свободные и беспечные…
Тэд вдруг воспрял.
— А давай… Пробежимся по полю, вспомним былое?
— Пробежимся? — отозвалась Милли и засмеялась. — Тэд, ну ты придумал. Пробежимся…
— Давай, Милли, а?
— Все-таки ты так и остался шалопаем. И знаешь, что я тебе скажу, Тэд Хишам? Побежали! Только смотри — не отставай!
Милли медленно встала с кресла, опираясь на руку Тэда. Он сиял. Они взялись за руки и спустились — Милли чуть бочком — с веранды и медленно, но все-таки побежали. Тэд как-то несуразно балансировал и размахивал своими длинными руками, а Милли вразвалочку поспевала за ним.
Ветер заигрывал с ними и то подталкивал их в спину, то преграждал им дорогу. Один сильный порыв сорвал панамку с головы Тэда, и ему пришлось вернуться за ней. Он бежал обратно к Милли, которая что-то кричала ему, но были слышны лишь обрывки слов. И вот они снова, взявшись за руки, бежали вперед, а ветер разносил по полю их веселый и беззаботный смех.
Уже шагом они достигли дерева и, тяжело дыша, оба прижались спинами к могучему шершавому стволу. Милли пришла в себя первой:
— Ну, Тэд, придется тебе нести меня обратно, мне самой будет не дойти.
Тэд кивал и продолжал тяжело дышать.
— Это потом, сейчас мы полезем на дерево.
— Да ты точно с ума сошел?! Кто в наши годы лазает по деревьям!
— А какие наши годы? Что это за возраст — семьдесят два? Вот Ларри рано ушел, да, это кто-то там, наверху, неправильно посчитал, видно. Разве это возраст? Спокойно, Милли. У меня тут и лестница припасена, смотри. — Тэд обошел дерево, и в руках его появилась маленькая лесенка. — Давай, ты первая, я подпихну тебя, а потом я сам.
Милли сначала наотрез отказалась, но, взглянув на сияющее от восторга лицо мужа, она полезла.
— Только смотри, держи лестницу покрепче!
— Я свое дело знаю, передник подхвати!
Поохали, поскрипели оба, но залезли. Тэд сидел на ветке спокойно, прямо держа спину и болтая ногами. Милли примостилась вплотную к стволу и крепко держалась за него.
— Ну вот, как будто и Ларри с нами, — довольно заметил Тэд. — Да-а. Мы ж, знаешь, куда только с ним не забирались. Такие штуки вытворяли, ох и влетало же нам!
— Да я помню ваши рассказы. Хулиганы!
Тэд прикусил губу и закивал. Они помолчали.
— Эх, Тэд, вот смотрю я на тебя, за все те годы, что мы вместе, ты же не изменился совсем. Только морщин прибавилось. Я ж, когда тебя снова увидела через много лет после той свадьбы, подумала, ой и не повезло той девчонке, за которой ты будешь ухаживать — неуклюжий такой, со своим большим носом картошкой. Знала ли я тогда, что твоей жертвой буду я? Ну что ты смеешься? Но мы же прожили счастливую жизнь, да, Тэд?
Тэд радостно закивал. Потом кашлянул.
— Милли, тут такое дело. Я, когда залезал, лестницу случайно ногой оттолкнул. Придется прыгать.
— Вот шутник! А ведь пора спускаться. Да ты серьезно, что ли? Ой, — запаниковала Милли, — а что же делать? Ох, Тэд Хишам, вечно ты что-то выкинешь. И даже не думай прыгать! — Она сурово посмотрела на мужа. — Ну что ж, значит, будем сидеть ждать подмоги. Нас же спохватятся когда-нибудь. И как все-таки жалко Ларри…
Оба вздохнули.
— Эй! — крикнул кто-то снизу.
Тэд и Милли вздрогнули.
— Это вы, Тэд? Боже мой, и Милли? А что это вы делаете?
— А, Стюарт? Как отец-то? А мы тут с Ларри время проводим.
— С Ларри Бруксом?! Так он же… — Стюарт почесал затылок.
— Ты иди, сынок, иди, не мешай нам. А хотя, подожди-ка, лесенку вот подставь, ага, спасибо. Отцу привет передавай.
Стюарт ухмыльнулся, покачал головой и пошел прочь, насвистывая.
А Тэд и Милли так и продолжали сидеть на дереве. Они болтали ногами, смеялись и вспоминали.
По округе еще долго ходили слухи, что некоторые соседи в тот вечер видели троих стариков, которые сидели на дереве.

