Июнь 2021
Лучшие люди города
Бог-отец
Джо, где ты лошадь увидал? Шел бы лучше спать
Идеальный отец — мертвый
Иногда меня охватывает такая тоска
Казначейская, 13, 21
Курьерофобия
Лабиринт
Мастерская сюжета Элины Петровой
Мина обновляет статус
Мотылёк
Не зря она рифмуется
Некрокурьер
Ночь полирует лёд
Орган в Ялте
Под вербой
Последний клиент
Рутина
Станет страхам холодно
Хивинский платок
«Зачем им это?»
Благими намерениями
Дети, кухня, церковь
Жизнь замечательных людей
Забвение
Императив
Каштановый конь
Квартира напротив
Колодец
Личный дракон Его Величества
М.Т.
Не вдруг плед
Ой ты, Галю
Она неуловимо изменилась
Пассажир
Последний вагон
Последний раз
Правила хождения бейдевиндом
Принц Очарование
Сатурн
Средь бела дня
Тринадцать километров
Халат без пуговиц
Часики
Поэтический май Creative Writing School
Ophiocordyceps Peregrinus
Маргонавт
Пересдача
Пыль
Снеговик
Ухмылка
Хранитель

Дмитрий Данилов: «Очень важно воспринимать город как личность»
Летом в CWS стартует курс «Как писать о путешествиях», на котором драматург, поэт и прозаик Дмитрий Данилов познакомит слушателей с жанром травелога и расскажет, как собрать историю из путевых заметок.
Мы поговорили с писателем и узнали, зачем во времена запретов изучать травелог, как разглядеть прекрасное в обыденном и на что стоит обращать внимание в поездках.
Сегодня, когда возможностей для путешествий значительно меньше, зачем нам нужен травелог?
Для травелогов сейчас действительно не самая благоприятная ситуация, потому что у нас ограничены поездки за рубеж. С другой стороны, закрытые границы заставляют нас пристальнее присмотреться к путешествиям по России. А ведь у нас большая интересная страна, я сам объездил только половину регионов из всех имеющихся. Да и материал для травелога можно найти буквально везде, для этого не обязательно ехать куда-нибудь далеко.
Существует стереотип, что настоящий травелог можно написать только в поездках по тропической Африке или по замкам Луары. Но нет, можно и по Московской области поездить и увидеть в ней что-то интересное. Мне очень дорога мысль о том, что полезно всматриваться в обыденное. Может быть, город Хотьково покажет нам реалии более привычные и известные, может быть, мы не увидим чего-то нового, но там тоже можно найти много интересного и красивого.
Да, ситуация сейчас не очень хорошая, с другой стороны, она заставляет нас изменить угол зрения.
Для чего авторы пишут травелоги? Привести в новое место других людей? Поделиться впечатлениями?
Здесь, мне кажется, есть разные варианты. «Привести людей» — это, скорее, вариант коммерческого травелога. Хотя, конечно, это может быть и просто желание автора обратить внимание своих читателей на какую-то интересную реалию.
Мне близка исследовательская цель: задаться вопросом «А что там?», поехать на место и изучить его. А описание — это хороший способ фиксации впечатлений. Когда ты просто побывал в городе, погулял и уехал, все быстро выветривается, а когда ты фиксируешь это на бумаге, проводишь внутреннюю работу, велика вероятность, что ты сделаешь какие-то открытия в процессе самого письма.
Например, у меня есть старая повесть «Черный и зеленый», где я пересказываю личный опыт 90-х. Был такой год, когда я сидел без работы и от полного отчаяния просматривал газетные объявления о поисках сотрудников. Среди совершенно бесчисленных и бесполезных заметок я увидел, что приглашаются люди для продажи элитных сортов чая. И когда стало совсем туго, я пришел в складское помещение в центре Москвы, за 30 метров до которого чувствовался вкусный чайный запах. Работа заключалась в том, что ты оставляешь в залог свой паспорт, тебе дают какое-то количество товара, очень хорошего, и ты с ним делаешь все, что угодно. В конце дня нужно было приехать, отдать стоимость чаев, а все, что сверху — забрать себе. Ну или сдать товар, если ничего не продал.
Я подумал, что Москва уже полностью охвачена торговцами, и сразу решил ездить по Подмосковью. Первым городом был Дедовск. Я ходил по конторам, предлагал, меня посылали, но в какой-то момент стали покупать. За день я распродал все до последней пачки. Неожиданно во мне открылся талант торговца, я стал этим заниматься. За год такой работы объездил все Подмосковье и частично соседние области. Машины у меня не было, я брал два баула и шел с ними на электричку или на автобус.
Позже у меня появилась подходящая редакторская работа, пошла другая жизнь. А в нулевых, когда я вернулся к занятиям прозой, описал этот опыт. Собственно, название «Черный и зеленый» — это виды чаев. Помню, что в процессе описания я по-настоящему осознал эти поездки. Это был опыт познания себя.
Ты вспоминаешь свои состояния, свои реакции, понимаешь, что тогда тебе было хреново, а сейчас ты ностальгируешь по этому времени, ведь и тогда было что-то хорошее. Я уверен, что другие авторы найдут в травелогах и другие смыслы. В конце концов, есть очень банальная и не мною придуманная идея: мы пишем в психотерапевтических целях.
Когда ты изучаешь город, на людей лучше смотреть со стороны и слушать, что они говорят
Найти что-то новое, узнать немного о себе можно в любом путешествии? Ежедневные поездки на электричке на работу подойдут?
Интересное и необычное мы можем увидеть и в рутинном путешествии, но для меня все-таки более продуктивными становятся путешествия специальные. Когда мы едем по делам, они заслоняют от нас окружающую реальность. Путешествию надо посвятить время и силы.
Обычно туристы едут по «исхоженным тропам». Если говорить о России, это Ярославль, Владимир, Суздаль. В ваших очерках появляются Норильск, Череповец, другие города, в которые читатель едва ли поедет. Зачем?
Да просто чтобы люди узнали, что есть в Череповце, какой он. Ведь все знают про комбинат «Северсталь», а что там есть еще? Много чего интересного, как выяснилось. Конечно, любитель великой архитектуры и древней красоты ничего для себя не найдет, но там есть потрясающей красоты вантовый мост через Шексну. Если выйти на его середину и стоять над этой рекой, смотреть вдаль на кварталы города, можно почувствовать какое-то удивительное состояние. Вот стоял бы и стоял, жаль, что надо было уезжать. Или, например, мы мало что знаем о центре Череповца. А там прекрасный старый город, в центре которого стоит средневековый монастырь. Есть и пояс интересной сталинской застройки. Сам комбинат — воплощение индустриального величия.
В 2007–2008 годах я работал в замечательном журнале «Русская жизнь» и писал очерки о таких вот городах. Совершенно не претендую на то, что это должно быть интересно всем, но, как показало время, очерки были хорошо приняты читателями, я получил много отзывов, а потом собрал их в книжку «Двадцать городов». Выяснилось, что многим людям это тоже интересно. Это такая попытка найти «Амстердам в Подольске».

Есть ли способы самостоятельно разглядеть «Амстердам в Подольске»?
Очень важно воспринимать город как личность, как живое существо. Ты едешь знакомиться с городом так же, как ты едешь знакомиться с человеком. Возможно, иметь какое-то почтение. Не должно быть ощущения свысока смотрящего туриста, мол: «Ну ладно, покажите, что у вас тут, в вашей глухомани».
С таким отношением точно ничего не получится. Повторю, город — это личность, не человек, что-то другое, но у него есть своя жизнь и своя воля. Он может перед тобой открыться и что-то показать, а может спрятаться, и ты ничего не увидишь.
А с местными жителями стоит общаться?
На мой взгляд — не стоит, и лучше ехать одному. Когда ты изучаешь город, на людей лучше смотреть со стороны и слушать, что они говорят. Человек тебя захватит, ты сможешь узнать многое о собеседнике, но мало о городе. Со стороны за людьми наблюдать обязательно нужно, это очень интересно.
Есть одно исключение, которое я всегда рекомендую делать — это таксисты. Они — лучшие проводники по городу. Я часто пользуюсь приемом, который безотказно работает: нужно найти место, где собираются «бомбилы», обычно такие точки бывают около гостиниц и вокзалов, подойти и сказать, как есть, что вы — журналист и пишете о городе, попросить провести экскурсию. Как правило, за достаточно скромную сумму они готовы это сделать. Таксисты — это такие сторонние наблюдатели за жизнью, они очень интересно рассказывают именно о городе, о том, что было на этом месте раньше, как это изменилось, что планируется сделать, что хорошо, что плохо.
Если каждый город — это личность, есть ли города, которые вам несимпатичны? И наоборот, которые вы очень любите как близких друзей?
Я могу вспомнить только один город, который мне резко не понравился. Это Прокопьевск в Кемеровской области, находится недалеко от Новокузнецка. Я был там зимой 2008 года, когда там вовсю добывали уголь. Это город социальной катастрофы. Совершенно бесформенный, созданный как конгломерат каких-то поселков из изб и бараков вокруг шахты. Когда ты смотришь на дома, то даже не понимаешь, из чего они сделаны. Там все залеплено какими-то щитами, досками, тряпками. Нищета и разруха, но при этом в центре помпезный проспект, уставленный сталинками, на котором стоит Прокопьевский драмтеатр, довольно известный и хороший, по размерам едва уступающий Большому театру в Москве, но весь грязный и обшарпанный. Там совершенно дикий уровень преступности. У молодежи три развлечения: бухать, двигаться героином и бить друг другу морды. Только гробы успевай выносить. Вот такой город трудно полюбить, потому что люди так жить не должны.
А если говорить о симпатичных, то я, например, большой фанат Мурманска. Там тяжелый климат, но летом чудесно! Ты как будто на Марсе находишься: город имеет фантастический рельеф.
Чем травелог отличается от журналистских путевых заметок?
Грань очень тонкая. Путевые заметки могут быть сухим перечислением фактов, а могут быть литературой. Что такое пушкинское «Путешествие в Арзрум»? Это путевые заметки, но и абсолютный шедевр художественной литературы. Хотя Пушкин писал, в общем-то, от скуки.
Если все-таки попытаться сформулировать, то, как мне кажется, журналистский травелог — это, скорее, про «узнать», а литературный про «что-то почувствовать». Бывают тексты о путешествиях, авторы которых встретились с политиками и с представителями бизнеса, подробно описали ситуацию в экономике и попутно поделились своими впечатлениями. Вот это будет журналистика. Другой автор может рассказать о том же городе в жанре «взгляд и нечто». Вот я написал о том, как я вышел на середину вантового моста в Череповце и как мне там было хорошо. Если мне удалось хоть немного донести до читателя это чувство, я рад.

То есть в литературном травелоге можно обойтись 1-2 объектами и не описывать регион?
Можно все, нет жестких правил и ограничений. Есть характерные жанровые черты, которые, если их использовать, могут сделать текст лучше, но это не факт. Я всегда за то, чтобы не быть рабом своего плана. Если реальность в него вторгается, надо следовать за ней. Работая в «Русской жизни», я поехал в Тамбов. Утром вышел из поезда на перрон и прямо на вокзальной площади обратил внимание на крики. Человек звал на помощь. Я подошел. Выяснилось, что эти крики издает слепой, почти глухой человек, который едва может ходить. Он просил помочь ему доехать до учреждения соцзащиты, я решил, что съезжу с ним и помогу. Это оказалось очень долго. В итоге я Тамбов так и не увидел, но написал про человека. Тот текст мне до сих пор очень дорог. Я понимаю, что он получился хорошо, что жизнь мне подкинула вот такую страшную реалию в виде моего героя и его судьбы. Формально это все равно травелог, потому что написан в поездке, но жанр не важен, просто получился хороший текст. Сделал бы иначе, стал бы выполнять собственный план, ничего интересного не получилось бы.
Как это соотносится с идеей «не общаться с местными»?
Еще одно исключение — это особые случаи, как и с таксистами.
Какие книги вы посоветуете тем, кто придет учиться на ваш курс?
Полный список висит на сайте школы. Но если коротко, я бы посоветовал книгу Петра Вайля «Гений места». Он нашел правильную интонацию беседы о городах. Мне очень нравится «Невозможность путешествий» Дмитрия Бавильского, вышедшая в издательстве НЛО в серии «Письма русского путешественника», вообще вся серия замечательная, любую книгу можно брать на вооружение. У меня там тоже вышла книга, называется «Сидеть и смотреть». Стоит прочесть классическое «Путешествие в Арзрум». Когда я первый раз проводил курс по травелогу в CWS, я еще раз перечитал этот текст и поразился тому, насколько он живой и удивительно современный. Не то чтобы травелог, но очень интересная книга Алексея Михеева «Чтение по буквам», где описываются разные реалии Москвы. Алексей, к сожалению, недавно нас покинул. Его многие знают как главного редактора журнала «Иностранная литература», а вот как писателя его знают меньше, а он, тем временем, совершенно изумительный.
Если говорить о необычных травелогах, у меня есть книга «Описание города», где сам город не назван, хотя узнаваем. Перед курсом можно также прочесть «Двадцать городов», где собраны мои заметки.
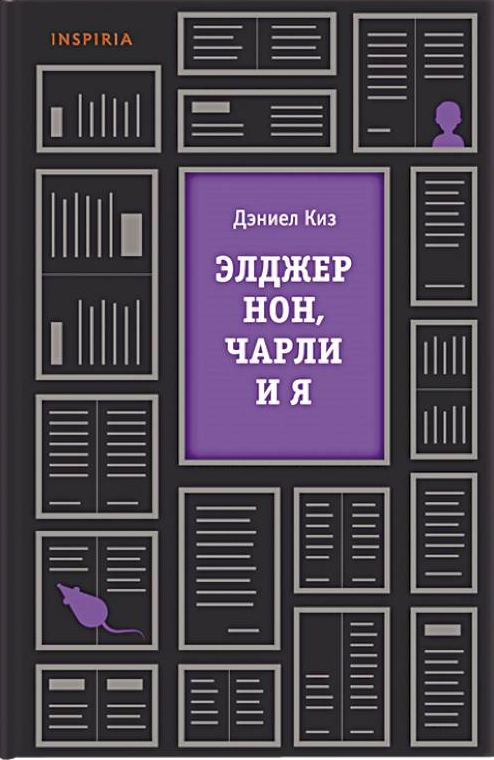
Думай о белой мыши: «Элджернон, Чарли и я» Дэниэла Киза
Все мы родом из детства, и писатели от простых смертных только тем и отличаются, что способны переработать свои детско-юношеские воспоминания в книги, которыми будут зачитываться миллионы. Как им это удается, рассказал Дэниэл Киз в автобиографии «Элджернон, Чарли и я». Книга недавно вышла в издательстве «Эксмо».
Ее история началась с того, что бедолага Чарли Гордон (главный герой рассказа, а позже и романа «Цветы для Элджернона») слишком уж задержался в разуме писателя.
«Персонаж, которого я придумал сорок с лишним лет назад, нейдет у меня из головы. Я его гоню — он ни с места. Чарли меня преследует; надо выяснить почему».
И Киз не нашел ничего лучше, как «зайти в лабиринт памяти с другого конца» и вспомнить, как родился сюжет об умственно отсталом гении Чарли и его друге — белой мыши Элджерноне. Что ж, эта работа оказалась дважды полезной: для Киза она стала чем-то вроде психотерапии, а для его читателей — неплохим пособием по писательскому мастерству.
В общем-то многие советы, которые дает автор «Цветов для Элджернона» и «Правдивой истории Билли Миллигана» знакомы даже начинающему писателю, как десять заповедей христианину: выбирай сюжет тщательно, редактируй внимательно, не возжелай публикации незаконченного произведения. Вся фишка в том, как это подано. Киз не пытается учить молодых коллег уму-разуму, хотя много лет преподавал писательское мастерство в университете. Вместо этого он выставил «салагой» себя. Просто и честно рассказал, как менял рабочие места в попытке накопить на медицинский колледж, как лелеял мечту стать писателем во время службы фельдшером на палубе корабля, как пошел учиться на психолога, потому что это дало бы ему больше времени на занятия прозой. Киз достал из «ментального погребка» воспоминания, которые стали частью его первого и самого успешного произведения, и показал, что его текст, получивший премии «Хьюго» и «Небьюла», родился из мелочей.
«Мечта стать писателем выросла из любви к чтению, к сочинению и рассказыванию историй; но материал, который я считаю своим по праву, хранится у меня в глубинах бессознательного — как в погребе. Метод свободных ассоциаций — все равно что лопата для садовника. Я выкапываю воспоминания, выношу их из тьмы и сажаю в хорошо освещенном месте, чтобы они могли расцвести».
При всей неочевидности ассоциаций (например, дугу интеллектуального подъема и спада Чарли Гордона он сравнил с горой книг в лавке старьевщика, на которую ему, малышу, приходилось взбираться, чтобы спасти некоторые томики от переработки) и банальности некоторых советов (идея саморедактуры стала в книге магистральной), текст Киза захватывает и заставляет забыть, что кто-то другой, может, Брэдбери, а может, Кинг вам уже говорил что-то подобное. Каждая находка и каждая ошибка будущего автора погружена в контекст, и выводы о той же саморедактуре, например, становятся доказанными теоремами, а не аксиомами, которые надо принять на веру.
«Я вновь засел за работу. Наверное, думал я, только сумасшедшие по стольку раз переписывают да переделывают. А потом вспомнил мемуары Шервуда Андерсона — я же сам его цитирую студентам, которые не любят заниматься саморедактурой! Вот он, этот пассаж: “Редко когда я писал историю — не важно, длинную или короткую, — которую не понадобилось бы затем переписывать. Работа над отдельными рассказами заняла у меня десять, а то и двенадцать лет”».
«Элджернон, Чарли и я» логично распадается на три части: первая — рождение сюжета и его превращение в рассказ. Это эмоциональное повествование о взрослении, творческих мучениях и первом триумфе молодого писателя. Во второй части Киз превращает рассказ в роман и долго и безуспешно пытается его опубликовать, пока, наконец, не находит своего издателя. Ну и третья часть — один из самых ранних вариантов «Цветов для Элджернона».
Киз поведал нам еще одну «правдивую историю», на этот раз свою. Он скрупулезно описал несколько десятков редакций «Цветов для Элджернона», подробно перечислил, какие из своих воспоминаний он подарил Чарли Гордону, и, наконец, не поскупился на истории об отказах со стороны литературных агентов и издательств, которые настаивали на «хэппи-энде». Кстати, изменить концовку советчики предлагали даже после того, как история Чарли получила «Хьюго» — самую престижную премию в области фантастики.
Поскольку Киз позиционировал свой текст как биографию, а не учебник по писательскому мастерству, он без устали говорил о себе, но его история может подтолкнуть всех сомневающихся к решению важных вопросов: «Стоит ли слушать посторонних, если ты веришь в свою идею?» — «Нет», «Как долго можно ходить по издательствам с рукописями?» — «Пока не опубликуют», «Можно ли вырастить из успешного рассказа популярный роман и вернуться к этой теме еще раз через много лет?» — «Да, если сюжет и его герои никак не хотят оставлять тебя в покое».

Лучшие люди города
Елена Холмогорова, писатель, редактор, ведущая мастерской «Путем романа» Creative Writing School:
«Судьба дебютного романа Кати Кожевиной «Лучшие люди города» не может быть мне безразлична. Дело в том, что от замысла до окончательного воплощения он был создан в мастерской CWS «Путем романа», которую я веду уже два сезона. И этот роман — одно из подтверждений жизнеспособности концепции мастерской: в основном, практическая работа — рождение и совершенствование сюжета, персонажей, идейного наполнения, стиля, постоянное обсуждение в группе каждого нового фрагмента и поворота повествования. Неделя за неделей участники мастерской выращивают свои сочинения: все муки, озарения и моменты отчаяния переживаются вместе. Поэтому итог — поставленная точка — радость общая.
Это роман с динамичным сюжетом, интересным характером главной героини, за эволюцией которой следишь с большим интересом, с яркими второстепенными персонажами, опирающийся на некнижное знание острова Сахалин и его экзотических реалий. В романе есть настоящие драмы, есть ирония, множество живых диалогов. Одним словом, все то, что делает сочинение значительным.
На мой взгляд, роман «Лучшие люди города» — большая удача. И то, что он стал одним из финалистов самой престижной премии для молодых писателей «Лицей», безусловно, не случайность, не везение, а заслуженное признание».
Представляем первую главу романа «Лучшие люди города».
Глава 1
«Николай Гоголь» провалился в яму. На задних рядах кто-то вскрикнул, по салону прокатился лязг металлических пряжек, грудной ребенок дотянулся до ноты си второй октавы. У Лены внутри все сдавило, тело перестало слушаться. Ей казалось, что чья-то невидимая рука трясет аэробус, словно игральные кости, и вот-вот швырнет с высоты десять тысяч метров. Мужик на соседнем сиденье начал креститься, с отчаяньем втыкая троеперстие в круглый тугой живот. Лена заметила, что он крестится не справа – налево, а слева – направо, по-католически. Это наблюдение отвлекло ее от собственного страха. Через пару минут все успокоилось. Католик встал, открыл багажную полку, достал из сумки мерзавчик столичной и отхлебнул.
Лена прикрыла глаза и запрокинула голову. На джинсах и рукавах свитера расцвели томатные пятна, но это уже не имело значения. После восьми часов полета она чувствовала, как будто ее руки и ноги состоят из миллиарда маленьких сжатых пружин. Вот бы сейчас раскинуться на кровати в позе морской звезды, укрыться одеялом с головой и спать десять, двадцать часов подряд. Но вскоре из динамика зашелестела стюардесса: «Уважаемые дамы и господа, просьба убрать откидные столики, открыть шторки на иллюминаторе и пристегнуть ремни безопасности». Тоска по дому затянула Лену в узел.
Как конькобежец на вираже касается рукой льда, самолет тронул крылом облако, развернулся и пошел на посадку. Белая пелена рассеялась, и показался рваный берег острова. В аэропорту было жарко, хотя стоял октябрь. Резиновая лента навернула уже несколько кругов, а клетчатого чемодана все не было. Лена представила, что ее багаж вывалился во время турбулентности и приземлился где-то на площади в Улан-Удэ, а, может, его по ошибке отправили в Таганрог или Астрахань. И все ее кашемировые свитера, австралийские джинсы и французские сорочки примеряют сотрудницы аэропорта. Впрочем, сорочки ей здесь ни к чему.
Чемодан выехал из тоннеля самым последним, с помятыми боками и расстегнутой молнией на кармане. Еле стащив его с ленты, Лена двинулась к выходу. У дверей она заметила невысокого парня в камуфляжном костюме, с мясистым носом и короткой челкой. Он мял в руках листик, на котором печатными буквами было выведено – «Нефтепромрезерв». Лена подошла:
– Кажется, нефтепромрезерв – это я.
– А я – Коля. Едем?
Он выхватил багаж и покатил его в сторону стоянки. Колесики с трудом преодолевали трещины на асфальте – даже чемодан сопротивлялся глупому повороту судьбы. Коля остановился у машины, точнее у настоящего вездехода – высота колес не меньше метра, из капота торчит труба, похожая на кобру в боевой стойке.
– А это что такое? – Лена тронула металлическую змею.
– Да, это шноркель, чтобы по дну реки ездить. У вас таких нету поди в Москве, – Коля тщательно изучил Лену и задержал взгляд сначала на заляпанных джинсах, а потом на белых кроссовках «New balance», – прошу садиться в карету, мадмуазель.
Из аэропорта Южно-Сахалинска до Крюкова ехать не меньше четырех часов. На улице моросило, за окном мелькали невзрачные коробки гаражей и рекламные билборды – «Бестраншейная прокладка трубопроводов», «Мир пайки», «Союз православных пчеловодов». Лена задремала. Где-то через час Коля тронул ее за плечо:
– Вы, наверное, кушать хотите? Я позвонил тут Валере, сказал, что встречаю гостя из Москвы, он обещал свежих чебуреков сделать. Наши все у него берут.
Когда в игру вступают «наши», пасовать неудобно. Коля выскочил у придорожной забегаловки и вернулся со стаканом чая и масляным полумесяцем, обернутым в серую бумагу. Лена отхлебнула глоток, и нёбо моментально онемело от кипятка. К тому же чай оказался с сахаром. В Москве она старалась не есть сладкое и мучное, вставала на весы утром и вечером, но, если жизнь теперь неслась под откос, то почему бы не придать ей ускорение. Лена отломила кусочек чебурека и положила в рот. В середине мясо показалось сырым. Джип медленно двинулся с места. Разобравшись с обедом, будто пройдя инициацию, Лена прилипла к стеклу. У самой дороги под пляжными зонтами сидели женщины в фуфайках и бриджах поверх колготок, а рядом с ними на столах вместо яблок или банок с огурцами, беспомощно раскинув щупальца, пылились огромные крабы.
– А сколько здесь стоит краб?
– Тараканы то? Ну, этим рублей 300 красная цена. Но лучше брать по 500. Я знаю надежных людей, обращайтесь.
После крабов начались грибные ряды. На капотах, на леопардовых покрывалах и просто на земле стояли ведра с лисичками, белыми, груздями и неизвестными шариками, похожими на большие шампиньоны.
– Надо же, какие боровики красивые! Вот бы их с картошкой пожарить.
– Э, нет. Грибы я у трассы не советую брать. Вы что же, не знаете, как людей дурят?
– Неа.
Коля снисходительно посмотрел на Лену и покачал головой:
– Самые лучшие грибы кладут сверху и на дно ведра. В середине – всякий лом и даже червивые. Вот ты купишь ведро, перевернешь его в пакет, и не заметишь, что тебя развели, – Коля решил, что настало время перейти «на ты», – сама то в Москве родилась?
– В Москве, да, – от этого признания Лене стало как-то не по себе, как будто ее уличили в непотребстве.
– Ну, ты вроде ничего, хорошая девчонка. Но вот ваши к нам, когда приехали завод строить, столько гонора у них. Нет, подзаработать, конечно, дали. Я сразу возить народ на стройку подрядился. Но мужики у нас недовольны. Говорят, москвичи посуду не моют, а выбрасывают.
– Что?
– Грязную работы вы не любите, и деньгами напоказ сорите. Но это я не про тебя конкретно, ты не думай, – сжалился Коля.
Машина ехала между голых сопок, напоминающих куски халвы. Вдоль дороги вытянулись трехметровые растения с толстым стеблем и широкими листьями.
– Коля, а это у обочины бамбук растет?
– Это? Да, борщевик обычный. Он у нас и по пять, и по шесть метров вырастает. А бамбук я покажу тебе потом, когда подъезжать будем. Ты лучше про себя расскажи. Замужем? Дети есть?
– Нету, – Коля полез на приграничную зону острых тем.
– А чего так?
– Не хочу, – Лена не сдержала раздражение в голосе.
– Да, ты не нервничай так. Ну, нет и нет. Успеешь еще. Я вот недавно открыл для себя одного духовного деятеля, Ошо, знаешь такого? Так теперь вообще не волнуюсь. Он говорил: «То, что есть – есть. Остановитесь и увидьте». Никуда теперь не бегаю, спокоен как удав, с женой хорошо стало. Вот смотри, что она подарила, – Коля щелкнул подвеску на зеркале заднего вида. Рядом с георгиевской лентой, крестиком и ёлочкой болталась разноцветная нитяная мандала.
Полчаса ехали молча, но тут сзади пристроился черный BMW, резко подрезал Колин вездеход и умчался за горизонт.
– Ах ты, сука! Куда ж ты так торопишься, унитаз на лыжах! Чтоб тебе там шину пробило, урод, – Коля воспринял обгон как личное оскорбление.
Наконец, они добрались до перетяжки над дорогой: «Крюков – город будущего». Лена подумала, что в России есть города светлого будущего и славного прошлого, но хорошо бы нашелся хоть один город настоящего.
Двухэтажные бараки из дерева, черного от влаги, торчали у дороги, как мокрые грачи. Деревьев почти никаких нету, только низкие кустарники. Кое-где встречались кирпичные дома, огороженные двухметровым металлическим забором. На калитках висят таблички-предупреждения про сторожевых собак: «я добегу до забора за 2 секунды, а ты?» или «собака злая, а кот вообще ниндзя».
Лене нужно было забрать ключи в офисе «Нефтепромрезерва» – компания на первое время, пока не построит свой поселок, снимала для сотрудников квартиры в центре Крюкова. Хотя различить, где именно у Крюкова центр, почти невозможно – за 40 минут город можно пройти насквозь. Офис открыли в «районе пятиэтажек». Вскоре Лена поняла, что это местный даунтаун. Маленький пятачок стал эпицентром общественной жизни – больница, две школы, Сбербанк, ДК, улица Ленина, площадь Ленина, памятник Ленину, церковь-новодел, администрация города и два кафе-конкурента, «Ветерок» и «Тополек». Она быстро забежала в контору, расписалась в журнале и взяла ключи у секретаря. Сюда Лена вернется завтра, и будет приходить еще 180 дней, которые тогда представлялись ей худшим временем в жизни.
Коля завел мотор и повез московскую пассажирку в ее временный дом. На перекрестке они остановились. По улице двигалась похоронная процессия, каких Лена никогда не видела. Впереди мужчина нес красный стяг с золотыми иероглифами, за ним на плечах тащили открытый гроб и крышку. На женщинах – белые платки, пара старушек одеты в бежевые халаты поверх темных курток и пальто. Вот-вот замашут крыльями и взлетят, как сороки. Коля перехватил Ленин удивленный взгляд:
– Да, это корейцы хоронят. Они вообще странный народ. Меня как-то позвали на поминки, так у них надо садиться и есть прямо перед гробом, пока его еще не закопали. Кусок в горло не лезет.
– Ужас!
– А ночью родственники играют с покойником в карты, развлекают его.
– А почему они в белом?
– Вроде как белый у них цвет смерти, как у нас черный. Типа волосы к концу жизни седеют. И полюса у Земли белые. У меня есть друг-кореец, так прикинь, он, когда родителям хотел новые окна ставить, они увидели, что белые, и ни в какую. Дурной знак, говорят. Помереть боятся.
– А у корейцев тут свое кладбище есть?
– Да, прямо. С нашими рядом закапывают. А иногда и жгут трупаков своих. У них положено. Уезжают на берег и разводят костры, крематория то нету.
– А это законно вообще?
– А что им за это будет? Они же не убивают. У нас тут, Лена, свои законы.
Через пару минут Коля тормознул у одной из пятиэтажек. Желтая штукатурка начала сыпаться и обнажила рыжие кирпичные веснушки. Квартира на верхнем этаже. Коля обещал занести чемодан, но сначала хотел покурить. Лена вошла в подъезд, преодолела пару пролетов и поняла, что на 3-м этаже не горит свет. Сунула руку в карман, достала айфон – что за черт, батарея села. Придется идти на ощупь. В подъезде воняло уксусной кислотой. Вдруг она почувствовала, что правая нога вместо твердой поверхности уткнулась во что-то мягкое и бугристое. Лена вскрикнула, рванула вниз через ступеньку, и чуть не упала, вылетая из дверей.
– Коля, там человек лежит! Мертвец!
– Сейчас посмотрим, не кричи.
Он взял телефон с фонариком и двинул в подъезд. Лена осторожно пристроилась за ним. На третьем этаже Коля хохотнул:
– Ну, что ты так вопила? Лежит парень, отдыхает. Ну, принял немного, не сухопутным же ходить.
Лена подошла ближе и увидела в луче фонаря оплывшее лицо. Человек среднего возраста в таком же камуфляже, как у Коли, лежал на площадке, положив руку под щетинистую щеку, и размеренно сопел. Он даже не почувствовал, что его потревожили.
Коля сделал еще одну ходку вниз за чемоданом и вернулся:
– Ну, бывай, подруга. Телефон мой сохрани. Я тебе, если хочешь, дам Ошо почитать. Тебе надо.
Лена попрощалась и вошла в светлую однушку. За окном гнули шею жирафы подъемных кранов, и виднелся кусочек моря. В комнате было чисто, из мебели – стенка, стол и грязно-розовый разлохмаченный диван, весь в затяжках и нитках. Над диваном висел плюшевый ковер с золотистыми оленями. Лена села, с силой выдохнула и погладила оленя рукой: «Ну, что, будем дружить?» Олень ударил копытом и подмигнул.

Бог-отец
Придется написать о тебе книгу. С картинками и разговорами. С цитатами друзей и врагов. С эскизами деревянных скульптур, врачебными закорючками из медкарты, с твоими рассказами, листками стихов и жизненными принципами. Назвать «Бог-отец».
Включить в серию «Библиотека приключений» или, что будет правильнее, в подборку «Советская фантастика 50-80-х годов ХХ века».
Но лучше бы ты ее сам написал, а заодно ответил на один вопрос.
Разве так делают? Разве умирают, когда сыну тринадцать? Ведь это нечестно. Нечестно.
Да, ты был серьезно болен всю жизнь. Инвалид второй группы с восемнадцати лет. Но с этим же разобрался. Послал врачей. Вкачал в себя столько здоровья, что твоей силой и ловкостью восхищался весь город. Уважали. Боялись. Любили.
Мама поливала водой из окна твоих страдающих Джульетт. А еще она всегда говорила, что папа очень правильный. Слишком. Так, что чуть не убили пару раз.
Инвалида не брали на «настоящую» работу. И ты устраивался через многочисленных друзей — туда, где тяжело и жарко. Например, на чугунолитейный. Зачем помирать на печи, если можно разливать из печи металл? А еще можно объехать на товарняках весь Союз. Да весь мир можно.
Кого вообще волнует, что ближе к сорока из-за отказывающих почек стало останавливаться сердце? На моих глазах ты падал с высоченной сосны и, отдохнув пару минут на земле, снова вставал и нес меня из леса домой на плечах. Я видел!
А еще раньше, когда на осенней Оке твою лодку переехала пьяная баржа, ты, чтобы не втерло гигантским разворачивающимся корытом в песок, пронырнул под ней от носа до кормы — в телогрейке и сапогах. Не сдался, не вдохнул воду. Не дал легким разорваться.
«Скоро у меня родится сын», — думал ты. И плыл дальше.
Ты больше часа дрался один против тридцати человек. Ты вообще дрался, наверно, тысячу раз. А потом снялся в главной роли в фильме «Коммандо». Нет, ну мог бы.
Ты мог развести костер под ливнем и застрелить из охотничьего ружья соседскую собаку, которая укусила твоего сына.
И если уж говорить о судьбе, ты, пап, всегда плевал на эти буквы, ломал каменные доски о головы пророков, срезал знаки зубилом и высекал новые. По душе.
Дед твой, весь такой блестящий кирасир, ровно в сорок четыре года вылетел из седла и звонко бацнулся золотым сияющим доспехом о сыру землю. Вошел на два метра.
В отца твоего, командира партизанского отряда, через пять лет после войны ударила молния. Может, и обошлось бы, но эскулапы завалинки и подорожника начали поливать бессознательного бойца ледяной водой и прикапывать — ну, чтобы електричество ушло.
Дед к родимой землице быстро привык. Ему тоже было сорок четыре. А тебе — просто четыре.
Какое-то наследственное свинство — уходить так рано. Зато понятно, откуда растут ноги.
Сын своего отца.
Но даже математическое проклятие ты, пап, смог опровергнуть — стукнуло же, стукнуло сорок пять! А сорок шесть уже прозвучало глухо, снизу.
Когда ты умирал в больнице, я подошел обняться, а потом ускакал в коридор смотреть мультики. Я был уверен, что не происходит ничего страшного. Это не последний раз, когда я тебя вижу. Ты пребудешь всегда. Со мной.
Говорят, внешне мы похожи. Еще лет десять назад на улице родного города ко мне мог подойти незнакомый мужик и, спросив фамилию, пожать руку — «Узнаю, Колин сын». А один вглядывался, вглядывался, а потом попытался ударить — «За батю!»
Сейчас «того народа» уже почти не осталось. Я вижусь с твоими еще живыми друзьями.
Иногда они достают из древних растрескавшихся сундуков щепочки, осколки, листочки тебя. Иногда очень близкого. И незнакомого.
Тридцать лет назад особенное произошло. Перевернулись полюса, творец не уследил.
Потому что ты никогда не совершил бы предательства.
Тридцать лет, я уже и помню тебя плохо.
Помню, шли мимо свежей траншеи и увидели россыпь человеческих костей и черепов.
Копая вдоль детсадовского забора, экскаватор напоролся на старое кладбище. Мы взяли одну голову. Ты проварил череп в морилке и сотворил из купола чашу-миску, которой бы позавидовал и Куря. Тогда я еще точно знал, что мертвых не существует. Счастливое время. Прошло.
На воротах гаража висят деревянные маски, которые ты вырезал в прошлом столетии.
Рядом с сараем — выкорчеванный антипод-энт с всклокоченными корнями волос, с продольно треснувшим носом. На столе фотография: я, ты, вишня цветет.
Я понимаю, что Бог умер и уже не воскреснет. Я все равно ищу его всю жизнь. И только недавно, кажется, перестал.

Джо, где ты лошадь увидал? Шел бы лучше спать
Я могу обратиться к тебе только мысленно — не потому, что ты умер. Ты вполне жив и относительно здоров. Также не потому, что ты живешь в России, а я во Франции. Близким людям расстояние давно перестало мешать сохранять близость. Только мы с тобой не близкие люди. Мы перестали ими быть, когда мне было лет девять или десять. Это произошло без каких-либо потрясений, естественно, само по себе. Не было никакого «травмирующего события», сколько бы я ни искала его с психотерапевтами.
У меня была даже красивая теория на этот счет: будто бы отчуждение началось, когда ты, взбесившись в очередной раз неизвестно из-за чего на моего старшего брата, сильно толкнул его, он отлетел в коридор и сломал руку. Это действительно произошло у меня на глазах, и я даже помню, какого цвета был линолеум и в какой позе брат на нем лежал. Мне было, кажется, пять, а брату девять или около того. (Психотерапевты оживились!) Но я не думаю, что этот эпизод или какой угодно другой разительно повлиял на наши с тобой отношения. Я тогда не ставила тебе моральных оценок, вот в чем дело. Ну, толкнул и толкнул. Папа психует — бывает. А у вас что, нет?
Ты никого из нас никогда не бил — хотя видно было, как сильно порой тебе хотелось ударить (о, как я понимаю тебя сейчас!). Каким-то образом тебе удавалось держаться всю жизнь, и тот инцидент со сломанной рукой был, наверное, единственным случаем «настоящего», «махрового» домашнего насилия с твоей стороны, свидетельницей которого я была. Ты, конечно же, бросился к нему, плакал, просил прощения и потом сидел с ним в очередях травмпунктов и поликлиник.
Вообще-то, я собиралась писать совсем о другом. Эта картинка с мальчиком, неуклюже растянувшимся на линолеуме в противном желтом свете коридорной лампы, она сама вдруг вылезла, как пружина из старого матраса. Но о чем я хотела рассказать? О том, каким ты был когда-то очень давно, в легендарном прошлом. Когда мы были «ты да я, да мы с тобой». Я вот смотрю на тебя сегодня, бессловесного старого пса, который в полузабытьи целыми днями лежит на продавленном диване и не то смотрит хоккейный матч, не то дремлет. Глубокие борозды на твоем лице застыли выражением привычной многолетней муки. Я смотрю и не могу принять, что это ты, тот же самый папа, который написал блестящую (насколько я могла оценить ее литературный уровень в свои шесть) комедию про отца и сына для школьного праздника моего брата-четвероклассника, и триумфально сыграл эту пьесу вместе с ним. Тот же самый папа, который вечерами читал нам, восторженным малышам, новые главы своего фантастического романа. Как он назывался? Я помню. «Синяя тетрадь». Корабль плывет сквозь мрак, мачты скрипят, ветер воет, матросы постепенно сходят с ума, а капитану ночами мерещится, что на бушприте стоит светящаяся женщина.
Ты не дописал свой роман. Он не сохранился, и пьеса тоже. Может быть, ты сам все это уничтожил, кто теперь знает. Спрашивать тебя бесполезно: ты уже скоро забудешь, как меня зовут. Но я хочу, чтобы сохранился тот ты, хоть где-нибудь. Хотя бы в виде букв, сложенных в слова. Если я не расскажу об этом, никто не узнает. И ты исчезнешь совсем.
Мой папа из детства великий волшебник. Еще он великий музыкант, художник, писатель и мастер перевоплощения. Дорогая редакция, это мой папа в возрасте пятнадцати лет выпил на спор залпом бутылку водки и чуть не умер под березой. Это он научил меня рисовать лошадей. Это он переоделся в мамину одежду и когда я вернулась с прогулки, стал разыгрывать передо мной моноспектакль от лица мамы. Это от него я столько знаю про личинок стрекозы и съедобные сосновые почки. Это он гениальнее всех исполнял песню пьяного Джо (и неважно, что я ее больше не слышала ни в чьем исполнении). Это он прикрутил к раме своего велосипеда маленькое сиденье, чтобы возить меня на дачу: мама с братом на автобусе, а мы на велике, и болтать всю дорогу.
Это он — подлинный Дед Мороз, потому что неуловим и невидим. Запишите это, пожалуйста, поставьте печать и отнесите к нотариусу. Потому что себе я верю все меньше. Ведь это невозможно, чтобы человек мог настолько потерять себя. Ведь у этого хотя бы должна быть какая-то веская драматическая причина, страшная семейная тайна, как в скандинавском триллере. Нельзя же просто так взять и переродиться в кабачок.
Папа, мы не говорили с тобой «по душам», получается, никогда. В моем детстве это было не нужно, потому что моя душа состояла из потайных земляничных полян, глубины Теплой канавы, блестящих карпов на рассвете и твоих леденящих историй про гадюк, падающих с неба. С годами моя душа наполнилась всякой взрослой ерундой, и тебе в ней не осталось места. А ты сказал жизни «все, я пас», как когда мы с тобой играли в покер.
Жизнь тебя обманула и переиграла. Вот умрешь ты — что я почувствую?
— Светонька, смотри, там лисичка!
— Где, где?
— Да вон же, вон там, в поле!
— Да где, я не вижу! Там темно!
— Да вон, за куст прыгнула, смотри!
— Ну где?!.
— Всё, убежала.

Идеальный отец — мертвый
Правый угол фотокарточки в темной рамке, подсвеченный июньским рассветом. На ней его лицо — мелкая серая клякса двадцатилетней давности. И непременно, это важно… Оно в серванте, за стеклом.
Тогда я смогу придумать его по новой. Дети это умеют. И поверить. И, может, даже полюбить, а потом жалеть, что недалеко от деревни его задрал медведь. Два! Его задрали сразу два медведя. И пусть там будут волки, чтоб уж наверняка.
Плакать по мёртвому папе: «Папочка, миленький, я тебя люблю», — боже, это так естественно. Я хочу быть обыкновенной девочкой. И хочу иметь обыкновенное горе. Один раз.
Он был моим секретом. Я довольно рано поняла, что он не такой, как все. А когда твой отец не такой, как все, ты и сам становишься не такой, как все. Быть вороной то ещё удовольствие.
Как было бы хорошо нам всем, если бы ты жил в серванте. Я могла бы приглашать друзей и рассказывать, как ты меня любил. И медведи тебя задрали не просто так, а потому что ты меня защищал. Ты бы стал героем. Для всех. Я бы сочиняла, плакала и верила самой себе, что твои последние слова были: «Дочка, беги»!
Все бы восхищались тобой. И мной, потому что я твоя часть.
Но ты не дал мне такого шанса и никому из своих детей не дал.
Горько. Опять куришь. А куришь на кухне, значит, пьешь. А пьешь, значит, мама будет кричать «дочка, беги». Я знаю всё наизусть, я выдрессированная, я старшая. Бужу детей, которые быстрее любого солдата натягивают одежду, и толкаю их в темноту, как в пропасть. В безопасность.
А сама спасаю маму. Как тут уйти, как бросить. Беззвучно, парализованным от страха горлом давлю из себя слова, ещё немного и задохнусь. Кажется, сердце стучит прямо в гландах.
— Папа, папочка, не надо, пожалуйста.
— Дырка, — орёт он мне перекошенным беззубым ртом, вытирая синие губы рукавом свитера. Мама вязала. — Дырка от бублика!
Однажды я бросила всех. Всех.
Просто вышла из дома и больше не вернулась. Иначе переехала бы в сервант.
Многие годы снился один и тот же сон, где мама в ловушке, а я не могу ее спасти, знаете почему? Потому что я дырка от бублика.
Никогда не просила многого, и на каждую падающую звезду у меня было всего лишь одно желание.
Я просто хотела, чтобы мой папа умер.

Иногда меня охватывает такая тоска
иногда меня охватывает такая тоска
что я не плачу и не моюсь неделю
а неделя, как известно, это — семь дней
достаточно, чтобы выйти из комы постели
за семь дней можно отдохнуть в израэле
читать журнальчики в лобби отеля
научиться играть на виолончели
напиться с кем-то красивым эля
танцевать под вой свиристели
уехать случайно на уставшей газели
есть фисташки и папарделле
принять в дар пару ожерелий
концептуально потрахаться под елью
устроить перестрелку в ближайшей фавеле
заживить все ссадины на теле
выстрадать пару похмелий
и прийти в себя еле-еле
это конечно все можно, да
но я просто лежу
и не моюсь неделю

Казначейская, 13, 21
Уф, последний заказ на сегодня. Устал как собака. Елена с Казначейской улицы, 13, 21, даёт подробные указания — «вторая парадная налево по двору, домофон не работает, нажмите 290 на двери и дёргайте на себя, третий этаж». Спасибо и на этом, а то ходи по полчаса ищи, какой подъезд и какая лестница. «Парадная» — коренная петербурженка наверно, раз в графе «подъезд» упрямо пишет «парадная». Что там у вас? Торт «Красный бархат» из Британских пекарен, о, шикуете, мадам. Тяжеленный какой, надо было «Красный кирпич» назвать. Так, галочка «оставить у двери» стоит, да уж, уже месяц у меня заказ вживую не забирали.
Ставлю пакет, звонюсь и спускаюсь по лестнице обратно. Что ж, вкусного дня рождения или приятного ночного пиршества, Елена.
Завтра мне снова достался заказ от Казначейской, 13, 21, уже днём, кофемолка, дешёвые кофейные зёрна — других в «Перекрёстке» пока нет, но ничего, скоро подсуетятся и завезут — и турка. Душа соскучилась по кофе навынос перед работой, когда знаешь, что опаздываешь и половину обжигающего американо прольёшь на себя, но всё равно берёшь? Ничего, скоро всё закончится и снова начнутся конские чеки из химчистки на спасение облитого кофе кремового пальто. Или красного? В моей голове, Елена, у вас будет красное пальто. Хочется попытаться угадать возраст, мне кажется, вы достаточно молоды, раз не желаете переходить на растворимый кофе, а хотите освоить искусство кофеварения сами. Хотя кто знает, моя мама недавно вообще решила на курсы бариста записаться — говорит, всю жизнь об этом мечтала, а на пенсии как раз появилось время. Может, на этот раз Казначейская, 13, 21 сжалилась над моим любопытством и убрала галочку «оставить у двери»? Эх, нет, придётся напрягать свою фантазию и дедукцию? или что там у Шерлока Холмса было? Индукция, кажется? Вот её тогда.
Через пару часов снова заказ от неё. Уже почти готов поверить в то, что сама судьба хочет, чтобы Елена, она же Казначейская, 13, 21, перекочевала из фантазии в реальность. Не подумайте, я не буду звать её на свидание, просить телефончик и всё такое, это как-то неправильно. Мне просто интересно хоть глазком взглянуть на неё, а то днём по улице только такие же, как я, снуют, в метро все прячутся за масками и респираторами на всё лицо, дома только немытая сковородка ждёт. Хочется живого человека увидеть, живое лицо. Так, а что она там заказала? «Либресс» и резиновая грелка, вообще не знал, что их до сих продают. Вот тут я почти радуюсь, что мне нужно оставить заказ у двери — давно ведь уже не в школе, а всё ещё стесняюсь доставить пакет с прокладками и, видимо, единственное средство от боли.
Снова вспоминаю маму — как в детстве она иногда пропускала работу, лежала весь день на диване, завернувшись в плед, и слабым голосом отказывалась со мной играть. А я не понимал — если она заболела, то почему у неё нет насморка или почему она не вызывает врача. Узнал уже гораздо позже, подростком, когда она усадила меня перед собой на стул и сказала, что ей нужно со мной поговорить. Несколько лет после этого я с огромной жалостью смотрел на пустые парты отсутствующих по паре дней одноклассниц и думал — пусть простуда или гастрит, но только не этот ад. Потому что с больным горлом мама спокойно ходила на работу, придавить её к дивану мог только ежемесячный кошмар всех женщин. Моё искреннее сочувствие, Казначейская, 13, 21.
Следующие несколько дней мне не попадались от неё заказы, и я почти смирился с мыслью, что фортуна от меня отвернулась, но тут — вот она, Елена, заказ из «Леонардо», картина по номерам. А, ну да, у всех же сейчас появилось по новому хобби, а у меня только в два раза больше работы. Не удержался, взглянул, что там за картина — оказался кот в модных очёчках, серый, массивный, напоминает этих, британских, кажется. Интересно, все остальные сюжеты настолько плохи или вы, Казначейская, 13, 21, кошатница, или в подарок рисуете кому-то, кто обладает похожим шерстяным другом дома. А может, у вас самой есть кот?
Через два дня она заказала кошачий корм, и ответ хотя бы на один мой вопрос был найден — вы владелица британца, Елена. Что ж, вам хотя бы есть с кем разделить карантинные тяготы.
Упорно не хочу предполагать, что вы живёте с родителями, мужем, подругой или даже дочкой, в моей голове вы счастливая и независимая, из всех привязанностей этого мира предпочитающая кота.
Когда я нёс Казначейской, 13, 21 последний заказ, я, конечно, ни на секунду не мог подумать, что он будет последним. Но он был — и был домашним спортивным костюмом размера М, красным, почти как пальто, и молодёжным, по крайней мере, на мой неуверенный взгляд. Я почти надеялся, что он ей почему-то не подойдёт, не понравится, не сядет, и тогда она его вернёт — мне в руки, и я наконец увижу Елену во плоти.
Прошло уже два месяца, люди потихоньку выползают на улицу, кофейни начинают работать не в полную силу, а я так и не знаю — переехала ли, случилось ли что или просто рандомайзер перестал мне давать заказы для Казначейской, 13, 21.

Курьерофобия
Маргарита Петровна панически боялась курьеров. Откуда взялась эта фобия, трудно сказать. Хотя, впрочем, погодите-ка!
В самом начале пандемического карантина, когда люди ещё не закрылись в нагнетаемом ужасе по квартирам, ясным мартовским утром Маргарита Петровна шла привычным маршрутом за покупками. У неё был выбор: «Пятёрочка», «Билла» или «Фикспрайс». Психологи советуют чередовать привычные маршруты. Вот она и чередовала хотя бы торговые точки.
Проходя мимо закрытого сейчас, как все заведения скученного общения, пивного бара, она увидела необычное скопление людей и велосипедов. Издалека казалось, что желто-чёрная масса ворочается и бурлит, как ядовитое варево в котле ведьмы. Когда Маргарита Петровна подошла ближе, она поняла, что это была база Яндекс-доставки. Каждый курьер был одет в желтую форму с чёрными полосками, за плечами громоздился такой же короб. Необъяснимый страх сжал и отпустил сердце Маргариты Петровны. Она ускорила шаг и, минуя скопище, почти побежала в сторону супермаркетов. Ей вслед, будто издеваясь, позвякали велосипедные звоночки.
В ту же ночь Маргарите Петровне приснился сон. Она снова шла по привычному маршруту. Но в этот раз, только завидев толпу курьеров, она обошла опасное место, свернув с тротуара на проезжую часть. Боковым зрением она увидела, как один за другим отделялся от роя желто-полосатый и следовал за ней. Она попыталась бежать, но ее ноги вязли в асфальте, будто в только что уложенном. Догнав её, первый же преследователь впился ей в шею жалом, потом следующий, следующий.
Маргарита в ужасе проснулась, сердце выпрыгивало из груди. Выпила капель и, успокоившись, стала размышлять о том, что эдак не трудно довести себя до помешательства. Она вспомнила принцип лечения подобного подобным, хотя, кажется, там речь шла о снятии алкогольного синдрома. Ну, неважно!
Нашла в шкафу давнишнюю спортивную куртку — фальшивый Adidas, желтую, с тремя полосками вдоль рукавов. Оставшейся от ремонта краской сменила масть из зелёного в жёлтый своего складного велосипеда, который любовно называла «мой Шульц» по названию производителя. Соорудила из тары, в которой до этого хранила ёлочные украшения, короб, а к нему довольно умело приторочила лямки.
Теперь за покупками Маргарита Петровна выезжала только в таком виде. При этом её курьерофобия исчезла бесследно.
Через какое-то время драконовские санитарные ограничения в городе сняли, курьерские службы сократили за ненадобностью численный состав. Но Маргарита Петровна продолжала свои выезды на жёлтом велосипеде. Она переняла манеру настоящих велокурьеров и лихо гоняла по тротуарам, распугивая прохожих.
В районе ее уже знали, даже пытались найти на неё какую-то управу, но тщетно — догнать не могли.
Поговаривали, что дети Маргариты Петровны все-таки прибегли в отношении неё к медицинской помощи. Но, скорее всего, эти слухи распускали её соседки. Просто завидовали!

Лабиринт
В пустых и необжитых старых комнатах
Себя всегда запоминаешь лишь фрагментами,
И долгое прощанье не сулит повторных поводов
Для расставаний с траурными лентами.
И всё здесь может оказаться сновидением,
Но указует перст пройти преграды странные.
Одежды черные накинуты в честь проводов,
И слышен плач по телу бездыханному.
Забыв себя, уходишь глубже в прошлое,
Где место есть истлевшему и древнему.
Сквозь двери, мысли, жесты красться осторожно
Под взглядом со спины и холодом по венам.
Услышать голоса, уснувшие на дне молчания
Гудящих телефонных трубок, спящих в одиночестве…
Лишь для того их снять, чтоб страхи и отчаяние
Вдруг потонули в шуме белом — колыбели ночи.
Свой дом, как незнакомый, изучаешь,
Неся в себе страданье, как в сосуде.
Надеешься, что дверь открыта, чтоб сейчас же
Забыть ту боль, что жесткой карой судит.
И на пустых кроватях запах смерти,
И смятое белье повинно в чьем-то бреде…
Как белоснежными мазками, умиротворенье
Вкрапляется в полночное хожденье
По краю битых стёкол, с грузом в сердце,
Сокрытым глубоко под тайным отчужденьем.
На ощупь трудно ухватить обрывки мыслей,
Но знаю точно — возвращусь я чистым:
Забуду всхлипы, отдающиеся эхом,
И странный синий свет, мерцающий искристо.
Всё хочется забыть и заслониться смехом
От тайных иероглифов и знаков…
Но грёзы прежние вновь овладеют веками,
Лишь стоит замереть, чтоб различить их шаг.
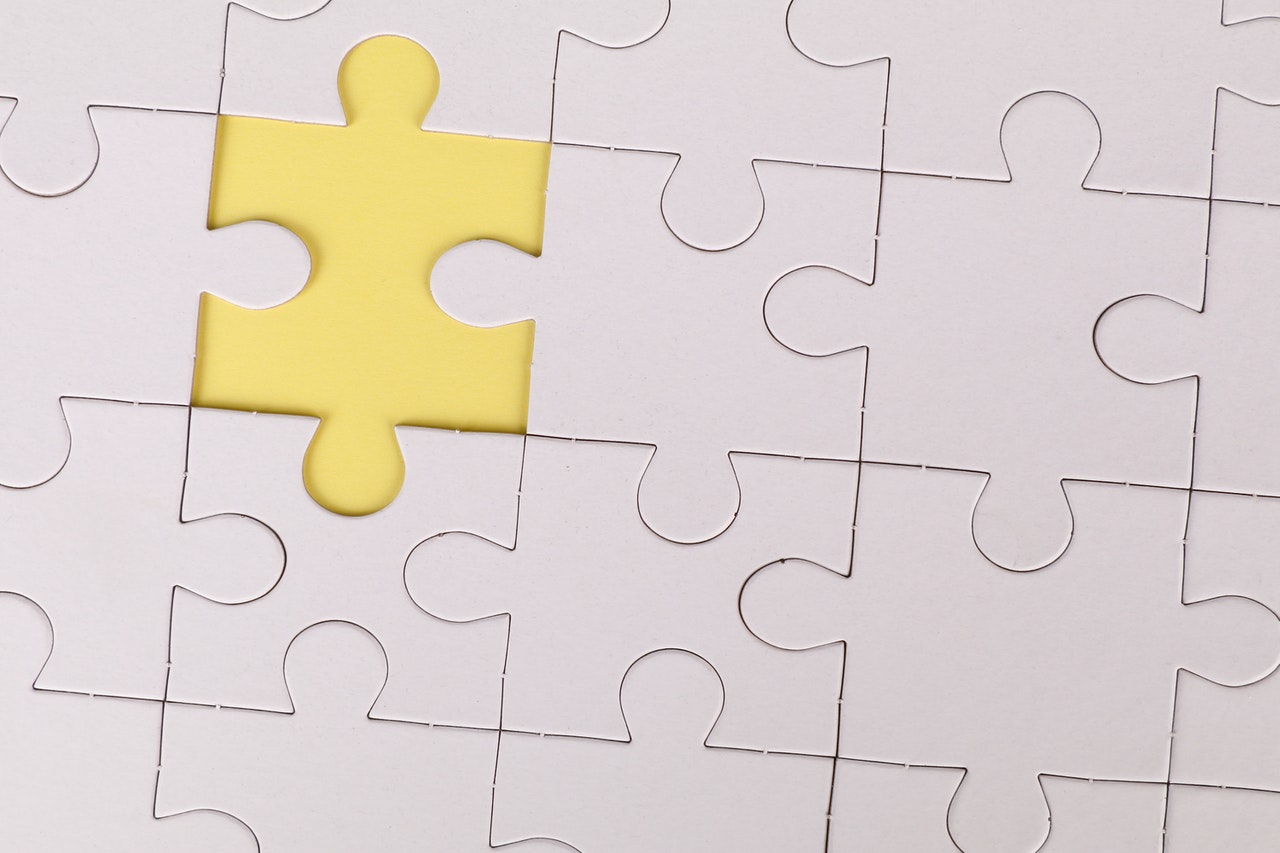
Мастерская сюжета Элины Петровой
Весной 2021 года проходил конкурс в мастерскую «Сюжет как двигатель истории» Элины Петровой. Представляем работы стипендиатов.
Конкурсное задание:
У вас есть цель — прекрасно провести день. Но препятствия нарушают эти планы. Напишите художественный текст от первого лица, в котором череда выдуманных событий будет ухудшаться по мере развития истории. Важно, чтобы вы не только продумывали препятствия для самих себя и усложняли их, но и успешно с ними справлялись. Опишите эти события художественно и связно, чтобы они сложились в историю одного дня — с утра до вечера.
Максимальное количество событий — пять. Объем: до 3000 знаков с пробелами. Фокус задания: оригинальность сюжета.
Яна Норина
1
— Глафира, расскажи про предложение! — пискнул Сева из своего окошка в зуме. Зазвонил телефон: моя мать. Я сбросила. Покосилась на плиту: подходит.
Я показала презентацию инопланетного праздника, послушала двусмысленную критику.
— А ты будешь на встрече с заказчиком в час? — Сева ковырнул в носу.
— Ага. — Я покосилась на плиту. Кофе подошёл.
— Глаш…
Я отключилась. Кофейная жижа растеклась по плите: это был последний кофе.
2
До созвона осталось полчаса, и я метнулась купить пачку кофе. Мамин звонок настиг меня на кассе.
— Что там?
— Папе плохо, мы едем в больницу, — сказала мама тревожным голосом.
— Ладно, сейчас приеду.
Вопли Севы в телефоне пугали голубей и очередь в кофейню-«ссобойку», где я встала между двух студенточек-«латте с сиропом».
— Только ты можешь не вестись на манипуляции. Проведи переговоры, иначе они нас укатают, — заливал мне Сева. — Или я тебя уволю.
— Потренируй свои личные границы сам.
— Ты не можешь нас бросить.
— Прямо сейчас — могу.
— Есть вещи важнее семьи.
— Пошёл ты, Сева.
— Что ты сказала?
— Иди к черту.
— Весь офис это слышал, Глаша. Ты на громкой связи.
— А вы знали, чем занимался Сева на последнем корпоративе? — крикнула я.
— Пип-пип-пип.
3
Я не взяла кофе: мой автобус до больницы как раз подошёл.
— У отца перелом бедра, — сказала мама своим глухим голосом.
— Я думала, у него приступ.
— Какая разница?
— Так он не умирает?
Мать надулась, как гриб.
— Тут есть кофе?
— Там-то и там-то, — сказала мне медсестра на рецепции. — Пжлста.
— Тебе взять, мам?
— Эгоистка.
— М.
— Глаша.
— М?
— Горячий шоколад. Сахара поменьше.
Я нашла автомат, взяла кофе и шоколад, вернулась, а врач уже махнул рукой нам с матерью. В палате папа показал боевой вид, но прощался, как перед войной. Ему вставят титановую пластинку в бедро. У мамы уже две таких: семейка киборгов.
— Вам не стоит ждать. — Врачи нас выгнали.
Стаканчики уже унесла уборщица и добавила, что пол чистый.
4
— Меня у метро, — сказала я водителю такси.
— Ты не зайдешь? — Мама надулась опять. — Не успели увидеться, а уже.
— А что там?
— Цветок поможешь выкинуть. И полку папа не повесил. Упал.
Вон оно что.
Через полчаса я еду к себе уже с огромным фикусом в горшке. Этот фикус я вырастила в подростковом возрасте, кстати. Я набрала Севе.
— Вы живы?
— Мы приняли вариант заказчика, и все из-за тебя.
— И какой же?
— Запись встречи на облаке, — злорадно ухмыльнулся Сева.
Я посмотрела видео.
«Мы хотим вечеринку в пиратском стиле, можно немного инопланетян».
Черт.
5
Я вышла из такси и зашла в магазин — с фикусом. На кассе мне вручили пачку кофе.
— Вы забыли.
— А, точно, спасибо. Нет ли у вас кого-то, кто поможет донести цветок?
Рабочий тащил фикус с важным видом. Я дала ему апельсин за работу, и он скосил лицо.
— Я не ношу наличку.
— У меня есть сбер.
— Сто рублей пойдет?
Он опять скосил лицо.
Пролог.
«Пираты Карибского моря VS Пришельцы».
Пришельцы протезируют арбалет в ногу Барбосе, и тот охотится на китов. А Джек Воробей женится на инопланетянке и остепеняется на Странных берегах…
Наталья Нерастенко
Когда спрашивают, что подарить на день рождения, принято отвечать: «Неважно, главное — приходи». Я так не делаю. Я люблю подарки. Однажды черт дернул пошутить, и я ответила подруге, что неплохо было бы на день рождения получить мужчину, а то единственной паре тапочек одиноко в доме.
В назначенный день она преподнесла мне горшок с разлапистым цветком и сказала:
— Называется «женское счастье». Привлекает в дом мужчин.
Согласно этикетке, «женское счастье» любит удобрения. Вылив в горшок остатки чая, я поставила кружку в посудомоечную машину и счастливая легла спать. Следующий день должен был стать пиком празднования: не вставать с кровати, смотреть глупости по телевизору и есть только заказанную в интернете гадость — что может быть лучше. Страшный грохот, который оказался стуком в дверь, вырвал меня из утренней неги. Натянув пижамные штаны, я открыла. За порогом высился мужчина средних лет с желтыми шлепанцами на огромных ступнях и презрением во взгляде.
— Вы меня затапливаете.
Только тогда я заметила пену, текущую из кухни. Оказалось, что оставленная на ночь посудомойка решила извергнуть из себя бабушкин фарфор. То ли мое обаяние не проснулось, то ли чувствительность уснула в сердце соседа, но он не купился на улыбочки и попытки решить вопрос полюбовно. Трогая лужу шлепанцем, твердо сказал:
— Я звоню в ЖЭК.
Через пятнадцать минут пришли двое — один красивый, в синем комбинезоне, второй просто в синем комбинезоне. Красивый сразу проникся ко мне и предложил обсудить все спокойно, хотя сосед грозил судом, родителями и богом. На второго жэковца внимания мы обращали еще меньше, но когда тот пробурчал: «Мало тебе Оли из бухгалтерии?», мой собеседник хмыкнул:
— Да она даже не смотрела на тебя!
Завязалась перебранка, потом драка, сосед прыгал вокруг, шлепая по воде. Некрасивый жэковец, раскрасневшись, схватил со стола тупой нож и ткнул им в красивого. Сосед закричал.
Приехавший наряд полиции разделился — один допрашивал рвущего на себе волосы преступника, второй записывал наши с соседом показания, третий ушел курить на балкон. Когда подоспела скорая, молодой санитар предложил забрать некрасивого жэковца с признаками истерии, но лейтенант заверил, что это пациент его конторы. Раненого положили на носилки, и он бросил мне на прощание печальный взгляд. За ним в дверной проход потянулся запах дыма. Я кинулась на балкон — полицейский кителем тушил занавески.
Когда прибыли отважные пожарные, остатки занавесок потухли, а полицейские уехали, посоветовав со всеми претензиями обращаться в участок. Заметив отсутствие опасности и кусок вчерашнего торта, борцы с огнем стали напрашиваться на чай, но делиться лакомством и вести беседы — последнее, чего мне хотелось в тот вечер. Я прошлась по замызганному паркету, поскребла пятнышко крови на полу, а потом схватила «женское счастье» и швырнула его прямо с балкона.
Косые лучи заката накрыли незаправленную кровать.
Юлия Лашманова
Выходной! План такой: для начала выспаться.
Снится мне сон: я лечу на космическом корабле в галактику Андромеда, лечу на красивом, технически совершенном корабле и мысленно предвкушаю триумф. И вдруг:
— Пи-пи-пи.
Полёт прерывает звук машины из другой реальности. Обычно с таким противным звуком ездят коммунальные службы, предупреждая всех о своём присутствии. Открываю глаза: в комнате темно — еще ночь или раннее утро. И чего они тут устроили? Закрываю глаза. Спать.
Звонок домофона. Это что, новая акция? «Кто рано встаёт, тому ЖилКомСервис квартиру уберёт»? Спасибо, не заказывала.
Звонок домофона. А если я спрячусь под одеялом, поможет? Звонок домофона.
— Кто там? — задаю я дежурный вопрос.
— Пожарная охрана. У вас сверху вода не течёт?
Вот те раз! Интересно, а если придут водопроводчики, они спросят, не горят ли у меня трубы?
— Нет, не течёт, — отвечаю я, осмотрев потолки.
Тишина. Пытаюсь заснуть.
Звонок домофона.
— Кто там?
— Здравствуйте. Врача вызывали? — Незнакомый мужской голос.
— Нет. А вы точно в эту квартиру?
— 22-я.
— Моя. — Во дела! Вот это я понимаю, скорая помощь. Вам еще не плохо, а мы уже с вами!
— Проспект Мира, дом 13?
— Нет, это другой дом, соседний. — Кладу трубку домофона и тут же возвращаюсь в сонную тишину.
Ушёл. А голос приятный. А вдруг это была судьба? Счастье, которое я послала в соседний дом.
Одеваюсь, вылетаю на улицу, бегу к соседнему дому, набираю номер квартиры 22.
— Кто там?
— А доктора можно?
— Тут нет доктора.
— Не приходил?
— Нет.
Не дошёл. Медленно возвращаюсь домой. Поднимаюсь на четвёртый этаж, открываю дверь, разуваюсь, бросаю взгляд на кухню, и — весь пол залит чем-то чёрным, какой-то мерзкой жижей. Господи, почему ты решил начать всемирный потоп с моей квартиры? Или это нефть? Жижа пребывает, ужас нарастает.
Вызываю аварийку.
Звонок домофона. Спасатели!
Через четверть часа трое спасателей, дружно держась за один трос, спасают моё жилище и три этажа соседей от потопа. А я бегаю вокруг и верещу: «Это не я, честное слово! Оно само!»
Закончив внеочередную уборку, валюсь на диван и включаю телевизор. Выступает Президент. И вдруг он, Президент, произносит моё имя. Он говорит, что страна должна знать своих героев и что мне нужно присвоить звание Героя Труда и Он поздравит меня лично.
Звонок в домофон.
— Кто там?
— Это я, — говорит голос из телевизора.
Стук в дверь.
И тут прозвенел будильник.
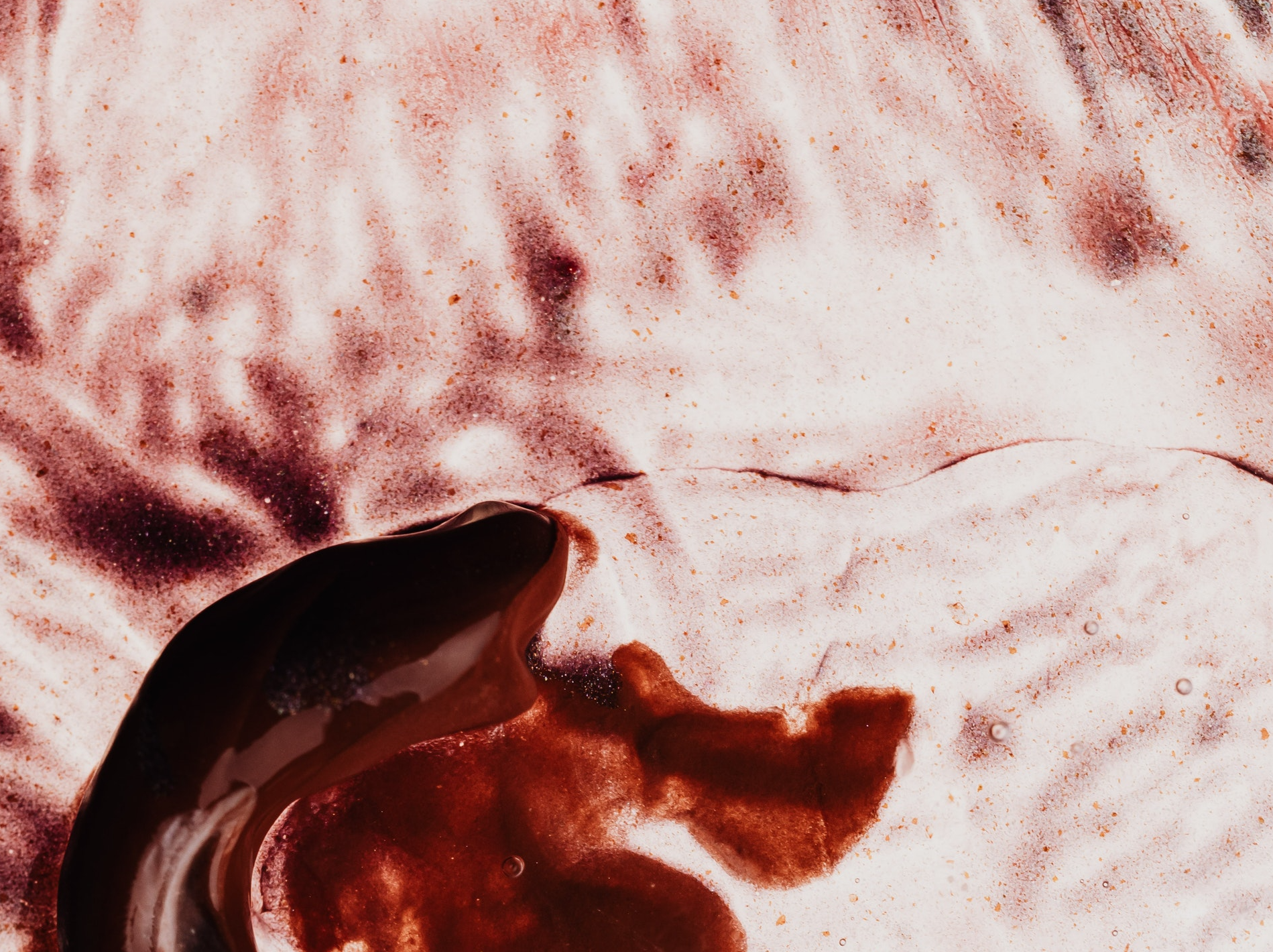
Мина обновляет статус
Мина обновляет статус. «Мой парень — вампир».
Ей говорят, начиталась дешевых романов.
Влад предпочитает готику стилю «ампир»,
Чаще всего похож на наркомана,
Он для Мины словно марихуана:
Сладко, болит голова и рушится мир.
Мине подруги твердят: это все романтика,
Ты придешь в себя после первой ссоры,
Забудешь прогулки и конфетные фантики.
Ее подбрасывает, как на тугих рессорах,
Кажется, раньше на глазах были шоры,
Кажется, будто перелетела Атлантику.
Стала старше и даже втянулась в быт.
Утром шторы должны быть закрыты плотно,
Если выпить крови, то затошнит,
А ему хорошо от куриной, свиной, да чьей угодно.
И его круги под глазами — это так модно,
Крестики не носить — ну тут без обид.
Вечная невеста и ладно, что не жена,
В этом статусе немного почета,
Кровь на сегодня пьет почти вся страна,
Только не отдает себе в этом отчета.
Минус: у них не будет совместных фото.
Плюс: ей не плакать на его похоронах.

Мотылёк
Он же, наверное, думает, что я его не люблю.
Впрочем, я и сама в это не очень верю.
Вы вот любите свои вены или артерии?
И вообще, каковы критерии?
Считается, если я боюсь за него, даже когда сплю?
Помню, когда рожала его, врач орал:
— Давай еще, дура, он же там задыхается!
А потом я ревела в палате, что грудь не брал.
Если все это снится мне до сих пор, это считается?
Лет до шести-семи любить его было легко:
Даже не потому, что славный был, а потому,
Что пока он не выговаривал «р» и на ночь пил молоко,
Его сходство со мной было как-то абстрактно и неглубоко.
А сейчас я в нем именно вижу и презираю себя саму.
Причем себя — не как подростка с прыщами на лбу,
А как невротичку измотанную средних лет.
Я-то, понятно, весь этот самоанализ уже видала в гробу.
Но ведь ему всего только тринадцать, а не сорокет.
Я не умею дружить с ним, я не кул.
Может, когда подрастет, будем вместе пить,
Он меня спросит, долив еще коньяку:
— Мам, а чего тебе не жилось, пока ты была в соку?
Я не найду, что ответить, и буду, пялясь в стакан, тупить.
Но это все в утопическом будущем, а пока
Я на него смотрю и мне кажется, что не мотылек
Вылупится из куколки, а из мотылька
Вылезет что-то еще более хрупкое наверняка,
И этот день перерождения уже недалек.
Он же, наверное, думает, что я не люблю его.
Он ненавидит, когда поправляю на нем пальто.
Он часто плачет на ровном месте, из ничего.
Недорожденное ты мое существо.
Страх за тебя — это любовь или что?

Не зря она рифмуется
не зря она рифмуется вот с этим,
соленым, алым, с этим голым мясом,
с предательским трепещущим желудком.
в тебя не помещается, сквозь кожу
сочится, как вода сквозь пол к соседям,
и кажется, что скоро их затопит.
она распространяется, как пламя:
так я зачем-то полюбила целый
квартал с ДК, больницей и церквями —
буквально просто мимо проходила,
но то, что у меня внутри сидело,
все пожрало, как Робин-Бобин в сказке.
а что там правда было между нами,
и было ли, и что такое правда,
теперь уже не важно. мне остался
квартал с ДК, больницей и церквями,
мое сиротство и мое наследство,
неотчуждаемое, писаное кровью,
той самой, что рифмуется
вот с ней.

Некрокурьер
Мой папа в молодости курьером подрабатывал, носил передачи на тот свет. Нервы на это крепкие нужны, больше года мало кто выдерживает. А папа целых три отмотал, так что его до сих пор помнят, и здесь, и особенно там. Паранормальные способности, папа говорит, у него средние. Например, он восстанавливался долго после ходки, голова болела, судороги. Или когда в более глубокие слои нырял, восприятие искажалось. То черно-белое все, то гнется, как в кривом зеркале, то самого к земле плющит. Но это мелочи. Все-таки работа с людьми в первую очередь, и людьми, откровенно говоря, не вполне живыми. Устраивались к ним девочки из некроинститута, круглые отличницы, и за месяц ломались. А папа ничего, ползком не ползком, но к покойникам возвращался.
Покойники в принципе нормальные, только лысые все и холодные. Ну, не в прямом смысле, а в потустороннем. Словами сложно передать. Они и сами не знают, как лучше объяснить, жалуются, что холодно. Затем и посылки, здешние-то вещи тепленькие. Кого что больше греет: был один дед, он трусы почему-то заказывал кружевные. Ну, фотографии внуков, это понятно. Что при жизни нравилось, фломастеры, монеты, клей, что угодно. Растения многие просят, сырые яйца. И вообще, покойников тянет на живое.
Когда папа работал, одна женщина регулярно выходила на контакт, пыталась кошку заказать. Но приличные службы таким не занимаются. Любой покойник надеется, что его посылка никогда не остынет, такое странное суеверие. Думает: заведу кошку, она живая, будет вечно меня греть. А живая как раз остынет быстрее всего, ей там не место.
Неплохо личные отправления держатся. Мужик один, с глубины, полкаталога перебрал и ничем не мог согреться. Только вскроет посылку, а она уже едва теплая для него. Он и папу матом крыл, и жалобы писал, что товар бракованный. А от людей ему передач не было, видимо, не помнил никто. И вдруг приходит мышь компьютерная в память о совместной игре или типа того. Это даже не друг был, а так. Едва его знал, может, потому и осталось хорошее впечатление. Так мужик об эту мышку чуть не обжегся сначала. Растягивал ее как мог, понемножку грелся, ведь кто еще пришлет. Она у него долго теплилась. Со временем, конечно, все меньше и меньше таких передач. А из каталога вещи вроде греют, но чуть-чуть не хватает, и покойник мерзнет потихоньку и проваливается, и рано или поздно уже никакой курьер к нему не проползет. Это и есть самое тяжелое в работе. Хотя папа ушел по другой причине.
Была там девушка, близко совсем от поверхности, и родные ее помнили, но она никак не могла приспособиться. Холод очень буквально чувствовала, носки просила шерстяные, кофточки, электрогрелку, чай в термосе. Хуже того, она с другими покойниками не могла общаться. Ей казалось, она живая среди мертвых. И папу все хватала в дверях за рукав, забери меня, говорит, я здесь по ошибке. Он уже смотреть на это не мог, ну и забрал. Молодой был, неопытный. Вынырнули они в районе драмтеатра, май, сирень. Она сразу ожила и давай хохотать. А папа чувствует что-то не так. Как будто ноги у него чужие, неприятные. Мысли в голове чужие. Потом он вроде бы закричал, а сам не слышит. Это энергия из него шла на поддержание покойницы: пять минут — пять лет жизни. Слава богу, начальник смены вовремя заметил, вытащил. Но работу папа бросил, совестно ему стало с мертвыми, ведь хоть на час, а теоретически он любого мог оживить. А покойница та все еще на плаву, и, кажется, ее отпустило.

Ночь полирует лёд
Ночь полирует лёд, как праздничную посуду.
Остов кленовый, безлиственная темница
Мечется на снегу, путается в ресницах,
Не разбирая: тот,
этот,
фонарный свет.
Можно хрустеть тенью, не оставляя след.
Можно не о любви, но только о ней и буду.
Сердце алеет в гнезде из пуховика,
Варежку ищет испуганная рука,
Тает снежинка на белом огне запястья.
Заячий хвост ускользает из волчьей пасти,
Дремлет подснежник под боком у ледника.

Орган в Ялте
Бах прорывается в несколько человек,
через крымский вечер, маршрутки,
грязь в словах, лежаки в аренду,
соскакивают иголки на языке,
через разговоры в такси,
через узор на плитке и забытый стыд,
я поворачиваю голову,
через засыпающее сознание,
сын на стуле с огромной спинкой,
через воспоминания
— тебе нравится?
через будущее, которого, к счастью, не случится,
— мне нравится,
через судьбу человека, через окошко кассы,
два взрослых, один детский,
детский бесплатно,
через блестки на платье органистки,
через горящий дом Тарковского,
через взгляд женщины, выражающий время,
через закат, через объятия,
через сон и пробуждение,
Бах остается неподвижен,
мы крутимся вокруг,
выхватывая, скользя,
чувствуя холод,
испытывая радость и счастье,
уходя с концерта,
заботясь о близких,
забывая, вспоминая, успокаиваясь,
оживая.

Под вербой
Дождь усилился. Мы сидим в больничном дворе под большущей вербой, а вокруг нас почти сухой круг изнывающего от пара асфальта. Серый летний ливень молотит по скамейкам, собирает лужи и пузырит потоки вокруг дерева. Здесь что-то вроде шалаша. В нем так уютно, что я забываю все и молчу под шум. Примета из детства — если пузыри большие, значит, дождь ненадолго.
Сквозь мысли я слышу, как он тихонько похрапывает.
— А была еще зима, — заявляет он, проснувшись, потом съёживается и потирает тощие колени. Я достаю из пакета пиджак и укрываю его, снимаю туфлю, растираю искалеченную ступню. Там еще нахожу яблоко, и мы разъедаем его пополам. Разделить у него сразу не получается, дрожь мешает. Отец с завистью смотрит на мои пальцы, которые в две секунды располовинивают фрукт. Капли на листках плачущей вербы зависают на миг и спадают в лужи. Он поворачивает ко мне лысеющую голову, прищуривается. Редко, почти никогда, он так смотрит на меня. Каждый раз мне кажется, что он особенно видит меня, что-то хочет сказать. То, что раньше не успел. Так бывает с человеком, только что очнувшимся от глубокого сна. Я закуриваю, подпираю ладонью щеку.
— Па, расскажи дальше, ты про войну начал…
— Ну, ты пристал — тогда мне ногу миной повредило, потому что я сам по ней ударил. Как я мог не ударить, она такая красивая была, с красной крышечкой, а я у них был главарем. И первый нашел…
— Так ты знал, что это мина?
— Мне восемь или девять было. Лежала в снегу, такая замерзшая… Знал, наверное, но ударил. Помню, как меня кто-то очень долго нёс, а я видел сзади пацанов и сугробы черные… Мамка кричала и кровь мыла мою, бинтовала тряпками…
Он перебирает пальцами и вздыхает.
— Дальше не буду. Когда мы в деревню поедем, а?
— Скоро, па. Наверное, завтра. Дождь кончается, слышишь? Ты что? Не плачь…
Три дня назад ему сделали небольшую операцию, но он об этом не помнит. Закон Рибо — у стариков слабеет короткая память, но они в подробностях помнят события далекого прошлого. Я заступил на дежурство с ним в больнице, сменил младшего брата, насмотревшись очередных российских вестей о разрушениях и жертвах дома, в Луганске.
Со страхом, с беспомощностью и яростью от невозможности прямо сейчас защитить его, укрыть, избавить от будущих страданий, проходили последние дни. Все это уже давно приходилось прятать от отца как не самые нужные мысли для него в это время. О войне подлой, гражданской, о том, как бы я вел себя в ней, на что мог бы быть способен, эти червивые мысли точили и разрушали.
И все-таки, неожиданно для себя, я заговорил об этом с отцом. Почти сразу опомнился и пожалел о просьбе. Но он уже наклонил голову, уперся взглядом в скрещенные пальцы, немного поиграл ими и начал рассказывать:
— Я был самым старшим в нашей ватаге. Из-за этого потом так все и получилось. Бегали мы по селу, искали, чего бы поесть. Могли найти в тех местах, где стояли итальянцы.
— Па, а немцы были? Ты видел немцев в деревне?
— Были солдаты. Нам говорили, что это итальянцы. Таянцы. Они стояли в деревне долго, мне казалось, что они были у нас всегда. Я помню, как мы всей бандой воевали с ними. Целью была, конечно, еда. Остатки с их столов — куски хлеба, забытые миски с тушенкой, печенье, кофе… Все эти богатства я делил поровну среди всех, или их отбирали старшие. Съедали сразу, как только брали в руки. Иногда валялась всякая бытовая мелочь. Помню коробки с чем-то сильно пахнущим, чего мы и названия не знали. Иногда даже очки, бритвы и полотенца. Всё это прятали у трубы с дырками. Из нее ржавая вода текла. Там они умывались, возле леса. Я делил всех пополам. Одни шли кричать в кустах и бросать камни, а потом убегать. Недалеко, дорогами, которые только мы знали. Вторые лежали в кустах возле того места, где таянцы обедали. Ждали, когда все отвлекутся на шум, и можно будет подбежать к столам.
— Па, а они могли стрелять по вам или как-то вас наказать, ну, как детей? Как они реагировали?
— Было… Иногда одиночными стреляли вверх, быстро-быстро чирикали что-то, руками махали. А мы скоро поняли, что это они так развлекают сами себя. Не поймали и не убили никого. Мамки нас пороли за эти войны, пытались помешать нам туда бегать. А пойди угляди! Каждый день добудь еду, свари, а там скотина еще… Да еще без мужика… Папа, дед твой, четыре года с ранением в плену у немца был. А нас семеро. Знаешь, как мы в мае радовались, когда он пришел…
— Вы боялись?
— Потом уже нет…
— Па, давай не пойдем на ужин. Я тебе сам приготовлю. Так тепло здесь. Не знаю ничего о тебе, расскажи…
Мы с ним одни в больничном дворе. Опять начинает накрапывать дождик. Скоро ужин, но мне не хочется возвращаться в отделение с его запахами. Липы сладким ароматом утешают, и от дождевых капель парит асфальт.

Последний клиент
Последний на сегодня клиент жил на самой окраине района. Старая девятиэтажка из тех, где в подъездах воняет мусоропроводом, а стены лифта залеплены жвачкой.
Виктор набрал на домофоне номер квартиры, но замок даже не пискнул. Подъездная дверь была не заперта, и курьер шагнул в сумрак многоэтажки. За стеной женский голос кого-то ругал, с другой стороны гудела музыка — панелька охотно делилась подробностями из жизни своих обитателей.
Виктор заглянул в лифт — местные собаки явно оставили здесь свои автографы. Ладно, на третий этаж можно и по лестнице подняться. Это далось непросто: конец дня, ноги налились тяжестью, плечи намекали, что пора бы скинуть огромный квадратный рюкзак. Отдать заказ — и домой, готовиться к зачёту по анатомии.
Железная дверь под номером 66 ничем не выделялась среди прочих. Звонка не было, и курьер постучал кулаком по гулкому металлу, надеясь, что заказчик будет хотя бы не пьян. Дверь распахнулась, и в темноте квартиры Витя сначала никого не увидел. Курьер замешкался, но принял тишину за приглашение войти.
В тесном коридоре пахло чем-то вроде нафталина. Витя поставил тяжёлую сумку на пол и нагнулся, чтобы достать из неё пакеты с едой. Дверь позади него захлопнулась, и дрожащий старческий голос сказал:
— Руки вверх.
Виктор замер. Медленно повернул голову — у двери стояла маленькая старушка. В руке у неё был пистолет.
Юноша поднял руки. Старушка казалась удивлённой, что её просьбу выполнили. Тонкими пальцами она с трудом удерживала пистолет, но сжатые губы выдавали решимость, и Вите это не понравилось. Возможно, бабка безумна.
Они помолчали. Потом старушка очень вежливо сказала:
— Молодой человек, пожалуйста, поставьте еду на стол.
Курьер достал из сумки несколько бумажных пакетов и отнёс их на крошечную кухню.
Здесь было очень чисто и очень бедно. Клеёнка в цветочек, алоэ в горшке, холодильник «Бирюса» — обычный стариковский быт, одинаковый во все времена.
Хозяйка квартиры наблюдала, как Виктор расставляет пакеты на столе. Пистолет всё это время был направлен куда-то в сторону, будто она совсем про него забыла.
Витя раздумывал, успеет ли он добежать до двери. Выходило, что нет. Только если оглушить чем-нибудь старушку…
— Вас не затруднит распаковать всё это? Очень хочется увидеть, что за яства мне привезли.
Из шуршащих пакетов появились том-ям, жареные креветки, курица с ананасами, чизкейк. Всё, кроме чизкейка, ещё горячее («горячий обед — и голода нет», девиз компании). Бабуля осмотрела блюда и вздохнула:
— Чего только не бывает. Неужели кто-то такое каждый день заказывает?
Виктор покосился на пистолет:
— Простите, а что вы планируете со мной сделать?
Старушка пожала плечами:
— Взять в заложники. Так ведь это называется? Ради выкупа.
Спохватившись, она взмахнула пистолетом в сторону комнаты:
— Да вы не стойте, проходите в комнату. Я пока чайник поставлю.
Так, бабка определённо сумасшедшая, а с ними лучше не спорить. По крайней мере, в первые пять минут. Виктор заглянул в единственную комнатку — на всех стенах висели фотографии. На них хрупкая балерина парила на сцене, то одна, то в руках красавцев-партнёров. Встречались и фото с известными актёрами прошлого. Витя узнал популярный плакат, где балерина взлетала на фоне Эйфелевой башни, и у этой балерины было какое-то знакомое лицо.
Он сделал шаг к большому портрету. С фото смотрела совсем юная девушка с огромными чёрными глазами и мечтательной улыбкой.
Эта же девушка, но на полвека старше, подошла к курьеру и показала рукой на другую стену:
— А вот там я с учениками. Сорок лет в оперном театре отработала.
Виктор разглядел подпись на портрете:
— Вы — Марина Андриевская? Та знаменитая балерина?
Подошедшая старушка смутилась:
— Была когда-то. Сейчас я — старая развалина, которой не на что купить лекарство для своих больных ног.
Опомнившись, захватчица засуетилась:
— Вам ведь, наверное, нужно кому-то позвонить? Сказать, что вы у меня в заложниках? Простите, я никогда раньше не просила выкупа, не знаю, как это правильно делается. В кино все кому-то звонят. Передайте, пожалуйста, что мне нужно двадцать тысяч рублей. Это стоимость лекарств, их прописал врач, вот рецепт. Ой, а сколько стоит вся эта еда? Тысячу восемьсот? Тогда двадцать одну тысячу восемьсот.
Виктор долго смотрел на старенькую балерину, похромавшую в сторону кухни — поставить чайник для своего заложника. Зажигалку в форме пистолета она положила на стол, чтобы опереться на палочку. Витя достал из кармана кошелёк и положил на трюмо дневную выручку — шесть тысяч двести рублей — взял рецепт и вышел из квартиры.
Марина Андриевская ещё долго плакала на своей маленькой кухне.
И том-ям ей не понравился.
***
На следующий день в квартиру 66 постучали. Старушка доковыляла до двери, и в узкий коридор ворвалась толпа первокурсников медуниверситета. С пакетами, полными не диковинной еды, а аптечных лекарств, строго по рецепту. Еда тоже была — фирменный пирог Витиной мамы.
Закипел чайник. Бывшая балерина сидела в кругу молодёжи и внезапно стала очень похожа на свой портрет. Особенно улыбкой.

Рутина
Он и сам чувствует голод.
Терморюкзак наполняется свежей, сытной едой.
Это уже стало привычкой.
Он бодрым шагом идет по заведению, никогда не наступая на линии между плитками.
У кафе по адресу Буковая аллея, дом пятьдесят семь, его ждет ржавый велосипед.
Нужно спешить: его не будут ждать вечность.
На перекрестке он встречает старика Б. и его ослепшего кокер-спаниеля.
Он машет им рукой, почти теряя равновесие из-за ярко-желтого балласта за спиной.
На скамейке у дома номер пятьдесят пять сидят старушки, дружившие с детства.
Как, наверное, приятно иметь в жизни что-то настолько простое, теплое и неизменное.
Он уже давно чувствует себя страшно одиноким.
Девочка во дворе дома номер пятьдесят три качает в коляске младшего брата.
Вверх-вниз, вверх-вниз.
У дома номер пятьдесят один дети по очереди прыгают через скакалку, одну на всех.
Забавно: когда что-то одно, начинаешь больше это ценить.
Из окна дома номер сорок девять выглядывает ветеран, на войне потерявший руку.
Доказательство того, что все на свете можно пережить.
Мимо дома номер сорок семь идет женщина, похоронившая всех своих мужей.
Редкий экземпляр!
В доме номер сорок пять живет замкнутая девушка, коллекционирующая бабочек.
Почему она любит их больше, чем людей?
Во дворе дома номер сорок три за воробьями бегает дворняжка с белым пятном на ухе.
Вот бы снова почувствовать эту свободу, глуповато-наивную любовь к жизни.
Мимо дома номер сорок один едет смеющаяся пара на маленьком голубом мопеде.
С таким помощником было бы легче переносить рутину.
Перед домом номер тридцать девять стоит курносая девушка с зелеными волосами.
Интересно, каково это — быть в кого-то влюбленным?
У новобрачной из дома номер тридцать семь в кошельке шесть одинаковых фото мужа.
Рационально иметь несколько копий.
Мимо дома номер тридцать пять замученная мать ведет за руку орущую тройню.
Иногда счастье оказывается не там, где ты его искал.
В доме номер тридцать три живет альпинист, потерявший память в горах.
В каждой, даже самой маленькой жизни есть моменты, меняющие ее навсегда.
Житель дома номер тридцать один часто вспоминает, как убил мать ради наследства.
Почему одна человеческая жизнь оказывается ценнее другой?
В доме номер двадцать девять живет девочка, поглотившая своего близнеца в утробе.
Ее мать никогда не расскажет ей о том, что плачет из-за этого каждую ночь.
В доме номер двадцать семь живет девушка, решившая не съезжать от родителей.
Иногда приходится пожертвовать своим счастьем ради других.
В доме номер двадцать пять женщина не заводит кошек: у ее любовника аллергия.
Когда он уйдет, она будет жить так, как захочет. Но сейчас нужно потерпеть.
Во дворе дома номер двадцать три девушка ведет на прогулку своего отца-инвалида.
Иногда жизнь настолько похожа на смерть, что и не отличить.
В доме номер двадцать один парень уже два года планирует самоубийство.
Он понимает: желания недостаточно, когда не хватает смелости.
В частном доме номер девятнадцать кроха-щенок пытается лаять на прохожих.
Но пока получается только тоненько, жалобно скулить.
В доме номер семнадцать старушка решила брать уроки оперного вокала.
Всегда нужно использовать шанс, даже если он последний.
У дома номер пятнадцать сидит женщина: она сделала аборт и никому об этом сказала.
Некоторым секретам лучше оставаться запертыми в резной шкатулке на антресолях.
Под домом номер тринадцать закопаны старые кости неизвестного происхождения.
Интересно, откуда они и и чьи? Пытались ли их когда-нибудь найти?
В доме номер одиннадцать живут котята, которых выбросили на мороз умирать.
Даже если кажется, что ты лишний, всегда найдется тот, кому ты нужен.
В доме номер девять склад мебели, посуды и книг, найденных у мусорных баков.
Зачем до краев заполнять свою жизнь, если ничего из этого тебе не нужно?
Во дворе дома номер семь живет многодетная семья. Отец каждый день их бьет.
Справедливость исчезает в тот момент, когда один человек решает промолчать.
В доме номер пять живет старушка, которая тридцать лет провела в ссылке в Сибири.
Думаешь: хорошо, что с кем-то другим, а не со мной.
Во доме номер три кто-то умер. Мужчина в черном открывает рот, но крик не выходит.
Хочется протянуть руку, но иногда не знаешь, как.
Он думает: все на свете странным образом переплетено.
Он бежит по лестнице дома номер один.
Жалобно скрипит дверь квартиры на пятом этаже.
Снова без чаевых.
Теперь прочитайте текст снизу вверх, построчно.

Станет страхам холодно
Я не дышу. По моим голым рукам стекают капли дождя и талого снега. Издали, сквозь гул городской суеты, до меня доносится мартовский клекот птиц, без устали сообщающий всем вокруг, что весна уже наступила. Ковыряя края обледенелой лавки, я пытаюсь понять, что происходит, но мысли, словно толстый ледяной жгут сдавливают мое горло.
— Папа, мне страшно было знаешь, как? Я совсем не дышала. Я все это время стояла в шкафу за твоим пальто и не шевелилась. Я думала, вы ушли все, а меня забыли. И кто-то выл и скреб под кроватью. Пап. — Я, шестилетняя, размазывая слезы по щекам, обнимаю вернувшегося со станции отца. Рано утром, пока я спала, он уехал провожать маму с сестрой. Отец берет меня на руки и кружит.
— Здравствуй, милая Кусяка! Целовать тебя пришел! И мороженку нашел!
Он сажает меня на холодильник и протягивает эскимо:
— Когда страшно, надо есть мороженое.
— А почему, пап?
— Потому что страхам станет холодно, и они убегут. А тебе станет сладко!
Я иду по тротуару, дождь неожиданно передумал и вновь стал снегом. Огромными хлопьями он оседает на упаковку памперсов для взрослых, что я сжимаю под мышкой.
Иногда снежинки падают мне на мороженое и становятся сливочными на вкус. Я подхожу к проходной 57-ой городской больницы. Вытираю руки о футболку. Впервые мороженое не сработало. Страхи не замерзли. Впрочем, и я тоже.
— Дерется наш пациент. Хоть и парализован, а вон рукой как машет. И все уйти пытается. Идет на поправку! — Веселая пышногрудая санитарка ловко поправляет подушки. — Смотри, Николай Николаевич, дочь пришла.
Я сажусь к отцу. Он пытается что-то сказать, кривит рот, словно рыба в аквариуме, я глажу его по руке, которая чувствует.
— Мама приехать не может. Работает.
Папина рука сжимается в кулак, огромный, когда-то сильный. Отец осунулся после реанимации, карие глаза поблекли и ввалились, тонкие губы плотно сжаты и чуть перекошены от инсульта. Темные волосы засалились и неопрятно торчат в разные стороны. Я пытаюсь пригладить их расческой, но отец недовольно дергает головой. У него сильно отросла щетина, и я достаю его дорожный набор с бритвой.
— Пап, ты потерпи, я брить не умею, но буду стараться. Ты только головой не крути.
Мои ладони вспотели, я стараюсь как можно аккуратнее проводить станком. Но щетина слишком длинная, и я постоянно дергаю волоски.
— …ммымы ять!!! — Отец машет на меня рабочей рукой. — …Ятьять!!
Я отхожу чуть в сторону.
— Пап, пожалуйста, пап.
На пол летит миска с прикроватной тумбочки. Неуклюже сжимая станок вывернутой пятерней, отец начинает водить им по лицу. Режется. Но продолжает бритье. Сам.
— Пап, а если бы на тебя три человека напали, ты бы победил?
— Победил.
— А если четыре?
— Победил бы.
— И десять?
— И десять.
— А что надо делать, чтобы победить?
— Смотреть в лицо врагам и обстоятельствам. И бить первым.
Меня окружили. Сквозь пелену слез я не понимаю, что мне говорят. Силуэты важно размахивают руками и до меня долетают лишь обрывки: внутрибольничная пневмония, трахеостома, уростома, гастростома, полная парализация, повторный обширный инсульт, ИВЛ…
— Три трубки? Три трубки? Три трубки? — Последние слова я кричу. Кричу на врача, на медсестер, на Бога.
— Все же было хорошо, он вставал. Все же было хорошо. Бог, все же было хорошо?
Меня выводят из ОРИТа и суют что-то в нос. Я оседаю на пол. Я не могу бить первой.
— Не плачь, деточка. В хороший день он ушел. Такой праздник. Такой праздник. Отстрадал свое. Сегодня Усекновение главы Иоанна. В хороший день Бог его принял. Значит, прощено ему все. В раю он. В раю.
— Пап, а ад есть?
— Есть.
— А рай?
— И рай есть.
— А я в рай попаду, пап?
— Так мы уже. Чем тебе не рай. Ты да я. Картошку перебираем. По мне так самый рай.
— Пап, а ты в Бога веришь?
— Ну… я к нему больше с уважением.
— Закрываем. Будет еще кто прощаться?
Я тихонько кладу картофелину в гроб. Наклоняюсь к отцу и шепчу: «Если ты в раю. То я рядом».

Хивинский платок
Меня зовут Улугбек. Что означает — «властитель», «господин». Отец назвал меня так, желая наделить судьбой великого, сильного бека. Мне двадцать два, и я все еще не оправдал его ожиданий. Два года назад мать сказала: «Пора!» — и отправила в Москву к старшему брату. Я должен был работать и зарабатывать.
Когда рейс Ургенч — Москва прибыл в Домодедово, я взвалил на себя тяжелую черную сумку, сел в Аэроэкспресс и поехал в город. Брат четко расписал мне маршрут, сам встретить не смог, работал. Я ехал, глядя в окно, изредка поглядывая на людей, они были одеты по-другому, а я почему-то стыдился себя. Хотя мама дала мне лучшие одежды и отец с утра начистил ботинки. Я задвинул ноги назад, под скамью, чтобы не было видно ослепительного блеска старых папиных ботинок. Все было новым, чужим и пахло иначе. Я знал, что меня ждет новая жизнь, но не знал — какая. Знал только, что жизнь точно поменяется. И я, наверное, тоже.
Когда сел в метро, сверяясь с инструкциями брата, подошел к схеме, первое, что увидел, был — паук. Большой, огромный паук с тугим коричневым телом и множеством разноцветных щупалец. Я растерялся, пытаясь отыскать нужный мне цвет. Почудилось, что щупальца двигаются, извиваясь угрожающе. Я испугался на мгновение, замер перед этой картой, а женщина, что сидела, вдруг резко толкнула меня в живот и закричала, что «понаехали, житья от них нет, одни чурки кругом». Я страшно испугался, сказал «прости, ханум» и отошел назад.
Когда наконец вышел на нужной мне станции, увидел торговый центр, рядом было много наших, которые торговали шаурмой, сигаретами, кукурузой — мне стало спокойнее. Значит — можно жить.
Теперь я — курьер. Это хорошая, нужная работа. Я езжу на велосипеде с большим ящиком за спиной, в зеленой форменной одежде. Целый день доставляю еду.
Я катался по городу, рассматривая дома и людей, привыкал понемногу. В какой-то момент понял, что город не замечает меня. Он не был жесток. Он был — равнодушен. Я пытался освоить пространство. Чтобы оно стало моим. Я — взаправдашний, я — всамделишный, я — настоящий. Так твердил себе, накручивая педали.
Думал о доме. О том, как просыпается сестренка, как мать накрывает на стол — от этих мыслей становилось теплее и легче. Запахи пустыни вспоминал. Отца видел. Как стоит на ветру, завернувшись в стеганый темно-синий халат и, улыбаясь, предлагает туристам свой товар. А сестренка крутится рядом, прикладывает смуглыми пальчиками серьги пожилым японкам. И беззастенчиво счастливо врет: «Вам так идет!» А они — верят. Или — делают вид, что верят. И покупают эти копеечные сережки.
Цвет города — серый. Здесь все стараются одеваться в темное, чтобы не выделяться, не стать ярким пятном в повседневности. И привычные для меня пестрые, яркие, веселые одежды — не приняты, они выдают простоту и слабость, открытость и доступность миру.
А отец все накидывает платки на плечи. Женщины смеются счастливо, кутаясь в теплый хлопок. Отец улыбается, дарит им защиту. От холода, ветра, взглядов. Они на каком-то животном уровне чувствуют это. Заворачиваются и уже — не могут снять, так эта теплота завораживает.
Платки разлетаются по свету, как птицы.
Я ездил по улицам, которые превратились теперь для меня в одну бесконечную дорогу. И уже не понимал, кто я. Что я теперь такое? Что стало со мною прежним? Заднее колесо время от времени вихляло «восьмеркой», и по вечерам я в очередной раз подтягивал спицы. Вспоминал небо с плывущими облаками, легкие невесомые шары саксаула, чувствовал запах верблюда и думал: зачем я? Мне казалось, что я — не существую, что это Аллах просто видит меня во сне.
Иногда мы с братом ходили в мечеть. Голос имама рождался из воздуха, уходил в вечность. Бесконечная вязь звуков, отражающихся от неба. Люди погружались в молчание, и оно становилось общим, словно единая душа. Мягкое окатывание букв, неожиданная точка в конце, как обрыв. Плавное качание в звуках, купание в гласных. Одурманивание, окутывание, погружение. Такое же бесконечное, как пустыня.
После молитвы все выходят, будто умытые, чистые, словно прозрачные. И краски ослепляют, синева неба, мерцание солнца в окнах — видишь эту красоту и понимаешь мудрость Аллаха. Милость даровавшего узреть этот мир.
Я смотрю в лицо пустыне, она больно гладит меня брошенной горстью песчинок. Знаю, что когда меня не будет — растворюсь здесь, в этом безмолвии и тишине. Исчезну в мягком текучем песке, чтобы потом караван верблюдов тяжело ступал по мне, канувшему в вечности песка и времени.
Я вдруг вспомнил, как отец приносил мне черепашку из пустыни. Я гладил шершавый панцирь, так гармонично поделенный на сегменты, брал краски и раскрашивал скучную поверхность в яркие веселые цвета. Она становилась таким маленьким кусочком радости, когда медленно ползала по двору. Совсем как разноцветные хивинские платки.
А потом я умер. Меня сбила машина. Не удержался на повороте. Колесо все-таки подвело.
Мама подошла ко мне, сняла с головы платок, молча накрыла мое лицо. И я снова увидел разноцветное небо родной Хивы, почувствовал запах пустыни и засмеялся.

«Зачем им это?»
Я отступился от жизни с ее звонким, шумным течением, с ее ночными огнями набережных, с весенними дождями и осенними туманами, бессмысленными приятными разговорами и дружескими посиделками за полночь, много лет назад, когда, как мне казалось, я вступил в некое тайное сообщество по избавлению людей от страданий, то есть поступил в медицинский. Тогда же я начал измерять время в прочитанных страницах: на книгу в тысячу страниц, вроде фундаментального труда старины Карла Ясперса, уходило примерно недели три: путь до дома занимал страниц пятьдесят, за торопливым холодным обедом в ординаторской или столовке я успевал проглотить страниц десять (в качестве основного блюда, конечно). Я недосыпал, недоедал, не доживал — на эти человеческие слабости времени не было. Наконец, спустя положенный срок, остались позади и семинары, и лекции, дополнительные курсы и изматывающие часы больничной практики, и вот я — сижу среди таких же невыспавшихся и взъерошенных студентов (точь-в-точь воробьи зимой), воодушевленных будущими победами. Мы только что закончили ординатуру по специальности «Психотерапия» и изнывали от желания излечить столько раковых больных, сколько позволят двадцать четыре часа в сутках и семь дней в неделе. Новые методы лечения и доказанная связь болезни с психикой позволяли сказать «встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Мы были настроены (крайне решительно и непримиримо) помочь всем.
— Зачем им это? — раздался усталый скрипучий голос. Голос этот принадлежал одному из наших докторов, читавших лекции по курсу «Практика и техника группового психоанализа», молчаливому, вечно худому, желчному мужчине лет пятидесяти с глубокими горькими складками на лбу. Во рту он держал кривую сигаретку и делал неторопливые затяжки.
Мы удивленно забормотали что-то про желание жить, выздороветь. Я совершенно не понял вопроса. Как это «зачем им»? Какой-то вопрос бессмысленный. Идиотский. Не может такой прийти в голову больного раком человека, умирать не хочет никто.
Доктор выпустил сизое облако дыма и уставился на нас каким-то обреченным взглядом:
— Жить-то хотят, конечно, а вот напрягаться для этого — нет. И, как показывает практика, виноват будешь ты, ты и ты, потому что нет у тебя в кармане халата волшебной таблеточки, которую «ам» — и здоров. Так, без всяких лишних усилий.
Он махнул рукой, поморщился и продолжил в наступившей тишине:
— Мне когда-то давно-давно мой наставник, царствие ему небесное, рассказал смешную историю. На всю жизнь в башку въелась. До сих пор смешно. Царь наш один, или дворянин какой, может, не помню уже, да и неважно это, вернулся из поездки заграничной, удивленный тамошним чистым деревенькам, и по приезде на Родину решил и у себя местных крепостных осчастливить — чем они хуже европейских, чтоб почувствовали мужики местные, что такое жить хорошо и красиво. Отгрохал деревушку, домики все теплые, ладные, один к одному, загнал туда своих мужиков с женами и детьми — живите на здоровье, ради бога, а через какое-то время приехал, и что вы думаете? Эти мужики землянки понарыли рядом с хоромами и живут там, а дома вроде отхожего места у них. Жить-то по-человечески… это… страшно. И трудно. Тут таблетку сожрать мало.
Мы все тогда притихли, и отчего-то вдруг стало тоскливо.
— Ладно, господа хорошие, — сказал он, вынув недокуренную сигарету и яростно растерев ее о край жестяной пепельницы, — домой пора, жена ждет. А я тут, с вами…
Он накинул куцее пальтишко, засунул руки в карманы и, сгорбленный, чуть покачиваясь, вышел в дождливый серый вечер.
Впервые за последние годы я не читал по дороге домой. А наутро началась новая жизнь.
Каждый день по расписанию они являлись ко мне, бледные испуганные людские тени, садились напротив меня по другую сторону стола. Для меня теперь время измерялось косыми солнечными лучами, которые ползали по стенам моего кабинета из левого угла утром и до потолка — к вечеру, количеством новых лиц (впрочем, чем-то они все были неуловимо похожи) и историй болезни.
Я хорошо помню первого пациента. Я со счастливой обнадеживающей улыбкой объявил ему:
— Я могу вылечить вас.
Глаза его радостно загорелись, мы великолепно прошли первый сеанс, вскрывая больные нарывы, давая волю чувствам, слезам и гневу, придавая его болезни лицо и облик, цвет и запах, обсудили тактику лечения и домашнее задание, благодаря которому предполагалось постепенное преображение, книги для чтения и время следующего сеанса. Сеанса, на котором я представлял себе этого пациента уже немного другим, на шаг ближе к здоровью и на шаг дальше от пагубной привычки к страданию. Окрыленный и немного даже гордый собой, я записал его в свою книжечку через неделю на то же самое время. Но сидя в пустом кабинете на следующей неделе и разглядывая, как косые солнечные лучи начинают свой путь по стене, я с ужасом осознал, что больше его не увижу.
Потом, спустя полгода этих первых сеансов и всего лишь пары-другой пациентов, которые вернулись на второй сеанс и взялись за себя, я изменил тактику.
— Я не могу вылечить вас, — вздыхал я, — но вы можете вылечить себя сами.
Это не нравилось почти никому. Они морщились, отводили глаза, и весь их вид говорил о том, что я обманщик и лгун. Как это сами себя?! Где же таблетка?! «Я думал, вы поможете…»
Так они и живут без всякой надежды, в ожидании, когда смерть освободит их. Освободит их, сияющих, счастливых, полных планов и надежд, освободит их влюбленных и любимых, не завидующих, — таких, какими они никогда не станут. Потому что у моей таблетки есть только одно название — «человек, помоги себе сам». Так и живу я, без всякой надежды, в ожидании… В ожидании чего?
И в один дождливый весенний вечер я, почти весь седой и пропахший дымом бесчисленных, торопливо и жадно выкуренных сигарет, обнаружил себя сидящим в дальнем углу ординаторской на вечере выпускников. Они все похожи на стайку воробышков, такие же взъерошенные и славные. А я курю и смотрю в их восторженные, полные желания служить людям лица. И тогда вдруг срывается с моих губ, оставляя привкус горечи:
— Зачем им это?
А затем я вспоминаю, что у меня, вообще-то, есть жена, что она ждет меня, и я торопливо одеваю свое куцее пальтишко, прячу руки в карманы и, сгорбленный, чуть пошатываясь, выхожу в безнадежный весенний дождь.

Благими намерениями
«Благими намерениями устлана дорога в ад»
Самюэль Джонсон
Отдышавшись после подъема на второй этаж, Нонна Ефимовна отперла дверь и вошла в прихожую своей квартиры. Ступила на что-то скользкое. Начала терять равновесие. Руки хватались за воздух. Ноги непослушно разъезжались. Грузное тело обрушилось на паркетный пол. В уходящем сознании мелькали плинтусы, потолок, рассыпанные на полу жемчужины и кадры ее семидесятипятилетней жизни.
Очнулась Нонна Ефимовна в палате. После операции бедро ныло, от наркоза мутило.
— Как же вы напугали меня, мамочка! — Из небытия всплыло лицо Верочки.
— Шурик где? — сухо спросила Нонна Ефимовна.
— В командировке же! Звонил, но я не сказала ему, чтобы не нервничал.
— Прилетит, сама расскажу, как ты бусы рассыпала, чтобы убить меня!
— Вы про эти бусы? — дотрагиваясь до жемчуга на шее, спросила Верочка.
В комнату вошла медсестра с капельницей.
— Какая приятная у вас дочка! — восхитилась медсестра, когда Верочка ушла.
— Не дочка она мне вовсе, — отвернулась к окну Нонна Ефимовна.
Весь день она вспоминала то, как допустила Верочку в их безоблачную с Шуриком жизнь. Вспомнила, как привел ее впервые знакомиться. Как перемыла она посуду после ужина. Всплакнула, рассказав о сиротском детстве. Обняла со словами «мамочка». Сердце Нонны Ефимовны растаяло, Шурик сиял от счастья — две любимые женщины его жизни приняли друг друга.
Метаморфозы начались сразу после свадьбы. Ее послушный мальчик, вот уже тридцать лет ничем не расстраивавший маму, теперь во всем слушался только Верочку. Сначала сменил купленные ею костюмы на майки и джинсы. Очки на линзы, гладкий подбородок — на легкую небритость.
— Как можно ходить на работу в таком виде? — возмутилась Нонна Ефимовна.
— Сейчас все так ходят, мамочка. Этот стиль называется кэ-эжуал, — встряла Верочка.
— Я эти костюмы из-под полы в чековом покупала, — защищалась Нонна Ефимовна.
— Они устарели еще в прошлом веке! — аргументировала Верочка.
Шурик вздыхал и беспомощно раздражал своим безмолвием маму.
Через месяц он робко заявил, что уходит с работы, получив более выгодное предложение.
— Бросить НИИ ради телефонной компании?! — возмутилась Нонна Ефимовна.
— Этому НИИ наши светлые мозги не по карману! — вновь отвечала Верочка за Шурика. — Нам в «Мотороле» место главного программиста предложили! Правда, котик? — улыбалась она Шурику, нежно теребя его за мочку уха.
Нонна Ефимовна нервничала, но молчала.
«Что за манера влезать в разговор, и как Шурик позволяет ей ковыряться у себя в ухе?» — Нонна Ефимовна ворочалась в постели, мучаясь от бессонницы.
Открытая война началась, когда вегетарианка Верочка посягнула на святое — стряпню Нонны Ефимовны, в чем она была очень сильна, по мнению сына.
— Есть мясо вредно! Давление, одышка, лишний вес — все от этой мертвечины!
С детства дородную Нонну Ефимовну задевало любое упоминание о весе. Было обидно, что Шурику нравятся тощие. Еще обиднее, что Верочка все время ела и не толстела.
— Шурик, попробуй равиоли со шпинатом! — не унималась Верочка.
— Шурик тебе не козел, травкой питаться! — Нонна Ефимовна громко поставила перед смиренным сыном тарелку с пельменями.
К великому удовлетворению мамы, Шурик на вегетарианство не повелся. Но сказал робко, что они с Верочкой подумывают о свадебном путешествии. Вдвоем. Нонну Ефимовну это неприятно кольнуло. Всю жизнь они с Шуриком везде и во всем вместе, а теперь вдруг «вдвоем»! А вдруг там она в этом путешествии вегетарианцем его сделает и вдруг еще что, чего она даже пока и знать не может?! Нонна Ефимовна понимала — Шурик определенно в опасности. И кто же еще, если не она, должна его спасти?
— Колдует, чертовка! — глядя в кофейную чашку, подтвердила соседка Римма. — Поит чем-то она твоего Шурика! Ох, поит!
Сердце Нонны Ефимовны учащенно забилось.
— Ох, прячет где-то она свое зелье. Ты в вещах ее посмотри, Ефимна! Спасать надо мальчика! Кто еще это сделает, если не ты?
Оставшись дома одна, Нонна Ефимовна решила обыскать спальню детей. Зелья нигде не нашла, но в комоде обнаружила неприличное нижнее белье, все думала, куда в таких веревках ходят. А еще какой-то непонятный маленький массажер с лампочками. Она крутила все это в руках, а потом вдруг поняла с ужасом.
— Бедный мальчик…
Раздался звук открывающейся двери.
Нонна Ефимовна засуетилась, наспех засунула все обратно, закрыла комод. Не зная, что делать, спряталась за портьеру.
В спальню вошли.
— В Та-и-ланд! — говорила Верочка.
— Но в Питере столько музеев, — предлагал Шурик.
— А в Таиланде столько клубов! — не унималась она.
Что-то мягко упало на кровать.
— А вдруг мама… — шептал Шурик.
— Мы одни, я проверила! — мурлыкала Верочка.
Комната наполнилась громкими сладострастными звуками. На лбу Нонны Ефимовны выступила испарина. Упершись задом в подоконник и носом в портьеру, она старалась не дышать. Сердце билось в унисон ритмичным скрипам кровати.
Воспоминания прервал вошедший в палату врач. Он осмотрел Нонну Ефимовну, задал вопросы, сделал записи.
— При выписке отдам вам вашу анкету. Нужно будет через месяц вновь мне показаться, пусть при вас будет это медицинское досье, — сказал он и ушел.
А слово «досье» откупорило в памяти Нонны Ефимовны крамольную деталь. Сосед Егорыч, милиционер на пенсии, по ее просьбе целый месяц ходил по пятам, собирая секретную информацию. И вот вчера, когда Шурик улетел в командировку, а Егорыч принес целое досье на Верочку, Нонна Ефимовна решила разобраться с мерзавкой.
— Вот! — помахала она папкой. — Вся твоя подноготная!
Верочка словно не слышала, закидывая зеленые равиоли в кипящую воду.
— Аферистка! Мошенница! Девка распутная!
— Извините? — Она наконец повернулась.
— Я знаю про твои эти постыдные штучки! Развратница!
— Вы что, роетесь в наших с Шуриком вещах?!
— Не позволю растлевать бедного мальчи…
— Александр взрослый мужчина, — оборвала ее Верочка. — Хватит уже кормить его своей грудью!
— Что?! — чуть не захлебнулась от возмущения Нонна Ефимовна. — А ну… а ну, пошла вон отсюда!
— Я, мамочка, прописана здесь, по месту жительства своего мужа! — парировала она.
— Ко… Когда ты успела? — растерялась Нонна Ефимовна.
— Пока вы шарили по нашим шкафам, — ответила Верочка.
— Ну ничего, Шурик приедет, и я расскажу ему, что никакая ты не сирота! И про родню твою непутевую, и про работу твою стриптизную, где ты до встречи с ним задом своим постыдным виляла!…
— Ага, вы ему еще про папу его рассказать не забудьте! Будет интересно узнать, почему Шурик родился аж через два года после вашего развода!
Нонна Ефимовна остолбенела, потом кинулась на Верочку.
Они дрались шумно, по-бабьи, шлепая друг друга по лицу, таская за волосы, визжа и обзываясь.
Шурик вернулся как раз к выписке Нонны Ефимовны. Сам забрал маму из больницы. Сокрушался, что не был рядом. Верочка накрыла стол в гостиной, обставленной новой мебелью. Она была милой и предупредительной. «Боится», — подумала Нонна Ефимовна.
После ужина мать с сыном остались за столом одни.
— Я получил повышение, мамочка, и сразу решил купить тебе подарок.
«Вот, — радовалась Нонна Ефимовна, — не зря говорят: жен может быть сколько угодно, а мать у человека одна!»
— Мы с Верочкой купили тебе квартиру, — прервал счастливые мысли матери Шурик.
Лицо Нонны Ефимовны вытянулось.
— Зачем это?
— Ну, подумал, так удобнее. Мы допоздна смотрим телевизор, тебе мешаем. Да и две хозяйки в одном доме…
— Она тебя надоумила?!
Шурик испугался, но не сдался. Слезы измученной жены, что мама рассыпала бусы, упала и теперь во всем обвиняет Верочку, придавали ему сил.
— Так будет лучше.
— Лучше, значит? Сейчас…
Нонна Ефимовна тяжело встала и поковыляла к себе за досье. Распахнув дверь, она ахнула — посреди ее пустой комнаты стояла коробка с детской кроваткой.
— Бабушкой скоро тебя сделаем! — сиял Шурик. — Ну, пойдем, мамочка, покажу тебе твою новую квартиру.
Квартира напротив, которую соседи годами не могли продать, была обставлена старой мебелью Нонны Ефимовны.
— Верочка все подготовила к твоему возвращению, — гордился Шурик.
— Как же я здесь одна? — сдерживая слезы, сказала Нонна Ефимовна.
— Почему одна? Мы ж рядом. Напротив.
Всю ночь Нонна Ефимовна прорыдала, коря судьбу, бога и окаянную разлучницу Верочку. А на следующий день к ней пришли Римма и Егорыч. Соседка:
— А вдруг не его это ребенок? Анализ на отцовство потребуй! Иначе век тебе чужой приплод воспитывать!
— Шурик твой бесхребетный, ребенок родится — совсем подкаблучным станет! — отрезал Егорыч.
— Охомутала парня, чертовка! Они в этом стриптизе ушлые, знают, как чужую жилплощадь на себя переписывать, — без умолку возмущалась Римма.
Следующую ночь Нонна Ефимовна строила планы возмездия. Уверенная, что Шурик не способен на Вериного ребенка, она решила окончательно и бесповоротно взять ситуацию в свои руки. Утром позвонила Римме. Та, не задавая лишних вопросов, нашла и принесла крысиный яд.
Когда Шурик и Верочка ушли из дома, Нонна Ефимовна сделала раствор, нашла в старой сумке запасной ключ, зашла в свою квартиру и сразу направилась на кухню.
Из холодильника достала пакет с сырыми равиоли. Положила их, как человеческий орган, на стол. Вынула из кармана шприц. Как хирург, аккуратно, прямо через целлофановую упаковку вколола яд в кусочки теста, начиненные шпинатом. Положила пакет обратно и вернулась к себе. Сердце ее колотилось, но душа ликовала.
Вечер близился к ночи. Нонна Ефимовна ждала. Прислушивалась к шорохам. Часто смотрела в глазок двери. Вздрогнула, услышав сирену скорой помощи. Она приоткрыла дверь. Двое врачей забежали в ее квартиру напротив. Через минуту еще двое с носилками. В сильном волнении вышла она на лестничную клетку. Хотелось взглянуть на побежденную мерзавку, но сердце вновь бешено стучало.
Появились врачи, затем двое с носилками.
Они пронесли мимо нее мертвенно-серого Шурика.
Нонна Ефимовна оцепенела.
Через минуту в дверях появилась бледная, но живая Верочка.
— Но, Шурик мой, он же не ест равиоли… — прохрипела Нонна Ефимовна, ноги ее подкашивались.
— Вчера решил отказаться от мяса… — машинально ответила Верочка, а потом, медленно осознав слова свекрови, залилась багровым цветом. — Ты-ы-ы?!
Нонна Ефимовна отступила назад. Нога соскользнула со ступеньки. Потеряв равновесие, она покатилась вниз по лестнице. В уходящем сознании мелькали перила, ступеньки и кадры ее семидесятипятилетней жизни.

Дети, кухня, церковь
Этот субботний день начался у Лены, как всегда, с блинов. Илья помощи матери уже предпочитал подростковые игры на телефоне, а вот четырехлетний Антон с удовольствием готовил тесто и помогал снимать блины со сковородки.
— Антошка, иди зови папу завтракать, — и сын быстро побежал на балкон, где Саша уже вторые выходные пытался собрать гимнастический уголок.
Есть не хотелось, но Лена заставила себя проглотить три блина и выпить кружку какао.
— Значит, так: ужин — курица, винегрет и пюре — в холодильнике, в морозильнике — замороженные обеды и ужины, должно хватить дней на десять, потом закупитесь сосисками, пиццу закажете.
— Если надо будет, разберемся!
Сашин голос даже после шестнадцати лет брака звучал уверенно и твердо. И Лене вдруг захотелось остаться дома, сидеть на диване в обнимку, пить чай и смотреть какой-нибудь скандинавский сериал, полностью отдавшись поиску серийного убийцы.
— Вот и хорошо. Я — краситься и одеваться.
В ванной Лена посмотрело в зеркало и натянуто улыбнулась. Она быстро накрасила ресницы, подвела брови и припудрилась. Затем сняла часы, браслет и сережки, аккуратно сложила все в шкафчик.
На кровати лежала приготовленная с утра одежда. Лена надела двое трусов, натянула красные брюки, белую блузку, положила в карман старый кнопочный телефон.
— Так нормально? — уже стоя в коридоре, спросила она Сашу.
— Очень даже!
— Я готова, — сказала Лена, завязывая шнурки на кроссовках. — Илья, Антон, целоваться и прощаться не будем, слушайтесь папу, он скоро приедет, а я — попозже! — Она попыталась перекричать телевизор.
— Пока, мам!
В машине никто не хотел заговаривать первым, и Лена смотрела на полупустые городские улицы и пыталась придумать тему для короткого разговора.
— В общем…
— Ленк, правда, не надо. Звони мне в любом случае, ну и когда закончится все, тоже звони — я сразу же приеду.
— Я те-бя люб-лю, Саш-ка, — разбивая фразу на слоги, произнесла Лена.
— И я тебя, заяц! Удачи и — ни пуха ни пера!
— К черту!
Лена вздохнула с облегчением, когда на другой стороне площади увидела людей. Она быстро спустилась в переход и подошла к ларьку с цветами. В серых пластмассовых вазах на цементном полу стояли синие анатомические ирисы, оранжевые, в леопардовую крапинку лилии, строгие желтые розы и множество других сиренево-фиолетовых цветов.
— Из красно-белых осталась только орхидея, — раздался прокуренный голос продавщицы. — Пятьдесят рублей.
Лена стала быстро перебирать глазами цветы в ларьке, пытаясь найти хоть что-то подходящее и не такое дорогое.
— Ладно уж, бери за двадцать, по себестоимости. Может, и измените что-нибудь, а то достало уже!
Лена положила двадцать рублей на блюдечко, взяла орхидею, сказала «спасибо» и пошла наверх.
Наверху, в неровной линии, огибавшей клумбы, газоны и скамейки, стояли женщины и девушки. Совсем юные, с рюкзаками за плечами, молодые, в брендовой одежде, постарше, ухоженные, и красивые пожилые. Все одеты в красно-белое, с такими же хризантемами, гвоздиками, розами. За их спинами уверенно поднимался Красный костёл.
Лена, словно одиночный квадратик из тетриса, органично вошла в живую линию и стала одной из матерей, жен, дочерей, сестер, бабушек. Она не знала, что делать с орхидеей в горшке и просто поставила ее перед собой на площадь. Девушка с кудрявыми волосами опустилась перед цветком на колени и повязала на ствол красную ленту.
Оркестр из разных голосов и фраз закружил Лену.
— Может, школу поменяем. Но не очень хочется его дергать — все-таки десятый класс…
— Пенсию вчера всю с карточки сняла. Купила пятьдесят долларов, остальное — на жизнь…
— Я к нему на пары не хожу. Не знаю, как зачет сдавать буду…
— А эту слышала? Отбить парня — это не стыдно, это почетно!..
— Я из Ганцевич приехала, на электричке. У тетки остановилась, сказала, что по магазинам…
И тут грянуло «Жыве Беларусь!», и все подхватили:
— Жы-ве Бе-ла-русь! Жы-ве Бе-ла-русь!
Орхидея, словно дирижер, стояла перед женским хором, и Лене показалось, что её цветки кивают в такт лозунга.
А потом внезапно наступила тишина. Как перед очередной бомбежкой в книгах про войну — пронзающая до костей тишина. И среди этой тишины Лена и все стоявшие в цепи словно по команде «Равняйсь!» повернули головы направо. Со стороны Дома правительства в полубеге на них двигалась черная колонна омоновцев во всем обмундировании.
— Становимся в сцепку! Держим сцепку! — раздалось со всех сторон.
Лена схватила свою орхидею и превратилась в звено цепи. Руками, крепко сжатыми с обеих сторон, она учуяла силу и в то же время животный страх. Электроды страха проходили через позвоночник, перебирали каждую косточку ее организма и сквозь пальцы находили выход в горшке с белой орхидеей.
Черные космонавты в двух метрах от Лены сформировали параллельную линию и, словно их кто-то перестал дергать за веревочки, остановились. Напротив Лены стоял омоновец с большими карими глазами и длинными черными ресницами, он напоминал Лене двоюродного брата, с которым она не общалась уже больше месяца, с начала августа. Омоновец пялился на Лену и на ее орхидею. А Лена смотрела ему в глаза и представляла, что он чей-то сын, муж, брат, отец, и сегодня он придет домой. Она пыталась увидеть в его глазах страх, отчаяние, раскаяние, но, кроме темноты, не находила там ничего. И темнота эта порождала бессилие и забирала веру, и Лена еще крепче сжимала свою орхидею. А потом она увидела, как омоновец усмехнулся, сначала глазами, а потом и губы разошлись в усмешке, после чего он прошептал, и Лена смогла прочесть по губам: «Ду-ра».
И в этот момент Лена разорвала сцепку и, сильно сжав горшок с орхидей обеими руками, занесла его над головой и швырнула в омоновца с большими карими глазами. Она видела, как орхидея ударилась о его шлем, видела, как во все стороны разлетелся горшок, земля и галька. Лена не успела углядеть, как на площадь упала белая орхидея — в это время она изо всех сил мчалась в сторону костёла. Она вбежала в открытые двери, пробежала костёл насквозь, опустилась на колени перед алтарем и вслух стала шептать молитву:
— Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли…
Лена услышала, как к ней подбегают сзади, и закрыла голову руками.

Жизнь замечательных людей
Дело было в провинциальном городке на границе с Украиной. Там, где дым заводских труб жирным слоем застилает небо, ветер носит окурки из одного угла в другой, а солнце светит настолько тускло, что люди только к полудню понимают, что день уже начался. Ландшафт этого города состоит преимущественно из панельных девятиэтажек, сгруппированных в районы вокруг промышленных предприятий. Эти районы, хотя и имеют официальные названия, чаще зовутся по-простому — «Энергомаш», «Теплицы» или «Птичник».
У каждого из них есть своя социальная специализация, обусловленная степенью сохранности советских построек. Где есть спортшкола — там живут спортсмены. Где есть дом культуры — музыканты и танцоры. Но почти везде, вне зависимости от этой специализации, живут уставшие люди с серыми лицами и грубыми руками. Живут они по жёсткому графику: просыпаются рано, работают много, детей воспитывают строго и через «ёбтвоюмать». Так было когда-то, и так, по всей видимости, будет всегда.
Наш герой, монтажник местных теплосетей Саша Иванов, — типичный энергомашевец. Его, как и многих сверстников, вырастили мать и улица. В школе он учился не слишком хорошо, но зато спорт у него был в крови. Также в крови часто бывали его лицо и руки — всё из-за драк, которые он учинял, скорее, от скуки, нежели из-за агрессии или злобы. Внешне же это был совершенно непримечательный молодой человек. Среднего роста, средней комплекции, среднего ума. Типичный середнячок во всём, кроме одного — заработка. Здесь до среднего было далеко, как ни измеряй. И это Саша хотел исправить как можно скорее, желательно без особых усилий.
А разве так можно, спросите вы? Под воздействием рекламного пресса Саша решил, что можно. Установил приложение тотализатора на свой смартфон, завёл туда немного денег, сделал ставку, а потом поднял глаза от экрана и — года жизни, денег и репутации как ни бывало. А что осталось при нём, так это вонючая бытовка в теплосетях и привычка потрындеть во время перекура со сварщиком. Например, вот так.
— Смотрел вчера бой? Фуфел какой-то. Медведев, по всем прогнозам, выиграть должен был, но просрал. Надо же было так. Во втором раунде, и как позорно. Ударнику проиграть удушающим. Я думал, что у него глаза лопнут под конец. Это, наверное, от удивления. Он, видно, сам в шоке был от такого расклада.
— Ну, да, — затянувшись, ответил сварщик, — жёстко вышло.
— Ты ставил что-то? — спросил он как бы между делом.
— Да так, по пустякам. Пятьсот рублей поставил на Медведева, чтобы смотреть было интересней. Да как-то один хер неинтересно вышло. Слишком быстро.
— Я тоже поставил на Медведева. Десятку. Думал, это верняк. Отыграться хотел за прошлый раз.
— Десятку? Вот ты дурак! Отыгрался? Зачем десятку? За кошелёк, что ли, кто-то тянул? Жить на что теперь будешь?
— Не знаю, брат. Может, из друзей кто поможет перебиться. Мне тысяч пять бы хватило до зарплаты.
— Да кто тебе займёт? Ты уже у всех тут перезанимал. Старое сначала мужикам отдай.
— Ну, близкие-то не откажут. Я же всё верну. Или на смене подменю. Ты же меня знаешь.
— Я-то знаю, а толку? Моего мнения никто спрашивать не будет. Да и денег тут ни у кого нет. Все в таких же условиях. У кого дети, у кого ипотека, у кого всё вместе.
— Так я, может, не всю сумму просить буду. По тысяче-две займу у тех, кто сможет занять, да сразу после зарплаты отдам. Думаю, не откажут.
Сигарета сварщика едва перегорела наполовину, но он спешно затушил её о край кофейной банки, приспособленной под пепельницу, надел сварочные краги, густо харкнул Саше под ноги и зашёл в цех. Саша тоже потушил сигарету и поплёлся работать.
После смены они с бригадой решили выпить. Растопили печь в бытовке, нарезали сервелат из «Копеечки» и открыли водку. Первая бутылка прошла легко, а вот вместе со второй в сознании Саши открылся тот «чёрный ящик», в котором он последний год держал здравый смысл.
«Я должен почти сто двадцать тысяч банку, ещё пятьдесят “Супер-деньгам”, десятку Кольке, пятёрку Михалычу, да и так, по мелочи ещё. Почти двести тысяч долга. Сука. Вот я дурак. Что делать теперь?
Продать мне нечего. Перезанять я уже не смогу. Заработать? Ха! Если я год есть не буду, может, тогда и удастся со всеми рассчитаться. Надо что-то другое. Быстрее надо. Может, подшабашивать, как мужики? Нет, не вариант. Обязательно кинут. Может, к родителям пойти? Мать плакать будет, а отец такое лицо сделает, что никакой помощи уже не захочется. К ним не пойду.
Стоп. К нам на склад на прошлой неделе привезли кучу медного провода, электродов и всякой расходки, которую хер кто считать будет. Может, толкнуть что-нибудь по-тихому? Так, за бухту кабеля я смогу выручить тысяч десять, за короб электродов… Чёрт! Да тут вагонами воровать надо, чтобы положение поправить! Что за срань! Почему всё так сложно?»
Его лицо приняло выражение, какое можно заметить только у пьющих людей. Взгляд мутных глаз исподлобья, кривой рот, дрожащий подбородок. Что-то побормотав, он вскочил с места да со всего маху ударил в нос сидящему рядом сварщику. Ошеломленный сварщик с мокрыми от крови усами накинулся на него в ответ и дважды треснул по лицу, удерживая за куртку свободной рукой.
Мужики бросились их разнимать, но нужды в этом уже не было. От ударов крепкого сварщика Саша мгновенно осел на пол и, уже будучи на холодном линолеуме, произнес: «Почему всё так сложно?» Ответа не последовало, и кто-то выключил свет.
Очнулся Саша Иванов уже дома. Лицо болело, живот скрутило в узел, хотелось блевать. Мать причитала, а отец сидел рядом с лицом памятника Сталину. Мужики, видимо, рассказали родителям обо всём. О долгах, о тотализаторе и невыносимой навязчивости, с которой Саша занимал «ну хоть тыщонку» до зарплаты.
Он лежал на разложенном диване, глядел в одну точку и мысленно перебирал ответы на вопросы, которые могли задать родители. Зачем играл? Сколько занимал? Почему ничего не рассказал? Какого хера вырос таким кретином? Он придумал ответы на все, кроме последнего.
Гулкую тишину тесной комнаты нарушил отец. Слово «дебил» отрикошетило от стены и точно попало в ухо Саше. Далее последовал длинный поучительный монолог, в котором были заданы все те вопросы, которые Саша и ожидал. Он уверенно ответил на все, кроме последнего.
В самом конце беседы отец немного повыпучивал глаза, но закончил оптимистично — пообещал продать свою «ласточку», чтобы этот — опять рикошет — смог рассчитаться с долгами. На этих словах Саша со смирением закрыл глаза.
Но вот он открыл их и — ещё одного года жизни, денег и репутации как ни бывало. А что осталось при нём, так это вонючая бытовка в теплосетях и привычка потрындеть во время перекура со сварщиком. Например, вот так…

Забвение
Софь Сергевна бродила возле подъездов, поглаживая черный пластик домофонного ключа. Родная дверь все никак не отыскивалась. Казалось, кто-то со скуки обновил интерьер не у себя в квартире, а тут, во дворе: вместо мебели переставил дома, вместо обоев переклеил фасады — до того преобразился ландшафт.
Скоро уж четверть века с той минуты, которую Софь Сергевна провела между этими углами в нервном поиске матери. Милая мама, все такая же солнечная и добродушная (но, увы, больше не способная выразить этого словами), гуляла по набережной, завлеченная перезвоном тополей и прохладными вздохами Волги. Вдвоем с мамой они вернулись к повороту во двор, прошли мимо двух подъездов и нежно обнялись у третьего. И стоило Софь Сергевне прокрутить в голове этот маршрут, как магнит сам собой приложился к нужному замку.
Вот и родные собрались на кухне. Внук и доченька балагурили, запивая смех крепким чаем. Софь Сергевна в ответ улыбалась, отхлебывая из пиалы, но слушала только шорохи из соседней комнаты. Прямо сейчас там распахивался глубокий саквояж сиделки, а с полок мужа пропадали вещи. Недоверчивый Володя частенько ломал слуховой аппарат, лишь бы ничего не знать о воровстве. А что дочка с внуком? Отмахнулись. Софь Сергевна выскочила из-за стола, с грохотом опрокинув фарфоровый чайник Вэ… Во… Володи — кажется, так его звали.
Для успокоения Софь Сергевна села у окна, понаблюдать за пунктиром из сухогрузов на неровном полотне реки. Изношенные очки не спасали — штришки будто размывало водой. Тем не менее они скользили к Астрахани и назад, до верховьев, приветствуя и провожая волжские порты урчанием пароходных гудков.
Затосковав, Софь Сергевна выглянула в прихожую — дверной звонок безжалостно молчал. Близкие нечасто гостили у нее, а навестить их самой запрещала сиделка. Мучительница спрятала ключи в недрах своего саквояжа, и Софь Сергевна скрашивала заточение, воображая контуры родных лиц. Она даже нацарапала на крошечном, незаметном для сиделки клочке бумаги их имена: Вера, Володя, Анечка, Леша. Перечитывая заветный список, Софь Сергевна снова становилась хозяйкой своей жизни.
Наконец-то на улицу! Леша попытался взять бабушку под руку, но та озорно отпрянула и понеслась вниз по взвозу. Исхудалых ног хватило ненадолго, зато мыслями Софь Сергевна уже миновала памятник Гагарину, а дальше, огибая пируэты опрыскивателей с зеленой аллеи, приземлилась аж у самой ротонды. Возле причальной стенки нежились люди, обдаваемые брызгами набухшей Волги. Дети бегали наперегонки, взрослые лениво прогуливались, а Софь Сергевна, восхищенная беспечной свободой прохожих, аплодировала каждому их шагу.
В надежде запомнить этот светлый момент Софь Сергевна взглянула на часы, но тут же помрачнела. «Леша, забери эти, маленькие, — обратилась она к внуку, расстегивая на запястье потрескавшийся ремешок. — Ну как же? Будешь вспоминать бабку, — почти уговорила бабушка Лешу, но сгоряча добавила: — А не то сволочь, ну эта их, ты понял, в сумку к себе, — стала заговариваться Софь Сергевна. — Затем, что хочет стать мной! Забрать вас и эту красоту! — раздражалась она, обводя набережную едва сжатым кулаком. — Не успокоюсь! Не веришь, значит, не надо их!» Часы звонко раскололись об асфальт. Замкнувшись от внука, Софь Сергевна спешно доковыляла до какой-то машины и, стуча в стекла, умоляла водителя увезти ее к маме. Как на беду, водитель попался такой бездушный, что даже не подумал появиться в салоне.
От волнения пальцы срывались с телефонного диска. Софь Сергевна торопилась набрать Анечку — только она приободрит. Когда они болтали, трубка дымилась, разогретая хохотом с обоих концов провода. Но сейчас металлический голос с той стороны отрезал: «Неправильно набран номер». Удары коротких гудков больно отозвались в груди. Как могла родная дочь так жестоко поступить с матерью? Софь Сергевна, сделав шаг в направлении окна, вдруг остановилась у зеркала. Туда забился кто-то, кого она не сразу узнала: ровная спина загнулась подковой, густая шевелюра поредела до сизых просветов, поджарое тело осунулось и неравномерно сползало по кускам к земле, это кое-как завернули в пятнистую кожу, а поверх всего на Софь Сергевну выкатились страшные глазища, которыми смотрят загнанные звери. Так бы, наверное, эти бледные тени и тускнели друг напротив друга, если бы их встречу не прервал раздавшийся звонок. Софь Сергевна отрешенно перерезала телефонный шнур.
Голова тошнотворно гудела из-за посетителей. Который день они тревожили фразами, похожими точь-в-точь, но Софь Сергевна упрямо не запоминала сказанное. Волновало одно: где родные? «До завтра, мама!» — ласковый голос внезапно протиснулся в закрывающуюся квартиру, и с каждым щелчком замка мысли прояснялись. Ладони вспомнили горячую пиалу, о которую Софь Сергевна грела суставы, пока незнакомцы безуспешно убеждали ее в том, что они — дочь и внук — рядом, а другие — мать и муж — давно упокоились.
Снова собраться вместе означало всего лишь перечитать список. У кровати нет, на тумбочке нет. Бумажка исчезла. Гадина-сиделка не пожалела даже любимых своей жертвы — всех скормила ненасытному саквояжу. Софь Сергевна схватила карандаш, словно кинжал, но вместо имен из-под стержня выпрыгивали насмешливые закорючки. В дальней комнате саквояж клацнул обтесанной застежкой. От ужаса Софь Сергевна по пояс выбросилась в окно кричать о помощи, но слова иссякли. Ее, ловившую губами воздух, обхватили толстые, как бревна, предплечья сиделки и швырнули в бездонную пропасть.
Во сне Софь Сергевне явился скомканный листочек. Он кружил по воде, следуя за плетением речной ряби. Бумага излучала приятное тепло. Софь Сергевна чувствовала такое и раньше, когда мама звала ее по имени. Сэ… Со… Уже и не вспомнить это имя.

Императив
Рядом с Первым гуманитарным корпусом на Воробьевых горах расцвела сакура. Два деревца вишни мелкопильчатой университету имени Ломоносова подарил японский консул в девяносто пятом году. Пряный запах розовых цветов смешивался с табачным дымом и проникал в двери вслед за студентами, аспирантами и сотрудниками этой кузницы профессиональных безработных. Барельеф над входом из массивных фигур был похож на три буквы — Б, Л, Я. Но не японский консул, не студент и не преподаватель с томиком Ерофеева в кармане зашел в дверь под буквой Л, на удачу сперва пробежав между двух крепких десятилетних сакур. Традиции такой вовсе не существовало, ее выдумал только что сам для себя наш герой, у него были десятки личных примет и тайных знаков. Измятое серое пальто без пуговиц скрывало под собой букетик нарциссов и могучее тело близорукого гиганта. Имя ему — Юлиан, и во что бы то ни стало ему нужно попасть на одиннадцатый этаж.
На том самом этаже, в аудитории 1125 у курящей лестницы, продолжались философские прения. Второкурсник Сергей Мурзляков, боксер и умница, как он сам представлялся, сделал доклад об этике Канта. Сергей всегда был голодным, не столько из-за бедности, сколько из-за потребностей цветущего двадцатилетнего организма, а следовательно, злым и упертым. Неделю он штудировал «Критику практического разума» и к пятнице стал убежденным кантианцем. Смутить его категорический императив могла только Юля Малюта, с которой у Мурзлякова был негласный пакт — сидеть рядом на семинарах по истории философии, едва касаясь коленями.
Сергей стоял на своем у доски, сложив узловатые руки в подобие знака бесконечности. Парировал ему преподаватель Мамоян, отвлекаясь в коротких паузах между репликами на рискованное декольте Малюты.
— И да, вслед за Кантом я убежден, что лгать нельзя ни при каких условиях! — В очередной раз Мурзляков хотел поставить точку в дискуссии.
Малюта млела, глядя на своего визави, лицо ее под румянами полыхало, и часть крови ощутимо устремилась к розовым соскам, что даже слегка заметно было и с лекторской кафедры.
— А представьте себе ситуацию. К вам домой прибегает ваш друг-еврей… — Мамоян вспомнил, что слышал о политических предпочтениях кубанца Мурзлякова, и скорректировал мысленный эксперимент. — Ваш друг-партизан. И просит укрыть от нацистов…
Юлиан решил, что до одиннадцатого этажа он непременно должен дойти пешком, потому что, с одной стороны, он шел за своей возлюбленной, а тернии (или хотя бы десять лестничных пролетов) должны отделять звезду от земли. А с другой стороны, Юлиан боялся столкнуться с кем-то из философской администрации в лифте. Рыцарь шагнул на лестницу и начал декламировать «Божественную комедию», повышая голос на каждой ступени. После девяти пролетов голова героя закружилась, и он свернул с выбранного пути в буфет десятого этажа. Здесь, в коридоре, он и увидал свою Беатриче. Нина (настоящее, по паспорту РФ, имя Беатриче) Иванова взвизгнула и устремилась в противоположный конец коридора, где была спасительная вторая лестница. Ошиблась она в выборе направления — надо было сбегать вниз, к охране и улице, а Нина взбежала вверх — на одиннадцатый этаж, где ее с самого начала и собирался осчастливить букетом Юлиан.
— …И даже если вопрос стоит так жестко. Я отвечу нацистам — да! Я скажу правду! — Мурзляков собрался эффектно щелкнуть задниками своих побитых, но до блеска начищенных мартинсов, но в аудиторию влетела Нина.
Дверь распахнулась и хлопнула быстро, как крыло колибри. Нина двигалась стремительно, как герой комикса, сознание ее было чистым, будто после двухнедельного ретрита. Плавным гимнастическим движением, прочертив под потолком дугу, она выхватила стул из-за первой парты и заблокировала им дверь. В следующую секунду ручка уже взбешенно дергалась, срываемая лапой гиганта. Все замерло в аудитории.
— Нина! — кричал атлант. — Беатриче! Я знаю, ты здесь! Я люблю тебя, открой! Она здесь?
Аудитория дружно расхохоталась. О Юлиане Трофимове, который несколько раз вызывал преподавателей на дуэль (в том числе Мамоян — за недостаточное почтение к Аристотелю), ходили легенды. Юлиан был счастливым обладателем фотографической памяти, которая позволяла наизусть цитировать Эннеады Плотина (разумеется, в подлиннике) и сопутствующей шизофрении, из-за которой уже несколько лет Трофимов с третьего курса попадал в Кащенко, а потом снова восстанавливался на третий курс. Теперь его отчислили уже насовсем, за драку с проректором Бароновым, но напоследок Юлиан сфотографировал своей памятью Нину и стал проявлять к ней всю палитру эротического.
И только Мурзляков не смеялся. Он понял, что попал в экзистенциальное состояние подлинного выбора, и выступил:
— Да! Нина здесь!
Аудитория снова съежилась от страха, в дверь начали ломиться с новой силой.
— Он может быть вооружен! — крикнул Мамоян и накинулся на дверь.
Мурзляков вместе с преподавателем припал к двери. Удары свирепели. Им в такт Юлиан декламировал Данте. Вдруг по коридору властно прокатился окрик.
— Юлиан! Опять тебя выпустили! Я же развесил на постах охраны твой портрет! Как ты зашел в корпус?!
Ровной поступью по пустому коридору на несчастного любовника шел проректор Баронов, на всякий случай сжимая кулаки. Юлиан попятился, а когда увидал, что Баронова обгоняют три охранника во главе с Фазилем, метнулся к лестнице и побежал, прыгая, десять пролетов вниз. В аудитории 1125 отлегло.
— Ну Кант! Ну ты ж сама читала! Императив! — бубнил Мурзляков Нине, которая у него ничего и не спрашивала. — Он спросил — я ответил, и я же потом дверь! Ну мы же тут философы, я философ!
— Мудак ты, а не философ, — спокойно сказал проректор в разблокированную дверь и пошел по стопам охранников.
Малюта смотрела в окно, было видно, как между двумя розовыми пятнами кустов пробегает по газону Юлиан, оставляя за собой желтые лепестки нарциссов, а за ним — три человека в черной униформе.
— Можно я напишу у вас курсовую? — спросила она у Мамояна тихо, чтобы никто не услышал.

Каштановый конь
— Хуссейн, беги обратно: отец сегодня не в духе!…
Что это? Я лежу с закрытыми глазами, и вокруг немного пахнет железом, въедливый резкий запах. Всё плывёт. Аккуратные, сложенные ровными стопочками голоса моего прошлого звучат в звенящей от боли голове. Мне тепло и мягко, по телу движется кровь, и сейчас я чувствую каждую каплю внутри себя, уровень температуры и плотность этого потока, даже цвет артериальной и венозной крови. Земля крутится в ритме со мной. Сердце, тебе не хочется покоя…
Зрачки со всей мощью своей пустоты пытаются разглядеть хоть что-нибудь сквозь слипшиеся мокрые ресницы, но тут же водоворот подкатившей тошноты и воспоминаний захватывает меня обратно.
…провал. И мне тринадцать лет, уже тринадцать. Мой отец в этом же возрасте женился на маме и был учеником предыдущего муллы. Бабушка часто об этом шепчет с тихой злостью: «А ты только лимоны солить и научился, и пузо набивать, как кожаный бурдюк, паразит». Всплывает то утро. Тихонько подкрадывался я к спящей бабушке, которая храпела, как одержимая джиннами, подрагивая на своём сундуке. Она даже на ночь не снимает платок, хотя это и не возбраняется. Голодно было — опоздал к ужину, и для меня ничего не оставили. Проснулся и сразу мысли о еде, у неё в соседнем сундуке сахар колотый. Темноватый такой, сладкий, пахнущий патокой. Запах наслаждения. Такой сахар был только у бабушки: не получилось бы на ходу закинуть в рот кристальный обломок, чтобы он тут же растаял. Сахар требовал работы над собой, был желанным и почти недостижимым. Как каррарский мрамор. Я ваял из него фигуры, оттачивая языком и слюной во рту. Он барахтался, отсекал лишнее и растворялся. Всего несколько раз мне удавалось умыкнуть у бабушки кусочек-другой, но сейчас я так сильно боялся быть замеченным, что, чуть закусив губу, злясь на себя, схватил книгу и побежал в школу…
… На лицо льется теплая вода, резко становится темнее, а потом снова весь мир вокруг краснеет сквозь кожу век. Кто-то вытер моё лицо полотенцем.
…зачем меня будят…
Мне пятнадцать. О, хитрая память! Сколько лет прятала эти дни моего несчастья внутри! Господи, если бы я знал тогда…
Кругом танки, танки, танки и голодные мои братья. Когда это произошло? Рукой подать до того момента в прошлом, когда мама наливает нам похлебку из чечевицы и разносит сладкий чай. Помню ещё, как ныряю на спор в осушенный городской фонтан, и мама, снимая свою ужасно тяжелую, со стёртым с внутренней стороны каблуком домашнюю туфельку, бежит за мной, грозя ею… Кто тогда перевернул эту страницу?
Война. Полтора года мы сидим здесь, и нет конца. Нет времени — оно тянется, как нити вытяжной халвы у торговца сладостями на базаре. Нет и базара. Совсем не сладко. Поднимаю раскаленный камень размером с детскую голову, ложусь на сухую землю и кладу камень на свой живот. Тепло разливается по телу, желудок сжимается и не просит пищи.
Слышу справа два голоса, размазанные, как эхо в бассейне. Голова не поднимается, зато пытаюсь сжать пальцы, согнуть ноги — удаётся.
— Хуссейн, Хуссейн! Поднимись, сможешь?
— Это ты его так?
— Тренер, простите, случайность… Он не увернулся. Мы работали в полном контакте, он не жаловался, я не хотел… Я…
— Ты вот на хера встаёшь со стариками в пары? Убить у меня тут хочешь?! У нас тут бокс, бокс, бл… Самолюбие тешим после тренировок, чтоб я за это не отвечал!
— Вставай, вставай, сейчас вылечим.
Минут через двадцать я почти полностью оклемался. Мы сидели в тренерской вдвоём, а он всё допытывался, зачем я встаю с молодыми и что сегодня пытался доказать.
— А кто ещё, Юр? Юр, ты хороший мужчина. Вот у тебя жизнь как сложилась? Так, как ты и хотел?
Я упал сегодня и вставать не хотел… До приезда в СССР я был на войне, был ребёнком-солдатом. За двадцать семь лет дома я только и видел, что ракетные обстрелы, применение химического оружия с обеих сторон. И, представь, тюремное заключение… За веру сажали! У вас сейчас что-то похожее происходит: своих же рубите.
— У моей бабушки был телевизор — это я в отключке вспомнил, но показывал он только одно: наклеенную на него фотографию Саддама Хусейна. Да не смейся ты, серьёзно же говорю. Я уже взрослый в гостях у своего одноклассника по радио услышал о том, как прекрасно в коммунистическом справедливом Советском Союзе.
Юра тем временем молча заварил мне липовый чай и дал пожевать ложку чёрного кунжута. Достойный человек — эзотерический склад ума и квадратное телосложение. Хотел было достать из-под стола ещё и немного оставшейся травы, но вспомнил, что я не курю, и закрыл маленький отсек. Я прожевал массу семян, слизав всё с ложки. Железистый запах удвоился: разбитый нос и вкус алюминия во рту. Чёрные кусочки позастревали в промежутках между зубами, имитируя кариес.
— Продолжай.
— И вот я услышал, что есть волшебная страна, огромная и сильная. Знаешь, я представлял себе СССР как большого мохнатого коня. Всего в мыле. Исполинский конь каштанового цвета почему-то.
В тренерской раздался звонок:
— Да, да, детская тренировка переносится на утро воскресенья. Верно, ага… Ага… Да. До встречи.
Пока продолжался телефонный разговор, я высморкался в свой распустившийся боксёрский бинт и стал разглядывать бывшее содержимое носа: красно-коричневый плотный сгусток, похожий, скорее, на зародыш цыплёнка в желтке яйца, чем на мою человеческую слизь. И ведь это тоже я?
Тренер повернулся ко мне спиной, открыл форточку и вдохнул впущенный воздух. Потный солоноватый дух комнаты разбавили запахи выхлопных газов, кустов под окном и прохлада близящегося вечера. Он подошёл и забрал у меня из рук бинт. Лицо его опустилось, как будто невидимые грузики подвесили по краям щёк и к уголкам губ, и они тянули вниз.
— Знаешь, Хуссейнчик, у всех так. Это и был каштановый конь. Ты думал он — мечта, ан нет! Взял коник и передавил нас всех на скаку. А ты думал кто, кто ещё, по-твоему?

Квартира напротив
Выходя из квартиры, Андрей зацепил мусорный пакет так, что бутылки отчаянно зазвенели на весь этаж. Мужчина громко выругался и внезапно замер, как будто застигнутый врасплох. Он с тревогой посмотрел на дверь напротив, но было тихо. Подавив в себе желание погреметь назло ещё сильнее, он понес пакет на свалку. В воздухе пахло весной, и хотя небо было затянуто белесыми унылыми облаками, дышалось и жилось легче. Каждую весну Андрей испытывал прилив бодрости, вдохновения и ностальгии. Около школы воробьи затеяли драку и кричали громче обычного, из приоткрытого окна второго этажа раздавались медленные гаммы на фортепиано. Андрей улыбнулся и тихонько протрубил одними губами детский мотивчик. Или не детский, но точно знакомый из прошлого.
На следующее утро весенняя благодать отступила, и Андрей, внутренне матерясь, старательно обходил лужи, грязь и собачьи «следы» по дороге домой. У подъезда он столкнулся с Марией Петровной, старушкой, жившей на первом этаже. Она появилась из открытой двери подъезда вместе с запахами сырости из подвала и куриного супа. Мария Петровна загадочно улыбнулась и сказала: «Андрюш, а Наденька куда-то собирается? Такая вроде приличная, здоровая, а всё туда же…» Мужчина удивленно вскинул брови, буркнул: «Доброе утро» и прошел внутрь дома. На третьем этаже он привычно повернул направо, к своей квартире, но остановился, не донеся ключ до замочной скважины. Что-то знакомое и очень мелодичное послышалось из-за двери напротив. Он судорожно вдохнул воздух, развернулся и позвонил. Тишина. Он позвонил ещё раз. Мам, ну где ты там? Дверь резко распахнулась, и Надежда Игоревна ласково посмотрела на сына. Знакомый и родной запах выпечки, лавандовых духов и чего-то неведомого защекотал ноздри.
— Мам, ты как? Мария Петровна волнуется.
— Андрюш, да ты заходи. Что там она говорит? Я тут уборочку затеяла, хочу старые тряпки выкинуть или отдать кому… А тебе, кстати, не надо рубашку сшить? Там такая ткань осталась, я покажу…
— Мам, у меня всё есть. Ты это… не болей.
— Да мне и некогда, — засмеялась женщина.
Они помолчали. Андрей стоял в напряжении, как будто прислушиваясь к чему-то внутри квартиры. Нет, показалось.
— Я пойду, — и он резко развернулся.
Надежда Игоревна закрыла дверь квартиры и вернулась на кухню. По телевизору шли последние кадры фильма: симпатичная и печальная девушка смотрела на удаляющийся поезд и сжимала в руке перчатку; а в следующем кадре молодой человек в купе напряженно смотрел в окно, потом резко потер лоб, как будто стирал что-то ненужное, выдохнул и улыбнулся. Пошли титры. Женщина помотала головой, сбрасывая наваждение, раздвинула пошире шторы на окне и принялась за ужин.
Через две недели Андрей снова столкнулся с матерью. Та поднималась на этаж с небольшой сумочкой. Лицо её было раскрасневшимся и радостным.
— Ой, Андрюш, а я тут на рыночек сбегала утром.
— Мам, я спешу.
— Ну да, ну да.
Она подошла к двери и прислонилась к ней спиной, прикрыв глаза.
— Мам, ты чего? Тебе плохо?
— Нет, всё хорошо, запыхалась маленько, — хихикнула она.
Он подошел достаточно близко, чтобы уловить новый и очень приятный запах.
— Ты сменила духи?..
— Ой, мне тут в магазине посоветовали. Называются «Мэри ми». По-английски это.
Она зашла к себе, а Андрей остался на площадке. Выходи за меня… Звучало как издевательство над его жизнью. Впрочем, его это уже не касается.
Вечером следующего дня Андрей уже собирался идти на работу, когда услышал на площадке громкий женский хохот. Он выглянул. У лестницы стояла красивая женщина, в которой с трудом угадывалась его мать: стильное пальто, шляпка, замшевые ботильоны. В руках у неё был букет. Розы. Вызывающе красные. Внизу хлопнула дверь подъезда.
— Андрюш, ты в ночную? Хочешь, пирога кусочек заверну?
— Нет, ма…
По дороге на работу он закурил. После смерти отца прошло три года, неужели она теперь кого-то нашла? Вот интересно как: у мамы жизнь складывается, а у сына нет.
Погруженный в свои мысли, он чуть не столкнулся с Петькой, вышедшим из магазина.
— Андрюх, сто лет тебя не видел. Ты что-то совсем в подполье ушел. Приходи в гости, мы с Аленкой тебе стейков сделаем. Дети в девять ложатся, можно посидеть, побуянить, ну?
— Не, работы много.
— Ну какой работы? Ты ж сторожишь. Что там умыкнут, скрипочки? Андрюх, а давай я Аленке скажу, она подруг позовет одиноких, может, какая-нибудь и нарисуется? Ты парень видный, с жилплощадью. Мама, опять же, рядом. Тоже, между прочим, с хатой. Вообще со всех сторон одни плюсы.
— У тебя из-за ипотеки так на жилье мозг сдвинулся?
— Сам посиди в таком рабстве, я на тебя посмотрю. А нас таких, между прочим, миллионы.
«Жилплощадь. Кому нужна мамина квартира? Там же две маленькие комнатки, особо не развернешься». — Эти мысли засели у него в голове и не отпускали до утра.
Андрей позвонил в дверь. Надежда Игоревна открыла не сразу. В глубине квартиры играла музыка.
— Ой, Андрюш, я тут не одна… — пробормотала женщина.
— Мне в другой раз зайти?
Надежда Игоревна в нерешительности замерла у двери и извиняющимся взглядом проводила сына. Андрей вышел на площадку. Что-то шло не так. Он энергично потер лоб, пытаясь отогнать дурные мысли, потом выдохнул и расслабился. В конце концов у мамы может быть личная жизнь. Но если… Сразу вспомнились мамины нежные пальцы, её ожог на правой руке от кастрюльки с кофе. Она тогда неожиданно пискнула, а потом они все вместе смеялись над её неуклюжестью, достойной подмостков детского театра. Нет, всё-таки стоит хотя бы познакомиться с тем, кто занял место отца. Андрей развернулся и решительно шагнул обратно. Дверь она открыла не сразу. Андрей бодро вошел в прихожую.
— Ставь чайник, мам. — Он улыбнулся. И она сначала автоматически улыбнулась в ответ, а потом в глазах блеснула искорка чего-то иного, давно забытого, но такого теплого и искреннего.
— Проходи.
Она ушла на кухню, а Андрей пошел в комнату. Никого не было. Телевизор был включен, и играла какая-то глупая мелодия. На мамином рукодельном столике лежала фотография отца. В спальне был включен свет. Андрей с тревогой заглянул в приоткрытую дверь. Комната немного изменилась: на стене висел большой плакат из фильма. Его фильма. В голове непроизвольно заиграл тот самый забытый мотивчик. На мужчину, как из зеркала, смотрел он сам, только моложе и счастливее. Андрей выдохнул и закрыл глаза. Мама, ну зачем? За спиной прозвучало робкое: «Сынок…»

Колодец
Заехав в тоннель, поезд притормозил, дернулся и, напоследок лязгнув, остановился.
— Почему стоим?
— Когда поедем?
Фонарики телефонов беспомощно пытались осветить кромешную тьму. Неразборчиво заскрипел голос из динамиков, пассажиры засуетились. Проталкивались, кто из конца вагона в начало, кто наоборот. Сидевшие у прохода шумно возмущались, когда их толкали локтями и сумками. Хлопали двери межвагонных переходов. Наконец, в вагоне зажегся свет, и пожилая женщина у окна хмуро кивнула в сторону молодого человека на сиденье напротив:
— Разлегся тут!
Она покрепче прижала к животу потертую сумку и демонстративно отвернулась. Ее соседка, наоборот, смотрела на молодого человека сочувственно. Он лежал, скрючившись на боку, прижав колени к груди, обхватив руками голову и закрыв лицо. Она робко дотронулась до его плеча:
— Вам нехорошо? Хотите воды?
Молодой человек нечленораздельно замычал в ответ.
— Я — Люба, — представилась она, — а вас как зовут? Откуда едете?
Одет он был аккуратно, по-городскому: светлая джинсовая рубашка, полоска загара на голых щиколотках между узкими брючками и кедами. Типичный персонаж из Любиной прошлой, такой обыденной офисной жизни среди бульваров, хипстерских кофеен и модных молодых людей.
— Вы не волнуйтесь, раз плавно остановились, значит, ничего страшного, скоро поедем.
Люба гладила его по плечу и говорила без пауз, не дожидаясь ответа. Рассказала, что совсем недавно переехала в деревню, где вырос ее муж. Они решили растить своих детей в деревне, детям ведь на природе лучше. Любин голос журчал и успокаивал, и в конце концов молодой человек разогнул колени, сел и отнял руки от головы. Его звали Гриша. Наверное, они были ровесники, но бледный от ужаса Гриша выглядел совсем мальчишкой. Люба же, наоборот, в мешковатом платье и аляповатом, туго затянутом платке, казалась намного старше.
— Вам на какую станцию?
Оказалось, ему на ту же, что и ей. Оказалось, они соседи с Гришиной мамой. Гриша объяснил, что давно не навещал мать. Очень много работы. Он старался быть хорошим сыном, звонил раз в неделю и выслушивал ее тоскливые монологи, не перебивая. Присылал подарки на именины и праздники. Нашел бригаду, чтобы закопать старый колодец и провести на участок водопровод. Оплатил установку нового забора вместо сгнившего старого. Копил на ремонт дома…
Сегодня утром Грише позвонила соседка. Сказала, мать слегла и не встает. Пусть он бросает все, садится на поезд и приезжает. Он бросил и едет. Мобильная связь пропала в ста километрах от города. Сидя в застрявшем поезде, он даже не знает, едет ли выхаживать или хоронить.
— Такая милая старушка, — ахнула Люба и, смутившись, поправилась: — милая женщина. Очень помогала нам на первых порах, то советом, то инструментом. И за детьми присматривала, дети в ней души не чают!
Когда добрались до станции, Люба потащила Гришу за собой.
— Нечего вам ждать маршрутку и трястись в духоте. Меня муж встречает на машине.
— Крот! — завопил Егор, муж, едва завидев Гришу, и объяснил Любе: — Гришка-то наш в детстве свалился в заброшенный колодец. Всей деревней его искали, едва живого вытащили.
Гриша молчал на заднем сиденье. Вспоминал, как вскоре после падения приоткрылась крышка колодца и вдалеке забрезжил свет. Он набрал побольше воздуха в легкие, но, опередив его, раздался крик сверху: есть кто? Крик этот поскакал, отбиваясь от сырых скользких стен, заметался и загудел оглушительным эхом по черной трубе. Гриша зажмурился, зажал уши, язык его прилип к небу, и он не смог издать ни звука. Крышка захлопнулась.
Спустя три дня Гришу вытащили из колодца без сознания. Несколько месяцев он не разговаривал, потом потихоньку оклемался. Вырос, уехал учиться в город, стал вполне благополучным менеджером. Только темноты боялся до сих пор. Установил в квартире «умный дом», чтобы лампочки автоматически загорались при повороте ключа в замочной скважине — друг помог настроить. Он жил на восьмом этаже, работал на десятом и был в отличной физической форме: Гриша никогда не ездил на лифте. Не спускался в метро, не ходил в кино, театр или на вечеринки, никуда, где выключали свет. В темноте застрявшего поезда он снова стал маленьким мальчиком, задыхавшимся на дне колодца.
— Как ты там, крот, не укачало? — Егор лихо управлял машиной по тряской проселочной дороге, и голос его гремел, едва помещаясь в салоне автомобиля. Голос этот был под стать его широким плечам и тяжелому подбородку. Ему было тесно жить в городе, тесно в автомобиле, тесно везде. Уж он-то и часу не высидел бы в колодце, зубами бы стены грыз, но вылез!
На пороге материного дома Гришу поджидали соседки-кумушки. «Явился», — скривили тонкие губы, пожали плечами и разошлись. Гриша просидел с матерью всю ночь, держал за руку, прислушивался к ее сбивчивому дыханию и горячечному шепоту. За полночь она начала бредить, вспоминала дни, когда искали пропавшего Гришу. Почему он никогда раньше не задумывался, что она пережила тогда? Просто не приходило в голову. В сознание мать так и не пришла. Гриша уехал наутро, не дожидаясь похорон, под осуждающие взгляды соседей. Не мог смотреть, как закроется крышка гроба, как мать станут опускать в темную яму.
Гриша вернулся в город, продолжал работать менеджером, бояться темноты и избегать лифтов. Деньги на памятник и оградку выслал Любе. Она обо всем позаботится, пришел ответ. Ее родители похоронены далеко, глядишь, и за ними кто-нибудь присмотрит. Раз в год он получал от Любы фотографию ухоженной могилы со свежими цветами у изголовья.
На десятую годовщину Люба написала письмо: ее старшая дочь замечательно поет, мечтает учиться в консерватории. Нельзя ли Катеньке остановиться летом у Гриши, пока вступительные экзамены. Следом приехала Катя — шумная, смешливая, в Любиной цветастой косынке. Распевалась по утрам, наполняя тихие его будни то звенящей весенней кутерьмой, то бархатным шелестом пшеничного поля.
В консерваторию Катеньку не приняли. Он утешал ее, уговаривал остаться и снова поступать через год. Нанял репетитора, соврав, что мать прислала денег. Катя стала еще старательнее выводить по утрам свои трели и встречала его с работы сытным ужином.
Он ни на что не рассчитывал и не обольщался. Она была юная и хорошенькая, а он пресноватый и к тому же намного старше. Однажды после ужина она включила тихую музыку и зажгла свечи, но стоило ей приглушить свет, как Гриша резко вскочил, замахал руками и задохнулся неловким писклявым вскриком. Катенька посмотрела на него удивленно, фыркнула и ушла в свою комнату. Вряд ли он всерьез ей нравился, наверное, она просто тосковала в чужом городе, утешал он себя.
С того вечера она начала его избегать. Тихонько выскальзывала из дома до Гришиного пробуждения и так же беззвучно возвращалась поздно ночью. Он не навязывался, боялся спугнуть. Оставлял ей на кухонном столе мимолетные знаки внимания — нацарапанный на салфетке смайлик, букетик одуванчиков в стакане. Катя появлялась все реже и реже, и вскоре перестала приходить вовсе.
Ночи напролет он вслушивался, ждал скрипа двери, заветного шелеста шагов. Наказывал себя, выключал свет и лежал в темноте, сжавшись, закрыв лицо руками и задыхаясь. Вспоминал последние обрывочные бормотания матери, как, потеряв на закате третьего дня всякую надежду его найти, она пошла к колодцу топиться, как долго смотрела вниз, в черноту, пока не разглядела маленькую, неподвижную детскую фигурку.
Крышка его колодца вновь приоткрылась и опять захлопнулась.

Личный дракон Его Величества
Первый рабочий день для Мисы, дворцового дракона по мелким побегушкам, не задался с самого утра. Он сладко спал, почмокивая и похрюкивая, свернувшись клубком на коврике из теплого верблюжьего войлока. Ему снилось, что на улице идет ливень из черных клокастых тараканов и одновременно ярко светит весеннее солнце. Миса лежит на лужайке, потягиваясь и жмурясь на солнышке всеми своими чешуйками. Хвост подрагивает от восторга. Щебечут птички и дует легкий ветерок. Лапы расставлены во все стороны, зеленая пахучая трава-мурава приятно покалывает спину. Глаза у Мисы слегка зажмурены, пасть широко открыта, и туда парашютируются толстые клокастые тараканы. Рядом с ним стоит термокрынка, и Миса, похрумкав очередной порцией тараканов, запивает их мелкими глотками холодного, такого, что аж зубы ломит, молока. Густое, концентрированное счастье пронизывает Мису от гребешка до когтей на ногах. Вдруг небо почернело, тараканопад внезапно прекратился, подул пронизывающий ветер и раздался страшный пронзительный вой, как будто стая оборотней начала свой концерт на полнолуние.
Миса проснулся и с ужасом понял, что он проспал, забыл принести шаху его любимые расшитые жемчугом тапочки с загнутыми носами, и Постельничий священной спальни невообразимо орет визгливым голосом, его левый глаз нервно подергивается, что такого бестолкового дракона он в жизни своей не видел. Из-за него глава блистательного Изумрудного Шахства, столп Всевышнего на земле, должен нагибаться и сам надевать свою обувь. А может, даже очень может быть, касаться своими нежными, как шелк, ступнями холодного как лед каменного пола, подвергая свою бесценную жизнь и все шахство смертельной опасности.
— Да какой там лед, там все коврами застелено, — огрызнулся Миса, — и тапки рядом с ложем стоят, встал и ноги сами в них попали.
— Ах ты, ящерица ленивая, без году неделя, еще и пререкаешься, я тебе язык твой раздвоенный оторву и крылья узлом завяжу! — взвился постельничий и дал Мисе хлесткую затрещину. — Побудешь без обеда сегодня и подежуришь ночью, может, поймешь. Сначала тапки забудет принести, затем еще что-то упустит, а потом в сокровищницу лапу кривую запустит, я вас насквозь вижу. Никаких принципов, никакой ответственности. Развели зоопарк во дворце, понимаешь, понабирали разных баранов с крыльями…
Миса накинул одежду и пулей полетел на дворцовую кухню. Он был в своей новой, с иголочки, униформе — бархатные розовые шорты-трюселя, расшитые золотыми павлинами, безрукавка из мягкой телячьей кожи с многочисленными карманами и кумачовая бандана. Уши аккуратно завязаны на затылке. Вислоухие драконы почитают завязывание ушей за моветон, вернее, просто не парятся с этим, но Мисе было положено по протоколу иметь аккуратно уложенные уши. Миса надеялся, что еще что-то осталось на завтрак, его живот, раззадоренный тараканьим сном, призывно урчал. Дворец он знал плохо, но кухню быстро нашел по манящим запахам. В спешке он споткнулся о ступеньку при входе на кухню, упал, скатился вниз по лестнице и растянулся во весь свой маленький рост. Когда Миса встал, он с ужасом увидел, что запачкал свои новые шорты — из нежно-розовых они стали слегка пегими. На кухне бородатый повар на него с ходу наорал и сказал, чтобы его грязных лап в кухне не видел, а животных кормят во дворе в стойлах. На дворе конюхи поржали и сказали, что его разыграли, и дворцовые звери едят во дворце. Бородатый повар встретил его второй раз с широкой улыбкой, назвал салагой, потрепал по ушам на загривке и сказал, чтобы приходил на обед.
— Завтрак уже все, а на обед будут щи из кактусов, вчерашние, с мясом.
— Так я без обеда сегодня, — сказал Миса, — я проспал и шаху тапки утром забыл принести. Наказали.
— Ну, тогда на ужин приходи. Вельвезяблы будут вареные, с хреном и картошкой. За уши не оттащишь, — засмеялся повар и энергично постучал половником по десятиведерной кастрюле на плите, в которой что-то вкусно булькало.
— Я на дежурстве вечером, — расстроился Миса.
— Ну ты это, Гозилла, тогда завтра приходи. Попостишься сегодня, говорят, это даже полезно.
— Миса меня зовут.
— Не обижайся, Миса, я так, по привычке. Твоего предшественника Гозиллой звали. Хороший был дракон, рубаха-парень, настоящий профессионал. Спаси Всевышний его драконью душу.
— Так он того?
— Он шаху три раза тапки забыл принести и неаккуратный был, — посмотрев на испачканные Мисины трюселя, сказал с серьезным видом повар, — на наживку для острозубого ящера пошел.
— Может, сухпаек какой? Печеньку или жуков сушеных, — постарался перевести тему Миса.
— Давай, шуруй отсюда, у нас тут прием пищи строго по расписанию. — Повар повернулся спиной и дал Мисе понять, что аудиенция закончена.
Весь день Миса носился по шахским побегушкам. Мелкие поручения не заканчивались. Отдай, унеси, принеси, занеси, вытри, натри, открой, закрой, запиши, вычеркни, снова запиши, вспомни, забудь, придумай, молчи, заточи, почисть. Задолбался страшно. Все сделал в лучшем виде, без косяков. Была только маленькая оплошность, можно сказать, недочет — вместо Наградного Приказа Миса отнес записку шаха Великому Инквизитору. Их канцелярии рядом находятся, он и перепутал по неопытности. В записке было: «Воздать за все моему слуге, дьяку де Буязетту». Потом, конечно, разобрались, извинились, но дьяку на дыбе уже немного воздали, опричники Великого Инквизитора работают быстро, не зря едят шахский плов.
На дежурство Мису поставили в сокровищницу охранять ларец с пятым чудом света — редким изумрудным рубином. Великий Инквизитор лично провел инструктаж — строго-настрого наказал пост не покидать и не спать. После оглашения длинного списка страшных потенциальных кар спать не хотелось, да и заснуть Миса при всем желании не мог, под ложечкой подсасывало и зверски хотелось есть. В темноте коридора раздались шаркающие шаги, и Миса нахохлился.
— Жрать хочешь, чудище окаянное, — сказал Постельничий.
— Служба такая, — вяло пробурчал Миса.
— Что же я, бессердечный, что ли. Тоже живое существо, как-никак. Сбегай быстренько, порубай и обратно. Одна нога здесь — другая там.
— Так мне это, Великий Инквизитор сказал ларец стеречь. А то — секир-башка. — Миса провел когтем по шее
— Давай, давай, я за тебя посторожу. Только пулей.
— Дядя Постельничий, — растрогался Миса, глаза увлажнились. — Вы такой добрый, вы такой…
— Птеродакль пендябский тебе дядя, — заворчал старик, — лети быстро, пока не передумал.
Миса возвращался в приподнятом настроении. Он бежал легкой рысью, пузо как барабан, весело напевая под нос что-то из репертуара барда Бордюга Слепого. Сокровищница встретила его гулкой тишиной. Постельничего нигде не было, как и ларца. «Может, по нужде отошел, — подумал Миса, — сейчас вернется». Миса нервно мерил шагами комору. Постельничего не было. Ужас начал накрывать Мису — просторожить сокровище короны, за это шкуру сдерут, солью посыпят и будут вялить на солнце у позорного столба на Овальной площади. Он в горячке метнулся в крыло, где располагались спальни слуг. Комната Постельничего была открыта, вещи были разбросаны. «Измена!» — заорал во всю глотку Миса.
Миса сидел перед Великим Инквизитором и шахом, понурив голову. Великий Инквизитор сверлил его своими колючими темными глазами. Шах постукивал перстнем с малой государственной печатью по столу, попивая черный кофе с душистым кардамоном из изящной фарфоровой чашки с позолотой.
— Что будем с ним делать, Ваше Величество? — прервал молчание Великий Инквизитор, — как отблагодарим сукиного сына?
— Да уж, услужил так услужил, — вымолвил шах и сделал большой глоток кофе. Миса сжался еще больше.
— Я все объясню, — робко начал Миса.
— Помолчи, — оборвал его шах.
— С одной стороны, пост оставил, — продолжил Инквизитор, — с другой стороны, все серьезнее получилось.
— Гораздо серьезнее!
— И никаких попыток кражи до этого, как заговоренный был.
— Заклятый. Удружил, конечно, папаша. Выкидывали, теряли, дарили, всегда возвращался, — сказал шах с легким возбуждением.
— Теперь уж не вернется!
— Скатертью дорога. Слава Всевышнему!
Миса недоуменно крутил головой. О чем они?
— Осмелюсь предложить, Ваше Величество, — осторожно сказал Инквизитор, — звание личного дракона Вашего Величества и малую государственную медаль. За неоценимый вклад. Но розги, конечно, за самовольную отлучку никто не отменял.
— Согласен, — соблаговолил шах, — розгами только без фанатизма, все-таки герой.
— Что зенки вытаращил, герой ушастый? Награждать тебя будем, — слегка улыбнулся Инквизитор. — От проклятого камня нас избавил. Отец шаха его привез из похода на Безберакское ханство. Ради него, проклятого, вся война и затевалась. Пятое чудо света! Редкий изумрудный рубин! Сокровище короны! Обвели нас безбераки вокруг пальца — они, должно быть, голову сломали, как от него избавиться. В итоге они его нам его ловко перепасовали. Владелец камня притягивает несчастья. Нельзя его выбросить, уничтожить или подарить, уж сколько раз пытались, всегда возвращается. Как самокский бумеранг, ей богу. Одна надежда — если кто украдет или силой заберет. По-настоящему, без инсценировок.
— Если бы не твоя героическая безалаберность, — добрыми зелеными глазами посмотрел на него шах, — так бы и маялись. Вы там Постельничего не спешите объявлять во всешахский розыск. — Шах перевел свой взгляд на Инквизитора. — Пусть спокойно убежит за границу, подлюга.
Постельничий, падая с коня от усталости, пересек границу с Черным Королевством на третью ночь. В темной корчме его уже ждали. Когда ларец открыли, он ахнул — в нем было пусто. Постельничий так и остался сидеть c открытым ртом, остекленевшим взглядом и кривым кинжалом в груди.
Миса сидел в чайхане «У поддатого грифона», перед ним стояла пенистая кружка верескового эля и большое блюдо с горкой фаршированных рогастых жуков фри. Шкура саднила от розг, но на жилете ярко сверкала малая государственная медаль. Как личному дракону Его Величества, Мисе накрыли стол в красном углу, и подобострастный горбатый чайханщик лично ему прислуживал. Пир был за счет заведения. Во дворе чайханы на подводе стояла бочка соленых черных клокастых тараканов экстракачества, самых больших и хрустящих. Ишак, впряженный в подводу, недовольно кричал. Напротив Мисы расположился здоровенный могольский купец в белой папахе и с бельмом на глазу. От купца благоухало прелой овчиной и крепкой бананасовкой. Он не мог поверить своему счастью — купил редкий изумрудный рубин за бесценок, обманул глупого дракона, валенка, как у ребенка конфетку отнял. Миса был подшофе и в состоянии легкой эйфории. Как же хорошо, что заклятья на вислоухих драконов не действуют. Ловкий малый — и отечество спас, и медаль получил, и личный дракон Его Величества, и заклятый камень моголу сплавил. Вещий был сон про тараканов. Вещий.
…На дежурство Мису поставили в сокровищницу, охранять ларец с пятым чудом света — редким изумрудным рубином. Великий Инквизитор лично провел инструктаж — строго-настрого наказал пост не покидать и не спать. После оглашения длинного списка страшных потенциальных кар спать не хотелось, да и заснуть Миса при всем желании не мог, под ложечкой подсасывало и зверски хотелось есть. Скукота страшная. Как оно хоть выглядит, это пятое чудо света? Миса открыл ларец, и камень завораживающе засверкал своими гранями в ярком пламени алхимической свечи. Похоже на блестящую личинку гигантского короеда. А на вкус? Камень как камень, холодный, твердый. За окном громко каркнула ворона, и Миса от неожиданности проглотил камень. В темноте коридора раздались шаркающие шаги…

М.Т.
В запылившейся комнатушке пахло приторно-горьким сиропом. Углы каморки были заставлены проржавевшим хламом, на кое-как прибитой над кроватью полке несли свой вечный караул испачканные кисти. Только пение птиц и вздохи ветра, доносившиеся с улицы через плотно задернутые шторы, соединяли убогое, покрытое серыми обоями пространство каморки с внешним миром. Иногда шторы колебались, а вместе с ними дрожало (будто от холода) и неуверенно прислонившееся к краю потертой вазы старое павлинье перо.
Апартаменты эти стал еще при прежнем хозяине снимать какой-то южанин, человек смуглый, осанистый, ценивший больше всего на свете собственный покой. Едва въехав, он, сверкая огромными черными глазами, убедил хозяина не делать ремонт, а сдать ему комнату прямо так — под мастерскую. Руки этого здоровяка, скорее напоминавшие лопаты, беспрерывно были занятыми каким-то делом — то жарили яичницу, то листали газеты, то разводили краски. Помимо нового жильца, в апартаменты въехали штук сорок холстов, чемодан с тюбиками и колченогий мольберт.
В тот осенний денек смуглый постоялец наконец-то набрался смелости приступить к почти забытому холсту. Покопавшись в углу, вытянул из кучи недописанных полотен увесистый прямоугольник. Задумчиво поставил его на мольберт, подкрутив допотопные винты. Глубоко вздохнул и сдернул покрывало. Для завершения вполне удавшегося портрета не хватало всего лишь одной детали. Эта деталь измучила, иссушила его, уже давно не давала спать спокойно.
Осторожно, почти интеллигентно чихнув в сторону, чтобы не пролить растворитель из замызганной масленки, художник приступил к смешиванию цветов на палитре. Едва удовлетворившись полученным оттенком, он повозил кистью и положил на холст один мазок. Полученный результат отозвался звоном в ушах — он совершенно не вписывался в концепцию картины. Обитатель комнатенки еще немного поводил кистью по овалу мольберта и совершенно машинально вывел в углу две еле заметные буквы — М Т.
Щетина кисти еще не успела оторваться от верхней перекладины в букве Т, как обклеенная дерматином дверь задрожала от наглых, чрезвычайно громких ударов. Обладатель вполне заурядных инициалов дернулся было к ней, но что-то вспомнил, вытер кисти о рубаху и заботливо уложил их с палитрой прямо на незаправленную кровать. Набросил на холст покрывало — пусть пачкается, чего уж там. После чего подошел к двери и снял цепочку. От очередного удара дверь распахнулась. На пороге стояла маленькая, худенькая девушка с тубусом в руке. Её головка тонула в вороте колючего мешковатого свитера. Выглядело это весьма забавно — этакий мешочек на ножках. Когда она заговорила, голос ее был тих — шерсть свитера поглощала звук.
— Скажите, это вы здесь живете?
— Я здесь живу. То есть, работаю. А кто, собственно…
— Нет, вы подумайте, собственной персоной! — всплеснула визитерша рукавами.
— А, вы именно ко мне…
— Да, да, к вам. П-п-показать свои, знаете ли, работы. Я студентка, и мне сказали…
Непрошеная гостья переминалась с ноги на ногу, борясь с нерешительностью.
— К вам можно?
— Ну, как вам сказать, я вот тут живу… — пророкотал обитатель каморки.
— Это я знаю. Спасибо.
Набравшись смелости и переступив порог, она поискала взглядом стол и направилась прямиком к нему. Творец молча проводил ее взглядом. Девушка, подвинув пару грязных чашек к краю, со щелчком раскрыла тубус и вывалила на стол несколько плотных листов. Долгое время пролежав свернутыми, теперь они неуверенно разворачивались, демонстрируя нутро — прозрачную, нежную акварель.
— Чудесно, — проворчал художник, даже не глядя на работы. — Вы ко мне надолго?
— Нет, нет, — торопливо почти прошептала девушка. — Вы просто посмотрите. Я уже сказала, что я студентка, и…
— Чаю? Я люблю пить чай с сахаром. — Посетительница заметила свое отражение в черных, практически бездонных глазах. Похоже, она начинала жалеть, что пришла.
— Нет, я не пью чай, я люблю кофе с молоком.
— Что ж, тогда за молоком придется идти к соседу.
— Хорошо. Но вы посмотрите, пожалуйста, работы. Моя фамилия…
— Это неважно. Работы я посмотрю. Только схожу за молоком.
Задумчиво взъерошив смоляные волосы, портретист развернулся и вышел в темный коридор. Вскоре его шаги смолкли.
Молодая особа рассеянно присела на краешек кровати, оглядываясь по сторонам. Взгляд остановился на стопке толстых фолиантов, сваленных в одну кучу прямо у кровати. На одном из их корешков еле читались стертые буквы. «Ке-те-бе джил-ве», — едва удалось прочитать по слогам. Ерунда какая-то. Сразу после её взгляд остановился на покосившемся мольберте. Он был прикрыт тканью, но даже через нее просвечивали чудесные краски. Не в силах совладать с собой, визитерша встала, подошла к мольберту и сдернула покрывало.
То, что она увидела, потрясло ее. Ошеломленно она взирала на холст пару секунд. Мазки словно расплывались по грунтованной ткани, они двигались, как речные течения, как рябь на поверхности озера. От увиденного юная художница не могла пошевелиться; её словно окутал вязкий, парализующий туман. Под взглядом краски начали сливаться, создавать тени, блики и контуры, образуя очень знакомые черты… В правом нижнем углу, казалось, истерически танцевали и дергались две недавно написанные буквы — М и Т. Сделав неимоверное усилие над собой, гостья нагнулась, подняла с пола скомканное покрывало и накинула его на холст. Наваждение прекратилось.
Внезапно ей стало страшно — до одури, до тошноты. Инстинкт подсказал бежать. Торопливо запихнув свои работы в тубус, она подхватила его под мышку и выбежала на парадную лестницу. Очень вовремя — на верхней площадке как раз послышались шаги.
Через пару минут в комнату вошел ее внушительный жилец. Осмотрелся. Вперился нахмуренным взглядом в мольберт. Сделал пару шагов к нему и решительно сдернул грязное покрывало с портрета. Наконец-то он понял, какой детали не хватало. Подняв с кровати палитру и кисти, несколькими уверенными штрихами обозначил поверх шеи огромный ворот свитера. Теперь с холста на него смотрела точная копия недавней гостьи.
В это время хлопнула дверь подъезда. Почти сразу с улицы раздались визг шин и чей-то сдавленный вопль. Художник улыбнулся. В спертом воздухе снова запахло сиропом.

Не вдруг плед
Я бездарь! Просто бездарь. Не подающая надежды, не самая великая бездарь на свете, а просто бездарь в самом пошлом понимании. Кто-то умножает в уме пятизначные числа, кто-то строит дома из переработанных пивных бутылок, кто-то воспитывает десятерых детей, а у меня только что подгорела яичница. Сгорела! И вдруг они просят две картины к июню в местную галерею. Хорошо! Картины будут. На выставке. В отдельном зале. Но лампочки выкрутим или плащи набросим сушиться, и никто не догадается, что под этими серыми плащами покоится.
Да что какие-то картины, если даже кудри у меня непокорные, и сижу сейчас, усталая, в гордом одиночестве возле пышущего жаром камина, ем свой скудный ужин и пью обжигающий чай. И грудь у меня высоко вздымается, и тоска у меня в глазах. А за окном, вне всяких сомнений, сияют звезды и дует холодный ветер. Где салфетка? Любимая. Белая. С золотыми цветочками по краям. Какие грязные пальцы! Столько штампов прилипло! Примитивных. Жирных. А ветер действительно холодный, потому что лед на реке посинел, истончился и начал трескаться.
Совершенно не люблю работать днем, поэтому к чаю надо еще три эспрессо и мороженое. Мороженое в узкий бокал на длинной ножке и добавить туда шампанское. О, если боги едят десерт, то, несомненно, такой! А что, если бы я родилась талантливой, как богиня? Поменялись бы тогда волосы, ветер и тоска с мороженым? Сколько бы могла писать картин в год, месяц, день? Сколько бы выставок могла устраивать? И в городе, и даже за границей, на берегу озеро Комо в Италии. Смотрела бы на закаты цвета лазаньи и принимала поздравления. Обо мне писали бы в газетах, звали на радио, телевидение. Как бы я уставала! Пришлось бы много писать, мало спать, не было бы времени на друзей, и тогда… Я бы очень быстро состарилась и умерла от нервного истощения и одиночества. Вот она, цена за талант!
Последний бокал кофе, последние линии и спать. Если проведу их неровно, то скажут, что мало мастерства, если не буду писать клуатр, то скажут, что сдрейфила. Что за соринка возле дивана? Серая, маленькая. Надо поближе. Палка? Откуда здесь? Карандаш? Я бездарь, но какая же аффективная и страстная — так далеко закинула!
Холодно! Ветер абсолютно бессовестный сегодня. Если я не закрою окно, то все картины вылетят на свободу, как птицы из клетки.
Ошибаться нельзя! Совсем нельзя! Неровная линия — провал, позор и конец меня как художницы. Неудача! Гибель! Крах! Фиаско! Трагедия! Ка… катастрофа!
Я веду эту линию, длинную, как Нил, в котором выглядывают пасти голодных крокодилов, я веду эту линию и крепко сжимаю карандаш, чтобы не упал, чтобы не дрогнула рука, я чувствую, как напрягается кисть, потом плечо, шея, челюсть, глаза, и вот осталось еще чуть-чуть, миллиметр, еще миллиметр, и этот внутренний дворик будет окончен, и можно будет представлять, как по нему гуляли уставшие монахи, как мыли они свои морщинистые руки в фонтане перед трапезой, как молились о спасении мира, как звенели их четки и летели в небеса их тихие молитвы, как наполнялись светом их сердца, как садилось за горизонт солнце и проклевывались на небе звезды.
И вдруг! Какое интересное слово «вдруг»! В нем столько страхов, трепета, ожиданий. И вдруг я чувствую какое-то странное ощущение в груди. Что это? Аллергия? Пневмония? А вдруг я сейчас умру? Я не хочу умирать, потому что жаль оставлять недопитым шампанское с мороженым и жаль, что мир никогда не увидит мои картины.
Пуговицы расстегиваются, и оттуда появляется маленький, худой и долговязый человечек с микроскопом в одной руке и чемоданом, в котором бы поместилась я вместе с мольбертом, в другой.
— Ты должна творить, стараться, стремиться к совершенству и добиваться успеха! От тебя ждут картины, поэтому отдыхать некогда, продолжай! Тебя никто не спрашивает, хочешь или нет, а надо — значит, надо! Посмотри на Иру, у нее трое детей, и бизнес свой с нуля, и фигура точеная!
— Мама, ты?
Человечек закрывает окно («а то замерзнешь и заболеешь»), достает из чемодана доски, секунд за тридцать собирает сцену и вздыхает глубоко, чтобы хватило дыхания на долгую и важную речь.
Голос его пугающе знаком:
— Мама? Елена Иванна? Света? Терапевт из третьей городской? Игорь из Тиндера?
Долговязый много обо мне знает. Я смотрю на него, а он говорит и от своей важности растет, становится все выше и выше («Эта люстра или вилка? Всю голову расцарапала!»). Он нависает надо мной, как фонарный столб над скамейкой с влюбленными в парке, бегает по комнате, под микроскопом рассматривает мои картины: сначала приподнимается левая бровь, самая густая, потом правая, потом причмокивает, качает головой и приподнимает обе брови, раздувая щеки, словно писклявая африканская жаба.
Передо мной появляется улыбчивый мужчина размером с карандаш, с широкой спиной и мягкой кожей. В руках у него плед цвета жаркого лавандового поля. Плед тянется через всю комнату, покрывая разбросанные на полу картины, карандаши и кисти.
— Расслабится и проспит всю жизнь! — кричит долговязый и прыгает на пледе.
Улыбчивый резко дергает плед на себя, стряхивает пыль и набрасывает мне на плечи.
— А у вас пульс до 120 подскочил! Брому с ромашкой не хотите? — спрашивает он долговязого.
— Пролежит на диване с карандашом в зубах!
— А не хотите ли на море? Мы будем звонить вам при первых симптомах лени и сомнения.
— Будем, будем, — радостно киваю я. — Я вам очень благодарна! (А вдруг я все-таки не смогу без критики и пинков?)
— И в знак благодарности примите от нас билеты, — говорит улыбчивый. — Где же они? Неужели потерял? — Он выворачивает карманы, и из них со звоном падают на пол ключи, три барбариски, визитка стоматолога Соломатина И. В., чек из магазина и наконец-то заветные билеты к морю.
— Не избавитесь от меня!
Улыбчивый разбирает сцену («два дня хватит топить камин») и настаивает:
— У окошка, а на взлете апельсиновый закат? Малиновый?
— Пропадет!
— Вода плюс 29?
— Разленится!
— Я как только закончу, обязательно покажу работы. Пожалуйста. Я буду звонить, буду ждать загорелые фото. И кстати, диван у меня жесткий, неудобный!
Я бездарь! Просто бездарь. Но теперь у меня есть плед!

Ой ты, Галю
У мамы хорошо получалось их мирить. Хотя они и не ссорились по-настоящему. Так — слово за слово. «Вот умру, вы друг другу морды побьете». — Тогда мама шутила, а теперь не до шуток.
Сорока дней ждать не стали. Собрали вещи — самое необходимое — и уехали на дачу. Дома оставаться было нельзя. Вслух об этом не говорили: слово «смерть» было страшнее маминого отсутствия.
— А я борщ сварил. Только лук немного пережарил.
— Тебе же нельзя жареное.
— Мне много чего нельзя.
— Таблетки пил?
— Пил.
Разговор не клеился. Поели молча.
— Миша звонил. Приедет в субботу с Натусиком.
— А почему надо обязательно в выходной? Он же на пенсии, может в любой день приехать. Мне делать нечего — тратить выходной на чужого ребенка?
Миша — однокашник отца по суворовскому училищу. Ему должны большую сумму: мамина болезнь развивалась стремительно, один курс химиотерапии стоил две зарплаты. Миша занял без процентов, на «когда отдашь».
— Я говорил…
— Люди вообще без комплексов: переться за город на автобусе, где условий никаких, да еще с проблемным ребенком. Терпеть не могу невоспитанных детей!
— Ты вообще никаких не любишь. Была бы у меня внучка…
— Ой, всё, я вообще уеду, развлекай их сам!
Это, конечно, нечестно. Но вынести громкоголосого, шестилетнего, ни перед чем не пасующего Натусика (бывают же закаленные дети — босиком, в одних трусах, до ночи на улице, а в конце лета, между прочим, зори холодные), на самом деле, мог только Миша.
— Только потом не говори, что у тебя желудок болит и сахар поднялся!
Слезы брызнули сами, как у клоуна. От этого стало еще горше.
— Ты всё мне назло делаешь…
Когда плачешь, лежа на спине, вода из глаз затекает в уши и делается сладкой. В детстве от этого становилось смешно — и уже не было смысла плакать.
В деревянном домике холодно. Отец его построил своими руками. Мама любила здесь спать в августе — через окна веранды видны падающие звезды.
Кто-то укрывает шерстяным одеялом и тихо напевает:
— Ой ты, Гааалюю…
***
Они были веселой семьей: свой язык, особенные шуточки. По пятницам приходили гости: дедушка Коля — «неподкупный Робеспьер», бывший прокурор и персональный пенсионер, тетя Тая — давно разведенная мать-одиночка, тянущая на себе непутевую великовозрастную дочь и алкаша-внука, да Саша-Приветик. Саша был сосед-инвалид, кудрявый и смуглый, чем-то похожий на великого поэта Пушкина, легкий шиз, круглый год ходивший в расклешенном клетчатом пальто и длинном шарфе.
— Ооооой ты Гаааалююю, Галю молодааааяяяяя! — самозабвенно тянули дедушка-прокурор и Приветик после третьей рюмки. Тетя Тая молча обливалась слезами.
Петь любили и умели. Мама в юности имела замечательную колоратуру, училась на вокальном в музучилище, часто выступала.
— Жена моего сына не может петь в театре, все артистки — шлюхи! — первое, что услышала она от свекрови.
Мечта учиться в консерватории пропала, голос остался. Пела много: и с детьми в своем ясли-садике, и с гостями по выходным и праздникам.
— Надя, спой «Ой ты, Галю»!
Саша-Приветик слушает, подперев смуглым кулачком кудлатую голову. Глаза у него слезятся — то ли от болезни, то ли от восторга.
Мама поет «Галю», «Тбилисо», «С подружками по ягоды». Ей уже не подпевают, не хотят портить красоту. От ее пения всем почему-то грустно и как-то тесно в груди.
***
— Я поехала.
— Как знаешь.
Они все-таки не до конца помирились.
— Пап, ну не выношу я эту девочку, обязательно сорвусь, только хуже будет.
— Ладно.
Ну вот, выходной все равно испорчен. Трястись в душном автобусе из-за собственного упрямства.
На остановке обнаружила Приветика. Постарел. Кудри уже не те. И не улыбается.
Приветиком Сашу называли не по причине небольшой шизофрении, а из-за манеры здороваться. Он всегда говорил при встрече:
— Приветик! — и показывал крупные желтоватые зубы.
В этот раз Саша не поздоровался. Может, не узнал. А может, это вовсе и не Саша.
Из города пришел распаренный автобус. Она сразу их засекла: небольшого роста жилистый мужик в кепке и крепенькая, как боровичок, девочка-дошкольник.
«Неопрятный ребенок. Платье мятое, косы заплетены как попало. Зачем люди заводят детей, если не хотят ими заниматься?»
Она была единственным ребенком. Ни сестрички, ни братика не просила — только собаку. Не разрешали. Бабушка-разоблачительница актерских нравов животных не терпела.
Натусик прижимает к себе игрушечного щенка. Опускает на землю, делает вид, что ведет на поводке.
— Зачем ты его пачкаешь? Это же собака, а не свинья.
Всё-таки не смогла сдержаться.
— Теть Галь, я его рядом учу ходить.
— Заведи живого и учи.
— Мне бабушка не разрешает.
Натусик не умеет обижаться. Щенок уже забыт, валяется где-то на дороге. Девочка летит, утаптывая пыль босыми пятками. Миша давно отстал: заглянул в магазин за разливным пивом, да и завис там.
Подобрала игрушку, заторопилась: еще упадет, расшибется. Невыносимый ребенок.
Натусика воспитывает бабушка, третья неродная Мишина жена. У Миши теория: первая жена — настоящая, вторая — куда ни шло, а третья — так, для ровного счета.
— Зачем тогда женился? — не раз спрашивал отец.
— Да шут его знает…
Дома Мише пить не позволяют. Поездка на дачу к овдовевшему однокашнику — одна из немногих радостей на старости лет.
Вечером Миша с отцом сидят за шахматами. Всё уже выпито и съедено, вода в бочке безнадежно замусорена неутомимым Натусиком: «Тёть Галь, мой щенок плавает!» Выходной бездарно испорчен. Хотя это мелко: вся жизнь испорчена такими вот мишами с натусиками. Отдать поскорее деньги — и чтоб их духу здесь не было.
— Смотрите, звезда упала!
Счастливые глаза Натусика видны даже в темноте.
— Еще одна!
Звезды падают тихо, в отличие от слез. Только бы не заметили, еще не хватало, чтоб жалели.
— Ооой ты, Гааалююю… — негромко начинает Миша разбитым тенором.
— Галю молодааааяааа… — подхватывает отец.
По трассе в остывшем автобусе едет странноватого вида пассажир в старомодном пальто в черно-желтую клетку. Он долго и горячо бормочет в мохеровый, не по сезону, шарф: «Приветик, приветик…» — и, наконец, засыпает.

Она неуловимо изменилась
Олег легко взбежал по лесенке в вагон и протянул Кате руку. Ладонь его оказалась холодной и крепкой. Катя, раскрасневшаяся от долгого бега и быстрого шага, взобралась следом. Олег весело глянул на нее и коротко бросил: «Последний рывок!» Она улыбнулась, но ему в спину, потому что он уже решительно открывал дверь следующего вагона и ступал в неровный холодный свет.
Запахло поездом. На ходу сняли рюкзаки и понесли перед собой. Уже можно было не спешить, но они все равно зачем-то шли тем же скорым шагом, как будто не смогли вовремя затормозить. Кате было горячо дышать, она старалась не отставать — следовала за спиной Олега. Спина равномерно шуршала бежевой спортивной курткой и не желала сбавлять скорости.
Почти все двери купе были закрыты, только в предпоследнем удалось подглядеть сидящего у столика усатого господина в устаревшем деловом костюме.
Миновали тамбур, вошли в следующий купейный вагон. Вдруг качнуло назад — поезд тронулся. Катино сердце подпрыгнуло вместе с первым стуком колес: едем!
Потом снова тамбур, грохот межвагонных дверей и — их плацкарт.
Здесь была своя жизнь, которой следовало подчиниться. Сбавить ход и прижать рюкзак к себе. Увернуться от твердого на вид чемодана на полу и спящих ног на верхней полке, уступить дорогу дымящейся кружке и подождать застилающейся боковой постели.
Ну вот и пришли. Олег сразу принялся доставать матрасы и неприятные клетчатые пледы с антресолей, а Катя наконец рухнула на свое место, сделала глубокий вдох, выдох, и глянула в окно. Вспомнила холод ладони Олега на своей, сжала руку в кулак. Сквозь отражение вагонного света взгляд ее вылавливал то дерево, то куст, сразу исчезавшие из виду. Все эти мелькающие елки и кусты, темнеющее небо — вся эта природа была та же, но она неуловимо изменилась. Всё было спокойно, правильно, на месте. Сразу захотелось купленных на вокзале блинчиков и чаю.
Катя проснулась оттого, что кто-то тряс ее за плечо. Она открыла глаза и увидела над собой всклокоченную седую голову. От испуга резко похолодели конечности, но через мгновение под седой головой обнаружилась сияющая в полутьме белая ночная сорочка, в нос проник цепкий лавандовый запах шариков от моли, а всё вместе сложилось в бабку-попутчицу из соседнего отсека. Та увидела, что Катя не спит, и заторопилась:
— Я тут с сестрой еду. Она в другом вагоне. Отнеси ей — вот, — и протянула Кате прозаического вида мятый целлофановый сверток, перетянутый резиночкой для денег.
Катя приподнялась и машинально взяла предмет в руки — в нем что-то мелко и дробно перекатилось.
— Она не засыпает без этого, — кивнула на сверток бабка и добавила с вызовом: — А я не могу, у меня ноги больные.
Катя тоскливо посмотрела на верхнюю полку. Лицо спящего Олега было непривычно серьезным. Вот бы он проснулся, и всё сразу бы решилось легко, одной левой. Но будить его из-за такой ерунды показалось совершенно абсурдным.
И Катя пустилась в путь. Шла обратной их с Олегом дорогой. В одиночку все казалось обостренным: людские ступни на верхних полках нависали ближе, ручки дверей сделались тверже, сами двери не желали открываться с первого раза, ветер из-под колес в тамбурах трепал нахальнее и холоднее.
Вагон восемнадцатый, место тридцать первое. Восемнадцать, тридцать один, восемнадцать-тридцать-один — повторяла про себя надтреснутые наставления старухи. Сверток в левой руке почти ничего не весил, но самоуверенно шуршал.
Во втором купейном вагоне снова осталась открытой только дверь устаревшего господина. Он сидел в тех же декорациях, но теперь размешивал сахар в домашней керамической чашке. Их глаза встретились, Катя покраснела. Господин кивнул ей и остался позади.
Дальше был вагон-ресторан. В нем все позвякивало и теснилось. Как роза в букете, у бара стояла чернобровая официантка с идеально накрашенными губами. Катя уточнила у нее, сколько вагонов еще идти, и ужаснулась двузначному числу.
Следующие два купейных вагона были молчаливы и безучастны, они мертвенно неслись сквозь черноту за окнами, рвано разрезанную редкими фонарями. В стуке колес Кате слышались звуки жизни за запертыми раздвижными дверями, но были ли они реальны. Еле уловимые вздохи и позвякивания вполне могли быть голосами самого поезда или его призраков, оставленных здесь на целую вечность мчаться и мчаться, пока не погаснет солнце.
В тамбуре курил человек в черном капюшоне. Тряхнуло, он покачнулся, блеснул искрой сигареты и посторонился. Катя прошла сквозь табачное облако и начала свой плацкартный путь.
Как и любой лес, ночные людские джунгли содержали в себе тайны, неясности, мистерии. Блуждающие огни экранов мобильных, шорохи пакетов с едой под столом, ароматные облака слабого алкоголя, вспышки подросткового хихиканья и младенческого рыданья. И людские тела, тела, тела… Они тенями грудились вокруг Кати, возились, копошились, вертелись, и не было им конца.
Катя мелко дышала, шуршала свертком в руке и шла по возможности быстро. Твердила заклинанием: тринадцатый, восемнадцать-тридцать-один; четырнадцатый, восемнадцать-тридцать-один; пятнадцатый…
Восемнадцатый. Нагибалась посмотреть номер полки, шла дальше, нагибалась, смотрела и шла. В предпоследнем отсеке горел свет от карманного фонарика, неровно подрагивающего на столе в такт стуку колес. Над пластмассовым контейнером, рядом с цифрой тридцать один сидела старуха в лыжной шапке и звучно ела печеную тыкву. Пахнуло кисло-сладким.
— О, привет. — Старуха облизала пальцы и отставила контейнер с рыхлым оранжевым содержимым. — Давай-ка сюда.
Она отобрала у Кати сверток, содрала резиночку и буднично раскрыла целлофан. Катя вытянула шею: в пакете были беруши на плетеной веревочке и плоская круглая жестяная коробочка — монпансье. Отвинчивающим движением старуха сняла с коробочки крышку и закинула в рот две карамельки неопределенного слюдяного цвета. Взялась за беруши и, будто опомнившись, подняла брови на Катю.
— А-а, ну да, — решив что-то, крякнула она. Пошарила на столе и достала скрытый за фонариком прозрачный бутербродный пакет. В нем раскачивался крупный пирожок с вишневыми пятнами по бокам. — На вот. Я сама пекла.
Катя приняла награду из старушечьих рук и взглянула в лицо дарительнице: это было в точности то же лицо, что и у косматой соседки в сорочке.
Подъезжали к станции. Поезд натужно стукнул о рельсы несколько раз и остановился. Катя сидела на своем месте и смотрела на пустой, блестящий от недавнего дождя ночной перрон. Перед ней лежал пакет с пирожком.
«Олег проснется, а у меня пирожок», — пришла привычно связанная с Олегом мысль.
Но следом некто внутри Кати, тот, кто прошел весь путь сквозь поезд и вернулся назад, посмотрел в лицо своему отражению в окне, усмехнулся и откусил от пирожка добрую половину.

Пассажир
Путь от многоэтажного дома с домофоном на железной двери до станции метро «Проспект Ветеранов» составляет примерно восемьсот пятьдесят шагов. Ближе к семистам семидесяти летом, когда нет препятствий в виде луж, сугробов и буксующих автомобилей марки «Хёндай» серого цвета. Практически тысяча зимой, когда все перечисленные препятствия присутствуют.
От станции метро «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Ленина, Финляндский вокзал» поезд следует ровно двадцать восемь минут. Для того чтобы оказаться рядом с эскалатором, ведущим к улице имени Боткина, посадку необходимо производить в первый вагон поезда, следующего в направлении «Девяткино».
Частота движения поездов составляет три минуты. Около пяти минут требуется, чтобы пройти платформу станции «Проспект Ветеранов» до первого вагона. Учитывая время следования до станции «Площадь Ленина, Финляндский вокзал» и подъема эскалатора к улице имени Боткина, а также количество шагов до офиса газеты «Надежда», располагающегося на третьем этаже многоэтажного дома без домофона на стеклянной двери, оказаться в офисе газеты «Надежда» вовремя кажется затруднительным. Поэтому приходится произвести посадку в последний вагон поезда, следующего в направлении «Девяткино».
Посадка в последнем вагоне отличается от посадки в первом. Можно занять сидячее место, но его полагается уступать беременным женщинам, пожилым людям и пассажирам с детьми.
Место занимает недобросовестный пассажир, не относящийся к перечисленным категориям, и принимается играть на мобильном устройстве фирмы «Эппл». Цветные пятна, которые недобросовестный пассажир объединяет по три в ряд, отражаются в темном, заляпанном стекле вагона поезда, сразу под надписью, призывающей уступать.
Пассажир соединяет в ряд много цветных пятен и надписи не видит.
Она заходит на станции метро «Технологический институт, выход на правую сторону», и пассажир становится добросовестным, уступая место, хотя она тоже не относится к беременным женщинам, пожилым людям или пассажирам с детьми.
Она молода. Тонкая кожа нижних век почти прозрачная, синеватая от просвечивающих жилок. Морщины на лбу и носогубные складки неглубокие, мимические, а от улыбки проступают ямочки в форме запятых. Шея, чуть прикрытая цветным платком, гладкая и светлая, усыпанная точечками веснушек, таких ярких, будто йодом нарисовали. Такие же точечки есть на носу и даже на губах. Кожу на руках рассмотреть не удается из-за тканевых перчаток.
Она поправляет волосы, потом подол пальто. Тянется в карман, улыбается, и ямочки-запятые становятся глубже. Говорит что-то недобросовестному, но исправившемуся пассажиру, поворачивается левым ухом. Смеется в ответ.
Представляю, как мог бы ей ответить. Увлечь интересным фактом, например, что уровень шума в вагоне не должен превышать 70 децибел, средняя скорость движения поезда метро — сорок километров в час, а дорога от проспекта Ветеранов до Финляндского вокзала занимает ровно двадцать восемь минут. Возможно, девушке с ямочками-запятыми выходить там же, и мы могли бы продолжить нашу беседу, и даже обменяться номерами телефонов для продолжения знакомства.
Для того чтобы встречать ее по утрам, я согласен осуществлять посадку в последний вагон поезда, следующего в направлении «Девяткино». И, конечно, следить, чтобы она могла сесть на место, предназначенное для беременных женщин, пожилых людей и пассажиров с детьми.
Она могла бы однажды стать беременной женщиной, пассажиром с детьми и пожилым, но все таким же красивым человеком. Очень красивым.
Очень.
— Че пялишься, дебил? — грубо интересуется недобросовестный пассажир, ставший добросовестным, уступив ей место. — Слюни подбери, урод. Понарожают же, нормальным людям смотреть противно.
Я пытаюсь исследовать нижнюю часть лица на предмет выделившейся слюны — ничего нет! — когда она поднимает взгляд и замечает меня.
Ямочки-запятые пропадают.
Она встает.
— Садитесь, пожалуйста. — Рука в тканевой перчатке касается моего плеча и тут же отдергивается. — Садитесь.
Мотаю головой.
Она настаивает.
Я пытаюсь вытолкнуть хоть слово через сведенное судорогой горло, неразвитый речевой аппарат и вялый, как кусок переваренной колбасы, язык. Выходит мычание. Язык пытается покинуть ротовую полость.
Она очень красивый пассажир.
Осуществлять перемещение по платформе станции «Площадь Ленина, Финляндский вокзал» до головы поезда и эскалатора, ведущего к улице имени Боткина, очень неудобно. Пожалуй, я больше никогда не буду производить посадку в последний вагон, даже если это будет означать, что я не успею в офис газеты «Надежда» вовремя.
Ноги моей в этом вагоне не будет.
Подъем на эскалаторе занимает полторы минуты, с погрешностью.
От станции метро «Площадь Ленина, Финляндский вокзал» до офиса газеты «Надежда», располагающегося на третьем этаже многоэтажного дома без домофона на стеклянной двери, примерно шестьсот шагов.

Последний вагон
Летнее утро 2017 года. Седовласый мужчина лет семидесяти растерянно поглядывал на польского полицейского. «Ну, на этот раз хоть со смартфоном», — думал он, плотно прижимая к груди карман пиджака с ценной поклажей. Пока представитель власти заполнял протокол, у неудачника в голове пронеслась картинка из прошлого.
Лихие 90-е перекраивали жизнь, заставляя людей заниматься не своим делом. Вчерашняя вшивая, как называли ее в советские времена, интеллигенция вынуждена была вместо чтения лекций считать бесконечные полотенца, кофточки, трусики. Обзванивать знакомых, друзей, родственников, чтобы продать этот незамысловатый турецкий, благо, качественный товар. Наш герой в начале 90-х мотался в Турцию за покупками. И, в очередной раз напихав до предела модный баул, он мирно потягивал горячий кофе. Восходящее солнце обещало жару. Чтобы не тратить время на лишние движения, мужчина надел плотные трусы, а поверх их модные турецкие шортики с белой полоской сбоку. «Пусть завидуют», — думал он. Всё, даже паспорт, уместилось в объемном бауле. Деньги были потрачены, оставалась только мелочь в кармане. Наконец-то коллеги по цеху, такие же челночники-интеллигенты, как и он сам, позвали его к поезду. У них был последний вагон. Все дружно и весело рассовывали баулы, наблюдая за тем, как проводница взволнованно бегала возле вагона. Она недовольно мычала: «Оштрафуют, оштрафуют». Ругалась. Но никакие угрозы и мольбы не помогали. Народ пихал поклажу во все возможные и невозможные места в купе, отчего вагон неумолимо кренило на бок. Прозвучал последний гудок. Видавший виды, теперь уже бывший советский народ кое-как примостился на баулах где-то между верхними и нижними полками. Незаметно пролетел день вместе с километрами. Проводница раздала простыни. На улице жара спала, но в вагоне было душно. Наш герой, находясь в купе еще с двумя дамами, тихонько под простынею разделся полностью. Так было уютней. Колеса убаюкивающе стучали, покачивающееся звездное небо молчало калыханку. Так незаметно пролетела ночь.
Утро. Предпоследняя станция перед границей. Соседки по купе уже собрались вставать, но они могли это сделать только после того, как проснется их попутчик. Дело усложнялось трусами. Вернее, их отсутствием. Чтобы ускорить процесс, наш герой со словами «Подождите, девочки, я хоть трусы надену», ловко натянул только шортики.
Поезд стоял пять минут. Глянув на мелочь, мужчина прикинул, что на булочку хватит, и выскочил на перрон. Перед самым носом продали последнюю. А есть хочется. Оставалось еще две минуты. За зданием вокзала продавали какие-то трубочки. Людей не было. «Успею», — подумал наш герой. И крепкое, спортивного сложения тело в доли секунды оказалось у трубочек. Продавец тщательно, с недоверием, с прищуром поглядывая на этого русского, пересчитывал монетки. Наконец, желанная трубочка была у мужчины в руках. Он жадно оторвал кусок крепкими зубами и рванул обратно к поезду.
Каково же было его изумление, когда на путях он не увидел ничего, кроме беспорядочно разбросанных окурков. Голова сама резко повернулась вбок. На него издалека, мелодично покачиваясь, безразлично смотрели два красных глаза удаляющегося последнего вагона, который беззвучно прощался с перроном.
Мужчина так и остался стоять в этих шортиках с полоской, с откусанной трубочкой. Покачивающийся вагон увозил паспорт и все остальное.
Наш герой стал переваливаться по перрону, как вратарь у хоккейных ворот, расставив ноги и раскинув руки, словно поезд шел не от него, а на него, и надо было только успеть поймать.
Тяжелый липкий крем из сгущенного молока медленно стекал по пальцам из трубочки. Мужчина нервно слизал эту сладкую массу. Замер. Остановились люди, видевшие все это, перестала чистить перья ворона на привокзальном тополе, дежурный по вокзалу впился взглядом на полоску шортиков.
«Посадят, посадят как шпиона», — мелькнуло в голове интеллигента.
Но дежурный по вокзалу, ничему не удивляясь, очень спокойно на каком-то своем русском объяснил, как догнать поезд.
Наш герой молниеносно выскочил на трассу, которая шла к последней станции перед границей, и стал ловить попутку.
И, о счастье, едет жигуленок. Но за рулем сидел болгарин, который русский язык слышал только пару раз по телевизору. С помощью жестов, подтирая текущие от жары и натянутых нервов сопли, сухо глотая слюну, мужчине удалось-таки объяснить, что нужно. Болгарин медленно вышел из машины и на песчаной обочине плавно начертал тополиной веточкой: 50$.
Наш герой остолбенел. Трубочку проглотил, не прожевывая. У него, кроме шортиков, ничего не было, на что и указал шоферу. Болгарин, выпучив большие коричневые глаза, показал белоснежные ладони и в ужасе замотал головой. Теперь глаза на лоб полезли у нашего героя, который понял, что тот принял его за голубого и вот-вот бросит посреди дороги. Он затрепыхался, как петух, пойманный за горло, и просипел: «Мани в поезде! Мани в поезде! Есть, честное слово!» — Болгарин неуверенно качнул головой, тяжело выдохнул, медленно вытер пот. Открыл дверку.
Поезд на последней станции стоял две минуты. Денег у нашего героя не было, а объяснять попутчицам, которые даже не заметили его отсутствия, зачем ему пятьдесят баксов, было некогда. Бедный интеллигент последним усилием воли вытеснял из себя петушиный «Просто дайте!» Болгарин крепко держал его за руку, проводница была готова к отходу поезда. Наконец одна женщина сжалилась над неудачником и через форточку кинула несчастные бумажки. Болгарин ловко перехватил добычу и растворился.
Поезд тронулся. Только сейчас мужчина понял, что он еще на перроне. Крепко сжав кулаки, в два счета оказался у ног проводницы, напряженно подтянулся и ввалился в тамбур. Откуда-то сверху услышал знакомое мычание: «Мужчина! В вашем возрасте уже за поездами не бегают!» Громко хлопнула дверь.
Полицейский сунул бумагу, написанную на польском языке. Наш герой прочел краткое описание кражи всех его вещей и документов, тяжело вздохнул. «Н-да… Ну хоть смартфон со мной».

Последний раз
После неуютного ветреного апреля в Москву пришла, наконец, настоящая весна. На Первое мая погода никогда не подводит — для горожан это уже успело стать приметой. Раньше так было на Пасху. И хоть праздники уже кончились, в обеденный перерыв набережные наполнялись смешливой молодёжью, которая с мороженым догуливала короткие каникулы.
Эмилия Ивановна не ездила на демонстрацию из-за мигрени, и сейчас перед ней впервые возник новый Крымский мост, освобожденный от строительных лесов. Вид его огромных струн в ясном небе заставил сорокалетнюю даму, подхваченную каким-то детским порывом, выскочить в последнюю секунду из трамвая, который уже начал движение. Она шагала и слышала в какофонии набережной деликатный стук своих тонких каблучков по граниту. Темно-серые ботильоны сидели на ноге, как влитые. Там были еще бордовые, они понравились даже больше, но оказались маловаты. Досадно.
Когда муж увидел её обновку, он сначала расплылся в улыбке: «Милечка, откуда такая красота?» Не успела она ответить, как его улыбка сползла, и он продолжил металлическим тоном: «Ты опять была в кормушке, Миля? Сколько раз я просил тебя перестать туда ходить. На меня уже косо смотрят в отделе! Это стыдно, неужели ты не понимаешь?» Миля понимала. Чем больше она об этом думала, тем больше мурашки стыда бегали волнами по позвоночнику. Да, стыдно. Да, они тоже люди, хоть и враги. Но с другой стороны, им уже эти вещи не нужны! На помойке разве больше пользы будет от них? К тому же ни она, ни муж никакого отношения не имели к этим делам: он всего лишь бухгалтер. «У Аллки, вон, муж в ОГПУ, лично политических допрашивает, а она в распределитель бегает чаще меня — ей не стыдно?» — думала Эмилия Ивановна, подходя к заветному крыльцу без вывески в Молочном переулке. Неприятные мысли так разволновали ее, что она оступилась на брусчатке и угодила ногой в глубокую лужу. Через швы ботильона внутрь мгновенно просочилась вода. Эмилия Ивановна беззвучно выругалась, отдышалась и велела себе больше не думать о плохом. В прошлый раз она видела в «кормушке» мельхиоровую сахарницу изумительной красоты, явно прошлого века, но постеснялась взять, потому что и так уже набрала много. Аллка сказала, что еще только сегодня пускают сотрудников, а завтра почти всё свезут в «Магазин случайных вещей». Только бы не увели сахарницу. Последний раз, и всё. Муж не заметит, он равнодушен к посуде.
Страсть к старым вещам Эмилия Ивановна питала с детства. Ее мать, до того, как пропала без вести в восемнадцатом, много лет служила гувернанткой в дворянской семье, и хозяева часто брали ее с собой за границу. Из каждой поездки она привозила дочери сувенир — чаще всего с блошиного рынка, потому что на сувенирные лавки не хватало денег. Когда Эмилия Ивановна стала женой госслужащего, решено было на всякий случай избавиться от «буржуйских» маминых подарков. Но она помнила их все в мельчайших деталях и теперь в пестроте спецраспределителя безотчетно старалась выискивать вещи, которые чем-нибудь неуловимо напоминали ее утраченные сокровища.
По коридору шныряли люди с тюками. «Кормушка» занимала квартиру на первом этаже со снесенными перегородками и небольшой внутренний двор, где были установлены навесы от дождя. В доме проживали в основном семьи сотрудников НКВД, так что информация о складе конфиската далеко не расходилась. Эмилия Ивановна слышала, что этот спецраспределитель не единственный в Москве, но не знала других адресов. На вахте у нее не спросили удостоверение: вахтер хорошо знал ее в лицо и приветственно кивнул.
Войдя в помещение склада, она твердо решила сдержать данное себе слово, направилась прямиком к угловому столу, на котором видела сахарницу, и была так сосредоточена на своей цели, что не сразу услышала знакомый голос: «Милька! Миля! Ну ты глухая, что ли?» Аллка. Никогда не стесняется орать через весь проход. Ни стыда, ни совести у некоторых людей. Эмилия Ивановна заставила себя улыбнуться и взглянула на подругу. Алла стояла в просвете выхода во двор, махала одной рукой, а в другой держала что-то — свет с улицы мешал разглядеть, что именно. Эмилия Ивановна приблизилась. Так и есть: Аллка урвала ее сахарницу. Тварь. Еще и вода в ботинке хлюпает.
— Так и знала, что придешь, не упустишь случая! — весело ёрничала Аллка.
— Здравствуй, моя дорогая.
— Смотри, что я нашла. Это любовь с первого взгляда. День прожит не зря.
— Прелесть. У тебя глаз-алмаз.
— Глаз намётан, это да.
Эмилия Ивановна старалась не смотреть на сахарницу и не знала, что ей делать дальше. Просто чтобы выйти из неловкой паузы, она сделала шаг к столу с детскими игрушками и начала деловито в них копаться. Взгляд упал на кукольную косу, обвязанную красной тесьмой. Эмилия Ивановна потащила за косу и извлекла из-под плюшевых зайцев и деревянных машинок миниатюрную, тонкой ручной работы, тряпичную куклу в финском национальном наряде. Васильковое платье было подпоясано полоской коричневой кожи и вышито по вороту и рукавам красным, желтым и белым бисером. Тот же мелкий северный узор повторялся на головном уборе с длинными «ушками». Лицо было искусно нарисовано тушью на ткани и обрамлялось светлыми пеньковыми волосами, очень похожими на человеческие. «Бывают же мастерицы, мама так не умела…» — мелькнуло в голове у Эмилии Ивановны.
— Вот у кого глаз-алмаз! Чудо какое! Я столько раз мимо этого стола ходила — и не замечала! — подскочила громогласная Аллка.
— Да вот, у племянницы день рождения в субботу, а я всю голову сломала, что подарить.
— Ты что! Дарить неновое ребёнку — очень плохая примета!
— Да?..
У Эмилии Ивановны не было своих детей, и она плохо ориентировалась в детских приметах.
— Но она же совсем как новая, я бы в жизни не сказала…
— Да, но мы-то с тобой знаем, что она не новая. — Алла голосом выделила «не».
Эмилия Ивановна замешкалась, замолчала, рассеянно глазея на куклу, трехлетняя хозяйка которой в этот момент ехала с тощей белокурой мамой в мерзлом вагоне жить в ледяной избе и ловить советскому народу рыбу в водах Северного Ледовитого океана. Глаза Эмилии Ивановны вдруг опустели. Она стояла в проходе, опираясь о стол, и было удивительно, как ее тело сохраняет равновесие, потому что выглядело оно так, как будто сознание его покинуло. Через несколько секунд сзади подошел грузчик с тележкой, полной кухонной утвари: «Посторонись!» Эмилия Ивановна не шевелилась.
— Миль, ты чего?
Миля не ответила, но ее тело пришло в движение, молча положило куклу на стол и поплелось к выходу. Мужу перестали задавать неудобные вопросы на работе, ведь она действительно больше никогда не приходила в «кормушку».

Правила хождения бейдевиндом
В понедельник Игорь Петрович поссорился с женой. Начали, как обычно, с яичницы, а закончили изобразительным искусством. Ингины завтраки не отличались разнообразием — вот уже двадцать лет и три года она каждое утро подавала супругу подгоревшую глазунью и категорически отказывалась нанимать повара. С этим еще как-то можно было смириться, если бы ее кулинарные изыски не сочетались с неугасимой страстью к современной живописи. Как-то по случаю Инга на одном из аукционов раздобыла холст с изображением вороны, вцепившейся в сухую ветку на фоне оранжевой горы, а недавно оказалось, что это шедевр великого американского художника. Мгновенно вздорожавшая дерзкая птица торжественно переехала из коридора в гостевом крыле дома на каминную полку в столовой, откуда, взирая пронзительными человеческими глазами, незаметно для хозяйки портила аппетит любимому мужу.
Они не разговаривали два дня, на этот же срок приемы пищи, к обоюдному, тщательно скрываемому удовольствию, были перенесены в ресторан. За ужином в среду Инга все-таки не выдержала, и, дождавшись, пока официант примет заказ и отбудет на кухню, с обиженным видом положила Игорю Петровичу на тарелку конверт с красными печатями и штампом «Судебное».
— Неужели нельзя было предупредить, если собрался разводиться? — произнесла она трагическим шепотом и закрыла лицо руками.
Игорь Петрович вовсе не собирался, ему в этом браке было комфортно. Это он у себя в компании генеральный директор и верховный диктатор, а дома его всегда мог приструнить командор — любимая и преданная Инга. Слышали фразу «счастливая жена — счастливая жизнь»? В их семье эта формула свято и беспрекословно соблюдалась со дня свадьбы. Зловещий конверт не мог причинить вреда их браку, хотя бы потому, что его прислали из арбитража. Он подошел к ней, обнял и вложил в руку футляр с заранее припасенным извинением. Она не стала сопротивляться. Умным женщинам бриллианты очень хорошо помогают от нервов.
Этим же вечером, открыв дома послание, Игорь Петрович убедился, что дела его гораздо хуже, чем он предполагал. Вопрос, по которому его вызвали, касался раздела фирмы с его давним партнёром Максимом Александровичем, бессовестно выведшим большую часть активов у него из-под носа. Нудная и изматывающая судебная тяжба в первой инстанции увенчалась викторией, но настырные адвокаты Максима Александровича подали апелляцию. Вспоминать эту неприятную историю не хотелось, но пришлось, тем более что в повестке была отметка об обязательном участии в завтрашнем заседании. Игорь Петрович так разволновался, что даже достал из бара коньяк, но, поймав на себе язвительный взгляд вороны, передумал открывать бутылку и хмуро поставил ее обратно.
Под утро Игорю Петровичу приснился совершенно безумный сон, как будто он попал в пустыню, но по какой-то странной прихоти не брел через неё, как всякий уважающий себя путник, а плыл сквозь песчаные гряды благородным баттерфляем, впрочем, изредка сбиваясь на банальный кроль. Ландшафт не удивлял, но при столь неординарном способе передвижения тревожил: на много километров вокруг все было желтовато-белесым, барханы и небо незаметно перетекали друг в друга, а линии горизонта будто и вовсе не существовало, так что проложить более-менее внятный курс никак не удавалось, да и цель была неясна. Игорь Петрович все-таки держался на плаву, хотя и порядком утомился. Он дрейфовал, словно в большом пыльном мешке, совершенно один среди зноя, безмолвия и полного отсутствия координат. Пустыня, осмелев, потихоньку начала закручиваться вокруг него воронкой. Игорь Петрович, барахтаясь в необъятных топких песках, как жёлтая резиновая уточка после кораблекрушения, вдруг заметил неподалёку цепочку следов. Что-то сверкнуло впереди, какая-то металлическая вещица, сулившая спасение. Он обрадовался, рванулся к ней, но, достигнув места, закричал от ужаса — это оказались его собственные часы, потерянные в самом начале пути через дюны.
Он сердито выпил чашку кофе прямо на кухне, и, стараясь не хлопнуть дверью, вышел из дома. Инга проводила взглядом его автомобиль, надела халат и новые серьги и спустилась в сад — среди гортензий волноваться за мужа ей было гораздо легче — она тоже немного побаивалась пернатую кутху.
В дороге Игорь Петрович неожиданно успокоился и решил принять свою судьбу. Подъезжая к зданию суда, водитель случайно задел кнопку громкой связи, и неистовый Вакарчук заорал на весь салон: «Я нэ здамся бэз бою!» Игорь Петрович встрепенулся. «И я не сдамся!» — подумал он и решительно шагнул под сень Фемиды.
В зале заседаний было светло и прохладно. Команды адвокатов, тихо переговариваясь и тасуя документы, разместились друг напротив друга за длинным дубовым столом, во главе которого по указанию секретаря заняли свои места Игорь Петрович и Максим Александрович. Сидеть рядом им было неуютно, но как только в зале появилась судья, все эмоции разом погасли. Заметно прихрамывая, она взошла на капитанский мостик, и процесс начался. Когда она принимала у адвокатов доверенности, из-под манжеты мантии мелькнул стальной хронограф. Игорь Петрович не мог перепутать эти часы ни с какими другими — у него был точно такой же «Яхт Мастер», приз за победу в Сидней Хобарт. Он еще раз внимательно посмотрел на судью и явственно услышал залп пушек с крепостных стен мальтийской Валлетты. Насмешливые льдистые глаза и острая линия носа ничуть не изменились со дня их первой встречи — перед ним восседала Анна Морриган собственной персоной, единственная женщина–шкипер высочайшего класса, легенда мирового яхтинга.
Это был его первый Миддл Си в составе профессиональной команды. Он так радовался, что его взяли на яхту свиппером, что по собственной инициативе, а не только по указанию капитана, каждый день драил палубу, учился ставить и настраивать паруса, стараясь впитать побольше солнца, просоленного воздуха, запаха моря, свободы и счастья. Однажды, когда он по обыкновению возился со штагами на корме, на борт поднялась крепкая невысокая брюнетка и спросила рулевого. Игорь решил сойти за бывалого.
— Зря пришла, — с чувством превосходства произнес он. — Мы баб в команду не берем! — и тут же схлопотал смачный варкуль от мачтового.
— Илья, где ты взял такого резвого ослика — три круга вокруг баркаса за пять минут и учтив, как баржак? Отдай его мне на воспитание, — рассмеялась она. Игорь от стыда бросился в воду.
На следующий год они мельком виделись в Каусе на острове Уайт. После старта гонки во время ночного шторма яхта Морриган попала в громадные волны, а ее саму при попытке выровнять судно смыло с мостика прямо под перо руля. Каким-то чудом команда сумела вытащить ее из воды и поставить спинакер. Поймав ветер, яхта легла на курс, и Морриган навсегда вошла в историю Фастнетской регаты, выиграв ее с полностью раздробленной ногой. С тех пор ее никто не видел, будто она и вправду ушла в Вальгаллу.
Тем временем, пока Игорь Петрович предавался воспоминаниям, Максим Александрович удивил всех. Он, как выяснилось, пришел в суд извиниться и отозвать свою жалобу, и к восторгу адвокатов дело было прекращено. Игорь Петрович наскоро пожал им руки, но выбежать из зала вслед за Морриган ему не разрешил секретарь.
— Рад видеть в добром здравии, кэп! — только и успел крикнуть Игорь Петрович ей вслед.
Вернувшись в свой кабинет, Анна Теодоровна села в кресло и неспешно раскурила трубку.
На полотне, висящем у нее над головой, две серых вороны играли янтарными бусинами на фоне охристого каньона. Спокойствие и гармония на краткий миг воцарились в мире.

Принц Очарование
Душный июльский вечер. Рита стояла посреди своей квартиры и разглядывала платья на разобранной постели. Первое — пёстрый пляжный сарафан, второе — розовое кружевное, с отчётливым запахом кедровых шариков от моли, и третье — чёрное, льняное, без пуговицы. Каждое уже прошло через несколько переодеваний, а времени до встречи оставалось совсем немного, минут двадцать. Мимо Риты протрусил рыжий кот, пересекая кровать от чёрного пятна к цветному. Паршивец. Она отсыпала Декстеру корм в новенькую сверкающую миску, влезла в тесные джинсы и майку. Вынула тушь для ресниц. Отражение в зеркале бросило на неё смущённый взгляд, привычным движением заправляя каштановую прядь за ухо. Да, кожа недурна. И запястья тонкие. И что? Рядом со Стивеном ты — гадкий утёнок.
Пару недель назад Рита пришла на собрание фотоклуба, а там новичок. Стивен. На входе он чуть не влепился лбом в дверь, выругался беззвучно, губами. Рита скользнула взглядом по поджарой фигуре и села через кресло от него. Разговор зашёл про заветные места для съёмки птиц. Стивен отметил, что у городского озера гнездится парочка уток-мандаринок. Чудеса! Китайские утки в Северной Америке! Фотографы загалдели. Боже, у него голос как соло на контрабасе. Длинные светлые волосы стянуты в узел на затылке. Викинг. Рита, — окликнул её Барт, старожил клуба. — Не спи, тебе слово! Когда собрание закончилось, она включила посудомойку и устроилась в кресле дожидаться своего автобуса. Последним ушёл Барт, напомнив, чтобы она не забыла захлопнуть входную дверь. Вскоре ритмичное хлюпанье машины смешалось с бормотанием дождя за окном.
— Не боишься превратиться в тыкву?
— Что?
Над ней склонился Стивен, слегка касаясь её предплечья. Перед глазами мелькнул волчий оскал. Рита моргнула, и волк стал нарисованным, плоским. Татуировка. Глаза Стивена обожгли, как глоток горячего кофе. Карие. Чёрт, заснула в кресле и пропустила последний автобус! Рита подняла с пола сумочку, пригладила волосы, зачем-то переложила проездной из одного кармана в другой.
— Я вернулся за телефоном. Забыл его здесь, представляешь? Могу подвезти, если хочешь.
— Если нетрудно… Следующий по расписанию только утром. Спасибо!
«Пинь-Пинь», — пропела первая эсэмэска от Стивена. Восемь утра. В это время Рита, ассистентка медцентра, перевоплощалась в многорукого Шиву: отвечала на звонки, переписывалась со страховыми компаниями, составляла расписание визитов. «Пинь-Пинь», — льстиво повторила вторая. Поток текстовых сообщений хлестал весь день, будто кто-то из озорства вывернул до упора кран садового шланга. Счастье подпрыгивало в ней с каждым новым сигналом. В четыре часа у крыльца тормознул красный кадиллак Стивена. Он недавно устроился учителем в городской округ и как замещающий педагог жил по принципу: новый день — новые дети. Под зоркими взглядами сотрудниц Рита подошла к машине. Стивен положил ей на руки букет белых роз и распахнул дверцу.
Вечером их ждал столик в итальянском ресторанчике, вокруг которого гигантской улиткой завивалась очередь. Они прошли на открытую террасу сразу — Стивен знал шеф-повара. Лёгкий ветерок играл с платьем Риты, складывая чёрный лён с белой скатертью в причудливое оригами. В глубине террасы квартет заиграл кавер-версию известной песни, «Принц Очарование». Когда мелодия умолкла, Рита опустила голову. Надо сделать всё возможное, чтобы сохранить их отношения! Стивен поймал горячей ладонью её пальцы и прошептал: «Мне фантастически повезло с тобой. Давай придумаем, где мы проведём следующие выходные?»
Стивен подарил ей плюшевого дракончика из парка аттракционов, ещё два букета роз и миску для Декстера. По ночам, слыша рядом с собой ровное дыхание Стивена, она мысленно выбирала ракурс для портретной сессии. Чёрные дрозды, древесные утки, крикливые зуйки и даже колибри уступили своё место на диске и в воображении Риты ему одному. Стивен обожал позировать. Она, наверное, могла бы нарисовать все бугорки и впадинки его тела, если бы захотела. Правда, если бы кто-нибудь спросил её, а что, собственно, за человек Стивен, то Рите пришлось бы только пожать плечами.
Спустя месяц после знакомства, в пятницу, кот загрустил и нырнул в диван. Утром Декстер слёг, у него начало сочиться из глаз. Ветеринарные лечебницы не принимали по выходным, но Рита нашла дежурную клинику на другом конце города и набрала Стивена.
— Пожалуйста, помоги мне отвезти Декстера к ветеринару! У него температура.
— Кот твой, разбирайся сама. Пора взрослеть, детка.
И положил трубку.
Рита опустилась на стул. Что с ним? Я что-то ляпнула, не подумав? Ничего, перезвоню. Но сначала Декстер. Она вскочила на ноги и схватила кошачью переноску.
Когда стемнело, Рита и Декстер вернулись домой. Дорога и ожидание съели весь день, сам приём длился всего полчаса. С трудом запихнув в Декстера две таблетки, Рита пошла спать.
Утром, прихлёбывая кофе, Рита потянулась к телефону. Задумалась. Будить Стивена в воскресенье после вчерашнего звонка не хотелось. Она помыла посуду, выбросила мусор, с наслаждением уничтожила бурые пятна на пластиковом ведре для бутылок. Ровно в одиннадцать она набрала Стивена, но его телефон ответил длинными заунывными гудками. Ладно, есть ещё фейсбук. Что за чёрт? Страничка пропала. Рита провела пальцами по лбу. Машинально отпила из чашки холодный кофе, во рту разлилась едкая горечь. На работу звонить бесполезно — до сентября Стивен в отпуске. Я даже не знаю, где он живёт. Это конец? Ваше Высочество нельзя беспокоить кошачьим ринотрахеитом? Или выяснением отношений? Рита звонила, пока гудки в телефоне не переросли в пульсирующую головную боль.
Жёлтые, красные, в крапинку — осенние листья вертелись как на карусели вокруг сапог Риты. Она смахнула лапчатый лист с плеча, на ходу заглядывая в витрину букинистической лавки. На исполинскую модель Хогвартса из лего карабкался пластиковый паук, за его пушистым брюшком громоздились потрепанные фолианты: «Тысяча и одна ночь», сказки Андерсена и братьев Гримм, «Портрет Дориана Грея». Рита закуталась в шарф, рассматривая обложки. Вдруг чья-то рука с синими ногтями схватила одну из книг и втянула её внутрь магазина. Высокая темноволосая девушка за стеклом принялась разбирать витрину. Рита улыбнулась, засунула руки в карманы, и через минуту исчезла за углом.

Сатурн
Разговор за столом шел обо всем на свете. Большую часть встречи с коллегами Бриз промолчала, хотя пару раз ей хотелось ворваться в обсуждение с метким жизненным наблюдением, поразить всех своим остроумием. Вот и сейчас снова слова поднимаются из живота, постепенно наполняют грудную клетку, словно пена в бутылке с газировкой, горло напрягается, язык и гортань ждут сигнала от мозга, но момент упущен — крышечку резко одевают обратно на бутылку — пена слов упирается в невидимую преграду. Бриз успевает издать тихий звук, коллега замечает, значит, нужно резко отвернуться, чтобы он не увидел ее глаз и не прочел в них неловкость. На что бы посмотреть. Точно — настенные часы над входом. На циферблате изображено ночное небо: белые звездочки на черном фоне, стрелки не двигаются. Так, теперь можно резко оглянуться в сторону того, кто обнаружил твою нерешительность, притвориться, что услышала какой-то звук, вздернуть бровь — а все, тебя снова никто не замечает, можно расслабиться, но не получается. В чьем-то бокале нервно дрожат отблески оранжевых лампочек, кто-то резко смеется за соседним столиком, жужжит кофемолка, духи у коллеги напротив так сильно пахнут, что их даже через стол слышно. Бриз надоело изводить себя стеснением, но и уйти пока нельзя. Она расстегивает верхнюю пуговичку цветочной блузки, поправляет выбившиеся из причёски пряди волнистых волос, незаметно зевает, из-за чего в ее серых глазах появляются слезы. Разговор за столом становится более размеренным, темы меняются не так быстро. Один из коллег рассказывает про запуски новых ракет в космос, другой — про переселение на ближайшие планеты. Устав бояться, Бриз все-таки вклинивается в беседу. Обсуждение космоса вызвало в ней воспоминания об отце. Он работал бухгалтером на заводе по производству различной оптической техники, постоянно задерживался допоздна и очень часто, особенно в теплое время года, вечерами уходил на крышу дома, чтобы понаблюдать за звездами. Астрономия была его страстью. У него было несколько телескопов, он знал названия всех созвездий и куда нужно смотреть, чтобы увидеть планеты.
— Я всегда просилась с ним на крышу, но он никогда не брал меня с собой, наверное, боялся, что я что-нибудь сломаю. Хотя, возможно, ему просто нужно было одиночество, чтобы сосредоточиться. Нет, он не избегал меня: он находил время на игры со мной, по выходным всегда водил меня погулять и посмотреть на город. И вот однажды он все-таки взял меня с собой. Как сейчас помню все ощущения той ночи. Я старалась быть максимально серьезной, терпеливой. Папа показал мне луну: такую четкую, желтую. Даже не верилось: из-за близорукости я с трудом видела детали предметов в пяти метрах, а тут каждый кратер был виден с невероятной четкостью. Я была заворожена. А потом папа долго искал что-то на небе, настраивал резкость, подкручивал зажимы, и, наконец, дал мне посмотреть: я не поверила своим глазам — это был Сатурн. Крохотный зеленоватый кружочек с ободком. Меня бросило в дрожь, не знаю, от величия космоса или просто похолодало. Папа накинул мне на плечи свою кофту. Вскоре я согрелась, может, от охватившего меня счастья. Так мы и сидели: молчали, смотрели на небо. Его бездонность словно отрывает тебя от земли, возвышает, засасывает. Наверное, из-за этих ощущений папа так любил свое увлечение.
Бриз умолкла, ее слушали внимательно, почти не перебивали, наверное, потому что она и так редко говорила. Бриз допила сок, выждала минут пять и начала собираться. Все приличия соблюдены — наконец-то можно уйти. Бриз встала из-за стола, накинула кардиган, весело попрощалась с теми, кто остался, и направилась к выходу, предвкушая момент, когда она сможет вдохнуть вечерний воздух, не сдобренный едким запахом чьих-то духов. Перед тем как шагнуть за порог, Бриз бросила взгляд на настенные часы: вблизи стало видно, что на циферблате изображены вовсе не звезды, а какие-то жучки, из-за выбранного стиля рисовки больше похожие на кляксы.
Бриз отбросила идею вызвать такси или поехать домой на автобусе и пошла пешком, не столько потому, что вечер был теплый, сколько из-за того, что она уже насытилась человеческим обществом.
Неужели они поверили в эту слащавую сказку? Не было никакого отца, вернее, был, конечно, но Бриз никогда его не знала. Не было ни той ночи, ни звезд, ни крыши, ни ночного неба, ни телескопа. Не было никакого тепла и счастья. Была только тьма бескрайней пустой Вселенной и ненавистное одиночество. Иногда настолько невыносимое, что проще соврать и хотя бы на мгновение ощутить себя не собой. Бриз шла от фонаря к фонарю — маленькие фальшивые солнца, заточенные в стеклянные плафоны. Но вот стройный ряд столбов закончился, Бриз вышла на открытое пространство между невысокими домами.
Бриз подняла голову и поискала луну — та была в самом начале цикла, поэтому не гасила своим светом звезды. С этим куда лучше справлялась городская иллюминация, но все же какие-то звезды были видны. Вернее, прошлое этих звезд: ведь они испустили свой свет уже очень давно, но только сейчас он дошел до наших глаз. Значит, в космосе точно есть место, из которого видно Землю тридцатилетней давности. Если б можно было понаблюдать оттуда за нашей планетой в невозможно мощный телескоп, который бы позволял видеть людей, можно было бы увидеть родителей Бриз: отца и беременную мать. Странно, здесь уже давно все прошло, а далеко-далеко в космосе еще только наступает. Жаль, что там никто не смотрит в такой телескоп, ведь если бы смотрел, для него будущее собирающейся родиться Бриз было бы еще не определено, а значит, с ней и ее отцом могло бы случиться все что угодно.
Бриз смотрела на звезды так долго, что затекла шея, но даже после этого она продолжала стоять, задрав голову. Бриз ненадолго закрыла глаза. Если возможно все, значит, где-то там в темноте прячется Сатурн, который папа показывал мне той ночью.

Средь бела дня
Все видели, как Машка сорвала с шеи тонкую цепочку девичьих рук, а затем с размаху вдарила кулаком прямо в раскрытый красный рот, затолкнув обратно противный визг. Он вкатился в гортань и растворился в бульканье. Машкины костяшки попали прямо на острый клычок, проехались по неровной пиле соседних зубов. Кожа на костяшках больно треснула и пошла по шву. Вся Машка, краснощекая и красноглазая, с налипшей челкой на лбу, шла по шву прямо средь бела дня, на глазах собственных фанатов.
От удара девица кувыркнулась назад, прямо на пыльный бугристый асфальт, вместе со своей липкой от пота майкой, чью мерзкую мокрость Машка еще ощущала на груди. Толпа в растерянности притихла, а затем ощетинилась телефонами. По облупленной кирпичной стене клуба пронесся табун солнечных зайцев и ринулся на волю, в зеленый сквер. На экранах десяток Машек склонились над девицами, вытирая дрожащие кровящие кулаки о подбородки. Кто-то начал трансляцию в инстаграм. Девица подобрала паучьи лапки и на удивление тихонько захныкала. Она выскочила из толпы поклонников внезапно. Подбежала и бросилась Машке на шею, когда та, отдуваясь и матерясь вполголоса, боролась с тупящей зажигалкой. Вот так запросто повесилась тощим потным тельцем, обдала жаром и ввинтила Машке пронзительный визг прямо в ухо, тварь такая. Тварь, тварь, тварь — Машкины ударные колотились в висках так, что сбивалось дыхание.
Девица всхлипнула, ощупывая пальцами разбитую губу. Машку передернуло. Отчаянно захотелось пройтись прямо по этим пальцам, чтобы они больше никогда не смогли цепляться за чужие шеи. Она качнулась вперед, но дорогу ей преградил выскочивший из дверей охранник клуба. Он предупреждающе махнул рукой, а сам навис строительным краном над хнычущей девицей, зацепил ее за локоть и легко поднял. С разных сторон начали прорываться недовольные возгласы. Толпа, еще пару минут назад благоговейно ожидавшая Машкиного внимания на почтительном расстоянии, начала придушивать ее. «Это они мне? — Машка в растерянности переводила взгляд с одного лица на другое. — Но это же она, это не я!..»
— Живая? Стоишь? Молодец, — на одной ноте ласково басил охранник. — Пойдем-ка, пойдем…
Машка обернулась. Охранник вел пошатывающуюся девицу под руку к входу. Он хмуро зыркнул на Машку и дернул подбородком в сторону дверей, откуда неслось глухое бурчание бас-гитары. Саундчек шел в своем ритме, никто не успел хватиться солистку, сбежавшую из душной курилки на свежий воздух. Избившую фанатку, которая хотела обняться. Снятую на десяток камер телефонов. Машка почувствовала, как в животе растут обжигающе ледяные острые сосульки, как они колют ее изнутри, парализуя руки и ноги. «Держать лицо!» — приказала она сама себе, сжала зубы и медленно развернулась на каблуках, почти звеня от напряжения.
Двери за спиной хлопнули, перед глазами замелькали какие-то люди. Они вели ее, усаживали, приносили воду, расспрашивали, ахали и охали, орали матом, сочувствующе вздыхали, пинали стены, причитали и снова расспрашивали. В припеве Машка бесконечно повторяла, повторяла, повторяла: «Это она, это не я!» Она и на самом концерте готова была продолжить, если бы не ее внутренний пререкорд, которого хватило даже на два выхода на бис. Программа была выполнена идеально, как всегда. Все казалось совершенно обычным: настил привычно пах старым деревом, зал плескался у ног, в ажиотаже накатываясь на борт сцены, один из прожекторов бил в глаз, куда ни повернись. Но глубоко внутри Машка знала, что всё уже идет не так. Курить хотелось до чесотки.
— Ты чем думала, когда выходила на улицу одна? — мрачно спросил Миша, усиленно умножая складки на шарпейском лбу. Он посадил гитару в чехле на заднее сиденье рядом с Машкой, а затем сел за руль.
Машка поерзала на скользком кожаном сиденье, пытаясь найти знакомую продавленность, и криво улыбнулась:
— Я не думала, Миш, я курить хотела.
— И от души кому-нибудь вломить заодно?
— Эта дура липкая у меня из рук сигарету выбила, она сама бросилась! А я… не специально. — Машка внезапно поникла плечами и тихо спросила в свои колени: — Миш, может, никто не заметит ничего? Там человек семь-восемь было максимум.
— Ты мозги последние прокурила? — беззлобно уточнил Миша. — Заметили уже, ты же понимаешь.
Машка понимала. Она намеренно не заглядывала в мессенджеры, представляя, что именно там увидит. С каждой секундой видео с девицей все глубже уходили в интернет тысячами тысяч репостов.
— Миш, я не виновата, она кинулась на меня, веришь?
Миша молча сел за руль. Уже у самого дома, помогая Машке вылезти из машины, он сказал:
— Я твой кореш, я тебе верю. Но не впутывай меня в это, пожалуйста. У меня новый контракт накроется, если зацепит. Понимаешь?
Машка взорвалась. Мир на секунду ослеп и оглох. Звуковой волной снесло праздношатавшихся по помойке голубей, добродушный пес, месяц бомжующий у подъезда, зашелся в испуганном лае. Мишу задело осколочным матом, он дернулся и скрылся за затемненным стеклом. Машка продолжала орать в машинный зад, когда отчетливо ощутила, что мизинец на правой руке онемел. Она встряхнула руку, как после долгой репетиции, сжала кулак, поднесла к лицу. Свежая царапина, сбитые костяшки и четыре пальца. Мизинца не было.
Интернет начал стирать Машку уже ночью, понемногу, по сантиметру. По фаланге. Со всех сторон в нее летели звонки, письма и комментарии разной увесистости. Поспешно отменялись рекламные акции, контракты возвращались на рабочую почту с отказами. Менеджер строго-настрого запретила Машке высовывать нос дальше спальни и стартовой страницы браузера, пока не соберется совет из адвокатов, пиарщиков и сммщиков. Машка ругалась, металась по квартире, а потом горько и безутешно плакала, роняя из немеющей беспалой руки любимую гитару. По инстаграму шел флешмоб #отменяю, люди демонстративно удаляли Машкины песни с устройств, кто-то даже добирался до дисков и кассет, не жалел раритета. Сизоусый врач скорой помощи посмотрел на ровную культю предплечья, зачем-то померил Машке температуру и, с трудом подбирая слова, предложил вызвать психиатрическую бригаду. Машка запустила в стену пепельницу, скалившую на нее хрустальные грани. Пепельница отскочила и, возмутительно невредимая, глумливо сплясала гопака в окурках.
Машку хватились на следующий день, когда пиарщики подготовили покаянную речь, полную слезливых подробностей про абъюзера-отца и молчаливую тень матери, которая ни разу не заступилась за дочь, про лечение в наркологическом центре, про все то, что можно было и так понять, расслышать в песнях. Телефон молчал, мессенджер безучастно сообщал «last seen recently». Менеджер приехала к Машке сама, открыла дверь запасным ключом. В лучи дневного солнца, безжалостно слепящего сквозь окно лестничной площадки, вырвался клуб табачного дыма вперемешку со звенящей тишиной. Машка исчезла.
На другой стороне города в серенькой плитчатой хрущевке на кухне сидела девица с опухшей губой. Она слушала Машкин первый альбом и улыбалась, прижимая к груди кулачок. Машка пела про нее.

Тринадцать километров
Валентина Алексеевна выглянула в окно кабинета и покачала головой: за теплицей курил рослый семиклассник Михеев. Учиться Витя не хотел, учителя еле натягивали ему дежурные «тройки», но в жизни мальчишка был расторопным и смышленым.
Сейчаc директрису занимали другие мысли. Закончилась короткая вторая четверть, начались зимние каникулы. На пятое января она заказала тридцать билетов в цирк. Для сельских ребятишек поездка в город — большая радость. До столицы — 160 километров. Немного, но когда везешь детей, всегда волнуешься. Валентина Алексеевна сходила к шефам на кирпичный завод, там выделили автобус. Правда, водитель ей не понравился, но директор сказал, что других нет и не будет.
С погодой в субботу не повезло: с самого утра порывистый неуютный ветер нес крупные хлопья снега. Вместе с пионервожатой Аленой, не поступившей в прошлом году в пединститут, проверили, тепло ли одеты дети. Выехали рано, поэтому успели в музей, пообедали в кафе, а в три часа началось цирковое представление. Поглядывая на акробатов, Валентина Алексеевна озабоченно пересчитывала детей. Лица их светились счастьем. Когда на арене появлялись клоуны, оглушительный хохот простодушного Михеева взлетал под самый купол.
Выехали уже в сумерках. В автобусе было тепло и весело, Михеев изображал укротителя, корчил зверские рожи. Через час усталость взяла свое, все затихли, задремали. Валентина Алексеевна не спала, озабоченно посматривала в окно. Когда до дома оставалось километров пятьдесят, мотор внезапно взревел, чихнул и заглох.
Водитель сплюнул:
— Во цирк! Сломались!
Постепенно автобус остывал, все задвигались, зашушукались, стали застегиваться.
— Адам! Нужно что-то делать, иначе дети замерзнут!
— А я при чем? Это ваши дети.
— Ну, знаете! А автобус, между прочим, ваш. И я не умею его чинить! И не ухмыляйтесь, не та ситуация.
— А че мне — плакать? Оплата у меня почасовая. Часики тикают, денежки капают. Кожух и валенки теплые, рукавицы меховые. Хоть всю ночь могу сидеть. Да и генератор ремонту не подлежит.
— Адам! Вам придется пойти за помощью. Двадцать градусов мороза! Пожалуйста, я вас очень прошу. Мы не можем рисковать здоровьем детей.
— Га-га-га! До ближайшего поселка тринадцать километров. Метель вон разгулялась. Я что, похож на идиота?
— На этот счет я оставлю свое мнение при себе. Дети! Встали! Давайте попрыгаем! Раз, два, три! Раз, два, три! Адам, время идет. Через час мороз усилится, собирайтесь, вы ведь мужчина, в конце концов!
— Сказал, не пойду.
— Вы, конечно, очень продвинутый человек, долго сидели, много о чем думали… Вот и подумайте…
— Не трави баланду. Я ж только год быком отпахал, а потом меня оправдали вчистую!
— Ну вот что! Раз так, тогда за помощью пойду я! Слушайте меня внимательно, Адам: вы пойдете в ближайший лесок, нарубите дров, разведете костер рядом с автобусом и будете греть детей. Вы будете следить, чтобы никто из них не обморозился, будете бегать с ними, будете рассказывать им сказки, черт побери! И, видит бог, если хоть с одним ребенком что-нибудь случится, я железно обещаю вам второй срок. Как там у вас говорится? Зуб даю! Дети, всем слушать Адама Антоновича! Спать нельзя. Каждый присматривает за своим соседом. Михеев! Витя! Ко мне! Ты остаешься за старшего. Я вернусь на другом автобусе часа через три.
— Алексеевна! Ты что? Совсем сдурела? Куда ты в таком прикиде собралась? Наклонись, я тебе что-то скажу. Я ж не бездарный фраер. Да я б сразу же пошел, но я только после операции, грыжу удалили, сетку подшили, стеснялся сказать. Не дойду…
— Все, тем более не обсуждается. Кожух не возьму, детям.
Итак, двинулась, быстро зашагала в сторону Ворнян, прикидывая, когда доберется, хватит ли сил и везения. Между тем сумеречные дали с еле различимой полосой смутно синеющего леса сначала заквасились жидким грязным клейстером, как будто занавесились захватанной серой кисеей, а затем потонули в мутном, медленно зыблющемся желе. В голове вертелись планы спасения. Легче было цепляться за мысли старые и проверенные, чем изобретать новые. Она так и делала, берегла силы и с надеждой глядела вперед, надеясь увидеть хоть какой-нибудь признак жизни: огонек, лошадь, избу. Но ничего не могла различить, кроме мутного круженья снежных вихрей. В будний день хоть какая-нибудь машина проехала бы. А так остается надеяться только на себя. Поземка мчалась по дороге, вихрилась и кружила, выписывая замысловатые кренделя. Экономя входящий в легкие колючий воздух, стала, подлаживаясь под ритм ходьбы, вспоминать стихи:
Метели летели, метели мели,
Метели свистели до самой земли…
Мело, мело по всей земле во все пределы…
Гуляет ветер, порхает снег,
Идут двенадцать человек…
Мертвое поле, дорога степная!
Вьюга тебя заметает ночная…
Тьфу, тьфу, тьфу!
Совсем стемнело. Не было видно ни туч, ни звезд. Путь в кромешной темноте казался нескончаемым. Вокруг не было других ориентиров, кроме сугробов по бокам дороги высотой в половину человеческого роста. Километров через пять Валентина Алексеевна притомилась, ее знобило. Снег толщами косо мчался с однообразной темной небесной свободы и устраивал дикую пляску. В поднимающемся водовороте ветер не давал идти, горстями швырял в лицо колючие льдинки так, что захватывало дыхание. В снежной круговерти слышались только шипящий свист и подвыванье, напоминающее волчье.
Старая волчица тяжело бежала по полю вдоль дороги. Час назад она удачно поохотилась, тяжелый живот с набухшими сосками волочился по снегу. Проследила взглядом за темной фигурой, бредущей по дороге, вспомнила своих волчат, заторопилась к норе.
Начался буран. На земле и в небе выло и ревело. Холодный стальной ветер дул все неистовее, обжигая лицо и дыхание. Кожа рук и ног давно уже была нечувствительная, модные ботики почти не грели. Ресницы и волосы заиндевели. Усталость от этого бесконечного преодоления была такой, что она уже перестала обращать внимание на холод. Силы оставляли ее. Поскользнулась на ледяной колее, спрятанной под снегом, и упала. Вот оно, блаженное состояние покоя. Лень шевелиться, лень думать. Дремота клонила, она проваливалась в темную нирвану. Снились подвалы инквизиции. Испанский сапожок, изощренный инструмент пытки, тисками сжимал левую ногу. В подземелье горел огонь, нестерпимый холод отступил. Спать, спать…
В горнице тихо, только мерно тикают ходики. Во дворе надрывается рыжий петух Генерал. Пора вставать. Сегодня нужно сеять озимую рожь. Стукнула в сенях дверь, послышались легкие шаги, звяканье подойника. Мать вошла в избу с молоком. Завязала в тряпицу обед на поле: картошка в мундире, соль, лук, огурцы с огорода, нарезанная черняшка. Хлеб пекут сами — большие ржаные ковриги килограмма на три лежат под полотенцем с петухами. Батя любил такой хлеб.
Память об отце будто тисками сжала сердце, перенесла в далекий июльский день, когда он уезжал на фронт. Сильный, крепкий, тятя сидит на коне, Сонька с Иркой цепляются за его сапоги, плачут, Мишка ревет белугой на руках у матери.
— Ну вот что, девчата, отставить ето мокрое дело. Скоро побьем немца, и вернусь. А пока что вы мамке помощницы. Валя, ты старшая. Остаешься за меня.
А в 1944-ом пришел серый конверт: Филиппов Алексей Дмитриевич в июле 1943 пал смертью храбрых на Курской дуге. И все. Теперь уж не успокоишь сама себя: вот вернется отец, будет полегче. Не вернется.
Валя косит, жнет наравне со взрослыми, и борону-волокушу таскает, и тяжеленный плуг. Если уж совсем невмоготу, не плачет, только крепче стискивает в кулачки натруженные руки…
Лютый мороз сковал лицо. Снег пышно и жестко, как серебряная парча нарядного гроба, по-хозяйски ложился на пуховый платок, на все ее скрючившееся тело.
…Раздается голос матери:
— Ну, Валя, впрягайся. Знаю, что тяжко. Но тебе уже пятнадцать.
Валя тянет соху. Сошники крошат почву, ноет поясница. Увязая в холодной земле, упираясь изо всех сил, она идет и идет вперед.
Но что это? Где-то плачут дети! Соня, Ира, Мишенька, белобрысая Галя, кудрявая Оля, Люда с тоненькими косичками, вихрастый Михеев, рыжая веснушчатая Люся, голубоглазый красавчик Коля, нежная тихоня Лена, серьезный Петя в очках… Что случилось? Почему они плачут? Я старшая, я должна им помочь!
Пробуждение было тяжелым. Неимоверным усилием воли, разлепив смерзшиеся ресницы, открыла глаза. Дорога лежала перед ней, белая и стерильная, как марля. Господи, куда идти? Кажется, в эту сторону. С трудом поднялась, сжала одеревеневшие руки в кулаки и тяжело зашагала, увязая в снегу, еле волоча непослушные ноги. В голове стучало: «Главное — дойти! Доползти! Спасти!»
И вдруг ветер сменил направление и, продувая насквозь одежду, стал сильно подталкивать ее вперед. Из противника он неожиданно превратился в союзника. Внезапно что-то серое возникло из белой мглы. Подойдя ближе, поняла: это кирпичная стена, источающая ледяной холод. Опираясь на нее, дотащилась до двери и в тусклом свете лампочки прочитала: «Ворнянская музыкальная школа».
Поселок спал, светил только фонарь у магазина. Она долго стучала в окно директора местной школы-интерната, и когда он распахнул дверь, упала ему на руки и захрипела:
— Скорей! Там дети! Срочно трактор, теплый автобус, горячий чай в термосах, одеяла, валенки, врача!
— Э, милая моя, врача тебе самой нужно, ты, видать, щеки отморозила. Сколько ж ты прошла, девонька? Маша, тащи спирт скорее!
Все закончилось благополучно. Помощь прибыла. Детей перевели в нагретый автобус, напоили горячим. А они, перебивая друг друга, все рассказывали, как Адам Антонович развел им костер до самого неба, как все по очереди грели ноги, запихивая их в его громадные меховые рукавицы, как шофер научил их петь прекрасную песню «Мурка», а когда он надолго ушел в лес за очередной охапкой сучьев, огонь чуть не погас, но Михеев догадался проколоть запасное колесо и поджечь его… Валентина Алексеевна, не скрывая чувств, смеялась и плакала, обнимая своих родненьких перебинтованными руками.

Халат без пуговиц
«Опять мой халат без пуговиц, и кто-то съел весь сыр». Утро было временем откровений. Паук приходил к Ольге по выходным.
Мамы трещат девочкам о замужестве, мультики — о принцах. Сегодня понедельник, времени на сказки нет, нужно обрабатывать запросы. Ольга сидела одна в пустой квартире, часы подсказывали, что скоро всё закончится. Она с надеждой посмотрела на окно. В паутине завязла муха.
Холодный свет экрана подчёркивал борозды морщинок. Их было мало, но за каждой стояло решение не испытывать больше боль.
Свет от компьютера собирался в точку в конце комнаты, указывая на жизнь медленную, застывшую. На грядушке кровати, дверце шкафа, ящике комода висели вещи, как лишайник в сказочном лесу. В ванной, совмещённой с туалетом, плакал кран. Холодильник, хоть и был ветераном, не спасал Ольгу от одиночества, оставаясь белым от нетронутости. На обед у неё был растворимый кофе с сухарём, впрочем, как и на ужин.
Паук А. А. приходил к ней по выходным. Он обратился к ней в период жёлтых листьев для разъяснения отказа по заявке. Она восприняла это как шанс и впускала его по субботам. Пуговицы от халатов складывала в пакет, не выбрасывать же? И всегда можно посчитать, сколько раз. Он трогал её там, где она сама боялась, слишком приятно, потом ел сыр.
Ольга после очередного визита поняла, что халатов не осталось, а пуговиц слишком много. И захотела выгулять пуговицы.
Она села в последний вагон последнего поезда до станции «Море» в тот день. Ехать было одну главу хорошей книги, пятнадцать вдохов и выдохов и одно воспоминание о детстве, если бы оно было. Да и дыхание не у каждого есть. Поезд её вёз.
Море — это море. Весеннее, тихое, чистое. Ольга несла свой пакет, как сокровище: «Море поймёт». Хотела показать доброму другу свою жизнь. Она кидала пуговицы и кричала, они взрывами погружались на дно. Крик подхватывал ветер и разносил по краям моря. Она била воду, кусала песок, пачкалась теперь снаружи и от этого становилась чище. Всё стихло. Ночь укрыла её тёплым одеялом, звёзды веснушками разукрасили небо, волны шипением обещали счастье. «Завтра будет новый день», — скорый поезд мыслей уносил обратно в жизнь.

Часики
Ох уж эти часики. Они так громко тикали, что слышно было даже соседям.
Наташа каждое утро просыпалась от ритмичного бормотания стрелок. Прятала часики под подушку, выкручивала стрелки, разбирала механизм.
Обязательно проверяла перед выходом на работу, чтобы часики остались дома. Но каждый раз обнаруживала их под подкладкой сумки, или во внутреннем кармане, или в косметичке…
Да и как обнаруживала. Она бы и не заметила вовсе, увлечённая любимой книжкой или ледяными узорами на стекле автобуса. Но с соседнего сиденья на неё вдруг начинала коситься ухоженная дама в меховой шапке размером с прикроватный столик, или угрюмый мужичок, обросший ненужным брюшком, неделикатно покашливал.
А бывало, что и вовсе какой-нибудь хамоватый таксист ухмылялся в своё засаленное зеркало и спрашивал: «Что это у вас там тикает?»
Поэтому накануне Нового года Наташа задумала уничтожить часики раз и навсегда. Запаслась бутылкой красного вина, купила аккуратное нижнее бельё и отправилась на пятый этаж к Иван Сергеичу.
Иван Сергеич был сантехником и с часиками уж точно разобрался бы минут за десять. Если бы не получка, которую не дали. Новогодние гуляния угрожающе сжимались до размеров ноябрьской заначки. Поэтому Иван Сергеич, едва открыв дверь, тут же спросил, есть ли у Наташи в долг. У Наташи не было. И Иван Сергеич захлопнул дверь, даже не обратив внимания на бельё, от волнения впившееся в Наташины ключицы.
Наташа зажмурилась, как будто случившийся стыд бил в первую очередь по глазам, а потом отвернулась и, неловко размахнувшись, швырнула бутылку в стену. Стекло надрывно грохнуло и потекло по швам штукатурки темно-красной жидкостью.
Не дожидаясь, пока соседи Иван Сергеича выбегут на лестничную клетку и второй раз за вечер искупают её в стыдном жару, Наташа побежала вниз по лестнице. Громыхнула дверью подъезда, устремилась через двор, заставив несколько автомобилей сурово матернуться и заскрипеть тормозами. Бежала до самого метро, ощущая только громкий стыдный стук закрывающейся двери.
У метро вдруг пришла в себя. Стыд выветрился — остался холод. Наташа юркнула внутрь. Там было душно, под ногами чавкало, истерически звенели турникеты, пахло мокрой одеждой.
Как только двери вагона закрылись, Наташа услышала часики. Они тикали громче обычного, компенсируя своё вечернее молчание. Пассажиры стали оглядываться, а курносый парень, раскладывающий на семь октав «Русское поле», принялся черноглазо подмигивать.
Когда он подмигивал, всё лицо у него менялось. На лбу образовывалась складка, рот кривился и съезжал к уху. Это было смешно и некрасиво. Поэтому, возможно, еще до конечной парню накидали в шапку уйму денег, и на предпоследней остановке он деловито и аккуратно сложил инструмент в вытертый чехол и уселся рядом с Наташей.
Наташа подобралась и всеми силами захотела выглядеть хорошо. Чтобы он не заметил этих чертовых часиков, да и вообще, чтобы казаться красивой.
«Арнольд!» — картаво представился парень, и Наташе на секунду захотелось ответить какой-нибудь Аврелией. Но она сдержала порыв и только взглянула исподлобья, мельком заметив, что часики перестали стучать.
Назрела конечная, и Наташа поняла, что парень выйдет из вагона только вместе с ней. Страшно ей от этого не было, хотя район был незнакомый, да и темнота успела проглотить дома и улицы, пока она катилась в вагоне метро.
Арнольд предложил выпить по бокалу, и Наташа тут же представила, как они проникают в чужой подъезд и делят на двоих бутылку сивухи, прячась на верхнем этаже от поднимающихся по ступеням жильцов. Однако часики продолжали молчать, и Наташа решила рискнуть.
«Давай только ко мне на минутку, я тут рядом живу», — предложил Арнольд, и Наташа поняла — началось. Увидев её растерянное лицо и губы, уже сложившиеся в виноватое «у меня, наверное, не получится», Арнольд объяснил, что у него дома осталась одежда бывшей жены, которая ушла, потому что она — художник, и рядом с ней было место для гения, которое он по ошибке занял. А Наташе явно надо что-нибудь на себя надеть, потому что сидеть в баре в плаще странно, а в нижнем белье несколько фривольно.
Наташа тут же вспомнила, что под пальто у неё и правда только лифчик с трусами и колготки, и это наверняка заметил весь вагон. А вспомнив, ощутила острую тошноту.
Арнольд оказался настоящим джентльменом — усадил даму на лавочку, сам сбегал наверх и спустился через три минуты с пластиковым пакетом из «Пятёрочки». Если бы он отсутствовал еще две минуты, то Наташа бы обязательно сбежала. Но так быстро она не успела сообразить ни куда идти, ни как добираться до дома.
Надевать на себя просторное шерстяное платье широкого кроя пришлось прямо в беседке на детской площадке. Платье пахло чужой женщиной и, оказавшись в нём, Наташа почувствовала, как часики, молчавшие весь вечер, удивлённо затрепетали стрелками. Она вышла к Арнольду и в первый раз с момента их встречи улыбнулась. Слишком уж комичным и неестественным казалось всё происходящее.
В бар Арнольд вошёл осторожно, словно боялся встретить кого-то знакомого, но не очень желательного. Наташа тут же представила, как его бывшая жена выходит из-за барной стойки и обводит её, Наташу, презрительным взглядом, а потом замечает своё платье, видимо, брошенное за ненадобностью, и начинает что-то нашёптывать на ухо гению, нежно придерживающему её за талию.
На минуту Наташе даже захотелось, чтобы так и произошло и чтобы гений весело расхохотался, а она бы смешно поклонилась ему и показала бы язык жене-художнице. Наташе было удивительно так думать, но с тех пор, как она решилась влезть в чужое платье, мысли стало сложнее контролировать.
За стойкой оказалось пусто, и Арнольд успокоился. А Наташа сняла плащ и принялась гадать, кто выглядит в этом её новом наряде лучше: она или бывшая Арнольдова жена.
Арнольд заказал бутылку вина и после первого бокала признался, что его зовут Степан. А Арнольд — это что-то вроде творческого псевдонима. И придумала этот псевдоним бывшая жена в то время, когда ещё верила, что выпускник музыкальной академии, нечаянно встреченный на остановке у театра, может оказаться будущим Утёсовым.
Арнольд-Степан болезненно морщился, когда говорил о бывшей жене, и мстительно поглядывал на Наташино платье. Наташа жалела Степана, чокалась с ним высоким пузатым бокалом и с восторгом видела, как он своим музыкальным ухом ловит стеклянный звон.
После первой бутылки совсем лёгкими ногами пошла в уборную, чтобы наконец увидеть себя в чужом наряде. Платье делало её стильной и немного дерзкой. Наташа даже застряла ненадолго перед зеркалом: кружилась и приседала в кокетливых реверансах.
К Степану, которого после его истории было совсем невозможно называть Арнольдом, вернулась счастливая и почему-то очень обрадовалась, увидев, что он разговаривает с барменшей. Наташа подошла, и Степан представил их. А потом рассказал, что в метро играет по зову души, по какому-то, что ли, наитию. А на самом деле у него есть вполне приличная работа. Он даёт уроки в музыкальной школе, а ещё играет здесь, в баре, каждый четверг, а иногда и в пятницу, и даже в субботу.
Вообще, за всеми этими разговорами Наташе слышалась необыкновенная, трудная судьба творческого человека. И она представляла себе почему-то, как папа Степана рано умирает, а он, маленький, поёт в переходах, чтобы помочь матери. А потом в их с матерью жизнь приходит отчим, который, заметив талант Степана, заставляет его заниматься, бьёт по рукам, привязывает к табурету и коварно планирует вырастить звезду, а потом возлежать на чужих лаврах. Наташе даже в какой-то момент захотелось поцеловать Степана. Но она раздумала, потому что она уже не помнила, что придумала сама, а что рассказал Степан, да и он сделался совсем печальным и был вовсе не похож на смешного и весёлого паренька из вагона метро.
Допив третью бутылку вина, Наташа и Степан вывалились из бара обратно на холодную улицу. Пошёл снег — огромные белые снежинки были похожи на аппликацию, наклеенную в канун праздников на окна детского сада. Воздух стал свежий и морозный. Приходилось идти очень близко друг к другу, и Наташа видела морщинки в уголках Степановых глаз. Она ни на секунду не умолкала и чувствовала себя так, словно часиков и не было никогда внутри.
Уже далеко за полночь они добрались до набережной. Степан добыл в каком-то ресторане горячего вина. Его налили прямо в пластиковую бутылку из-под лимонада, и от винного жара бутылка сморщилась. Наташа развлекалась тем, что пыталась вернуть ей форму, когда вдруг услышала часики. Они тикали нервно и возбуждённо, но не у неё внутри.
Она повернулась к Степану. Он стоял спиной к ней и смотрел на темнеющую за оградой воду реки.
«Ну вот, теперь ты их тоже услышала», — произнёс он и принялся пьяно карабкаться на ограду. Наташа поплотнее запахнула плащ, пряча поглубже чужое платье, и прошептала: «Я люблю тебя». А потом ещё громче: «Я буду любить тебя, пока они не остановятся».
Степан замер в позе из книжки комиксов о приключениях человека-паука, потом медленно стёк обратно на асфальт и повернулся всем своим тикающим телом к Наташе.
Она прислушалась. Внутри было тихо. Снаружи был Степан.

Поэтический май Creative Writing School
Май оказался очень результативным месяцем для поэтов школы CWS. Были поэтические выступления, выходили подборки и публикации в журналах.
В начале месяца нас снова пригласили в Александров принять участие в поэтических чтениях, приуроченных к 9 мая. Директор музея Анастасии и Марины Цветаевых, поэт Лев Готгельф уже не впервые приглашает выпускников школы. Осенью, в день рождения Марины Цветаевой, на чтениях выступали Платон Гурьянов и Елена Куприянова. В мае состоялось первое выступление Наташи (Нати) Алексеевой.
Осенью Наташа прошла очный курс CWS. Приняв участие в конкурсе, она выиграла бюджетное место, а в конце обучения представила такую подборку, что не удержалась от похвал даже легендарная Ольга Ермолаева, редактор отдела журнала «Знамя».
Подборки Наташи вышли в журнале «Полутона» и в «Новой Юности».
Очень необычный вечер с участием наших поэтов состоялся 15 мая в музее Гулага. В рамках «Ночи музеев» здесь читали «Неудобные стихи». Как рассказал продюсер проекта Егор Татаренко, «неудобными» стихотворения могли быть как из-за темы, которую не принято поднимать в светской беседе, так и из-за сложности поэтической формы.
Но наши поэты сделали выбор в пользу темы.
Александр Семенов читал стихотворение «Сушеный горох», написанное на онлайн-курсе, когда студентам предстояло написать басню.
А если не верит кто / В бога или в горох / Есть для него сизо /Чтобы он там подох.
Марина Троцкая выступила с жутковатым верлибром «Маме» о преодолении детских травм. «Я выросла. Теперь мне можно все. Но как научиться хотеть»? — спрашивает лирическая героиня в финале.
Верлибр встретил отклик у аудитории, и, к слову, когда он был опубликован в «Комсомольской правде», читатели не могли сдержать эмоций и писали в комментариях: «Все, что здесь написано — про меня».
Причудливо-страшная «Герника» Платона Гурьянова запомнилась необычным противопоставлением живых и умерших: что могут рассказать и те, и другие о самом страшном.
Самое горькое — в финале:
Мертвые только что и расскажут,
Кто к выходу нёс чуть живую поклажу,
А кто два пальто к машине волок.
Организатор вечера Егор Татаренко остался доволен: «Конечно, был перекос в сторону политики. Когда начали читать, я думал, нас закроют и выгонят. К счастью, обошлось. Ближе к концу появились разные темы, не только политические, и все разрулилось».
16 мая в культурном кластере «Ван Гог» состоялось выступление поэтической команды CWS «Ван Гог жив». В числе уже отмеченных авторов особенно блистала одиннадцатиклассница Мария Щербаненко. Необычные, прозрачные верлибры Марии отметили как лучшие присутствовавшие на вечере поэты Алексей Кубрик и Алексей Кащеев.
В самом конце месяца выходом поэтической подборки «Не продавайте мое детство» на сайте «45 параллель» порадовала выпускница первого поэтического набора CWS Елена Куприянова.
А впереди у наших поэтов — выступление на Красной площади, которое состоится 20 июня с 15:15 до 16:00. Приглашаем всех!
СТИХОТВОРЕНИЯ
Елена Куприянова
Мамы умирают в сентябре (Из подборки «Не продавайте мое детство», опубликованной на сайте «45 параллель»)
мамы умирают в сентябре,
им как будто больше нефиг делать,
их не ждут как будто дома дети,
собирая домик на ковре
и сажая кукол в скорый поезд,
поезд отправляется назад:
«мама будет поздно, очень поздно» —
в громкоговоритель говорят,
выводя под утро на расстрел
керосинки, примусы, лампады,
мамы умирают на костре
бедного в оттенках листопада —
сыплет, сыплет, засыпает тело,
вброшенное в землю во дворе,
мамы умирают в сентябре
и не могут ничего поделать…
Александр Семенов
«Сушеный горох» (Из выступления на вечере «Неудобные стихи» в музее Гулага)
В одной далекой чудесной стране
Туземцы так говорили мне
У нас тут своя страна
И есть у нас свой бог
Ценность у нас одна
Это сушеный горох
И если удачен год
И урожай щедр
Мы добываем его
Тоннами из недр
А если стручок пуст
И неуродил боб
Мы не сдаемся — пусть
Выручит нас бог
А если не верит кто
В бога или в горох
Есть для него сизо
Чтобы он там подох
Платон Гурьянов (Из выступления на вечере «Неудобные стихи» в Музее Гулага)
Парадное
Фаллометрическая байда катится по брусчатке:
«Тополь» — гордость, «Тополь» — беда, напичканная взрывчаткой,
Демон милитаризма, гений русской весны,
Рождающий катаклизмы амулет на груди страны.
Струится по венам Отечества живительный госзаказ,
Кто правит судьбой человечества, тот знает жизнь без прикрас.
Здравицы транспарантов и праздничный телеэфир
Славят стальных гигантов, готовых к войне за мир.
А в тесной кабине солдатик — насупленный человек,
Мальчик из Нечерноземья, из чада его дискотек,
Сын тех, кто лелеет пашню и тех, кто привычно пьян,
Сын среднерусского сплина, проросшего в вечный бурьян,
Отца, потерявшего годы в погоне за длинным рублём,
Матери с подработкой после работы днём,
Солдатик провел свой «Тополь» мимо кафе на Тверской,
В нём музы горцев из «Ритца» с улыбкою колдовской,
В нём загорелые парни, что вхожи в любую постель.
Мимо витрин Армани, мимо витрин Шанель,
Мимо мехов и брендов, мимо скуки в глазах
Сограждан, которым деньги — и Саваоф, и Аллах.
Он видел эти красоты, и мысль шевельнулась в нём,
Что слишком громкая правда обычно голимый облом.
Но дома есть телевизор (и есть за него кредит),
И по нему расскажут, как мальчик всех победит.
Нати Алексеева (стихи из подборок в журналах «Полутона» и «Новая юность»)
***
меня окружают тарелки кастрюли венки
россыпь из свечек на случай ненастных дней
браслеты и кольца на каждом из пальцев руки
волк идущий за мной с каждым днем быстрей
кружится мир голова тополиный пух
слушаю как симфонию птичий гвалт
день торопливо соскальзывает в пустоту
я засыпаю счастливой
все еще не догнал
***
мне непросто с тобой говорить — и в принципе говорить —
для всего, что я чувствую, мне не хватает слов
ведьмино варево вскипает где-то внутри
как алая рыба выпрыгивает из котлов
скользкий горячий не слишком богатый улов
я с нею и так и эдак, царица-душа моя
не гневайтесь бога ради и так нелегко и проч
не в силах ни спать ни есть от того, сколько в ней огня
внутри меня ясный день, снаружи безлунная ночь
но стоит тебя обнять, разговор как большая река
ты говоришь обо мне, словно знаешь меня наизусть
рыбья царевна утихла и прячется у пупка
не обожгись, говорю
смеёшься: не обожгусь

Ophiocordyceps Peregrinus
— Мы на месте! Патти, посмотри, правда, красиво?
Серебристый космический корабль мягко приземлился на зелёную растительность. Патти посмотрела в иллюминатор — эта планета была очень похожа на Землю: заходящее солнце на ярком закатном небе, густой лес на другом конце поляны, цветы и трава. Она, её родители и ещё пять исследователей были второй экспедиционной командой, чья миссия была достичь предположительно пригодной для жизни планеты, замеченной учёными полтора года назад. Первая команда должна была прилететь за неделю до них, но связь с кораблём прервалась незадолго до приземления корабля 2. Патти очень переживала, ведь на первом корабле была её подружка, Анита.
Команда начала медленно подниматься с кресел и смотреть на показатели приборов.
— Атмосфера тут пригодная для жизни, можно выходить. Патти, подожди, мы сейчас выйдем и проверим, а ты за нами, ладно?
— Хорошо, — понуро сказала Патти.
Ей не нравилось, что с ней обращаются, как с бестолковым ребёнком, и считают лишним пассажиром.
Когда её наконец позвали выйти наружу, Патти уже подготовилась и стояла у шлюза в предвкушении. Свежий прохладный ветер, пахнущий травой, как будто заставил её проснуться после душного, искусственного воздуха корабля. Она спустилась по трапу и огляделась: зелень, холмы, лес, но ни одного животного, полная тишина. Пока взрослые расставляли свои аппараты, девочка решила пройтись: корабль стоял посреди просторной поляны, и можно было увидеть, что дальше начинается бескрайний лес. Патти стало любопытно, и она прошла сквозь деревья и вглубь. Но не успела она продвинуться и на пару метров, как за ней прибежали встревоженные родители и уволокли её обратно.
Они пробыли на поляне уже несколько часов, и Патти заскучала, когда учёные вдруг засуетились и начали собираться. Им нужно было объехать территорию, а вездеход не был предназначен для детей. Команда посовещалась, и все решили, что если оставить Патти одну, ничего страшного не случится (мнения Патти при этом не спрашивали). Ей несколько раз объяснили, что выходить с поляны нельзя, а лучше вообще оставаться на корабле, что экспедиция займёт пару часов, а может, и дольше, что если с ней что-то случится, то на корабле есть экстренная связь, и что ей лучше не трогать местные растения, ведь у неё нет специальных знаний и приборов для выявления ядов и прочих опасностей.
— …Я здесь одна на два-три часа, никуда не уходить, цветы не есть. Понятно, я справлюсь, — проворчала девочка, когда её спросили, всё ли ей понятно.
Патти смотрела на стремительно уменьшающуюся машину. Группа уехала, и она наконец могла делать что хочет. Она обернулась и вгляделась в лес, ей показалось, что она услышала шорох. Патти осторожно углубилась в чащу, у неё было странное предчувствие, что это не приведёт её ни к чему хорошему, но любопытство победило, и она продолжила путь. Вероятно, на поляне можно ещё поймать последние солнечные лучики, но в густом высоком бору царила синяя сумеречная темнота. Она сделала глубокий вдох и почувствовала сосну, влажный вечерний воздух, и ещё что-то, затхлый запах земли и грибов.
— Па-а-а-тт-и-и-и… Па-а-а-тт-и-и-и, я здесь… — прозвучал меж деревьев едва слышный шорох.
Патти узнала в этом шёпоте голос своей подружки из первой команды, Аниты, и это заставило её пойти ещё быстрее. Через некоторое время блуждания по лесу и безответных кликов Патти начала думать, что ей почудился голос знакомой. Но когда Патти уже хотела развернуться и пойти на базу, она услышала тот же полупрозрачный шёпот, который теперь звал её к себе:
— Патти-и-и… Хочешь найти первую команду? Хочешь доказать, что ты полезна? Или же ты действительно просто лишний в команде ребёнок?
— Конечно, я хочу найти тебя, н-но где ты? Я тебя не вижу…
Вдруг из-за деревьев появился знакомый силуэт, Патти радостно бросилась к тени и вдруг остановилась: что-то было не так в Аните. От девочки исходил запах, который она почувствовала ранее, влажная земля и грибы. Подруга не только пахла, но и выглядела странно: когда та неуверенными движениями вышла на более освещённое место, то девочка увидела, что Анита вся в земле и какой-то сыпи, а из головы показывалась какая-то вещь, похожая на антенну.
— С тобой всё хорошо? — встревоженно спросила Патти.
— Хорошо, — коротко отозвалась та.
— Ты здесь одна?
— Одна. Ты здесь одна?
— Н-нет… Не совсем. Родители уехали на свои проверки территории.
— Где… Корабль?..
— Я от него сюда пришла. Он там, на поляне. Вот команда обрадуется, когда тебя встретит!
В воздухе повисла напряжённая пауза.
— Да уж…
Анита вдруг протянула свою неправдоподобно бледную руку и замерла, пошатываясь. Патти медленно и неуверенно взяла её — на ощупь она была мягкая, расслабленная и холодная. Девочке вдруг стало не по себе, у неё закружилась голова. Анита стояла рядом, её рука в руке Патти.
— Тебе срочно нужно в лазарет на нашем корабле… Пойдём скорее, родители, наверное, уже подъезжают!
Патти побежала и дёрнула Аниту за руку. Девочка упала на грязную влажную землю лицом вниз и не поднималась несмотря на крики подруги. Патти дёрнула тело за руку, оно немного поддалось, и вдруг девочка услышала отвратительный, неживой хруст, и в страхе бросила окончательно обмякшую руку.
Патти бежала по густому лесу, быстро дыша, не чувствуя колючих веток, хлеставших её со всех сторон, но вдруг её ноги подкосились, а в глазах потемнело, и она упала.
Корабль номер 2 медленно поднимался над землёй, подгибая траву потоками ветра. Вся команда сидела на своих местах, готовясь к выходу из атмосферы.
— Берём курс на Землю! Хорошо провели время, много любопытного на этой планете…
— Жаль, что мы не смогли тут остаться ещё немного… Но приказ есть приказ. Что ты думаешь, Патти? Рада вернуться обратно домой?
— Рада, — коротко и бесцветно ответила та.

Маргонавт
Меня зовут Маргарита. Марго. Маргоша. МАРГОНАВТ. Называют меня по-разному, а самый нелепый последний вариант — за него спасибо дрыщу Мане, младшему человеку в семье. Я представитель внеземной расы, планирующей порабощение Земли. Нас, агентов под прикрытием, высадилось на землю миллионы. Но земляне не самые умные существа во вселенной, думают, что мы котики. Эти люди вообще странные. Лысые все, шерсть есть только на голове, усов нет. Хотя бывают иногда, у особей, которых называют мужчины, да и то не у всех. И эти усы похожи, скорее, на щетку или на мой хвост. А усы, между прочим, у меня не просто так, это антенны для получения информации с моей планеты. Все думают, что я котик. Выгляжу я как котик, веду себя как котик, хотя и никогда не пыталась скинуть елку. Зачем она мне нужна пф-ф-ф.
Так вот, Маня. Маня — это девятилетний человек со светлыми волосами и голубыми глазами (или одиннадцатилетний, я запуталась, она мелкая для земного детеныша, вроде одиннадцать — это ее истинный возраст, а выглядит на местные восемь-девять), который утром уходит неизвестно куда и в середине дня приходит неизвестно откуда. А после меня мучает. Вот смотрите: иду я себе спокойно по коридору, и тут навстречу — летит! Топочет! Конечностями машет! Берет меня своими верхними хваталками (такие они у них голые, лысые, фу), и давай верещать «МАРГОШАТЫМОЙМАРГОНАВТИКУСЮСЮСЮСЮ». Я дергаю усами, кряхчу, но не могу вырваться, а у меня ж там диванчик, который надо облежать для конспирации. Чаще всего меня отпускают через пару минут, но только потому, что я делаю кусь.
Когда мне удается вырваться и сбежать на верх шкафа, Маня либо включает местный примитивный видеопередатчик, называется телевизор, и надолго перед ним зависает, иногда мне кажется, что она впадает в анабиоз или даже в гибернационный сон. А иногда берется за рисование. Маня собирается быть архитектором. Кажется, это надо рисовать жилища землян, дома.
Еще в этой квартире водится старший человек, мать Мани, Юля.
О том, что я инопланетянин, можно догадаться, у меня есть суперспособность — забираться в места, до которых почти невозможно добраться. Например, на холодильник. Или на шкаф, хотя до него добраться просто. Или на дверь. Я умею расположиться прямо на верхнем краешке двери, на этой трехсантиметровой ширины полосочке, и как я удерживаюсь, о-о-о… никто не знает. Кроме меня.
Дрыщ Маня, на первый взгляд, такая миленькая, хорошенькая, такая положительная и очаровательная, что я периодически блюю от отвращения. Приходится делать вид, что это от шерсти и травы, чтобы не спалиться. Но иногда к нам приезжает подруга Мани, Аня, она по сравнению с Маней такая огромная, о-ой, на две головы выше, кажется. Человеческих. Или на шесть котиковых. Ох, видели бы вы, как они ругаются, в каких фурий превращаются эти миленькие-хорошенькие. А какие аргументы у них, м-м-м.
— Маня, блин, давай уже перестанем ругаться.
— Ты хамишь.
— ХАМЛЮ? Я?
— А сейчас ты огрызаешься.
И это только цветочки. Бывает такое, что они та-а-ак разругиваются, что даже я убегаю на кухню жаловаться их матерям, сидеть на пуфике и передавать сигналы бедствия на родину. Для этого нужно поднять ногу над головой, чтобы усилить сигнал усов. И вылизывать под хвостом, чтобы замкнуть контакт. Люди часто смеются, глядя на это, наивные, они бы не смеялись, конечно, если бы понимали, что происходит на самом деле.
Но вообще-то Маня часто посылает Аню просто так, без конфликтов. Возможно, потому, что она любит командовать и ссориться. Зато хотя бы половину их времяпрепровождения они сидят, уткнувшись в маленькие карманные передатчики, смартфоны. Очень тихо сидят. Почему их мамы против этого, никому не известно. Они же тихо в уголочке занимаются себе и играют там в какой-то минекравт и хомо еволютион. Никого не достают. Никого не убивают. Прекрасная штука эти смартфоны.
В общем, люди эти — странные штуки, и, кажется, моя миссия никогда не завершится.

Пересдача
— Нет, хватит. Такое уже не в первый раз.
— Ну Мария Александровна!
— Нет.
Преподаватель вышла из аудитории. Дверь за её спиной громко хлопнула, оставив Андрея одиноко сидеть в резко наступившей тишине. Солнечный свет сквозь раму окна падал на белую доску, оставляя на ней тёмный силуэт решётки.
«Орёл молодой», — возникла откуда-то мысль. Из окна в помещение закрадывался сквознячок.
Андрею говорили, что надо учиться, а не тусоваться. Но ни одна из двух пересдач по норвежскому в институте не помогла ему этого понять. Вот и сегодня, кажется, выхода уже нет. Не его день. В пересдаче — отказано.
— Никогда я этот норвежский не полюблю…
И даже вставая (не с той ноги, разумеется) из-за парты, Андрей умудрился удариться об неё. Парта чуть было не упала, сильно закачалась и просела. Из-под ее надломленной у основания ножки вылетела книжка: «Русско-норвежский справочник заклинаний».
— Какая-то муть, — подумал Андрей.
— Какой-то Андрей, — подумала муть.
Горемычный студент поднял книгу и раскрыл на оглавлении. Оно было не на последней странице, как у нормальных книг, а как у всех сумасшедших — на первой. Увидел, что на странице 361 заклинание — «Как вернуться на день назад, если завалил пересдачу». Особого удивления это не вызвало — что только не найдёшь под партами в вузе! Книги заклинаний, тайные рукописи с сакральными знаниями, не сдавшие экзамены студенты…
— Не, ну может, хоть так… Опыт поколений, раз тут лежит…
В инструкции к заклинанию были написаны названия тем из учебника, в которых стоило искать слова для составления заговора. В ход пошли и словарь, и разговорник. Так начался вечер в послеобеденном тихом университете…
*
— А!
Солнечный свет, льющийся из окна, падал на белую доску. Андрей очнулся, попытался встать — задел стол. Из-под ножки показалась книга со знакомым названием: «Русско-норвежский спра…»
Стоп. Где-то он уже это видел. Кажется, это было вчера. Или не было. Или было… Неужели недосып до такой степени искажает реальность? Что происходит?
Андрей поднял книгу. Открыл 361 страницу — заклинание про пересдачу. Все вроде бы сходится…
Студент огляделся, достал из рюкзака словарь норвежского языка и принялся переводить инструкцию с листа.
*
— Да ё-моё!
Солнце уже устало светить на белую доску. Книгу Андрей почти привычно поднял из-под ножки парты. После первых двух раз на коленке, под серыми строгими брюками, возник синяк, так что ударяться ещё раз не хотелось…
— Так, ну… Если это всё повторяется… Значит, меня что-то держит?
Студент абсолютно тупым (уместнее будет сказать, «пересдачным») взглядом уставился на парту, по привычке изображая активную мозговую деятельность. В голове пролетала куча вариантов событий, которые могли держать его в этом моменте.
— Так, может, я как-то учителя обидел? Да нет… Может, одногруппников?.. Да тоже вряд ли.
Андрей пытался вспомнить все свои институтские грехи за первый семестр. Недодал рубль в «Трёшке»? Не сдал книги в библиотеку? Снимал маску в аудиториях? Что могло стать причиной мучений?
Но послеобеденно тихий вечер, окутавший коридоры института на Вернадке своим спокойствием, ответов не давал.
*
— Господи, как же я ненавижу норвежский!
Это была неправда. Просто Андрей очень хотел, чтобы в институте ему выпал японский язык. Он пересмотрел все мультики Хаяо Миядзаки, повесил над кроватью фотографию сакуры и даже хотел сделать харакири, когда узнал балл своего ЕГЭ по истории. Но волею судьбы, имя которой «деканат факультета международных отношений», зачислили Андрея на норвежский.
Вместо садов камней — фьорды, вместо самураев — викинги, вместо шиба-ину — треска, треска, треска. Тоска, а не треска.
Всегда сложно перестроиться и начать делать что-то, что ты не хотел.
— А!
Андрей вскочил и всё-таки ударился коленкой в третий раз.
— Так вот оно что! А я-то думал!
Андрей в спешке выложил на парту и справочник, и словарь, и учебник по норвежскому. Он оглядел свои иностранные владения и обнял их.
— Со стойкостью самурая я принимаю свой путь. Жребий брошен, и я честно исполню свой долг, каким бы он ни был. Да покорится норвежский язык моему бусидо…
*
Солнечный свет сквозь раму окна падал на белую доску, оставляя на ней тени шелестевших деревьев.
Преподавательница вошла в аудиторию. Дверь за её спиной аккуратно закрылась, словно в комнату вошла кошка. Сразу стало тихо и уютно.
— Ну вот, Андрей! — Преподавательница достала листы со срезом, готовясь оглашать оценки. Улыбка на её лице говорила сама за себя.
— Ну не тяните… — Сердце студента готово было вырваться. Такое волнение, да ещё после пары физкультуры. Такое волнение!..
— Пересдал. Пять.
— Спасибо большое, Мария Александровна!!!
— А вот сразу всё это, без книжечки, нельзя было?..

Пыль
Мира провела рукой по комоду и с удивлением остановилась, рассматривая оставшийся в пыли след. Сколько она себя помнила, здесь всегда было чисто, даже очень чисто: бабушка ненавидела грязь, отмывая трехкомнатную квартиру чуть ли не раз в неделю. Бабушка ненавидела грязь, а Мира, хулиганистый неаккуратный подросток, очень не любила бабушку. Это было так сложно — туда не ходить, это не трогать, бардак не разводить…
Старую квартиру в сталинской высотке Мира почти ненавидела: большая и холодная, как музей, она никогда не давала ощущения дома, но всегда — какого-то испытания, экзамена, на котором ты никогда не получишь пятерку.
Тем не менее Мира прожила в ней почти всю свою небольшую жизнь, все свои двенадцать лет, за исключением последних трех месяцев, которые она провела с отцом на море. Это было прекрасно. Но теперь, возвращаясь домой, к бабушке, она чувствовала: что-то не так. Бабушка не отвечала на звонки, не читала сообщения… Мира даже не смогла предупредить ее, что вернулась! Впрочем, это было даже неплохо: странное поведение бабушки должно было иметь причины… А так, возможно, их будет проще выяснить.
В подъезде пахло пылью и краской, как всегда, если идти с черного хода — в парадном красиво, светло и уютно, но код оттуда Мира каждый раз забывала, вот и ходила так. Выходя из лифта, она почувствовала отвратительный запах: плесени, тлена и чего-то гниющего. Соседняя дверь, принадлежащая старой бабушкиной подруге, тете Свете — милой, толстой и улыбчивой женщине, — была вся покрыта отвратительной черной плесенью, уже протянувшей свои грязные щупальца к соседним квартирам.
«Ужас какой! — подумала Мира, еле сдерживая рвоту. — Почему бабушка ничего не сделала?! А соседи? Хотя кто тут ходит…»
Дрожащими руками вставляя ключи, она изо всех сил старалась не дотронуться до этой мерзкой, гадкой, отвратительной плесени. Поскорее проскользнув в дверь, Мира заперлась на три оборота, будто бы спасаясь от того, что осталось за ней.
— Милая моя, ты в порядке? — Сухой, хриплый бабушкин голос перепугал ее еще больше, хотя с чего бы? Правильно, бояться нечего, это всего лишь плесень…
«Это всего лишь плесень», — говорила ей бабушка, уверяя Миру в том, что завтра же вызовет санэпидстанцию. «Это всего лишь плесень», — повторяла она сама себе, тщетно пытаясь уснуть.
В этой квартире никогда не бывало тихо: бурчал тихонько холодильник, скрипел пол под легкими кошачьими шагами, переговаривались у себя соседи… А вот их как раз слышно не было. Странно. Тетя Света всегда очень громко включала телевизор, он даже мешал спать, но не сейчас. Не дома она, наверное…
Снова скрипнула половица, уже громче, чем раньше. «Наверное, бабушка вышла в туалет», — подумала Мира. Дверь в ванную находилась прямо напротив ее спальни, так что она отлично видела, как странно медленно идет бабушка, тяжелыми, непривычным для нее старческими шагами продвигаясь к цели.
Мира не закрывала глаз, осторожно наблюдая, как это странное существо — почему-то этой ночью бабушка не казалась ей обычной — проходит в ванную, не включая свет, открывает кран и долго, с явным наслаждением держит под водой руки. Мира снова почувствовала этот гадкий запах — пыль, плесень и пыль, запах старых домов, всегда ассоциировавшихся у нее со смертью, с чем-то отжившим свое и пришедшим за новой жизнью. Она подняла глаза. В зеркале, висевшем над раковиной, отражалась она, ее комната, ванная и бабушка. Бабушка, которая смотрела прямо на нее своими черными, абсолютно черными, без белков и зрачков глазами. Она подняла руку.
Мира вскрикнула, вскочила, чуть не споткнувшись о кошку, и отшатнулась. Кошка не издала ни звука, только потерлась о хозяйкину ногу своим холодным, неприятным тельцем, пахнущим пылью и тленом, и всадила свои грязные когти в ее ступню.
— Нет! — Мира вскрикнула, просыпаясь, и облегченно откинулась на кровати. Все хорошо, это просто кошмар. Счастье какое.
Она была рада всему: теплому солнцу, ненавистной ранее квартире, кошке и бабушке. Мира даже обняла ее, что случалось крайне редко, обняла и сказала, что любит — чувствуя скорее подсознанием, чем носом, легкий запах пыли и плесени.

Снеговик
Он смотрел на меня грустным взглядом, как будто говорил: забудь меня, оставь здесь, брось на съедение судьбе. Мы слепили его сегодня утром из остатков февральского снега. Он получился невысокий и кривой. Одна его рука-ветка отвалилась, словно не хотела быть частью такого уродца. Уродец, так мы его назвали, это имя давило на него и делало ещё более нескладным и некрасивым. Быть может, завтра он растает, маслом растечётся по улице и станет лужей, люди этого даже не заметят, он станет нечем. Кляксой в нашей вселенной, но перестанет быть уродцем. Ему так даже будет лучше. Кому он такой нужен, у него даже нет носа-морковки, просто ветка. «Уродец», — прошептала я, отвернулась и ушла.
Вечером я налила себе чёрный чай в большую красную кружку и села на свой широкий подоконник. Выглянула в окно, посмотрела на уродца — одна его рука упала на землю. Я открыла окно, оттуда подул холодный ветер. Уродец стоял спиной ко мне, но я помнила его глаза, кривую фальшивую улыбку. Зачем мы вообще его слепили? Я поставила кружку и пошла на кухню, взяла небольшую морковку, почистила её и вышла на улицу в одном чёрном свитере и домашних штанах. Поправила руку-ветку и прикрепила морковку на место носа. Уродец почти не изменился, он стал только немного более похож на снеговика.

Ухмылка
Снова они смотрят на меня, будто я не знаю. Чего я не знаю? Того, что они что-то от меня скрывают или что они не такие, как вчера? Это я знаю прекрасно, ещё с момента, когда на лице сестры проявилась несвойственная ей улыбка, утром, пока мы собирались в школу.
Они с мамой не спускали с меня глаз весь день, и даже на уроках мне виделась эта улыбка. Похожую я не видела никогда — почти как насмешка надо мной, надоедливая ухмылка.
— Ешь, ужин остынет.
Я снова перемешала еду вилкой, но есть не было никакого желания. Мама с сестрой продолжили сверлить меня взглядом, когда я резко встала и ушла в свою комнату. Их голоса, секретно перешёптываясь, были слышны ещё несколько минут. Жалко, что я не смогла их расслышать и понять, что тут творилось.
Вечером у меня ещё оставались надежды на то, что следующий день будет, как и все предыдущие, обычным. Но когда утром меня разбудил не оглушительный звон будильника, а сестра, загадочно стоявшая у двери моей комнаты и глядевшая на меня, мне уже было не до шуток.
— Уйди, Даша, — сказала я ей как ни в чём не бывало.
Вновь показав свою ухмылку, она ушла и зашагала обратно по коридору.
Из дома я выбежала, не позавтракав. Дашу в школу доставит мама, как и всегда, а я дойду пешком. Мне не привыкать.
Может, я накручиваю себя и ничего не происходит, но убедить себя в этом было бы сложнее, чем начать искать решение этой проблемы. Даже улицы Москвы выглядели другими — серыми, напряжёнными. Взволнованными. Как я.
И выводя ручкой слова в тетради, и стоя у классной доски, и сидя за партой на перемене перед последним уроком, среди монотонного шума я не переставала думать об одинаковых ухмылках мамы и Даши.
«Если бы не командировка отца, мы бы придумали что-нибудь вместе, — подумала я неожиданно. — Или если бы можно было ему позвонить».
Поговорить с ними напрямую было бы глупо с моей стороны. Одноклассники или учителя будут смеяться так, что на всю жизнь запомнят. Нет, поговорить с кем-то не получится.
К тому моменту, как прозвенел последний звонок дня, я окончательно убедила себя в необычности происходящего. Всё же я решила подождать один день. Если ничего не изменится, то посмотрим.
Весь вечер просидев в гостиной, наблюдая за Дашей и мамой, я поняла, что ничего не изменилось. Только когда мама заметила моё беспокойство, на её лице мелькнуло отражение волнения. Даша оставалась странной.
Утром та ухмылка уже стала невыносимой. Никогда раньше я не собиралась в школу так быстро, несмотря на то, что они пытались мне что-то сказать.
При первой возможности я оказалась в школьной библиотеке. Первое и единственное, что пришло мне в голову, это то, что в мою маму и сестру вселилось нечто. Да, я смотрела все возможные фильмы ужасов, и такое там происходило часто. Не знаю, что на меня нашло, но я начала искать информацию, которая пригодилась бы мне в этой ситуации.
В школе подходящей литературы не нашлось, поэтому после уроков я поспешила в городскую библиотеку — самую ближнюю к школе. Выключив телефон, я зашла в здание.
Длинные ряды полок. Тишина. Нужная книга нашлась быстро — это оказался толстый том с описаниями разных существ, в основном не слишком дружелюбных. Судя по слою пыли, никто похожим давно не интересовался. Снова вспомнив про свою проблему, я начала листать книгу.
Даже страница, нужная мне, была в самом начале. На верхней половине страницы расплылись все слова и картинки, прежде аккуратно написанные чернилами. Немалая часть информации стёрлась, включая название и рисунок.
«Ну и ладно, — подумала я. — Оно не обидится на меня, если я не назову его по имени, пока убегаю».
Описание идеально подходило под мою ситуацию.
«Сначала человек начинает вести себя несвойственно себе, утверждая, что всё так и должно быть. Потом проявляются другие признаки, такие как частые, беспричинные уходы из виду других…»
Читать дальше я не видела смысла, но знала, что оставить всё как есть было бы ошибкой. Я знала, что мне стоит бежать.
— В этой книге только ерунда и написана, — заметил кто-то, пока я ставила книгу на место. Но я не обратила внимания и побежала к выходу.
Пока я мчалась по улицам к дому, уже стемнело. Подул ветер, и дверь в подъезд с лёгкостью распахнулась. У меня не было желания думать, что конкретно случилось и как. Вместо этого, были мысли о том, что мне делать в следующие несколько дней.
— Диана?
Я никак не ожидала увидеть на пороге маму и сестру. Дверь захлопнулась — убежать не получится. Но смысла в этом я и не видела.
— Мы тебя искали, — пропищала Даша.
Их лица казались совершенно обычными — не осталось ни следа той необычной улыбки. Взамен появилась тревога.
Я вспомнила дату, написанную мной в тетради ещё сегодня утром.
— Первое апреля. И чья это была идея?
Даша медленно подняла руку. Я усмехнулась.

Хранитель
— Мы видим два конфликта: социальный и любовный, в середине обоих находится, как вы понимаете, Чацкий. Оба конфликта мы разберем на следующем уроке. Хороших выходных, дети мои.
Я подошел ответно пожелать своему любимому учителю хорошего времяпрепровождения и задать пару вопросов. Наш разговор шёл, как всегда, приятно и непринуждённо, до тех пор, пока мой взгляд не упал на его руки. Обе кисти были перебинтованы, на левой бинт немного сполз и открыл жуткие красные волдыри, кажется, от сильного ожога. Как только он заметил мой вопросительный взгляд, сразу же занервничал и опустил глаза, а руки резко убрал под стол.
— Дмитрий Николаевич, что с вашими руками? Может быть, вам стоит съездить в больницу после уроков?
— Нет, Саша. Всё хорошо. Просто кипятком случайно облился.
— Прям на обе руки лили, Дмитрий Николаевич?
— Д-да, — запнулся он. — Просто кружка с края стола упала.
Я неуверенно кивнул.
— Может, вам всё-таки в больницу сходить?
— Я сказал, что всё нормально, — неожиданно резко ответил учитель, нахмурившись. — И вообще, Александр, я спешу, а вы меня задерживаете.
Не дав мне даже ответить, не попрощавшись, он выскочил в коридор, крикнув напоследок, чтобы я выключил в кабинете свет.
Вернувшись домой, я долго думал о том, что же могло произойти с моим учителем литературы, от чего он так занервничал. Может, мне действительно не стоило лезть не в свое дело?
Тем не менее выходные прошли, а странностей становилось только больше. В понедельник я пришёл к Дмитрию Николаевичу на собрание школьного книжного клуба. Всё было так, как всегда, мы обсуждали книги, учебу и пили чай. Я решил не раздражать учителя вопросами по поводу его ран, но видел, что ожогов на руках стало даже немного больше, так как площадь забинтованной кожи увеличилась. Внезапно моё внимание привлекло что-то блестящее на левом рукаве пиджака Дмитрия Николаевича. Возможно, я был просто зациклен на странностях поведения учителя, но эта мелочь действительно показалась мне подозрительной. Откуда у одинокого взрослого мужчины могли появиться блёстки? Одно его неловкое движение, и это поблескивающее нечто лежит на полу. Я тихо обрадовался удобной случайности и после собрания поднял непонятную мелочь. Этот предмет переливался, немного менял цвета. Я рассматривал его несколько минут не в состоянии оторваться от магического зрелища и в итоге понял, что это по форме напоминает чешуинку. Вопросов стало ещё больше, я никак не мог представить, где же Дмитрий Николаевич мог подцепить такой необычный предмет, даже не заметив этого.
На следующий день я остался в школе допоздна, исправляя свои двойки по химии, и, настрадавшись, ленивой походкой вышел в коридор.
В конце коридора виднелась фигура учителя литературы. Он торопливо двигался по направлению к выходу из школы, на его спине был огромный рюкзак, хотя он всегда носил только небольшой чемоданчик.
Недолго думая, я, стараясь не шуметь, двинулся за ним. Захватив из гардероба куртку, вышел на улицу. Дмитрий Николаевич скрылся за поворотом, я двинулся за ним, отметив, что он пошёл не домой, где иногда проходили собрания нашего клуба. Дмитрий Николаевич изредка боязливо оглядывался, поэтому мне пришлось отдалиться, но я не терял его из виду. Мы подходили к историческим местам города — к Храму на Крови, напротив которого находился парк-усадьба Расторгуевых-Харитоновых. Учитель, так же оглядываясь, зашёл в парк, обогнул здание усадьбы и двинулся вдоль его торца. Я старался ступать как можно тише, не обнаруживая себя. Тем временем Дмитрий Николаевич приподнял выцветший рекламный баннер, висевший на стене дома и, нагнувшись, проскользнул под него. Я услышал скрип предположительно металлической двери, потом всё затихло. Немного выждав, я забрался под баннер и аккуратно потянул за ручку этой двери. Мне повезло: она оставалась незапертой, так что я смог почти бесшумно проскользнуть вовнутрь. Мои глаза долго не могли привыкнуть к темноте, так что я из осторожности ждал, когда смогу вновь хорошо видеть. В помещении пахло книгами, пылью и горелой древесиной. Когда мои глаза адаптировались, я понял, что стою перед старой деревянной лестницей, ведущей далеко вниз. Она выглядела дряхло и небезопасно, но моё любопытство было куда сильнее страха, и я никак не мог свернуть назад, так далеко уже проследовав за своим учителем. Теперь я был просто обязан узнать, где же я оказался.
Лестница тихонько скрипела, я спускался по ней уже довольно долго. Внезапно снизу послышался треск огня, на стенах были видны его отблески. Слышен был также тихий, успокаивающий голос Дмитрия Николаевича.
— Тише, тише, малыш, сейчас я тебя накормлю. Видишь, всё хорошо. Совсем ничего страшного. На, ешь, маленький.
Ответа на его слова не было, я слышал только странные щелчки. На секунду я подумал, что почувствовал запах сырого мяса.
Чем ниже я спускался по лестнице, тем больше меня подстегивало любопытство и тем больше вопросов роилось в моей голове. Громкий треск, под моей ногой проламывается ступенька, и я качусь вниз по лестнице, выпадаю прямо в середину освещённой камином комнаты. Я поднимаюсь и оглядываюсь по сторонам. С немым шоком на меня смотрит Дмитрий Николаевич, сидящий на корточках у камина, а за его рукой прячется маленький… дракончик? Да, дракончик с тонкими блестящими крыльями, зелеными вытянутыми глазами, длинной шеей. На его голове маленькие шипы. Он весь переливается разными цветами, с интересом и испугом разглядывает меня. У его лап лежит куриная нога, его незаконченная трапеза. На полу рядом валяется несколько таких же блестящих чешуек, как та, которую я нашёл. Что-то начинает проясняться. Но что я несу? Я ВИДЕЛ ДРАКОНА?!
— Александр! — грозно обращается ко мне Дмитрий Николаевич, только пришедший в себя после моего появления. — Ты что, преследовал меня?
— Эээ… Ну, вы и сами поняли, что да… Простите меня, это дурацкое любопытство.
— Ладно, Саша, видимо, это место выбрало тебя. Я должен многое тебе рассказать.
И тогда он поведал екатеринбургскую легенду о подземельях харитоновской усадьбы и о том, что здесь находится уникальная библиотека книг обо всех когда-либо существовавших драконах и об истории их уничтожения. Я узнал, что осталось всего три дракона на свете, одного из которых я видел. Дмитрий Николаевич рассказывал мне о том, что о них нужно заботиться, и тогда, питаясь теплом и любовью, они будут жить вечно. Он также рассказывал о том, что обязанность хранителей дракона передаётся от хранителя своему преемнику, которым мне теперь придется стать. Он учил меня ухаживать за драконом так, чтобы тот не боялся меня и не старался обжечь.
10.10.10.
В следующие несколько лет я многому научился там, мы наладили контакт с одним из норвежских хранителей, и есть надежда на ближайшую встречу с ним.
Сейчас мне двадцать два. Сегодня Дмитрий Николаевич умер, а я уронил слезу на первую страницу своего «Драконьего дневника», в котором рассказана эта волшебная история. Благодаря Дмитрию Николаевичу, я научился любви, заботе и вере в чудо. На моей левой руке свежая маленькая татуировка дракона.

