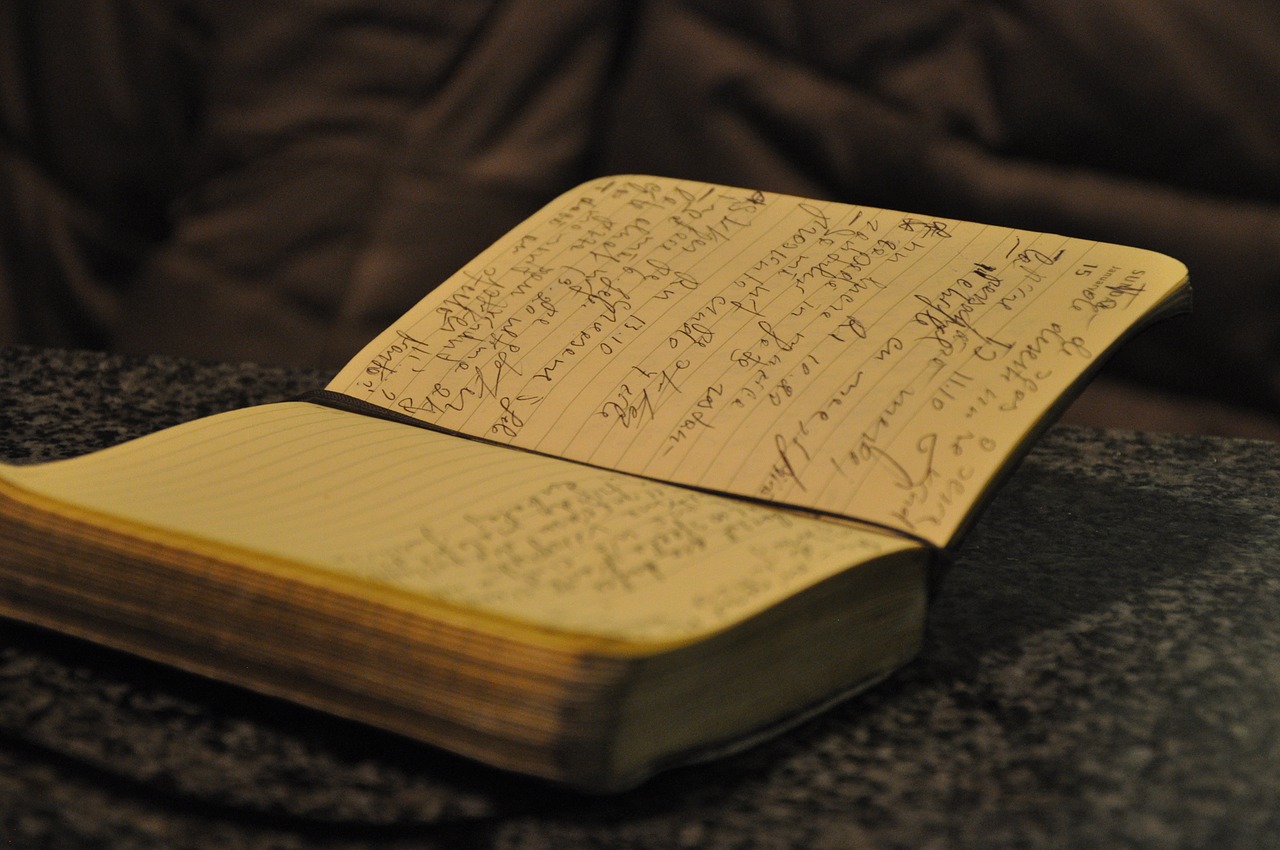Нина Ивановна стоит на последней ступеньке, вцепившись в поручень, и тяжело дышит. Ветер здесь дует не так сильно, так что можно и передохнуть. В ста метрах — мрачная шестнадцатиэтажка, которая защищает ее своими широкими плечами.
На пути до дома пять лестниц. Если пойти другой дорогой, то три лестницы и два крутых подъема. Обычно Нина Ивановна выбирает второй путь: в горку идти проще, чем вверх по ступеням. Но сегодня подъемы занесены снегом, а под снегом — лед. У лестниц хотя бы есть поручни. Позади первые две.
Там, откуда она приехала, нет нужды в лестницах: нет ни сопок, ни косогоров. А если и встречается какой-нибудь холмик, никому не приходит в голову строить на нем многоэтажки. Там нет моря с характерным сырым воздухом и ветром, от которого не спасает даже каракулевая шуба в пол. Зато есть березняки: целые рощи высоченных, тоненьких, прямых березок. Некоторые настолько тонки, что издалека похожи на прутики. Здесь тоже есть березы, но они больше напоминают пораженные артритом пальцы. Кривые, узловатые, некрасивые.
Да и зимы там другие. Снег тихо падает почти каждый день, и земля почти неизменно белая. Его приминают прохожие, топчут кони, раскатывают повозки, а на следующий день снова присыпает, и снова красота. Хотя какие кони и повозки, одергивает себя Нина Ивановна. XXI век на дворе. Может, и нет больше той ежедневной зимней сказки. Тоже машины, тоже грязища, тоже никто улицы не чистит… Но даже если так, все лучше, чем здесь: всю зиму ни снежинки, светит холодное низкое солнце, а к середине февраля — бабах! — буран, вьюга и снег до второго этажа. Через пару дней его почти полностью сдувает этот колкий, вездесущий ветер.
Третья лестница длиннее предыдущих, к тому же разваленная. Нина Ивановна преодолевает ее в три приема, первый раз останавливаясь ступеньке на десятой и второй раз — ближе к концу. Место открытое — шестнадцатиэтажка осталась позади, и долго стоять невыносимо.
Год назад она чуть было не поехала туда. Год назад она собирала сумку и не могла поверить в происходящее. Год назад у нее в руках был билет на запад. Разумеется, не в прямом смысле: его купили дети, так что он был электронный и смотрел на нее с экрана дочкиного компьютера, но был ничуть не хуже бумажного.
Вместо телевизора по вечерам она продумывала маршрут. Сначала — в родную деревню. Дойти до здания школы (осталось ли от него хоть что-то?), а от него козьими тропами — до пирса, где по утрам висел туман, а по вечерам сидели неопрятные старшеклассники. Затем в город, к дверям родного университета. Даже если ее не пустят внутрь (а сейчас никуда не пускают — везде охрана, все по пропускам), не беда — она хотя бы сфотографируется на его фоне. Оттуда, мимо памятника Чкалову, — к длиннющей лестнице, которая спускается почти к самой Волге. Как она будет спускаться с ее-то ногами Нина Ивановна не представляла, но решила, что как-нибудь на месте разберется.
Так она планировала каждый вечер — что-то записывала в специально заведенную тетрадочку, что-то проговаривала в голове — пока однажды, за пару месяцев до поездки, не почувствовала себя паршиво. Семейный врач и бывшая коллега Маргарита Павловна поставила диагноз: гипертонический криз.
На вершине третьей лестницы Нина Ивановна останавливается и опирается спиной о поручень. Колени ноют, в груди горит. Глаза, исколотые крупинками снега и ветром, наполняются слезами, и ей вдруг хочется разрыдаться в голос. Она достает из кармана шубы аккуратно сложенный платок — розовый край, мелкий цветочек — и прикладывает его к глазам. Ладно. До дома недалеко, а последняя лестница — самая короткая, дойдем.
Восстановилась она тогда быстро, но стала постоянно тревожиться. Если бы ее спросили, что именно ее беспокоит, она бы не смогла ответить. Просто какой-то холодок внутри и непроходящее чувство, будто она что-то делает не так. Что еще хуже, дети перепугались и хотели теперь сдать билеты.
– Лететь девять часов, мама! — почти кричал сын в ответ на ее заверения, что все будет нормально. — У тебя гипертония, это не шутки!
— Маргарита Павловна сказала, что после такого эпизода лететь опасно, — ласково вторила дочь.
— Маргарита сказала, что есть риски, — возражала Нина Ивановна. — Запретить — не запретила.
Маргарита и правда не запретила, сказала только, чтобы Нина Ивановна приняла «взвешенное решение». Она не хотела ничего взвешивать: тетрадочка уже исписана, компрессионные колготки куплены, билет по-прежнему живет в дочкином компьютере — куда отступать? Но тетрадочку открывать почему-то больше не хотелось.
Недели за три до вылета билет был по-прежнему не сдан, а дети все спорили — теперь уже между собой.
— Я все понимаю, но ты же видишь, как ей тут тошно, — говорила дочь.
— А тебе не будет тошно, если она в самолете… того? — язвительно спрашивал сын.
— Не говори так. Я буду с ней.
— И что? Как ты ей поможешь, если вдруг чего?
— Ну почему ты так уверен, что обязательно будет «чего»?!
— Я, видно, за нас двоих думаю!
— Борь, — устало проговорила дочь после паузы. — Я тоже переживаю. Но ты пойми, у человека мечта. Я хочу ее исполнить.
Снова пауза. Борис явно перестал ходить взад-вперед по комнате и опустился на какую-то поверхность. Тихо, напряженно произнес:
— А что с ней будет, когда она исполнится?
Стоявшая за дверью Нина Ивановна в тот момент почувствовала, как тревога и холод из груди поднялись выше, к горлу. В ушах зашумело. Она ушла в свою комнату, села за туалетный столик, положила перед собой свою тетрадочку. Перевернула несколько страниц, как-то безрадостно усмехнулась наброску Чкаловской лестницы, который получился неплохо, вопреки уверенности, что у нее руки-крюки. Позвала дочь, а когда та пришла, сказала:
— Наташенька, я тут подумала. Сдай-ка ты билеты. Так лучше будет.
Последняя лестница. Нина Ивановна останавливается, чтобы немного подышать перед подъемом. Бывают дни, когда она жалеет, что вышла из дому. Поход в магазин — полоса препятствий: иногда просто неприятных, иногда — опасных для здоровья. Но как не выходить? Это как жалеть о том, что она села в поезд, который привез ее сюда пятьдесят лет назад. Тогда ведь тоже думала: «А как не сесть?»