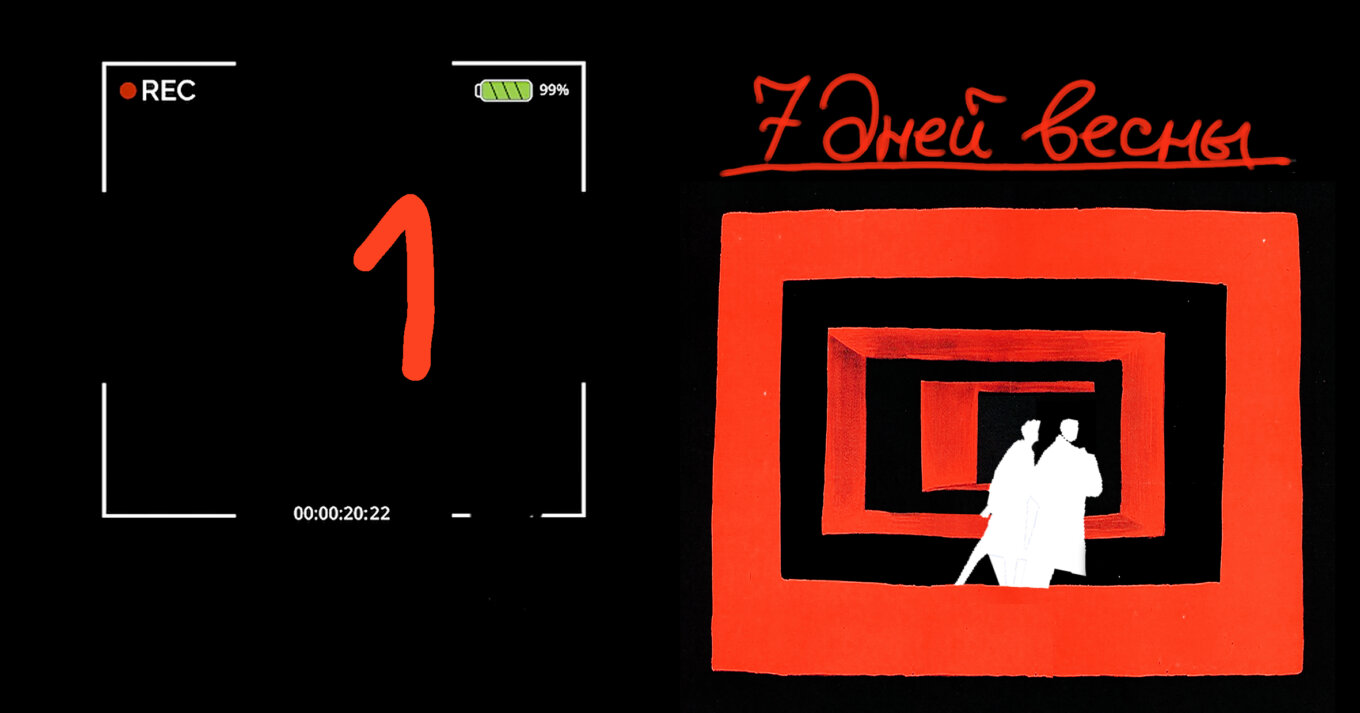Перед вами — ряд текстовых цепочек. Это записи, которые вели участники марафона CWS «Семь дней весны», проходившего с 8 по 14 марта этого года. Не все из тысячи с лишним участников, находившихся в самых разных географических точках, выкладывали свои записи в телеграм-группу (многие только читали), не все писали на протяжении всех семи дней; со своей стороны, и мы, готовя эту публикацию, сделали некоторую выборку. Однако то, что получилось, на наш взгляд, репрезентативно и убедительно.
Мы сохранили естественно сложившуюся структуру: семь дней — семь цепочек, блоков. Логика тут чисто хролонологическая, календарная, но если читать тексты подряд, проступают и другие.
Во-первых, логика «ощупывания себя» и осознания. Оказавшись 24 февраля под завалами прежних укладов, смыслов, а часто — и отношений, нужно было понять, жив ли ты вообще, цел ли. Ответы этих текстов в общем неутешительны: вроде бы живы, но с большим, большим трудом, а уж целостности точно нет и в обозримом будущем не предвидится. Вокруг же и вовсе, в прямом и переносном смысле, сплошные зияния, отсутствия, дыры, провалы в тартарары. Мы все теперь калеки на руинах. Ну что же, по крайней мере, это вносит ясность, столь необходимую.
Во-вторых, логика сопротивления и противостояния: тревоге и мраку, унынию, расчеловечиванию, привыканию к жизни во время [РКН]. Тут все важно и все может работать как рычаг: и принятое решение уезжать/оставаться, и записанное для близкого человека видео, и пробежка в парке, и стремление каждый день, собирая себя из праха, все-таки заниматься своим делом или вообще хотя бы чем-то заниматься, и многое другое.
В-третьих, логика свидетельства. С тех мартовских дней прошло почти два месяца, что в наших нынешних условиях равно, наверное, не одному году. И тем не менее, эти нон-фикшн тексты работают. И как протоколы индивидуальных состояний, и как панорама, бесценный материал для исследователя — психолога, историка, социолога, филолога. И как попытка слово противопоставить хаосу, подавляющему способность говорить и писать. И, надеемся, как опора для размышлений, поиска ответов и солидарности.
Екатерина Лямина,
филолог, профессор НИУ ВШЭ, преподаватель Creative Writing School, редактор текстов марафона «Семь дней весны»
Е.:
Мой кот — редкая сволочь!
Он сегодня сбежал, рванул вдоль границы со Словакией и скрылся в посадке, повиливая белым толстым задом.
Волонтер Томаш бросил переноску и рванул за ним.
— Беженец! — ахнула старушка рядом.
— Патриот, — вздохнул сын, — в сторону Украины бежит.
— Сволочь! — сказала я, рассматривая свежие царапины на запястье.
Собирались за пару часов, с собой сказали брать одну сумку с вещами и пакет с документами. Моя сумка с вещами — это кот по имени то ли Гусля, то ли Бусля, то ли «Наглаямордасовсемохамел?»
А теперь мой клад, моя пушистая царственная котяра, не выходящая за пределы квартиры ни разу в жизни, неслась полями Европы.
— Надо же, малахольный какой, — умилялась старушка, — мечется, точно заяц!
— Ма, я без Бусинки не поеду! — рванул по словацким просторам сын.
— Вот бля… — адекватно отреагировала я на ситуацию и, бросив сумку, пакет с документами и пару бессонных ночей на дорогу, рванула следом.
К моменту моего прибытия к рощице все кота потеряли из виду, но я эту толстую жопу увидела сразу! Изображая из себя белку, этот гад вознес все свои семь килограмм на хлипкую словацкую березу.
Кот безнадежно сползал, но продолжал изображать из себя поседевшего дятла.
Томаш, ласково нашептывая «пекна мачка, пекна мачка», стал забираться на дерево.
— Мам, что он говорит? — со слезами на глазах спросил сын.
— Что суп из него сварит! — рявкнула я. — Или матерится. Слышишь, по матери нас посылает.
— Да, нет! — радостно сообщила старушка, тяжело дыша и вытирая пот со лба. — «Пекна мачка» — это «хороший котик».
Бабушка — божий одуванчик — протянула нам пакет с документами и сумку, которую мы бросили.
— Пойдемте кофе пить в палатку! Такой стресс, такой стресс! — Бабушка потрусила назад к дороге.
— Ма, она что, бежала за нами по полю? — Сын ошалелыми глазами смотрел в спину сухонькой старушке.
— Я тоже подумала про телепорт, — прошептала я.
В этот момент с криками «пекнааааааа мачкаааааа» с дерева упал Томаш, но руку, держащую кота за холку, не разжал.
— Мама, нас депортируют? — поинтересовался сын даже с каким-то задором.
— Пекна мачка! — выругалась я и уставилась на разорванные в клочья штаны волонтера.
А он гордо шел по полю, подняв высоко кота и что-то подробно объясняя ему на словацком.
Когда наш «нежный зверь» был водружен в переноску, старушка принесла нам два стаканчика кофе.
— Томаш очень злится? — робко спросила я. — Переведите ему, что мне неловко, я виновата, что не смогла удержать Буслю, кот очень напуган этой дорогой, он домосед.
— Что вы, милая? Томаш извиняется.
— Что? Перед кем? — впала я в ступор.
— Перед котом, конечно! Просит вас подождать еще пять минут, он сбегает в волонтерскую палатку за вкусностями для кота. Хочет помириться, так сказать.
— Спасибо, что позаботились о нашей сумке и пакете. — Я представила, как старушка несется за нами по полю, и щеки начали краснеть. — А я могу вам чем-нибудь помочь? Куда вы едете?
— Никуда, милая. Я тут волонтером работаю. Не шибко резвая, конечно, но все же, что дома сидеть, когда стольким людям надо помочь? — взвалила она огромный мешок на плечи и поспешила в сторону палатки с вещами для беженцев.
***
Д.:
— Ты правда показал этот текст маме?
— Да, я считаю, что в этом нет ничего стыдного и предосудительного,
в этом нет ничего запретного и запрещённого.
Текст про совесть и стыд я выложил на свои страницы в социальных сетях.
Я считаю, что в нем нет ничего стыдного и предосудительного,
в нем нет ничего запретного и запрещённого.
Мама прочла его и стала неузнаваемой, когда мы с ней созвонились.
Я почувствовал в ее голосе военизированную агрессию.
Будь аккуратнее, — говорила мне она,
Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее,
На всех писак — их — не хватит.
Тут я бросил трубку.
Жил весь день с головной болью, которая теперь стала будничной и незамечаемой.
Она просто парализует, закрывает твою жизнь в клетку,
в который ты живешь свою клеточную жизнь: с подкатываемой тошнотой, с кислой слюной во рту,
что-то в тебе окислилось, что-то начало подгнивать и подванивать, ты начал разлагаться на части,
ты держишь рот закрытым, чтобы никто, не дай бог (здесь бога нет, но инерция, как и головная боль, тоже давлеет над тобой, они — подруги в этом деле сдавленности), чтобы никто не почуял трупного запаха, исходящего из твоего нутра.
Пока этот запах не так различим, но вскоре, вскоре, вскоре, вскоре
Не хватит дыхания, объема лёгких держать рот закрытым.
Тошнота, рвота сломают барьеры сомкнутых губ.
Моя мама любит меня.
Моя мама боится за меня.
Моя мама не видит меня здесь.
Моя мама не верит в мое будущее здесь.
Она говорит — надо сваливать.
Она говорит — надо бежать.
Она говорит — надо учить язык, а не бросать трубку.
Нужно опуститься до самого дна.
Нужно расстаться с лживыми иллюзиями и надеждами.
Нужно притвориться мёртвым, затаиться в кустах вблизи хищника, не выдать себя.
А потом бежать, бежать, бежать, бежать
Через границы и заставы,
Держа себя в руках вместе с персональной клеткой, которая не влезет ни в один рентген, металлоискатель в аэропорте.
Думай быстрее.
Ускоряй мысль.
Научись жить здесь и сейчас
Со спертым дыханием.
Не дай тошноте парализовать тебя.
Не дай тем, кто придёт за тобой, спустить тебе на лицо и оставить тебя с этим на всю твою жизнь.
Семя, упавшее на лицо твоей земли,
Не прорастет прекрасным цветком.
Не принесёт обильных плодов.
Не укоренится в земле дубом,
На коре которого твои дети напишут какое-нибудь забавное бранное слово,
За которое их осудят и посадят
В самую настоящую клетку.
Крепкую, без возможности открытия.
Захлопнулось — и всё.
Слушайся маму, будь умницей.
Осторожным умницей.
«Семя мужчины исходит из мозга. Вся его часть, которая не попадает в матку, циркулирует по венам женщины, смешанная с кровью, и становится молоком» (Симона Вейль).
Изойти,
вырваться,
Попасть,
Не попасть,
Циркулировать,
Смешаться
С кровью
Стать молоком
Накормить им
Своё дитя
Не дать будущему
Умереть.
***
А.:
Вчера мне написали, что я тоже виновата.
Виновата уже только тем, что живу свою жизнь сегодня, и вчера, и завтра. Пеку блины, пью чай и имею наглость улыбаться, когда где-то страдают люди.
Вчера мне написали, что меня больше не любят. (А раньше — любили? Ну хоть капельку?) Потому что мне есть чем накормить ребёнка, а им — нет. И я виновата-виновата-виновата, потому, что мои (мои ли?) воины уничтожили очередной чей-то дом.
Я не беру эту вину.
В животе тревога, страшная трехметровая змея, которая крутится, крутится и никак не уляжется спать — черт бы ее побрал.
Я плохо спала и все думала — ну зачем? Зачем бросать в меня эти снаряды ярости и бессилия, ненависти и страха? Ведь они долетают, у них широкая зона поражения, у этих снарядов. Они травят, как качественное биологическое оружие. И увернуться невозможно. Сколько не надевай броню равенства и братства — ледяные осколки уже попали Каю в глаза и в сердце.
А если я лягу к стене и буду плакать? Не пойду в театр, не отнесу в школу поделку, не приготовлю дочери ужин (в такое-то время! Когда людей убивают! Пожалуй, вот тебе вода и черствый хлеб). Перестанут ли в меня лететь разрывные снаряды информационной ненависти? Хоть кому-то станет от этого лучше? Я этим все исправлю?
***
N.:
«Приказываю перевести силы сдерживания в особый режим дежурства».
Из всех событий, которые произошли за эти двенадцать дней спецоперации, именно это известие отозвалось во мне сильнее всего.
Мы сидели с сыном, ему за несколько дней до этого исполнилось два года, играли в конструктор, строили дом или машину для его игрушечной собаки, и я решил на секунду зайти посмотреть новости, а там это.
Волна гнева захлестнула меня. Причем гнева абсолютно холодного, если можно так выразиться. Один человек, ну, или группа, которая за ним стоит, решила подвинуть наш мир еще ближе к грани, перешагнув которую, назад мы уже не вернёмся. А я смотрю на сына, как он строит свои сюрреалистичные, часто неустойчивые поделки, бормочет что-то под нос, и гнев становится ещё сильнее. У него ещё должно быть столько хороших, счастливых дней впереди, а тут это. «Надо что-то срочно сделать!» — сказал гнев. «Что?» — тут же вопросила рациональная часть сознания.
«Не знаю, как-то выступить против, заявить о несогласии!»
«А что это поменяет? А у тебя есть на это силы?»
«Не в этом дело, надо исправить ситуацию, надо срочно что-то менять!» — все не унимался гнев, но я ощущал, что он, как шарик с дырой, уже начал скукоживаться. Гнев ещё раз попробовал взбрыкнуть, но скоро замолчал и угрюмо ушел, оставив за собой пустоту, которую вскоре заполнило отчаяние. Холодное, липкое отчаяние. А сын все нагромождал и нагромождал кубики один за другим, пока все это не рухнуло.
— Пап, — позвал он меня, я поднял на него глаза и будто немного вышел из этого подавленного состояния. — Дом, бабапа, — сказал он и подвинул ко мне кучу кубиков. Я немного натянуто улыбнулся ему и снова начал строить дом для собаки.
***
E.:
Мы вчера сели с девочками выпить кофе. Накануне целый день выбирали время и место, чтобы нам, занятым, преуспевающим, с детьми-собаками-бизнесом, выкроить три часа на общение.
Собрались, обнялись, сели. Кофе, бейглы, круглые столики в уголке. Знакомые лица, те же улыбки, а в глазах страх и растерянность.
Что вообще происходит? То, чего никто не ждал. Уезжать или оставаться? Там — другие языки, жизнь с нуля, будущее. Здесь — пожилые больные родители, несовершеннолетние дети, питомцы, жилье. О чем думаете, девочки?
Лена — на низком старте. Но семья уговаривает ее не спешить: «Да ничего не происходит, ну куда ты поедешь, там тебя с твоими собаками никто не ждет, а здесь школа у сына и отец лежачий после инсульта… подожди». У Кати бизнес, квартиры, машины — не свернуться в одночасье. Зато в Киргизии семейный очаг, приезжай в любой момент. А она не едет, ждет. Наташка еще не оправилась после потери ребенка. Всеми силами держится за рассудочность, для всего ей нужны причины — уезжать, оставаться, жить. Судит радикально: «Угроза жизни и безопасности прямо сейчас есть или нет? Работа для нас там — есть или нет? Значит, пока остаемся». Кажется, что самое страшное она уже видела. И ничего страшнее не может быть. А оно есть. Давит на каждую.
Не кофейня, а проходной двор. Бабушка с внуком вежливо просят погладить собаку. Конечно, можно. Стильная красотка наших лет сидит вполоборота и прислушивается, вздыхая. Молодые девчонки заходят, задорные, стреляют глазами, смеются в голос. Юные мальчики сидят с ноутбуками, делают вид, что не замечают.
За окнами потоки бурой грязи, черное месиво талого снега. Пронизывающий ветер. Серые рваные облака. Весна. Не верится, что где-то асфальт сухой, а ветер теплый, что цветут деревья и пахнет морем. И во все прочее тоже не верится.
***
А.:
Отец звонит нам по праздникам. сегодня он сетует, не знает, как поздравить сестёр. Они всё меньше хотят с ним говорить. Их мать не может или не хочет спускаться к дочерям в бомбоубежище. Ей за девяносто… 26-го года, значит, в 41-м ей было пятнадцать, уже почти взрослая. Мой дедушка был младше — возраста моего сына, в их деревне стояли мадьяры, они же венгры, как мы знаем. От прочих постояльцев в мундирах они не сильно отличались, так же знали всего три слова: кура-яйки-млеко. Одним вечером дед (который, конечно, был пацанёнком) заметил, что молодой солдатик прикуривает не спичками, как все, а от блестящей металлической коробочки, из которой выпархивает маленький огонёк, что, как нам теперь известно, называется зажигалкою. Мадьяр, в свою очередь, заметил его интерес, подозвал его, потрепал по русой густой шевелюре (а таковая передалась по наследству моему отцу, мне и даже моему младшему сыну) и вручил ему эту коробочку, сказав что-то ободряющее. Дедушка рассказывал, в каком восторге он чиркал ею, вызывая маленький огонёк. Позже он обнаружил, что её можно заправлять газом, и зажигалка служила ему ещё очень долго, пройдя вместе с дедом службу в советской армии, учёбу в вечерней школе, трудовые перекуры на заводе, пока, наконец, не затерялась при одном из переездов уже на Урале.
Дедушка не знал, что в те самые дни в ста километрах от их деревни венгерский полк совместно с отрядами СС совершили самое масштабное за всю историю всех войн военное преступление, расстреляв несколько тысяч мирных жителей в ответ на взрыв нацистских офицеров партизанами.
Какую роль играл тот паренёк-мадьяр в этом событии, с каким чувством он возвращался домой, на свой хутор, и вернулся ли вообще — кто знает. Но думается мне, что если он и вспоминал те времена, то, прежде всего, представляя, где же тот парнишка и служит ли ему до сих пор чудесная металлическая коробочка и её порхающий огонёк.
***
Ю.:
В аптеке передо мной пара человек, в тесном помещении я стою у самой двери.
— …понятно, чтоб дороже выпаривали, не надо, — долетает до меня дребезжащий голос.
Не виню, время такое.
Я беру лекарства и иду к метро. По пути ощупываю в кармане две пачки. Вот большая, хорошо. Так, а где вторая? Неужели… Сердце запрыгало в горле. Панически шарю рукой, карман будто бездонный. А, вот она, фух. Такая маленькая. На коробочке выпуклая надпись.
Страх приходит каждый день. Вот и сегодня он пришел в образе коробочек и блистеров. Блистеров, в которых гарант моей работоспособности, настроения, сил. В которых моя способность жить.
Внутри огонек надежды — хоть бы через месяц в приложении снова увидеть выпуклое название и галочку напротив него.
Иначе…
Но понятие «месяц» с недавних пор вытянулось, изменилось. В тридцать дней может уместиться целая вечность.
Дожить бы.
***
I.:
Мама говорит: «Ладно». «Просто не будем говорить об этом», — говорит мама.
Я говорю ей, что напишу письмо. Всё расскажу, там будут все ссылки, все новости, сводки по задержаниям, если хочешь. Ты сможешь установить VPN? «У меня нет на это времени, Ира, — говорит мама. — Я работаю врачом. Что у тебя за проблемы? Где ты этого набралась?»
Где я этого набралась. Это как на драматургических лабах и мастерских. Когда куратор говорит, что у тебя плохая пьеса, скучно, ты слишком жалеешь своего героя. Сделай ему хуже, сделай невыносимо. «Мама, — говорю. — Существуют документальные материалы. Видео, фото, монологи украинских женщин — это всё сейчас собирают и публикуют, я покажу». «Я думала, ты журналист, — отрезает мама. — А ты как моя санитарка. Эта тоже пыталась что-то мне рассказать. Мне жаль вас обеих».
7 марта я сижу на полу в пустом аэропорту Шереметьево, терминал D, и не знаю, как ей сказать. Желательно сразу всё. И быстро — пока она не положила трубку. И убедительно, чтобы она поверила. Вместо этого я начинаю медленно дышать, как учат на йоге, чтобы не разреветься.
Помнишь, — говорю. — Мама. Ты рассказывала, как в 2000-м, беременная моей младшей сестрой, ехала семь дней из Сибири в Киев, а потом еще сутки в маленькую деревню где-то в Киевской области. Ты ехала познакомиться со своей свекровью. Матрона — так звали бабушку моей сестры. Мне было четырнадцать, мы с братом ждали тебя в Иркутске. И ты каждый вечер по телефону рассказывала нам про персики, которые растут прямо на улице и никто их не ест. Про йогурт, который бабушка Мотя готовит «вёдрами», про украинские песни, которые вы пели, сидя на крыльце с ней и с соседками. «Конечно, помню», — говорит мама. Потом мы долго молчим. Очень долго молчим. Наверное, целую минуту. Я катаюсь на эскалаторе туда-сюда в пустом аэропорту и понимаю, что не могу ей сказать. Что точно напишу письмо. Завтра или потом. К концу марта точно напишу.
«Ладно, — говорит мама. — Присылай свои ссылки»
***
О.:
Я не спала до семи утра. Думала о словах мамы, о словах папы. Такая пропасть теперь между нами, но я всё равно стараюсь каждый день говорить о том, что меня волнует. Не знаю, уменьшает это разрыв или увеличивает, но я знаю точно, что разговор внутри моей маленькой семьи, пока ещё свободный разговор, не даёт ране внутри меня разрастись до пределов чёрной дыры.
Сейчас я думаю о клубничном варенье мамы, которое съела на днях. Вспоминаю, как последние клубничины вырвались из банки и шлёпнулись на поверхность белого блюдца. Спелые ягоды, бережно отобранные руками мамы, я съела за завтракобедом.
Смотрю видео для любимой дочки от папы. Пишу «спасибо, папа» и ставлю сердечко. Праздник для меня как рука из могилы. Весточка из прошлой жизни, что отмерла, отвалилась. И я пытаюсь прилепить к образовавшейся пустоте то, что могу, но пока получается криво и искусственно.
***
Т.:
Беда
Я не хожу в церковь, не бьюсь лбом о пол, умоляя Бога прекратить страдания, не молюсь понапрасну в назначенные дни. Но всю свою сознательную жизнь обращаюсь к Библии. Библия помогает жить. Она показывает, как сделать боль не такой сильной, как пережить беду и как остаться человеком, даже когда совсем невыносимо. Если говорить простыми словами, Библия — это пособие.
«Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». (Иер. 6. 16).
Остановиться. Я замерла и осмотрелась. Дочь сидит рядом. Склонив голову на мое плечо, читает книгу. Время от времени Уля сдувает белокурую челку, спадающую на глаза. Вздыхает. У нее трудный период.
Когда тебе двадцать четыре, перемены кажутся концом жизни. Я рада, что могу быть с ней. Осторожно беру дочку за руку и сжимаю: «Я с тобой». «Я знаю». — Ульяна сжимает мою руку в ответ.
А ведь я могла бы своим поведением «убить» ее.
Шестая заповедь в православии гласит: «Не убий».
«Ненависть, злоба, побои, издевательства, оскорбления, проклятия, гнев, злорадство, злопамятство, зложелательство, непрощение обид, осуждение — все это грехи против заповеди «не убий», потому что всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца». (1 Ин 3, 15).
Кроме убийства телесного есть не менее страшное убийство — духовное.
Конечно, легко философствовать, когда в раскрытое окно дует легкий прохладный ветерок, светит солнце, слышно пение птицы, первые цветы на подоконнике просыпаются от поцелуя весны, слышен знакомый голос булочника из соседней кондитерской. И даже когда вздох дочери кажется трагедией, все же это не так страшно по сравнению с бедой в мире.
Но, «разве, упав, не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются?» (Иер. 8. 4).
***
S.:
Они доехали, я выдохнул. Обычно дорога из Днепра во львовскую область занимает 10 часов. Это если Макс за рулём. В этот раз Макс ехал во главе колонны из десятка машин, Ольга с Таисией ехали в середине колонны. Макс сказал: «Ты справишься, главное — не выезжай из колонны». Она справилась. Они все справились с забитыми беженцами дорогами, с неуверенностью и страхом. Выехали в воскресенье рано утром, две ночевки в пути, сегодня Ольга написала, что доехали. Родители Макса «забрали своих» и разместили остальных по друзьям и родычам. Илья, любимый «дедын внук», еще в первых числах марта эвакуировался со школой в молодежный лагерь под Краков. В ужасе происходящего умудрился с друзьями раздобыть цветы и поздравить девчонок с 8 марта. Шестнадцать лет, природу не обманешь. Ольга пишет, что за него меньше всего волнуется: настоящий мужчина растет. Кощунственно звучит, но хорошо, что наш общий с Ольгой отец, бывший офицер Советской армии, не дожил до этого. Зная его характер, предполагаю, что он отказался бы уезжать. Еще и на баррикады полез бы.
***
I.:
Мне понравился парень. Мы общались в сети, писали друг другу сообщения и отправляли голосовухи. Слушали дыхание друг друга в полночь и много, много говорили о сексе. В общем, все то, что нужно водной Венере с гармоничным аспектом на водный Плутон: образы, внимание… дистанция и сильное влечение.
Пару дней его не было на связи, а вчера он сказал, что уехал и увез с собой своих близких. «Увез своих»…
Это правильно. Здесь небезопасно. Мы оба это знаем. Но влечения больше нет. Чувств больше нет. Есть только опустошение, как тогда, когда я поссорилась с отцом и мы больше никогда не разговаривали.
Чувство брошенности, покинутости или отверженности. И этот парень здесь ни при чем. Как ни при чем шатающийся дом и ежеминутная сводка новостей, которую я больше не читаю.
Обида? Это только на поверхности. А в глубине жадное, жгучее, липкое и покорно меняющее форму желание быть той «своей», о которой заботятся и которую любят.
Какой мне нужно стать, чтобы ты меня полюбил?
Как мне нужно выглядеть, чтобы ты меня полюбил?
Что мне нужно делать, чтобы ты меня полюбил?
Все это ведёт в никуда.
А мне в никуда не надо.
***
М.:
Первым делом я читаю накопившиеся за ночь новости. Заглядываю к Жене. Она в безопасности, но сердце за неё и ее семью все равно болит. Потом открываю еще одну страницу в соцсети.
У меня нет в/на Украине ни друзей, ни родных. Но в Харькове… В Харькове есть два человека, книги которых сделали меня мной — Олди.
На вопрос, собираются ли они эвакуироваться, Олди ответили названием собственной книги: Нам. Здесь. Жить.
Именно на этом я первый раз расплакалась. Видео с городом после обстрела, тела… Невыносимо. Увы, плакать за эти дни стало почти нормой.
Из какого-то дурного беспокойства достаю с полки книгу. Я помню, чем она закончится. Бомбёжкой города, разломом мира.
Не помню дат. На первой странице середина февраля. На последней — четвертое марта.
И это совпадение — до дрожи. До слез.
Вся моя тревога за тех, кто под обстрелами, кто в убежищах, кто бежит и кто остаётся сходится в одной точке: Харьков. Олди.
И ненадолго отпускает, когда я вижу новую запись на странице: живы.
Но кто-то сегодня уже не напишет заветное слово.
***
Н.:
Вчера мой муж психанул и купил на 15 тысяч рублей продуктов длительного хранения: макарон, риса, сахара, соли, консервов, гречи. Каждый новый кризис мой муж встречает с гречей в руках. Он говорит, что ему так легче. Разговоры о том, что нужно пойти и обновить Неприкосновенный Запас, сделанный во время локдауна в 2020 году, он завел еще неделю назад. Как только началась «масштабная спецоперация» в Украине. Он спрашивал меня, что нам нужно докупить. Мне казалось, что я могу прожить примерно без всего. В конце концов, во время локдауна все тоже ждали исчезновения продуктов с полок магазинов, а они не исчезли. Вернее, исчезли, но не у нас, а в Европе, и не продукты, а только туалетная бумага. Хотя, может быть, я уже не помню.
В конце концов я согласилась, что докупить что-то действительно нужно. И докупила две больших пачки кофе «Нефть». Потому что есть все предпосылки к тому, что кофе скоро вздорожает неимоверно. А это единственный продукт, без которого я действительно себя не мыслю. Во время того же локдауна поход за кофе в любимую кофейню был моим главным событием дня. С утра я выходила гулять с собакой и шла минут сорок до кофейни, брала там кофе навынос и шла обратно. «И долго ты собираешься ходить за своим кофе? — гневно спрашивал меня муж. — Пока трупы на улицах не будут валяться?» «Да, пока на улицах не валяются трупы, я буду ходить за своим кофе. Такой ответ тебя устроит?» — гневалась я. Тогда, весной 2020, мы все действительно очень боялись. Боялись заболеть этим неведомым новым ковидом, попасть на ИВЛ и умереть. Но тогда у нас еще не было всех трех Всадников Апокалипсиса, а сегодня они в сборе: Чума (ковид никуда не делся, просто ушел с повестки дня), [РКН] (точнее, «спецоперация») и на подходе Голод (его предрекают аналитики как в Европе — без поставок зерна из России и Украины, а это 30% мирового экспорта, так и здесь).
Так что сегодня мы тоже боимся умереть. Но не от ковида, а в результате ядерной войны (никогда бы не подумала, что буду когда-нибудь всерьез говорить об этом). Если же не будет ядерной войны, мы выживем. У нас есть кофе и гречка. А что еще нужно?
***
N.:
Господи, боже мой. Господи. Господи, помоги. Господи, помоги. Больно.
Как же больно, господи. Как же больно. Отче наш, иже еси… как же больно. Отче наш…
— Так. Куда уселась? Слышишь меня? Вставай. На голове у ребенка сидишь. Слышишь? Васильевна! Что-то бледненькая она у нас. Сильно больно?
— Сильно.
— А чего молчишь? Васильевна!
— Двойня в третьей уже на столе.
— Иду! Васильевна, здесь но-шпу вколи.
Мамочки. Меня сейчас разорвет. Ошметки повиснут на стенах. Нет, нельзя пугать ребенка. Надо думать о хорошем. Господи, боже мой. Господи. Господи, помоги. Господи, помоги.
— Курица?
— Курица.
— Попу давай.
— Что это? Зачем?
— Это но-шпа. Поворачивайся.
— Может, не надо? Зачем это?
— Так, быстренько давай. Некогда мне тут с тобой. И ложись.
Где-то падает и грохочет что-то железно-звонкое.
— Васильевна!
— Иду!
Отче наш, иже еси… Отче наш… Вроде, отпускает. Да святится…
— Курица, спишь, что ли? В родовую! Не садись. Вставай.
— Да как же…
— Залезай. Давай-давай. Здесь нянек нет. Таз ниже. Еще ниже. Ноги. Вот сюда будешь упираться. Поняла? Тужься! Сильнее! Ты меня слышишь?
— Я…
— Тужься! Она почему у вас засыпает? Окситоцин. Тужься! Ты понимаешь, что такое «тужься»?
— Я не могу. Господи, помоги. Господи, помоги.
— А ну, прекратить истерику! У меня там в соседней — двойня. А ты мне тут… Что значит, нет вен — ищите! Стоп, не тужься. Ждем. Быстрее ищите. Раз, два, три — тужься. Сильнее! Да что ты будешь делать. Руками не хватайся — иголка выскакивает!
Падает, катится и оглушительно грохочет что-то очень железное.
— Головка показалась. Еще разок! Стоп! Не тужься! Дышим. Дышим. Головка родилась. Теперь потихонечку. Со следующей потугой… тихо-тихо… Все. Все. Девочка. Куда? Лежи. Еще послед. Ох уж мне эти первородки! Света, готовь шить. Разорвалась до ушей.
— Девочка. Четыре триста тридцать. Пятьдесят семь сантиметров. Восемь по шкале Апгар.
— Вот тебе твоя богатырша. Сосет? Хорошо.
Господи, спасибо тебе. Спасибо. Спасибо, господи. Девочка моя. Счастье мое. Спасибо тебе, господи!
***
K.:
Я сидела и слушала его лекцию. Импульсивный, гневный и справедливый, глубокий и чувствующий всем своим нутром.
Говорил про литературу. Что читать нужно. Что в этом много блага.
А я сидела и слышала про другое!
Искусство и культура — это созидание. Это сотворение нового. И читать нужно, чтобы мочь сотворить! Чтобы мочь открыть своё сердца для мира, а мир для сердца! Чтобы оставаться человеком и смотреть чуть сверху, лишая себя своих же предрассудков. Проживать разный опыт и осознавать, что может быть всякое.
Всю жизнь он был либералом. И выбрал оставаться им!
И душа его рвётся на части, и боль в голосе, потому что он решил никуда не уезжать. Потому что он нужен, и он может продолжать делать своё дело.
Хотя мог собраться и уехать, как другие, кричавшие про стыд и несправедливость.
А он остался. И делает своё дело.
***
T.:
Уже тринадцатый день подряд мое утро начинается с переклички друзей, родственников, знакомых. В двух словах — «ты как?» — сконцентрирована самая сильная забота и любовь, которую мы когда-либо испытывали друг к другу. Никогда раньше мы не умели так четко формулировать свои мысли. Никогда раньше мы не чувствовали, как сильно дорожим друг другом. Никогда раньше любые ссоры или конфликты с близкими не казались такими ничтожными и бессмысленными. Никогда раньше мы не ценили самые простые вещи: возможность спать в пижаме вместо одежды, возможность включить свет вечером, прогуляться по городу и чувствовать себя в безопасности. Наша жизнь стала слишком короткой, а каждое ее мгновение — бесценным.
Сейчас испытываю две противоречивые эмоции: страх за завтрашний день и веру в светлое будущее.
Страшно засыпать, страшно вставать среди ночи от сигнала воздушной тревоги, страшно представлять себя и своих родных под завалами своего дома или подвала, страшно проснуться и увидеть, что друзья давно были в сети в последний раз. Страшно, когда слышишь любой звук, но не видишь его источник. Страшно остаться одной. Страшно оставить родных. Страшно делать что-либо. Страшно бездействовать. Страшно терять надежду на то, что все закончится.
Одновременно веришь, что будущее есть, когда видишь, как сосед выносит мусор и убирает на участке. Веришь, что будущее есть, когда планируешь встречи с друзьями после [РКН]. Веришь, что будущее есть, когда слышишь от соседского ребенка рассказ о том, кем он станет, когда вырастет. Веришь, что будущее есть, когда получаешь слова поддержки от едва знакомых людей из прошлого. Веришь, что будущее есть, когда осознаешь, что худшее, что могло с нами произойти — уже произошло.
Дальше нужно только найти свой путь наверх из этой бездны и строить новую жизнь, новые мечты, города, дороги и дома.
***
E.:
Сегодня желтый день. Это единственный цвет, который я вижу после операции хуже всего, даже хуже белого. И почему-то именно им пишутся важные слова, отмечаются люди, ставятся ссылки. Возможно, для того, чтобы хотя бы эти новости я не смогла прочитать. Солнца сегодня нет, но на улицах много сигнальных цветов: тюльпанов и тех, что первыми появляются в Москве. Мне кажется, держать их в руках сейчас — такое же отчаянное послание, каким была решающая всё прогулка Маргариты по Тверской. Курьеры поснимали корпоративные лимонные куртки — их стало опасно сочетать с голубыми термосумками, — и моментально слились с другими черными фигурами, в которые жители города неизменно превращаются в период с осени по весну. Удивительно, как мы можем не замечать тот или иной цвет в повседневной жизни, а затем, потеряв его из виду, скучать и придавать ему дополнительное значение. «Я бы с радостью заботился о вас: ходил бы в этот магазин за продуктами и варил вам плов с куркумой, а вы сидели бы дома и курили бамбук!» — улыбаясь, кричит продавец маленькой глухой бабушке, которая начинает беззвучно смеяться и как-то по-простому прикрывает рот краешком желтого головного платка.
***
T.:
Люди толпятся в Старбаксе.
Здесь ещё наливают.
Может, завтра уже не будут,
может, последний стакан.
С сопла капает чёрная жижа,
словно грязь фронтовой колеи,
и пенится молоко,
как снег, разрытый снарядом.
Девочки в обтягивающих джинсах.
(Конечно, Манго).
Мальчики с айфонами.
(Ну что, платёж-то прошёл?)
Они совсем прежние,
но это — иллюзия.
Они ещё есть,
но их уже как бы нет.
Кофемашина гудит, как бомбардировщик на бреющем,
и у девочки в зелёном фартуке
пока ещё есть бумажный стакан и пачка пахучих зёрен,
а значит, ей пока ещё есть,
что и на что купить.
Люди толпятся в Старбаксе.
Люди держат тюльпаны.
Наверное, будет кофе.
Наверное, будет весна.
А сарафаны и лёгкие платья из ситца
нам в Иваново нашьют.
Наверное.
***
M.:
Утро. 7:45. Я выхожу на улицу, чтобы прогуляться перед завтраком. Недавняя привычка, которая плотной красной нитью вплелась в повседневную рутину. Воздух, чистый и по-зимнему морозный, крепко ухватил за нос, по щекам побежали холодные слезы. Обманчивое солнце, желтое, как кусок сливочного масла, но не по-мартовски холодное, поливало бледным светом обледеневший асфальт. У мусорных баков, робко тыча носом в сваленные грудой пластиковые мешки, рыскала собака. Увидев меня, она стыдливо поджала хвост и, переминаясь на грязных лапах, подвинулась в сторону.
Я достала из кармана пальто зачерствелый кусок серого хлеба, раскрошила и высыпала на тротуар. Уловив взмах руки и последовавший ворох хлебных крошек, с крыш соседних кирпичных пятиэтажек слетелись голуби. Они жадно набросились на объедки, суетливо переминаясь вокруг моих ног с довольным урчанием.
— Прости, для тебя у меня сегодня ничего нет, — извинилась я перед тощим псом и протянула руку, чтобы погладить бедного доходягу. Он вздрогнул, трусливо поджал уши, но, обнюхав безоружную ладонь, мягко уткнулся в нее мокрым носом.
Непроснувшийся город безмятежно дремал в холодных солнечных лучах. Пустынные улицы, густая тишина, редкие прохожие в натянутых до самых глаз масках.
Странно, как мало людей вокруг. Сегодня 8 марта, выходной, но никто не торопится покинуть уютные бетонные коробки. Все боятся. Измученные неопределенностью люди, не зная, чего ожидать от каждого нового дня, спрятались за надежными кирпичными стенами, окружили себя безопасностью рутины и домашнего быта. Все боятся.
Я иду по обледенелой дороге, поскальзываясь на островках грязного льда. Под ногами хрустит перемешанный с песком снег. Вслушиваясь в ритм, я стараюсь привести в порядок мысли, разлетевшиеся, как кучка крикливых ворон от грубого взмаха метлы в руках дворника.
Сегодня 8 марта, вроде как праздник… надо позвонить маме, поздравить…
…А где-то сейчас идет [РКН], страдают люди… Как им помочь?
…Хотя, может, лучше написать в Ватсапе? Она снова начнет спрашивать, когда я приеду в домой…
…Надо зайти в «Пятерочку», купить батон к завтраку и пару пачек гречки…
…Можно пойти на антивоенный митинг… но Юра сказал, что если поймают, я не выдержу ночи в автозаке…
…Придется снова мямлить что-то невразумительное, придумывать отговорки…
…Нужно сделать уборку, а то весь ковер в крошках от печенья…
…Да, может, приеду в следующие выходные… но у меня вообще-то работа, ну… посмотрим, как получится… не хочу врать…
…Вот бы завтра пришла зарплата, обещали выплатить в прошлую пятницу, а уже вторник, деньги заканчиваются…
…Хотя, может, и правда приехать? Мы давно не виделись, я соскучилась. И родители тоже. Ну нет, все снова будет как обычно…
…Может, переехать в другую страну? Хотя, куда? Есть ли сейчас в мире безопасное место?..
…Снегири, такие красивые, заливаются трелями, радуются весне. Их ничего не тревожит, в их птичьем мире не происходит ничего ужасного. Вот бы стать безмятежной птицей…
…Мама спросит, как у меня дела, мы непринужденно поговорим, а потом придет папа и начнет жаловаться на жизнь. На работу, на маму, на политику, на бедность. Родители начнут ругаться, а мне придется прятаться в комнате, как в детстве…
…Мама расстроится, если я уеду… мы и так редко видимся… только бы это все поскорее закончилось…
***
O.:
20 февраля я ещё не знала, что моя привычная жизнь, да и весь мир, погрузятся в такой душный и густой мрак. Я радовалась выходному и готовилась к весне, разбирала форму для бега, собиралась съездить к морю на недельку и стирала кроссовки. И тут оказалось, что подошва белоснежных «Стэнов Смитов» протёрлась за прошлое лето до дыр.
20 февраля — мирное время, поэтому дыра в подошве — не беда. Просто повод купить обновку и ненадолго хапнуть гормонов счастья. А ещё это приятная напоминалка: было лето 2021, прогулки и знакомства, надежды и путешествия, шампанское на сибирском пляже, крепкий кофе в горах Кавказа и сливочное мороженое на берегу Онежского озера. Больно тоже было, но это ведь уже прошло. Теперь всё хорошо, а будет лучше. Скоро лето, наденешь кроссовки без дыры, побежишь по новым городам и странам, работать будешь лучше, зарабатывать больше, любить — смелее.
Сегодня 8 марта, и моя родная страна бомбит страну, в которой родились два моих деда. За это время я почти забыла, что существует нормальная жизнь, я не представляю, как строить планы, а будущее кажется таким жутким, что хочется законсервировать хотя бы этот момент. Он тоже так себе, но сложно поверить, что дальше будет лучше.
Сегодня 8 марта, из соцсетей и телеграм-каналов по-прежнему валятся новости о том, как рушится всё, к чему мы привыкли: магазин приостановил работу, закрылся целый завод, товар исчез с полки. И тут я вспомнила про чёртову дыру в подошве. Интернет-магазин → Обувь → Женская → Кроссовки. Какие купить? Без разницы, лишь бы со скидкой. Надо почитать отзывы! Некогда, бери, пока ещё дают.
Я покупаю кроссовки на это пугающее лето за пять минут. Чувствую себя вором: хватай и беги! И сволочью: 20 февраля какая-то украинская девчонка тоже хотела кроссовки, а теперь спит в подвале. А ещё это очень унизительно.
***
O.:
Что подарить попугаю на 8 Марта?
Мой Международный женский день начался не с цветов и поздравлений, а с похода в зоомагазин. На протяжении недели я думала, какие вещи положить в тревожный чемоданчик и чем заменить крупногабаритную клетку моего волнистого попугая. Я смирилась, что однажды мне придётся бежать (в бомбоубежище, в другой город, в метро, куда-нибудь ещё) и даже порадовалась отсутствию собственного жилья, потому что нечего терять, не о чем жалеть. За годы работы удалось купить домик только Тишке, и то с которым мы будем вынуждены расстаться в случае эвакуации.
Придя за новой компактной клеткой в зоомагазин, я не обнаружила некоторых брендов кормов для птиц. Санкции прилетели не только кошкам и собакам. Купила несколько пачек импортного зерна, а потом перейдём на «Ваку» и «Любимчика». Побродила среди попугаев, с ужасом представляя, что здесь они и погибнут, не нашла клетку подходящего размера и расстроилась, что придется переносить Тишку в коробке из-под обуви. Долго она в таких условиях не проживёт. О себе я не подумала. Не станет её — часть моей души тоже исчезнет. Не станет сперва меня, и Тишка отправится туда же…
Убедив себя, что это на крайний случай, купила пластиковый контейнер с крышкой и ручкой в «Фикс прайсе». Если проделать дырочки в стенках, птица сможет дышать. Если приклеить кормушки ко дну, сможет пить и есть. Она пережила переезд на машине длиной в тысячу километров, несколько операций и пищевых отравлений. Справится и с моими предрассудками.
В июне у Тишки день рождения. Молюсь, чтобы она дожила до своего десятилетия. Смотрю на рюкзак с одеждой, лекарствами и едой, Тишкин пластиковый чемоданчик и напоминаю себе, что это на крайний случай.
***
E.:
Волонтер — это посредник случайных связей.
Чат «Мамы в Братиславе» завален просьбами о помощи. Все отзывчивые и немедленно бегут на помощь, нет, идут на помощь. Бежать уже не надо. Склады завалены тюками с одеждой и продуктами, средствами личной гигиены и детским питанием.
Я сижу целый день на телефоне, выслушиваю просьбы от украинцев и пытаюсь найти словаков, которые могут помочь. Моя сфера — образование: какие школы куда примут и куда без шансов, и кому звонить, чтобы попасть в списки. Вчера был особенный случай.
Пишет женщина из Харькова сыну семнадцать лет, скоро восемнадцать — помогите устроить в школу. Он учился в частной английской школе, нужна английская школа с общежитием. Очень надо, а то армия и никакой перспективы!
В Словакии английские школы платные. Очень дорогие. Но есть одна, которая существует на гранты — там конкурс 300 человек на место, приезжают дети со всей Словакии, и общежитие есть.
Звоню координатору этой школы. Он очень долго сочувствует, очень хочет помочь, но не знает как. Звоним директору — долгие безрезультатные сочувствия, проблема в общежитии, оно переполнено и непонятно, на каких основаниях заселять. Звоним в общежитие — слушаем сочувствия. Убеждаю коменданта общежития спасти одну жизнь. Убеждаю координатора. Убеждаем все вместе директора. Директор говорит, что таких теперь сотни, а государство молчит. Словацкое государство не убедить, оно долго сочувствует, но только по телевизору. На бумаге, в законодательстве и на практике — ничего не происходит.
Директор гимназии — женщина — решила взять ответственность на себя, пусть приезжает! У нее сын семнадцати лет. Счастливое совпадение.
Пишу в Харьков. Приезжайте, вас ждут. Обучение бесплатно. Европейский диплом, примут без экзаменов — это, конечно, ситуация неординарная, чтобы в такую школу принимали без экзаменов и в середине года и шли навстречу, но и вы тоже в неординарной ситуации. Так что приезжайте. Общага 60 евро в месяц и горячий обед раз в день за счет школы.
А в ответ тишина.
***
D.:
Его фамилия — как моя
И дочка — моя ровесница.
Он в рифму пишет стихи, как я,
И мне до сих пор не верится —
В сыром подвале, худой, как тень,
От взрывов с трудом укрывшись,
Восьмой, девятый, десятый день
Свои он ваяет вирши.
Лихого горя хлебнул сполна —
Где жил он — теперь руины.
У нас фамилия с ним одна…
Я русская, он с Украины.
***
A.:
— …мы хорошо. Мама варит суп. — Сын играет по сети с далеким другом, которого никогда не видел в офлайне, и иногда они болтают о чем-то отвлеченном.
Я снова, как восемь лет назад, начинаю утро с проверки близких ТАМ. Живой, живая, не отвечает, но был в сети, живая, живая, живая, тишина. Это не о политике и взглядах, а о людях — живых человеках, которые не только мясо и кости и гражданское население, а общие воспоминания, дурацкие шутки и философские споры, работа, жизнь.
Потом снова потоки страха, скорби и ненависти, ненависти, отчаяния, снова ненависти. Разница между этой весной и той лишь в том, что мы охренели, но, кажется, не удивились. Я почти умею не впускать это в себя, но я тоже живой человек.
Ах, да. Суп.
Мама варит суп и параноидально всматривается в кастрюлю: все ли положила, в той ли последовательности. Тот ли суп я варю, который планировала, пока шла к холодильнику, спрашивает она себя.
Суп это что-то такое, за что можно зацепиться. Заземлиться.
После одного из инсультов врач сказал: учись останавливать головокружение, находи границы себя и от этого постепенно иди к пространству. Вот ступни коснулись пола — какой он, вот пальцы на одеяле, вот след от пижамной манжеты на запястье, пахнет кофе и детским кремом, где-то играет музыка. Заземляй себя тем, что видишь, слышишь и ощущаешь. Простой невропатолог, кстати, не гуру, не светило.
Тогда никто еще не говорил о пресловутом майндфулнесе, моментах здесь и сейчас. Тогда, двадцать лет назад, вообще странно было быть молодым человеком, у которого мозг разрушается, как у не очень молодого. Но это заземление помогало тогда. Помогло потом еще не раз. Особенно восемь лет назад.
Надо заземляться. Супом, детьми, работой, бессмысленнее которой, наверное, сейчас только чтение новостей. Но это хорошая работа. Она про жизнь и надежду — так же, как и суп.
Мама варит суп и заземляется. Это паршивая земля. Но другой у Него для нас нет. Значит, будем держаться ее.
***
H.:
Всё неправильно, всё ненадёжно, всё зыбко, как на болоте, прикрытом высокой, обманчиво безопасной травой.
Нам твердят: уезжайте. Руководство компании ничего не может гарантировать. Уезжайте. Заказчики скоро перестанут работать с Россией совсем. Уезжайте. Рейсов всё меньше, но вот вам варианты. Вот ещё. Уезжайте. Вопрос времени, когда ваш проект откажется от вас. Уезжайте. Вот такие нужны бумажки, вот такие заявки, может быть, вам их даже возместят. Когда-нибудь потом. А сейчас — уезжайте.
Сегодня 8 марта, женский день. Вроде бы международный, но отмечается почему-то только у нас и кое-где в СНГ. День веры в новую весну, равноправие и светлое будущее. Всего один день в году, а во что верить остальные 364 дней?
Уезжайте.
Несколько выходных дней — затишье в новостях от компании, от проектов, от коллег. Ожидаю и боюсь завтрашнего дня, когда снова всё это свалится на голову в срочных письмах и отмеченных важными сообщениях в чатах. С кем-то из коллег уже попрощались. Обещали вернуться, но непонятно, когда и как.
Уезжайте.
Я не поеду. У меня освобождение, справка, записка от мамы. В Международный женский день вместо цветов, тортов и праздничных прогулок ухаживаю за мужем, который после операции двигается медленно и с трудом. Мы остаёмся.
***
K.:
Ночью говорили в чате с друзьями. О неожиданной поддержке с неожиданной стороны. Я рассказала им историю про мою сестру.
В 2005 году у Катьки не было ничего, кроме двухлетней дочери, тяжелого развода и трехметрового зелёного шарфа. Каждое утро в 7:30 она заходила в этом шарфе в трамвай и ехала на работу в налоговую инспекцию. Ну, просто как-то жила свою клятую жизнь.
Спустя несколько лет она встретила в компании барышню, которая на неё долго пялилась, а потом как заорала: «Это же ты та девушка в огромном зелёном шарфе!!! Я каждое утро видела тебя в трамвае и думала, какая ты крутая! Как я хотела быть похожей на тебя и просто гордо нести себя на работу сквозь всю хуйню в зелёном шарфе!»
Мы никогда не знаем, когда, как и для кого станем ориентирами, ролевыми моделями, вдохновителями — людьми в шарфе и в трамвае. И когда вдруг узнаём, от этого становится тепло и хорошо на всю жизнь.
Девочка из чата рассказала сегодня эту историю у себя в сторис, я их заскринила и показала Катьке. Зелёный шарф сделал ещё один оборот.
***
M.:
Одесса. Тишина. И только новости, новости, новости. Во всех смартфонах. Опережая друг друга, они летят и засыпают усталых людей, как снег 8-го марта.
Уже нет сил читать, слушать, смотреть. Никто из обывателей толком не знает, что происходит на самом деле. Правду сейчас сложно определить.
Как изменились люди… Не узнаю многих, какой-то бред несётся в общении, постах, сторис. Именно бред, а не конкретная позиция.
Всё больше людей уезжают. Каждый день узнаем, что знакомые уже где-то за границей: в Молдове, Румынии, Польше, Болгарии. И кажется, что так и надо, это правильно, наверное.
Только страшно. Страшно ехать с детьми в никуда. И как-то где-то на чужой иноязычной земле «не бояться [РКН]», но жить даже не на птичьих правах…
И не знать, где окажемся завтра.
Поезда увозят всех желающих на запад. Бесконечное количество людей на вокзале. Толпа — ещё один мой страх. Она непредсказуема в панике.
Никто не знает, что будет дальше. А тот, кто знает — не расскажет…
***
A.:
Тринадцать дней назад я потеряла свою беременность. Да, в день, когда началась [РКН]. Но это никак не связано.
Уже несколько дней принимаю таблетки. Они вызывают привыкание и продаются только по рецепту. Наверное, через месяц я узнаю, что такое синдром отмены. И вроде бы, бог с ней, с депрессией-то, я никуда не денусь и буду жить долго, потому что так надо. Потому что у меня уже есть один ребёнок. Но глаз дёргается. А такое точно надо лечить. Тем более женский праздник, цветы, подарки. Надо чтобы всё красиво было. Улыбаюсь.
Дочка говорит:
— Не хочу, чтобы рядом с нами была [РКН].
Спрашиваю:
— Ты откуда это взяла? Вам в саду говорят?
— Нет, — отвечает, — сама…
А я не хочу, чтобы мой ребёнок прятался в подвалах под обстрелами. Может, и хорошо, что не случилось у меня, может, так и надо было. Улыбаюсь.
Муж подарил кольцо с луной и медальон с гиацинтом. Ручная работа.
Помню стихотворение про одну девочку. У неё образовалась дыра в груди. А у меня там же теперь растёт цветок. Маленький такой, беззащитный. Ну пусть растёт.
Рано или поздно любая рана заживает. Рано или поздно всё заканчивается, и прорастают цветы, и возвращается жизнь в своё обычно русло. Рано или поздно всё будет хорошо. Вот только дети в подвалах сидеть не должны. Не должны, и точка!
***
N.:
«Мой гений, мой ангел, мой друг».
Фотовыставка о материнстве, вернисаж.
Моя фотография висит в уголке.
Вокруг фотографии всех этапов жизни — беременность, роды, младенцы, подросшие дети, взрослые сыновья старых матерей…
Весёлые люди вокруг.
Столько жизни в этом, и такая она хрупкая.
Перед моими глазами фотографии детей моих украинских фотоподруг.
Как они рождались, росли.
Как мы обсуждали, где их лучше фотографировать и как обрабатывать в фотошопе их ямочки на щеках.
И эти же дети, которые выросли на моих глазах, на новых фотографиях — с испуганными лицами в бомбоубежищах Харькова. Хорошо, что живые. Пока живые.
***
A.:
8.03.22. «…За минувший день ничего существенного не произошло…» Ночью вдруг пошел снег. Крупный, киношный — хлопьями. Д. испугалась. Им на физике рассказывали про ядерную зиму — решила, что это она. Поверила Тютчеву («…взбесилась ведьма злая…») — ушла спать. Пятый день, как уехал Л. Боится не увидеть нас больше. Прочитал-таки в новостях, что не будут пускать обратно… Но выпускать-то должны? Ловлю себя на том, что все время кручу в голове, какие три книжки (нет, все-таки пять) возьму с собой, если придется снова как в 2014-м. Синий Апресян, пропахший МГУшной общагой. Он есть в сети, но эти два тома я хочу иметь в бумаге. Еще «Стоунер» по-английски с шершавыми страницами. Черный Кибрик… А дальше весь книжный шкаф… Бродский с котом на руках, Битов, старый и облысевший, с ладонью на лбу, улыбается чему-то, Фридл за тюлевой сеткой, мавринский весенний кот… Отвожу глаза. Они все останутся: мне столько не увезти. Еще когда Л. был с нами, я обмолвилась, мол, «книги жалко». Он не понял, рассердился: «Какие книги?! Там люди, их тебе не жалко?» Он прав. А я не могу так. Еще со школы, когда был Беслан. Я приходила к М. на урок, а она не могла говорить: Беслан не отпускал её, прописался у неё в комнате, отравил воздух. Я же понимала головой, что это страшно, но мне было шестнадцать, и на улице светило солнце — Беслан скалился на меня из телевизора и исчезал, стоило нажать на красную пластмассовую кнопку. «Когда тебе тепло и мягко…» Я и теперь такая. Мне страшно потерять эту спокойную и уютную жизнь, которой больше нет, и я цепляюсь за книги, которые давно уже не читаю… Во дворе обрезали деревья — спилили старые ивы. Все под корень, а одну оставили: голый ствол до третьего этажа, вокруг жёлтые кругляши от бывших сучьев и на верхушке воронье гнездо. Так и у нас теперь. У соседки за стенкой, как обычно, с самого утра бубнит магнитофонный проповедник. «Душе моя, восстани, что спиши: конец приближается…» Восстани… Открой глаза, разгляди все, что вокруг, каждую мелочь, пока не исчезла, сохрани внутри. Хотя зачем сохранять, если все равно конец? И покаяние это, про которое за стенкой, зачем оно, если ничего уже не исправить, не изменить? Зашила платье. Л. давно говорил: «Выброси», — а мне все жалко было: любимое. И тонкое — почти не занимает места в чемодане… Оказывается, если шить мелкими стежками, помогает: спина расслабляется, перестаешь дрожать. Сшить бы сейчас куклу, да некому и времени нет. На кухне распустился гиацинт и пахнет. А у Л. на окне вовсю цветет розовый декабрист. И белый весь, в бутонах. Надо жить дальше.
***
N.:
У всех сейчас одна боль на всех, одно горе, но каждый остается в нем один на один и справляется насколько хватает сил. Собственных и ничьих других.
С тех пор как мы уехали, заставляю себя отключить, перекрыть поток мыслей, но они все равно безостановочно валятся, сыпятся, льются и образовали уже здоровенную кучу, которую я тщетно пытаюсь разгрести.
За неделю до [РКН] на выставке в Третьяковке я сфотографировала работы югославской художницы-феминистки для сегодняшнего поста в Инстаграм с историями домашнего насилия. Пока я писала текст, в голове снова начали всплывать образы. Сестра, когда она жестко ответила мне, что «это никакое не нападение!», фотография племянницы уже после начала в Общественной палате на брифинге молодежных и патриотических организаций, хитрые улыбки моей тети все последние годы, когда я набиралась смелости спросить, за кого она проголосовала, демонстративное оскорбительно-счастливое возбуждение в сетях молодых людей…
И я ясно поняла, что не должна была так себя вести. Не должна была молчать, боясь возбудить очередную ссору. Пока можно было говорить, надо было говорить. Постоянно и повсеместно, не только с друзьями, которые разделяют, но и с теми, кто НЕ. И даже именно и особенно с ними. Не жалеть ни себя, ни их. Спорить, ругаться до смерти и говорить, говорить, говорить.
Была развязана информационная война. Но все вокруг твердили, что с родственниками нельзя обсуждать острые темы, нельзя ссориться. Что с родными нужно научиться жить, не поднимая, не обсуждая, обходя. И я так и делала, как могла сдерживалась, не наступала, не разжигала. А в итоге мы проиграли. Проиграли ту [РКН]. Логично перетекшую в эту…
Изо всех сил стараюсь переключиться. Дописала текст, отредактировала фотографии и выложила пост. Но не получается: написала тем немногим друзьям, что родом из Украины, пролистала Telegram и в глубине души почувствовала слабый источник возрождающейся воли. Не может быть, чтобы все было потеряно. Это не конец. Мы еще живы, ещё поборемся…
***
Ю.:
Вчера мне попался рассказ «Восстание пешеходов» Дэвида Келлера. Случайно, хотя сейчас во всех случайностях мерещатся зловещие знаки.
Столетия назад человечество раскололось на два лагеря: пешеходов и автомобилистов.
Первые — кто в силу бедности, кто из-за убеждений, — пользовались своими ногами и жили в тесной связи с природой. Вторые стремились быть быстрее, способнее, лучше, и окружали себя всё новыми техническими устройствами.
Жизнь первых перестала быть ценностью, их презирали, давили на дорогах, мечтали уничтожить. Вторые постоянно были в движении и жаждали всё больших скоростей и упрощения труда, пусть взамен их ноги полностью атрофировались.
Истории о первых давно стали легендами, превратились в детские сказки, когда их предводитель пришёл к самым влиятельным людям на планете и сказал — на самом деле, мы живы, мы хотим жить, и мы требуем, чтобы вы соблюдали наши права, иначе мы уничтожим вас. Двести пешеходов против сотен миллионов автомобилистов, — рассмеялись те и отказались продолжать разговор.
И предводитель пешеходов привёл в действие устройство, которое лишило весь мир любой энергии, кроме энергии мышц, воды и натяжения.
И все автомобилисты превратились в беспомощных созданий, о которых некому было позаботиться. Никто не смог бы принести им еды, воды, защитить от солнца и дождя. Сотни миллионов людей нажатием одной кнопки были обречены на смерть.
Потому что самые влиятельные автомобилисты посмеялись над предложением предводителя пешеходов.
Потому что если бы он не напал первым, напали бы на него.
Потому что сто лет назад их предков практически уничтожили, и пришло время отомстить.
Потому что выбирать бездушные машины — неправильно, правильно вести скромную трудовую жизнь на лоне природы.
Потому что он у него не было выбора. Потому что он готовился к этому всю жизнь. Потому что имел право.
Знаете, ещё месяц назад я прочитала бы этот рассказ совсем по-другому.
***
A.:
За окном белый фон, мелькают стволы деревьев, одинокие домишки. Восьмое Марта. Поезд качается. Интернета почти нет, нет потоков информации, но есть чем дышать. Поезд мчится, и на секунду кажется, будто нет внутри ни напряжения, ни тяжести. Дети играют в прятки. Люди подтягиваются к прибору с кипятком: кто чай заваривает, кто доширак.
Пишу сестре в Одессу привычное «как ты?». Отвечает «Нормально. Пока спокойно. С праздником». Смотрю на буквы. И не знаю, что писать.
А что завтра с ними? Как выбраться? Что с коридорами. Информация противоречива — нет понимания…
Звала ее к себе. Но понимаю, теперь, с каждым днём все больше, она никогда уже не поедет. Куда угодно, только не сюда.
Бессилие. Смотрю в большое окно с круглыми краями: снежным росчерком тянется линия жизни. Еду к родным.
Расстояния, измеряемые в километрах, — ерунда.
Пропасть между людьми — невыносима.
***
J.:
На календаре праздник, в голове привычная сумбурная сумятица, а за окном — равнодушный холодный снег, так некстати вернувшийся в эти весенние дни.
Цветы и улыбки. [РКН] и расколовшийся за неделю мир. Стыдливая радость и усталая тревожность. Монотонные, обязательные дела жизни, которые плевать хотели на геополитику или погоду. Говорю же, сумятица!
Принято единогласно — идем с Ваней в Ботанический сад, чтобы хоть как-то размешать этот душевный винегрет. Деревья встречают молчаливым спокойствием, и только серые облака будто упрямо шепчут: «Ты больше не будешь прежним».
— Интересно, белочка уже проснулась после зимы? — спрашиваю я, когда мы привычным маршрутом сворачиваем на узенькую тропинку, где когда-то дерзкая жительница дупла решила потренироваться на нас в метании шишек.
— Нет, она почувствовала, что выпал снег, и спит дальше, — отвечает Ваня.
— Нет, она проснулась, прочитала новости и подумала: да ну его к черту! И спит дальше! — Я радостно делюсь своей теорией, а потом мы оба нервно хихикаем.
Через полчаса выходим к ВДНХ. Небо рассыпает робкие снежинки, и они, будто извиняясь, падают на черные куртки прохожих, несущих наспех завернутые в бумагу букеты, и взъерошенно-тоскливых голубей, мрачно топчущихся возле ларьков.
Мы продолжаем наматывать круги, и так же дальше крутятся мои мысли и образы перед глазами. То там, то тут вспыхивают желтыми, розовыми и белыми пятнами бутоны тюльпанов. Дети клянчат вредные вкусности, а родители устало отмахиваются, прикрываясь едой из дома.
Я все всматриваюсь в идущие навстречу лица и задаю каждому из них безмолвный вопрос: «Остался ли ты прежним?». Но никто не отвечает мне в этот непогожий, унылый день.
— Я замерз. — Ваня шмыгает носом. — Пошли домой?
— Пошли.
И мы, потерянные человеческие дети, направляемся обратно в свои норки, бежим (от чего-то или к чему-то?), словно букашки под бескрайним, уставшим от всего, что оно видело, небом. Бежим среди цветов и снежных хлопьев с кроткой надеждой в сердце, что все-таки все будет хорошо.
***
V.:
Ищу подарок на девятилетие мальчику, за которым присматриваю в отсутствие его родителей. Шагаю по улице, высматривая сухой асфальт под коркой льда, голубое небо в трещинах древесных веток, и думаю о том, что дарить ребёнку, у которого есть всё. Взгляд цепляется за вывеску магазина игрушек — что-то из новых, раньше не замечала. Взбегаю по ступенькам, над головой звякает колокольчик, переступаю порог и невольно отшатываюсь: маскировочная сетка на стенах, камуфляжные жилеты, каски, угрожающе уставленные друг на друга пулемёты, пистолеты, ружья, револьверы, даже, кажется, пищали… Детский магазин оружия. До жути, до холодка по спине точные копии, чёрные черточки с засечками оптических прицелов и курков. Надпись над одним из стендов: «Оружие на гидрогеле, для стрельбы друг в друга».
Кольты, Беретты, Смит-энд-Вессоны, Браунинги, Глоки… Сколько жизней забрали ваши пули?
ППШ, такой знакомый пистолет-пулемёт Шпагина, снайперская винтовка Драгунова. Разве ваше время не должно было закончиться вместе с Великой Отечественной?
В неприметном углу замечаю стойку для зонтов с как попало составленными деревянными мечами. Наугад с некоторым усилием вытягиваю один за крестовину рукояти — на клинке горделиво цветёт надпись «Экскалибур». Не думала, не гадала, нечаянно попала, королева Артур наших дней.
«Что ж, меч — это хотя бы честно», — думаю я, расплачиваясь. Настроение искать подарок дальше истаивает, а я уже подбираю слова, чтобы рассказать имениннику про короля Артура, мудрого и справедливого, и его рыцарей Круглого стола.
Господи, пожалуйста, дай всем вернуться домой.
***
D.:
Опять эти воспоминания… опять слезы… Кажется, я никогда не приму тот факт, что часть меня отрезали. Нет, не оперировали, не готовили к операции, не прошла реабилитацию, просто взяли и отрезали. Я помню 2016 год, когда ты написал мне, что «я не смог найти такую как ты… и, наверное, никогда не найду. Я хочу, чтобы ты это знала». Я почему-то не придала этим словам особого значения. Видимо, думала, что переживу, забуду.
С тех пор прошло семь лет. Тебе было сложно уйти, а мне наоборот. Я просто закрыла вкладку переписки, заблокировала тебя везде и наслаждалась победой собственного эго.
Спустя полгода я начала ощущать, что это не было шуткой, короткой паузой, где мы могли повздорить, а потом опять находили друг друга и продолжали любить. Вы скажете, что это были созависмые отношения, он был абьюзером, или я была манипулятором. Да,вы правы.
В течение семи лет я прошла много психологических тренингов, много терапий, все осознаю, все понимаю, но порой хочется забыть обо всех этих психологических терминах и вновь почувствовать ту радость, то ликование при виде него…
Вчера зашла в Инстаграм и увидела твое видео — как ты добирался домой из Украины, а музыку, наверное, подобрал по своему душевному состоянию. В песне звучали такие фразы: «Я любил тебя до безумия… твое отсутствие как бездна… твоё место в моем сердце такое же красивое, как ты». Может, я надумываю, что это мне, но ты всегда мне показывал свои чувства песнями. Это твой почерк.
Помню, этой зимой мне поступил звонок с незнакомого номера. Я проверила в интернете код страны: это была Украина. Я знала, что тебя перевели туда по работе, и даже знала, что это ты. Но не ответила. Потому что в душе был какой-то диссонанс: с одной стороны, я приняла наше расставание, с другой — была какая-то обида в глубине души.
За это время ты создал семью. У тебя появились дети. А я до сих пор обматываю свои раны. Нет, я не страдаю каждый день, я сделала карьеру… создала свою компанию, научилась любить себя, быть благодарной, научилась принимать…
Сегодня весь день вспоминала, тонула в своих же слезах… Я многое приняла в своей жизни, но кажется, я никогда не смогу принять наше расставание. Ведь ты как я, ты мое зеркало, как я могу не любить себя?! Я люблю себя… и тебя одновременно… Будь счастлив. Если я когда-нибудь кого-либо вдруг полюблю больше, чем тебя, я обязательно сообщу и отпущу тебя. Я ищу того самого, моего, любимого. Не хочу выйти замуж назло тебе. Я ищу своего человека, а пока позволь мне довольствоваться воспоминаниями о нас. Кстати, я никогда вслух не говорила тебе, что люблю тебя. Сейчас хочу признаться: я все же любила тебя и пока что тоже люблю…
***
A.:
Банковский перевод пришел утром. 3000 рублей от Елена Викторовна П. Я сглотнула ком в горле и хотела было набрать номер, но мама позвонила первой.
— Мам! Спасибо! Вот только… ну ты чего? Ну… зачем? — Слова путались.
— Поздравляю тебя, моя хорошая! А почему ты удивляешься? Я далеко, не могу тебя обнять руками. Обнимаю деньгами. Купи красивый букет. С Восьмым марта!
— Мам… — Я плачу.
Потому что мама в Калининграде, куда самолеты нынче летают по новому маршруту, в обход Литвы и Польши. Это значит — в два раза дороже и дольше.
Потому что не знаю, останутся ли у нас хотя бы эти самолеты.
Потому что моя мама — пенсионерка, которая живет со своей мамой. Про достаток из двух пенсий они говорят: «Не шикуем». И упорно присылают мне деньги по праздникам. А деньги нужны… будут нужны… скоро… им самим. Гораздо больше, чем мне.
Я — тот самый «креативный класс». Моя зарплата (пока она есть, Господи, сколько всего сейчас с присказкой «пока») в несколько раз больше их бюджета. И надо бы отказаться от подарка, переслать три тысячи обратно, слишком смутные нынче времена, каждая копеечка на счету. Но разве отказаться — можно? Мама ведь и правда так меня обнимает.
И вот я плачу в трубку: от грусти, от тревоги, от нежности.
— Ты чего?! Прекрати сейчас же! — Мама чувствует, из какого уголка души эти слезы. Но объяснить не может. Да и я знаю: ей тяжеловато с моими слезами.
— Да. Да. Обещаю. — Я вытираю щеки. — Спасибо, мам. Целую!
Я кладу трубку. Только что откуда-то из закромов прошлого показалась маленькая испуганная девочка. Пора снова вспомнить о большой и взрослой Ане. Пропылесосить. Постирать. Почитать книжку. Так, глядишь, и расхожусь. Впереди длинный день, и мне надо не сойти с ума. Не только сегодня. Завтра тоже. И послезавтра, и спустя месяц, и спустя год. Кто бы знал, что за год это будет.
***
S.:
Три дня назад я сорвалась: меня догнал страх, что моих сыновей призывного возраста заберут на [РКН] и убьют. Несколько дней я сопротивлялась, но защиты рухнули: панические атаки, боли в сердце, полное отупение, слезы при каждом резком звуке. Несколько дней вытаскивала себя — лекарства, психотехники, письмо. Еще накануне решала — стоит ли идти в гости к друзьям праздновать Восьмое марта или нет. Идти не хотелось: взгляды хозяина дома на политический момент мне были уже известны и отнюдь не совпадали с моими. Уговорила себя, что не буду спорить, просто послушаю вроде как психотерапевт, не включаясь в дискуссию. Но сил не было от слова совсем. Готовилась как к тяжелому испытанию, вроде все шло внешне хорошо, а меня все раздражало — и стол накрытый, и поздравления, и нарядный хозяин, и красивые подвыпившие женщины вокруг, и стихотворные поздравления с Восьмым марта. Скованность все равно была, как всегда в начале вечера… Может, компания была не совсем моя? Но мне и по телефону со старыми друзьями невыносимо было говорить. Словом, сидела как на иголках, ни на секунду не расслабилась, вдруг за какое-то слово зацепилось, и у меня прорвался неконтролируемый поток слов, поделилась своим страхом и тем, что почти не сплю пятую ночь, только под снотворным и то плохо. Женщины сочувствовали, кивали, говорили, что тоже переживают. Дома стало чуть легче, сыновья рядом, поздравили, посидели… Стало чуть отпускать внутри. Я крутила в руках подаренную коробку конфет «Коркунов», решила запихнуть ее в кухонный шкафчик, открыла створку, принялась запихивать между коробками с чаем (со страху запаслись месяца на два вперед), не лезла, большая. «Открой другую створку», — посоветовал младший сын. Я распахнула левую створку кухонного шкафчика, пластмассовый стаканчик с зубочистками рухнул вниз и щедрым ворохом рассыпал все содержимое по столу. За секунду в зубочистках оказалось все — они покрывали пиццу, топорщились из пустых стаканов, плавали в чашках с чаем, утопали в майонезе, скрывали под собой салфетки и посуду, торчали из винограда, конфет, мандаринов, громоздились кучками на пустых тарелках. Стол оказался погребен под ворохом тоненьких деревянных палочек. Я всегда любила разламывать их в пальцах на крошечные кусочки и раскладывать обломки по столу. И когда зубочистки грянулись о стол и рассыпались ровным слоем, завершив свое хулиганство, я впервые за эти окаянные дни расхохоталась. Словно с души камень свалился. Словно уже все кончилось. И с этой минуты поверилось, что скоро все кончится, что мир за окном стал цветной, безопасный и добрый, и ничего больше ужасного не произойдет.
***
D.:
Семь, семь и девять. Семь жёлтых, семь красных и девять розовых. Жёлтые — красивые, но вестники разлуки. Это — сестре, нестрашно, с ней не расстанемся. Красные — крепкие, будут долго стоять. Это любовь. Маме. Розовые, самые нежные — жене и Зоечке.
— Далеко нести?
— До машины только.
Сначала к маме. Открываю дверь подъезда и слышу:
— Подожди, друг!
Нехотя впускаю за собой суетливого, ускользающего паренька. Такой заболтает — не заметишь. Да и за руками его следить надобно.
Поднимаюсь по лестнице, паренёк — за мной.
— Бегал, что ли? — спрашивает.
Я киваю.
— Красава. Я если побегу сейчас, то сразу пятнадцать блоков «Золотой Явы» выкашляю. А раньше футболом занимался, тоже бегал каждый день. Хорошо было. А сейчас, дружище, отработал, в восемь пришёл, на диван и всё. Работы много.
Пальцы у него в ссадинах, дрожат.
— Почём тюльпаны брал? — продолжает он.
Я неуверенно бормочу что-то, пытаясь разделить две тысячи с чем-то на двадцать три.
— По сотке, наверное? — уверенно говорит мой собеседник, не дожидаясь ответа.
— Примерно.
— Красава.
Он достаёт откуда-то телефон и сразу же погружается в долгий, неясный разговор, уже не обращая на меня внимания.
Мама в халате, мама — рада. В щёчку, поздравлю, приходи вечером чай пить, скользко, надо аккуратно.
Потом сразу же к сестре. Сестра в халате, вчера пила, но уже нормально, уже пойдёт, жить можно. В щёчку, ещё раз, спасибо, братик, пока, вечером зайду, может быть.
Вечером — чай, торт, маковые коржи с воздушным кремом. Розовые тюльпаны раскрываются в вазе.
Ты знаешь, у Пигошиной сын сейчас там, и у тёти Марины тоже. Ну, Господи, Марина, жена Кости, водителя нашего со скорой. И Илья Лесовской, он же тоже военный, танкист, что ли. Все там.
— Ладно, мам, не расстраивайся.
— Что с нами будет?
— Пей чай.
***
N.:
Я всегда боялась праздников. С детства. Если мы должны были пойти в гости, надо было вести себя хорошо. Отвечать на вопросы вежливо. Терпеть пристальное разглядывание и фальшивые радостные возгласы, как я выросла. Сухая и манерная тетя Тася (с непонятным шипением мамы «она из бывших») костлявыми пальцами хватала меня за руки. Я боялась тетю Тасю. Я боялась дядю Гогу, потому что мой английский был всегда хуже его английского, а чтение дядей Гогой «Верескового мёда» всегда было обязательным на всех семейных праздниках. Надо ли говорить, что дядя Гога — это сын тети Таси, и оба они представлялись мне самым недостижимым совершенством манер и кладезем знаний.
Я боялась тетю Тому. Она не читала вслух, не блистала манерами, но однажды, зажав меня в коридоре, недвусмысленно сказала, что если я буду плохо есть и огорчать бабушку, то она выбьет мне зубы. Как я смогу есть без зубов и радовать бабушку, тетя Тома не объяснила.
Пугали не только близкие родственники, пугала дорога: ожидание автобуса на остановке, коробка с тортом, коснуться которой не дай Бог, кусачая шапка из ровницы, застегнутая на большую пуговицу.
Но ещё страшнее было после праздника, когда выяснялось, что вела я себя все равно плохо, стихи читала без выражения, вилку держала в правой руке, чем смертельно огорчила тетю Тасю… Все это вываливались на меня по дороге. Голова нещадно чесалась в шапке из ровницы, коробка от торта не ехала с нами домой, и трогать было нечего. Возить пальцем по стеклу автобуса тоже было нельзя.
Я давно выросла и даже, можно сказать, постарела. Приходя на могилу отца, я не забываю заглянуть на могилу тети Таси и дяди Гоги. Некоторые зубы покинули меня сами, не знаю, радует ли это покойную тетю Тому, ведь ем я хорошо. Да и сама я давно бабушка. Я читаю «Вересковый мёд» наизусть, но только на работе, и никогда дома. Но я до сих пор боюсь праздников. Потому что очень страшно не оправдать ожиданий. Чьих? Я не знаю. Просто сегодня праздник, и мне опять страшно.
***
A.:
Главным событием дня сегодняшнего стали слова.
Праздник подоспел впору.
День, которому раньше не придавала никакого значения, — этакий праздник второго плана, — вдруг обрел иной смысл.
Слова как будто подсвечены изнутри.
Поздравления, которые раньше бы просто пролистала, даже не вчитываясь, сегодня светят и греют.
«Здоровья»…
«Счастья»…
«Удачи»… — то же самое говорилось и в прошлом году, и в позапрошлом, и в поза- поза-, но сегодня вдруг нашло отклик в душе и обрело иной смысл.
«Мирного неба над головой»… А вот это звучит непривычно, когда мы в последний раз желали этого друг другу в праздник? На моей памяти — никогда.
Стараюсь отвечать каждому — не смайликами, как раньше, а тоже словами.
И сама пишу поздравления.
Поздравить всех.
Не забыть никого.
Подобрать для каждой теплые, добрые, значимые сейчас слова. Пишу одной очень хорошей женщине, с которой мы обмениваемся поздравлениями ровно раз в год, так уж у нас повелось. Она отвечает что-то очень теплое и душевное — и я пишу еще. Добрых слов много не бывает. А можно мне тоже — вторую порцию поздравлений? Как в детстве — вторую порцию сладкого — или просто любимого блюда.
Слова толпятся, вытесняют друг друга, они похожи и непохожи на себя самих.
Завтра будний день, но их можно будет перечитывать сколько угодно.
Ухватиться за них. Удержаться на плаву.
***
C.:
Сегодня плакала. Как и каждый день с 24 февраля. Но сегодня — не от страха, а от любви.
Поражалась, насколько армяне любят русских.
Читала чат про релокацию и видела, как они готовы целыми сутками общаться в чате, рассказывая обо всем нужном и важном. Так я узнала все об авиалиниях, аренде жилья, обмене валюты, получении гражданства и ВНЖ, зарплате из-за границы, детских садах и магазинах. Пропиталась радушием, которым щедро делятся местные.
Насколько русские любят украинцев.
Я вижу флаги на аватарках, вижу, как объединяются люди в родном Skyeng, не вижу ругани в чатах и ненависти — одну лишь поддержку, сочувствие и понимание. И еще извинения.
Насколько русские любят русских.
В одном из чатов я написала, что чипы у моих котов не зарегистрировались в базе. Ждала неделю, но не выдержала. Спустя десять минут все работало: просто незнакомая ветеринар постучалась ко мне в личку и все сделала. Не требуя денег и настойчиво от них отказываясь. Она просто хотела помочь.
Насколько все любят всех.
Моя коллега рассказывала, как их пустили в ресторан во Франции по неработающему QR — просто узнав, что они из Украины. Знакомая пишет, как узбеки заселяют в гостиницы даже с котами — просто узнав, что люди из России.
Люди, несмотря на весь ужас, объединяются и помогают друг другу. У любви есть все шансы спасти этот мир.
***
N.:
В конце февраля я реанимировала свой тг-канал и для раскачки стала писать про книги, которые прочитала в прошлом месяце. Этот список подталкивал высказаться на тему весеннего гендерного праздника: Уте Эрхардт подробно описала, как хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие — куда захотят; Вирджиния Вулф посоветовала зарабатывать деньги и обзавестись собственной комнатой, чтобы преуспеть в писательстве или хотя бы прожить интересную жизнь; даже Эрих Фромм в «Искусстве любить» успел что-то написать про патриархат и матриархат. Я пообещала себе написать этот текст, но сегодня, едва проснувшись, поняла, что его не будет.
Я предвкушаю, что сегодня «рыба» поздравительных публичных текстов поменяется. Будут не только призывы помочь жертвам насилия, почувствовать сестринство и «девчонки — лучшие люди на земле». В этом году и нам вменят, и мы сами про себя скажем, что женщины — посланницы мира, те, кому никакие бои невыгодны, потому что умирают их отцы, братья, сыновья, друзья, возлюбленные (бывшие, настоящие, будущие), а сами они остаются жить дальше, сохранять выжившее.
Я еще четверть века не прожила, а уже прошла путь от цветов, нового платья и «будь красивой, нежной и любимой!» в честь праздника до ощущения, что я должна аккумулировать всю свою любовь, заботу, эмпатию и начинать спасать мир. Где-то между я научилась вечером идти с ключами в кулаке, говорить «нет», замечать, когда во мне просыпается мизогиния, отводить взгляд от чужого сора, вынесенного из избы. Сгибает пополам: от чувства беспомощности, вины и злобы у меня режет живот.
Сегодня боль в животе дополняется головной болью, потому что злоба переполняет — по ряду причин: внутриличностных, межличностных, внутриполитических, внешнеполитических. Сегодня в честь праздника я хочу только одного: не брать на себя никаких обязательств. Ни хорошо выглядеть, ни спасать мир, ни писать умные тексты.
***
P.:
Вчера поймала себя на том, что смотрю «Титаник» и впервые за двадцать четыре года его существования не плачу. И даже сердце не сжимается.
Сначала немного испугалась, удивилась. Потом стала «слушать себя» и поняла, что просто у меня кончились слезы за эти полторы недели.
Каждое утро все эти дни проходило одинаково. Просыпаюсь, взгляд на свет, пробивающийся из-под ночной шторы, и сразу сжимается сердце. Встаю, телефон, пишу «Как вы? Где?» подруге, с которой дружу без малого пятьдесят лет, которая «там», которая бежала с семьей и четырехмесячным внуком, пытаясь найти безопасное место.
Потом кофе, таблетки, чтобы не реветь в голос весь день. И живу этот день. В нем страх и ужас от того, что происходит вокруг, здесь, в моей семье, в моём маленьком мире.
Каждое утро были разные чувства. Первые дни она, скорее, успокаивала меня, она была собрана и мобилизована на спасение своих детей и внука.
Потом, когда они смогли укрыться в условно безопасном месте, я проживала по утрам её страх, её отчаянные призывы о помощи, её гнев и ярость, её бессилие. Дети с внуком смогли уехать за границу.
Вчера она написала, что очень сильно устала. Вчера мы разговаривали, и она сказала, что не боится смерти, что ей всё равно. Ей все равно, как и что будет дальше.
Вчера вечером у меня кончились слезы.
***
M.:
Где вы были 8 лет назад? — спрашивают в Фейсбуке.
8 лет назад я так же плохо спала ночами. Боялась, что не смогу родить, что слишком крупный плод. Что врачи будут невнимательны. Страшилась кровотечения, помня опыт первых родов. Замирала, когда не было толчков. Мучилась, здоров ли ребенок. Когда меня подключили к аппарату и врач нахмурилась, у меня затвердел живот.
И вот девочка восьми лет говорит мне:
— Мама, а я знаю больше, чем ты. Ты путаешь Северуса с Сириусом.
Недавно она отказалась от розового и повела меня в отдел для мальчиков. Захотела футболку с Человеком-пауком — в девчачьем одни принцессы и единороги. Она смотрит фильмы-катастрофы и восхищается супергероями. Я сижу рядом и слышу в каждой фразе пророчество.
— Счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету, — говорит седобородый Дамблдор.
А в фильме «Фантастические твари», когда простые люди, «не маги», видят что-то про волшебников, что им не следовало бы видеть, им стирают память. Одна из разборок между магами случается на глазах у всего города и приводит к сильным разрушениям. В руководстве магов сожалеют о том, что всему городу память не стереть. Но находят способ: насылают дождь забвения.
Хочу ли я помнить то, что происходит сейчас? Если честно, пока не знаю.
Сын моей коллеги из Украины выбросил все игрушечные самолётики и танки. А моя дочь смотрит фильмы, где все могут погибнуть. Она уверена, что это вымысел и добро непременно победит. Может, она и вправду знает больше меня?
***
И.:
Я делаю глубокий вдох и открываю глаза. Утро всегда было моим любимым временем суток. Раньше, еще до [РКН], я бы потягивалась, медитировала, надела бы свой пушистый халат и пошла варить кофе. Сейчас же все иначе: прислушиваюсь, нет ли взрывов, беру телефон и просматриваю ночные сводки. Затем аккуратно поднимаюсь с коридорного пола, чтобы ненароком не разбудить мужа и сына, и по привычке иду на кухню, прикрывая за собой дверь.
За окном еще темно и кружа падает снег. Ловлю себя на мысли, что кофе не хочется совсем, но я все равно его варю — многолетняя привычка, ставшая ритуалом.
БАХ! И меня осеняет — сегодня же праздник, женский день 8 марта. Нужно написать поздравления подругам, потом позвонить маме и свекрови, затем прическа, маникюр, платье… СТОП. Я все время забываю, что наш привычный мир рухнул тринадцать дней назад…
А ведь никто за всю мою жизнь не рассказал, не научил, не пояснил о праздниках в военное время. Стоит ли праздновать, когда моя страна в огне? Не аморально ли улыбаться? Поздравлять близких? Почему же мой дедушка, столько всего рассказывая о Великой Отечественной, умолчал о таких простых и таких сложных вещах?
Кофе обжигает губы, приятная горечь растекается во рту. Глоток, еще глоток, и, обхватив руками кружку, смотрю в окно. Вдалеке слышатся взрывы, завыла сирена и пришло оповещение с просьбой пройти в укрытие. По щеке катится слеза. Нет, нет, нет, только не сейчас, не утром, не в начале дня. Я поплачу потом, попозже, после.
Куда ни посмотри, все раскалывается на «до» и «после». Все окружающее уже изменило смысл, как-то угловато преломилось, и мир мне видится в осколках разбитого зеркала. Нет стабильности, нет уверенности, нет завтра. А ведь необходимо хоть за что-то держаться, за какой-то костяк в этом хаосе, чтобы не бояться и сохранить свой рассудок, чтобы не упасть и продолжить жить.
Сегодня. Сегодня я попытаюсь это изменить, пусть совсем ненадолго я соберу осколки и найду другую сторону нынешней жизни… Делаю легкий макияж, маникюр, укладываю волосы, вступаю в облако парфюма и вот уже начинаю улыбаться своему отражению в зеркале. Поднимаю голову. Все, я готова.
Сегодня я отменяю страх и слабость, злость и слезы, сирены и укрытия, снег и холод. Сегодня обязательно будет весенний день, ведь на подоконнике цветут орхидеи, и на календаре восьмерка, и уже показались первые солнечные лучи, и мои мужчины где-то раздобыли желтые тюльпаны, и еще так хочется жить.
***
D.:
Лук
Только что проводила своих на самолёт. Теперь мы с дочкой здесь, а они — в дороге, едут к аэропорту.
Как же я боюсь, что им что-то помешает улететь!
Так одиноко в квартире после их отъезда. И разум отказывается понимать простую причину, почему мы остались здесь. У дочки не готов загранпаспорт, и я с ней должна дождаться его здесь, а мужу с сыновьями лететь ничто не мешает (я надеюсь), и ему надо работать — а здесь он больше не может.
Мы все привыкли делать вместе. Никогда надолго не расставались. Все каждодневные дела у нас поделены на двоих. Мы ведь вместе уже почти восемнадцать лет. Трое детей. Да, дочь осталась со мной, но двое мальчишек — я люблю их больше жизни. Не задумываясь, отдала бы за них свою. Не понимаю, как я без моего малыша (я так называю младшего, хотя ему уже пять, но все же). Что не смогу перед сном его поцеловать, как обычно, прочитать ему сказку. И слушать, как он мерно дышит во сне.
Сегодня, перед отъездом, мне нужно было приготовить для них поесть. Я хотела сварить рис и добавить в него морковь с луком. Пора было начинать, а я вдруг увидела, что лука нет. Я подумала, что могу сходить быстренько в магазин и купить его. И тут же — другая мысль: неужели я вот так вот буднично оденусь, соберусь и пойду в магазин за луком, пока они ещё здесь, пока в квартире ещё слышны их голоса, пока мы можем поговорить, посидеть вместе? Я ведь не знаю, когда их теперь увижу. Сколько мы будем ждать паспорта, и дадут ли нам вообще паспорт, и не закроют ли к тому времени авиасообщение? Сейчас всякое может быть. Два дня я держалась, а тут вдруг глаза защипало, и я закрылась в ванной и впервые за эти дни плакала.
Потом умылась и вышла.
А через какое-то время, когда уже успокоилась и приготовила всё, вышла на балкон и вижу: вот же он, лук, лежит там, где обычно, на видном месте. Как я могла не видеть его?
Они уехали. Скоро сядут в самолет. И только поздно ночью, я надеюсь, они смогут мне опять написать.
Молюсь, чтобы все было хорошо и они долетели.
***
П.:
Мужчина с безумным взглядом в пустом троллейбусе. Сидит на колесе и бормочет: «Живите долго и счастливо!». Я с двумя бумажными свертками. Цветы в подарок маме и бабушке. Грустно. Мужчины не поздравляют. Думаю о тех, кто поздравлял раньше. Их несколько. Среди них один, который смеялся над моей привязанностью к «совку», формальностям в виде регулярных поздравлений и моей наивной радости в праздники. Знаю, что он не празднует. Пожалуй, ни один праздник. Как-то раз, я удивилась, он позвал в свой день рождения погулять по городу и выпить кофе. Если бы я не знала его, подумала бы, что это игра, флирт и ответный ход на мое поздравление. А он же против формальностей и схем и будет делать только то, что сам захочет, обходя попытки влияния и сети намеков. Я тогда пришла с грязными волосами, в старых джинсах и каком-то балахоне. Уставшая с работы, к тому же. Говорю: «Я без подарка». Он отвечает сразу, будто было заготовлено: «Тогда я тебя не угощу». И улыбается, что шутка удалась. Сначала сидели долго, потом долго гуляли. Попросила подбросить меня до метро, опасаясь риска позвать к себе после провожания. Потом мы встречались раза два за пару лет. Все это время я знала, что он один. Потом вдруг встретились зимой, в метель, и долго ходили вдоль берега пруда. Он курил. Пахло травой. Мне стало страшно. Я промолчала. Потом долго убеждала себя, что правильно сделала, не осудив за опасную привычку. Думала, как же помочь? Словно услышав мои мысли, он снова позвал, на этот раз на озеро, в лесопарк. Тоже курил. Я опять промолчала. Он спросил неожиданно и серьезно: «Во мне что-нибудь изменилось с тех пор, как мы знакомы?». Внешним голосом я придумала какую-то отговорку, чтобы заглушить внутренний, который повторял готовое: «Ты был радостным, добрым и открытым, свободным от зависимости и моды. Что случилось с тобой?» Неужели одиночество и свобода, к которым ты всегда так стремился, так изломали тебя, когда настигли? Потом, правда, через несколько месяцев, я осмелилась написать, что поняла, что изменилось и готова сказать. И мы опять пошли в лес. Опять снег. Я завела, заблудились. Но без самокрутки уже. Раздраженный разговор. Через полгода я решила больше не поздравлять. Через несколько дней написала что-то отвлеченное. Позвал увидеться. Мороз, но без снега. Темные улицы. Обсуждаем ковид и прививки. Зовет пойти в бар пить пиво. Я отказываюсь пить. Идем в бар через кофейню. Мне — какао. Сидим в баре. На стене «Сад земных наслаждений». Говорит очень спокойно: «Я каждый вечер пью. В остальное время слежу за здоровьем. Когда захочу, брошу. Теперь ты расскажи о себе». Я молчу. Мне уже пора. «У меня завтра урок, нужно собираться домой». Вызывает мне такси: «А я еще посижу, у меня полстакана». Сажает меня в машину. Я все еще флиртую: «Может, стоит видеться чаще, чем раз в год?» На следующий день решаю, что можно попросить его мне в чем-нибудь помочь. Еще через день пишу просьбу помочь с волонтерским проектом. Он отвечает резко: «После всего, что я тебе рассказал о себе, ты почему-то решила, что я захочу этим заниматься?» Я истерю: «Да. Это помощь детям. И мне». И получаю глыбу льда в ответ: «Я сам напишу, когда посчитаю нужным». Я всё еще жду. Уже полдень. Может, ближе к ночи? Конечная. Безумец стоит у задней двери. Продолжает бормотать, будто обращаясь ко мне: «Будьте счастливы, живите долго!» Спасибо, постараюсь. Выходим. Я бегу на автобус, не оглядываясь.
День заканчивается. И теперь я потихоньку радуюсь его молчанию. Он стал честным с собою. Перестал поздравлять только в угоду традиции, давя собственные убеждения. А значит, он будет счастлив. Наверняка.
***
Х.:
Позвонила мама в слезах. Мама работает инженером на электростанции.
— Я знаю, ты сейчас будешь меня ругать. Я знаю, неправильно так реагировать. В прошлое дежурство я видела по камерам, что по подстанции летает голубь, сказала мастеру, чтобы открыл окно и выпустил. А сегодня при обходе я нашла его. Такой маленький, легкий, невесомый почти, и перьями все вокруг устлано, как ковёр, и окно закрыто. Я знаю, ты скажешь, что гибнут люди, но у меня такое чувство вины, я должна была пойти сама и выпустить, что случилось, почему?
— Не буду я ничего говорить. Нельзя сравнить боль, нет измерителя горя. Есть зло и смерть, которые нельзя оправдать. И чувство вины — хорошее чувство, оно говорит, что мы ещё живы. И можно, и нужно плакать. Этого у нас, слава богу, не отобрать.
***
I.:
— А вы принимаете… вот тут у меня… в Киев, в Полтаву, в Запорожье. Туда берёте сейчас посылки?
— Я вроде бы вам говорила по телефону. — Со мной она переходит на русский. — Посмотреть мою ссылку, я вам присылала, смотрели?
— Да, да… но всё меняется же каждый день…
— Сейчас открою… вот УкрПочта, а вот Новая почта, видите, от них информация… понимаете же по-украински?
Я молчу, но она продолжает, не ожидая ответа:
— Ну, мы в любом случае берём всё. Они доставят. Может быть, не сразу, но все посылки будут храниться на складе, и они доставят при первой возможности. Или могут привезти в другой город, где нет военных действий. У вас там что?
— Продукты. Это спецпродукты для людей с определенным заболеванием. Вот в Киеве — там женщина пожилая, одинокая. Она не сможет забрать в другом городе.
— А адрес какой? Тут у вас только отделение.
— Я не знаю её адреса, это всё, что у меня есть.
— Как не знаете? Ну ладно. Всё возьмём. Что смогут — доставят. Если потеряется посылка — я вам лично доставку возмещу.
— Мне не надо. Пусть всё доедет.
— Тут не от нас зависит… Везём, где нет обстрелов.
Я оставляю три посылки. Три посылки для совершенно незнакомых мне людей с до боли знакомым мне заболеванием. Пусть всё доедет.
***
M.:
Сходила на почту. В оранжевом конверте с другого края Земли приехал мой лунный камень. Я заказала его месяц назад, когда казалось, что убийственнее, чем каток прошедших двух лет, уже ничего не может быть. Его называют лабрадорит, и на первый взгляд он темно-синий, как закат под тучами сегодня. Скользкий, холодный, с черными прожилками. Они похожи на тонкие кривые шрамы, которые уже никогда не посветлеют, и задеть их страшно, ведь тогда они вскроются и оттуда польется неконтролируемый поток грязи. Я аккуратно держу тяжелый камень на ладони, поглаживаю его мерцающую поверхность и надеюсь, что заживление шрамов всё ещё возможно.
На ночь я положу камень на подоконник. Пусть растущая Луна тронет его светом, и в его перламутре проявится весеннее небо над полем цветущего рапса, а грязь превратится в плодородную землю, питающую жизнь. Так хочется верить, что камешек мой — волшебный.
***
E.:
Мама пьет глинтвейн, потому что в кондитерской не нашлось подходящего кофе.
Мама спрашивает: ну как вы живете?
Я отвечаю: нормально. Я дома, М. учится, все как обычно.
Мама спрашивает: то, что вы говорили про отъезд из страны, как с этим?
Я отвечаю: решили остаться, по крайней мере, пока.
Мама спрашивает: а почему?
Я отвечаю что-то про нечеткие перспективы и проживем как-нибудь.
Мама понимающе кивает.
Я спрашиваю: а ты как?
Мама отвечает: нормально. Звонила Л., у нее все хорошо, рядом пока не стреляют.
Я спрашиваю: а сама как себя чувствуешь?
Мама отвечает: да ничего, купила наушники, выходные, отдыхаю.
Мама спрашивает: помнишь, когда началось, ты мне посоветовал поискать психотерапевта?
Я отвечаю: да, конечно.
Мама говорит: я вначале отбрехалась, а сейчас думаю, что, может, и стоит. Родственников точно консультировать нельзя?
Я отвечаю: ну и хорошо. Но прости, родственников правда нельзя. А еще у меня образование немного другое.
Мама спрашивает: а поучиться не хочешь?
Я отвечаю что-то про не мой путь и отсутствие интереса.
Мама самую малость разочаровывается. Или огорчается.
Мама спрашивает: ты сегодня у зубного был?
Я отвечаю: нет, у терапевта, по поводу давления.
Мама будоражится и спрашивает про давление, про врача, про лекарства.
Я отвечаю.
Мама советует: нужно худеть, нужно сесть на ту диету, помнишь, я рассказывала, нужно больше двигаться.
Я соглашаюсь: да, да, да, конечно, ты права.
Я спрашиваю: а дедушка ведь не был гипертоником?
Мама отвечает: нет, но у него была аритмия, а это хуже. Поедем на кладбище, в прошлом году ведь не были.
Я отвечаю: конечно. В мае, как всегда?
Мама отвечает: можно и раньше.
Мама спрашивает: как мы теперь будем жить?
Я отвечаю: не знаю. Но это не может продлиться долго. Может, несколько лет. Но не больше четырех.
Мама спрашивает: а что подарить М. на день рождения?
Я отвечаю: только не сертификат на кофе.
Мама машет руками: да я понимаю, но все-таки…
Мама расплачивается.
Мы спускаемся в метро, неловко обнимаемся и желаем друг другу держаться.
***
M.:
Про ансамбль
Вчера с любимыми девами собрались петь. Сели в круг, всего пять штук. Распелись, сверились с нотами, разделились на голоса, соединились в ансамбль. Пару дней назад такое действо я бы обрисовала фразой «как в прошлой жизни». Но сейчас оно случилось про настоящее. Живое и бодрящееся. Единственное понятное настоящее, которое осталось. Без репетиций и прогонов. Это мои девы — море синих платьев, прямые спины, но ведьмины глаза. Это моя мама, кипучая смесь семейских и украинцев, голосом рисовавшая лавины, так, что мы с дедом выбегали во двор, боясь за свои барабанные перепонки. Это бабушка Дуня, ее сестры и подруги, которые после первой же рюмки рассыпались на голоса и орали из самого сердца, кровью, слезами, центром земли, сразу на всех языках. Выше — горше, ниже — тверже. Один раз услышал — никогда не забудешь. Это буквы на льду Невы. Их можно закрасить, но они проявятся сквозь. Их можно прикрыть стыдом, но они уже отпечатались на веках. Мы сильные, нас не одна. Я срываю голос, но девы удерживают мелодию. Я слышу, как кто-то теряет дыхание, и помогаю ритму сохраниться. Я не могу вступить, но рядом есть та, что готова подменить меня и отдать свое время на мою передышку. После двух часов отогревания друг друга и друг об друга я наконец почувствовала, как кулак, пробивший грудь и сжавший легкие, ослабил хватку. И есть воздух, чтобы дышать. И есть воздух, чтобы петь. Пока я могу взять за руку хотя бы одну из этих женщин, мне уже не так страшно.
***
Ю.:
Никак не могу оторваться от чтения новостей. Состояние непрерывного падения в черную дыру, дна которой не видно.
Уже выпит чай и надо спать. Завтра в офисе бухгалтерша, юрист и агроном, сгруппировавшись у кулера, будут снова обсуждать другие новости, которые я не смотрю, на устройстве, которого у меня даже нет.
— Не жили богато, нечего и начинать, — повизгивая, с ударением на каждом слове, притопывая левой ножкой в дермантиновом сапоге и выпучивая глаза на каждого из собравшихся, будет декламировать бухгалтерша.
Агроном крякнет, почешет правую ягодицу и качнет головой в знак одобрения и поддержки.
— Если б не мы, то нас! Поэтому вот, — подытожит юрист.
А я буду мучительно ждать, пока они не разойдутся по своим кабинетам, чтобы в тишине приготовить себе бразильский кофе из немецкой кофемашины.
***
G.:
Письмо от школьной администрации. Директор сообщает о том, что у них есть достаточный запас йодид калия на случай чрезвычайной ситуации. Ещё директор уверяет, что у них есть четкий план, они знают, что делать, и что наши дети с ними в полной безопасности.
Я не сразу осознаю реальность происходящего. То есть вот так, да? Мы сейчас обсуждаем, что будем делать в случае ядерной войны? Вот так буднично, цивилизованно, спокойно?
Паника подкрадывается и я уже ловлю ртом воздух, направляюсь к окну, чтобы впустить прохладу марта, как приходит смс — нужна помощь прибывшим, срочно.
И я бегу. Бегу изо всех сил. И я отдаю все, что могу, лишь бы не чувствовать этот леденящий ужас. Лишь бы чуточку согреться под добрыми взглядами уставших, потерянных и напуганных людей. И я чувствую безмерную благодарность за то, что они принимают мою помощь.
Пожалуй, сейчас это жизненно необходимое для меня лекарство. Помощь другим.
***
A.:
Вам не показалось, что падающий снег сегодня был похож на пепел? Помню, как подумал об этом и поёжился, но не от холода — от понятных ассоциаций, что вот уже две недели занимают все мысли.
Еще думал сегодня, что очень много сил уходит на повороты головы. Те самые повороты, которые призваны уберечь глаза и уши от любой информации о новых запретах и жертвах на таких же заснеженных улицах в этой стране и стране по соседству.
А еще устала правая рука. В последние дни много нервничаешь и вечно таскаешь ей еду в рот. А когда не ешь, то подпираешь ей же тяжелую голову. Левой руке полегче. Ей просто порой трогаешь сердце, отмечаешь учащенный ритм, убираешь обратно в карман.
Немного надоело вздыхать, но опытным путем доказано, что это оптимальная реакция на любые мнения людей по поводу известных событий. Послушал, шумно вздохнул, считай, отреагировал. Опционально можно еще покивать или издать пару звуков на выбор. Получается, и собеседника не обидел, и глупых споров избежал. И это не проявление слабости, вовсе нет. Иногда отказ от конфликта — победа. Передайте там эту безусловную мудрость из пацанских цитатников выше по цепочке. Этот стиль должен быть им понятен.
В общем, грустный какой-то вышел праздник 8-го марта. И весну, и радость, и тюльпаны в озябших руках сегодня символично накрыло снегом, который очень уж был похож на пепел, вам не показалось?
***
A.:
Каждый день стараюсь писать от руки в блокноте. Но выпала неделя, что не мог этого делать. Две записи: 19.02.2022 и 26.02.22. Между этими событиями неделя. Между этими событиями — жизнь. Жизнь, которая осталась в 19 февраля. И жизнь, которая началась с 24 февраля. Неделя, в которой перемешались осколки двух реальностей. День, когда все стали читать новости, когда все молчали, но читали новости, в разговорах по телефону говорили, но в реальные беседы не вступали. День, когда ты просыпаешься, по привычке открываешь Инстаграм с утра и тут происходит шквал. Он обрушивается на тебя потоком информации. Заходишь в Яндекс, потом в Фейсбук, потом в Телеграм. А там новости. А там сторис знакомых и подписчиков. А там весна за окном. А там в экране взрывы. А там весна. А ты тут. И хочешь убрать телефон, укрыться от этого. Но снова открываешь его и читаешь, и не веришь, и веришь, и снова откладываешь телефон. Смотришь в окно. А там весна. И все вокруг не смотрят за окно, а смотрят в телефон.
⠀
19.02.2022, 08:42:
⠀
«А так все нормально. Чувствую себя хорошо. Надеюсь, что еще недельку — и домой! (В этот момент находился с ребенком в больнице).
Хорошего дня!»
⠀
26.02.2022, 07:33:
⠀
«Сегодня мы дома. Вчера приехали из больницы. Костя еще спит.
…Эти два дня просто без отрыва практически читал новости. Понял, что ничего это не даст. И просто отключился от информационного поля.
Из планов на сегодня:
⠀
— поставить стирку;
— купить тапочки, пену для бритья.
⠀
Погода эти дни стоит хорошая. Очень хочу, чтобы началась настоящая теплая весна».
⠀
Без записи. В то утро проснулись в больничной палате. Накануне положили маму с ребенком. Открыли социальные сети и новости за чашкой кофе. И тут она говорит, звонит и пишет (слышу отрывки). Улавливаю только контекст. Пишу сообщение в Телеграме:
⠀
«— А вместе с тем у нас в палате соседка и ее родственники в Харькове. И вся больница с телефонами.
— Что говорят реально. Что их семь там, говорят.
— Она с утра с телефоном. Только часть разговора слышу. Что кто-то получает оружие, все укрываются, где могут.
— Какой ад. Наши пишут, что Харьков окружили. Новости.
Время московское — 12:01.
Отматываю сообщения назад.
Время московское — 09:37
⠀
Сообщение: «Что не делается, все к лучшему. Сейчас лучше быть здесь (Москва), сделали операцию (ребенку) и продолжить учиться, чем были бы на реабилитации в Крыму» (в эти числа должны были лететь в Крым с ребенком в санаторий в Евпаторию).
А дальше сообщения, новости из разных источников, разговоры с мамой: «Если бы были сейчас в Крыму, то я бы просто умерла со страху за вас».
Этот день — 24 февраля — не был записан в моем дневнике. Но он останется в памяти, он останется в сообщениях, в переписках с родными и близкими. Он останется в памяти в тех первых кадрах, которые были в сети, он останется в памяти в первых сообщениях и сториз, которые публиковали люди из городов и разных точек Украины.
Он останется в памяти днем, который разделил жизнь на до и после.
***
T.:
— А потом пришёл Адам и сказал: если мы будем защищать, Путин сбросит на нас бомбу. И мы все такие: буууу, — хохочет Петька.
Папа Адама марокканец, до переезда во Францию учился на агротехника в Кубанском университете. Он знает, что я русская. Маме Адама строго-настрого запрещено жаловаться директору, если Петька обижает их сына. Тоненькая, черноглазная, без платка на голове, она покупает и продаёт драгоценные камни. Всё хочет пригласить нас на ужин. Надеюсь, не передумала пока.
— А Ахмед спросил: ты же у нас русьян, — продолжает рассказывать Петя. Я ему: буууу. Не русьян, а русский.
Я пугаюсь, Петька заливается ещё громче: — И ещё француз наполовину, еврей, и наполовину армянин, а нет, это ты, мам, наполовину, я наполовину швейцарец и ещё кто, пап?
— Поляк, — подсказывает наполовину поляк Петин папа.
Мы старались объяснить сыну, что его может ожидать в школе после февральских каникул, пытались подготовить. Я успела порадоваться, что дала детям привычные для французского уха имена, пока не вспомнила о их двойных фамилиях: первая часть русская, вторая — камуфляжная, французская. Мне и на работу выходить было страшно. Утром шла и про себя оправдывалась: я ведь не агрессивная, вспоминала все случаи, когда сопротивлялась начальству, может, это и есть имперские замашки?
А люди на работе подошли ко мне поодиночке и спросили: ты как?
— А потом, — Петя затих, — когда закончилась перемена, Инесс села со мной за парту. Нас всегда рассаживают после каникул. И она сказала: Пьер, ты же знаешь, что [РКН]? А у неё щёчки круглые, а на щечках полосочки, и она маленькая, меньше других девочек в классе. И тогда я сказал, что буду ее защищать.
***
A.:
Просыпаюсь в 4 часа ночи — как и каждый день. Принимаю дозу из двух японских сырников и кофе. Обрабатываю фотографии с закрытого мероприятия банка-который-нельзя-называть-иначе-штраф-три-миллиона-рублей. Высылаю обработанную съёмку заказчику, поздравляю его и ещё нескольких клиентов с восьмой мартой. «Пусть ваше настроение остаётся по-весеннему хорошим, несмотря ни на что». Принимаю дозу омлета со спаржей в сливочно-овощном соусе и кофе. Ложусь спать. В 10 часов просыпаюсь, чтобы принять дозу из протеинового батончика, банана и кофе. Запиваю дозой из Золофта, Ламотриджина и Арипипразола. Ложусь спать. В 13 часов просыпаюсь, чтобы принять дозу курицы с брокколи, грецким орехом и сливочным соусом. Ложусь спать. В 16 часов просыпаюсь, чтобы принять дозу розовых тортелли с рикоттой и шпинатом. Хочу спать, но включаю на телефоне мультфильм американской компании, которая больше не будет выпускать в прокат мультфильмы в России. Посмотрев 22 минуты 40 секунд, одеваюсь и уезжаю с семьёй к бабушке, чтобы поздравить с восьмой мартой и её. У бабушки за столом принимаю дозу золотистой курочки, запечённой под майонезом, майонезного оливье, майонезной селёдки под шубой, диетической котлетки из индейки, анти-диетических пирожков с картошкой и грибами (1 штука) и с луком и яйцом (3 штуки), кофе с пирожными. Иду спать, потому что за столом обсуждают то самое «ни на что», несмотря на которое настроение должно быть по-весеннему хорошим. Папа читает краткий курс новейшей истории украино-российских взаимоотношений сестре, маме и бабушке. Бабушка отказывается идти к психиатру и всё время плачет: «Каждый сам может взять себя в руки». Мама беспокоится, что не успевает купить последний бойлер со скидкой и что заказала кучу кафельной плитки, которая ей разонравилась. Сестра сообщает, что написала две страницы диплома, но у неё ещё два месяца. Слушаю краем уха из спальни, параллельно пою в караоке на телефоне Вопли Видоплясова «Весна». Принимаю дозу чёрного чая с куском домашнего торта «Наполеон». Курю с папой и сестрой на улице, слушаю, что независимые СМИ закрываются сами, потому что боятся штрафов за фейк, что те, кто уехал из России, — крысы и предатели. Понимаю, что между мной и родителями возникла пропасть, которую не перепрыгнуть. Возвращаясь домой, курю двадцатую за сегодня сигарету, принимаю дозу Кветиапина, досматриваю мультфильм американской компании и пишу этот текст. Фейсбук сообщает, что Иван Вырыпаев будет перечислять свои российские гонорары на поддержку мирных жителей Украины, что Польша отказалась от постановок по Чехову, запрещает Мусоргского, Шостаковича, Чайковского, Стравинского… Ложусь спать.
***
E.:
Жоэлька
Фоточку он мне прислал с утра, конечно, закачаешься. С прищуром, фирменной ухмылкой и эмодзи-тюльпаном, пристроенным к левой руке. Вверху подпись фиолетовыми буквами — с 8 марта. Ниже вопрос: когда увидимся? Я, само собой, была не против увидеться в самое-самое ближайшее время и прыгнула сначала на велосипед, потом в поезд, а потом в еще один поезд. Через полтора часа, вуаля, я уже острожно стучала в дверь дома в маленьком переулке на окраине.
Дверь открылась, и я упала в пахнущую молоком тельняшку Лолы, одна рука которой сразу обняла меня, а вторая продолжала крепко держать моего утреннего поздравителя. «Какие новости? Нашёлся для твоих киевлян дом?» — Всегда легкая Лола перенесла наши онлайн разговоры последних дней в оффлайн. «Хавьер всех забирает к себе в дом, вместе с кошками, повезло», — ответила я, играя в гляделки с юным красавчиком. Хавьер был известным на всю деревушку садовником из какой-то нашей прошлой жизни. «А что с ребятами из Питера, едут? — Лола положила сына в люльку, качнула легонько ногой. — Чай будешь? Облепиховый». «Они завтра ночью будут здесь, едут через Хельсинки. Где ты облепиху-то раздобыла?» — без всякой паузы удивилась я и порадовалась на секунду, что меня действительно занимают такие вопросы и мне правда интересно, где моя подруга посреди испанской деревни раздобыла облепиху. Отметила про себя, значит, я человек пока что. Лола обняла ладонями стеклянный чайник с ярко-желтым чаем внутри: — «В русском магазине в Барселоне заказала. Да, Жоэлька?» Оливковый трехмесячный малыш с испанским именем Жоэль, по крови каталонец, галисиец, русский, чуваш, узбек и сибиряк (я в курсе, что это не национальность, но не могу удержаться) изобразил фирменную ухмылочку и засунул все пять пальцев своей крошечной ладошки в рот. Мы взяли чай, мёд, Жоэльку в люльке и двинулись в гостиную, увешанную картинами самой Лолы и ее мужа, на террасе лил дождь, крупные капли колотили по апельсинам на деревне в центре маленького уютного газона.
***
I.:
Мы сидим в гостиной стамбульской съемной квартиры. Думали, будем здесь вдвоём с мужем, а оказалось, наша только спальня, рядом комната хозяина и его девушки, гостиная — общая. В ней сегодня ночует пара из России, которой перенесли рейс.
Самого хозяина, турка Мурата, дома нет: он фотограф-журналист, уехал в Киев. Написал мне об этом, когда спрашивал, можно ли ребятам остаться на ночь. Я спросила его: «Как вы в Киеве? С вами все в порядке?» Он ответил: «Теперь да».
Вместо Мурата с нами его девушка, белоруска Алена. Иногда она выходит в коридор заплаканная. Мурат присылает ей фотографии, пишет, что скоро вернётся. Они вместе полгода, Алена ради него приехала из Японии.
И вот мы сидим в светлой комнате с высоким потолками, книжным шкафом, на полках которого стоят книги Толстого, Достоевского, Тургенева и Чехова на турецком (я не удержалась и погладила корешки), сидим вокруг журнального столика, заставленного банками Гиннеса и местного эля, сидим и разговариваем. С нами Алена и Серёжа. Оля, жена Серёжи, ушла в другую комнату, как только мы заговорили про [РКН]. Серёжа — артистичный, интеллигентный парень, говорит красиво и смешно. Любимое слово — «чеканашка», называет так Шойгу и себя, потому что с декабря твердил, что будет [РКН], а все крутили у виска. Серёжа и Оля летят в Уругвай. Спрашиваю, почему такой странный выбор, он объясняет: «Я по образованию географ. По моим подсчетам, вероятность ядерной войны — 10%. В таком случае следует опасаться взрывной волны, радиоактивного излучения и наступления ядерной зимы. Если зима наступит, она затронет умеренный пояс Северного полушария. В таком случае лучше быть поближе к экватору. Поэтому — Уругвай».
Серёжа, конечно, чеканашка. Но он не смеётся, и я не смеюсь.
***
P.:
В Прагу пришла весна. Я вижу подснежники на вокзальной клумбе. Оттаявший город пахнет сегодня пыльным камнем, прошлогодней листвой и почему-то лавандовым мылом. Я иду стричься в парикмахерскую, где говорят по-русски, и думаю, что мне сказать, если парикмахер окажется украинцем. Хорошо, что мне бриться не надо, думаю я, а то в этих барбершопах сплошные опасные бритвы, еще полоснет по горлу за «спецоперацию», мало ли.
Я подхожу к вокзалу Масарика и хмурюсь: мне не нравится, что моя голова думает такие глупости, но как ей запретишь? И звонкое синее небо, и первое по-настоящему жгучее весеннее солнце меня не утешают. Наоборот, тревога звенит в ответ, вторит этому небу, и вся эта великолепная Прага, мой годичной давности эмигрантский трофей, рассыпается мокрым сахаром в ладонях, оставляет меня с липкими пальцами. Только в январе мы с женой впервые почувствовали себя тут дома, разносили этот дом, нашли место для всех почти мозолей и даже детский садик сыну присмотрели, и тут… Иду и думаю об украинце с бритвой.
У вокзала стоит палатка-времянка, в каких раньше на Выхино продавали китайские куртки. Тут принимают гуманитарную помощь для беженцев. Думаю, что можно было бы отнести сюда Андрюшины книжки. Что-то, из чего он уже вырос, курочку Рябу, там, всякую, Репку… И ужасного Геннадия Цыферова обязательно надо отдать! Правда, где теперь возьмешь новые книжки на замену старым? В Москву мы теперь не скоро попадем.
Я ухожу от вокзала и уже не думаю о книжках. Думаю о том, как давно хотел прочитать сыну Туве Янсон, Астрид Линдгрен, Юрия Олешу. И о том, каково мне будет читать их сейчас. Все эти книги учат отваге и честности, они учат помогать и дружить, учат быть смелым Муми-троллем, щедрой Пеппи, чутким наследником Тутти… Все они, эти трое, и еще множество других персонажей смотрят на меня откуда-то из дачного книжного шкафа, отсыревшие от зимней сырости, и спрашивают меня:
Что ты делаешь?
Что ты сделаешь?
А я не знаю, что им ответить. Я иду стричься по весенней Праге и думаю о бритве.
Мы с парикмахером молчали всю стрижку. «Давно тут живете», спросил он меня под конец, стряхивая состриженные волосы на пол. «Второй год», ответил я. «Я тоже», кивнул он в зеркало и спрыснул меня одеколоном. Вопроса «откуда» не последовало, и я сам его задавать не стал. Уходя, я оставил парикмахеру пятьдесят крон на чай.
А вечером начал читать сыну «Шляпу волшебника».
С экрана, но это ничего.
***
П.:
Вчера впервые приготовил профитроли.
Испёк.
Сотворил.
Что такое профитроли? Это волшебство.
Это бронзовые бока. Это нежность и воздух.
Профитроли не греются о горячие шаньги на субботнем столе у бабушки.
Встретить профитроли можно только на сияющем невесомом постаменте посреди кондитерской.
И вот я сам.
И акт творения не обошелся без женщин.
Ася врывалась со мной во все авантюры. За руку и чуть впереди.
Свадьба. Сын. Квартира. Переезд.
То нежно посаженной мыслью, то горячей поддержкой, то аккуратным исполнением совместно задуманного. Шаг за шагом.
Такая Ася.
С профитролями Асина была идея. Я вообразить себе подобной дерзости не мог.
Профитроли дома! А завтра что? Утка по-пекински?
Кипит вода. В ней растворяется большой кусок сливочного масла. Вода возмущается вокруг. Но стоит прогнать кусок пару раз по кастрюле, как вода затихает.
Масло холодное и большое. Долго не повозмущаешься.
Я стою. Толкаю масло от стенки к стенке.
И вот кусок растаял, и масла в кастрюле не осталось. Точнее, вся жидкость теперь — масло.
И масло это затихает, готовясь заклокотать и возмутиться. Вот-вот.
Я засыпаю его мукой.
— Ты не успел, малыш Масло!
Вдруг не остаётся времени для фантазий. Размазать!
Собрать!
Размазать!
Перевернуть!
Начинаю сомневаться. А сколько нужно заваривать тесто?
Трижды снимаю тесто с конфорки. Трижды возвращаю назад.
Жду, когда получится плотный комок.
Боюсь пережечь (а ведь тогда, с козулями, недодержал!)
И… расслабляюсь.
Снимаю тесто с плиты и оставляю в покое. Драма кончилась, её заместил технологический процесс.
Готовые профитроли на столе.
Волшебные.
Первым делом отправляю фото Оксе.
Она всегда готова порадоваться вместе. Поддержать. Посмеяться. Или потыкать неудобными вопросами.
Не знаешь, что от неё ожидать за вечерним чаем. Знаешь, на что рассчитывать в беде.
Такая Окса.
Сейчас она радуется вместе со мной. И спрашивает, какой я выбрал крем для начинки. И предлагает свои варианты.
Несколько дней назад Оксана вернулась в Архангельск. Быть рядом с мамой во время второй химиотерапии. Перед этим потеряла работу.
Завтра, 8 марта, Окса потеряет маму.
А я здесь и сейчас.
Любуюсь своими профитролями. Смакую ощущение волшебной силы внутри.
Ощущение небывалого свершения. Ощущение возможностей.
Если идти шаг за шагом.
Если идти не одному.
***
Л.:
Мы с мужем слушали аудиокнигу, «Гарри Поттер и Орден Феникса», это моя любимая книга поттерианы. У мужа слух лучше, чем у меня. Он резко вышел в коридор, вернулся ко мне и сказал: «Там, похоже, женщину бьют».
На пару секунд мы оба прижали уши к входной двери. Были слышны мужские крики, маты, женский плач. Я сказала — «я выйду», а муж предложил вызвать полицию.
Мы уже вызывали как-то полицию на соседа за стенкой, он бил жену. Приехали бравые парни в бронежилетах, высокие, статные, экипированные не хуже ассасинов в игре от Ubisoft. Дверь им открыл сам сосед, жены не было видно. Полицейские сказали соседу: «А, вы ругаетесь с женой? Так это ваше семейное дело!» После чего сообщили ему фамилию и адрес человека, который вызвал милицию, то есть, мой. И уехали.
От криков до побоев один шаг. От побоев до смерти — тоже. Ждать полицию было некогда. Я вышла на лестницу. Сосед, всегда казавшийся крайне адекватным, адски и пьяно орал на свою жену. Мой муж зачем-то полез в шкаф. Я сказала соседу, что сейчас вызову полицию. Хотя понимала, мои угрозы не имеют никакой силы. Он лихо обматерил меня и двинулся навстречу. Но в мою сторону не пошёл, а завернул к лифтам. Выглянули другие соседи. Начали попрекать мужика. Он почти что плакал, заходя в лифт, говорил: «Вы себе не представляете».
Я вернулась домой и обнаружила там самурая с моей коллекционной катаной (незаточенной). Муж не нашёл в доме более тяжёлого предмета. Он сказал, что взял катану на тот случай, если сосед вдруг бросится убивать жену и меня.
Муж сказал, что много раз общался с этим соседом. Сосед, как оказалось, пытался построить бизнес и, возможно, сейчас всё потерял.
Я пойду к его жене и поговорю с ней, попытаюсь предложить помощь. А муж пошёл на улицу искать соседа, чтобы поговорить.
***
Ф.:
Вчера и сегодня я писала. Это не могло бы считаться событием в прошлых условиях привычного благополучия, где событие трактуется как «перемещение персонажа через границу семантического поля» по Лотману. В акте письма нет декларируемой Лотманом резкости, непредсказуемости и неожиданности, нет необходимого смещения и революционности. Есть рутина, осознанное подчинение дисциплине и техники попадания в состояние потока. Я намеренно выбираю больше существительных и сгоняю их в статичные ряды. И вновь обращаюсь к Лотману.
Событие революционно, это происшествие в контексте, это сдвиг, «значимое уклонение от нормы», «поскольку выполнение нормы “событием” не является». Здесь неизбежно обращение к понятию психиатрической нормы и так же неизбежны примеры Марины Абрамович, которая говорила, что Фрейд явно бы ей заинтересовался, и насильников и убийц, крайних точек на графиках колебаний волн, а вместе с ними профессиональных военных, убивающих во имя добра, защиты и спасения — двойной слом шаблона. Убийства в контексте [РКН] перестают быть событиями, и очевидны, хотя и бесплодны, старания вернуть их в ряд, в статус происшествий, то есть отклонений от нормы.
В прошлый четверг, а теперь отсчёт идёт на четверги, и это прошлый четверг, не позапрошлый, мы с мужем ходили в галерею. Билеты на Врубеля купили давно, в конце января, и решили попробовать. Врубель оказался мёртв и непригоден для взаимодействия с реальностью. Я упросила мужа пойти на выставку современного искусства из Европы — и там вдруг смеялась. Плечи выровнялись, стихли отёки под глазами, я захотела есть. Потом мы долго спорили и ссорились, громко, яростно, с горячими взаимными упрёками, заснули за полночь, обсуждая современных художников. Это лотмановский пример, описанный в «Структуре художественного текста»: про супругов, разошедшихся в оценках абстрактного искусства и обратившихся в милицию, чтобы составить протокол. Для участкового в этом нет события, поскольку нет нарушений законов, а в моей семьи посещение выставки надёжно встроилось в родовую память и соединилось с историческим контекстом, что сразу поднимает событие на следующий структурный уровень.
Согласна, ассоциация с Лотманом не первого ряда, до неё книга Анни Эрно и фильм, которые так и называются «Событие». Случайная беременность, нелегальный аборт во Франции после Второй мировой. Несомненно событие, которое Эрно перемещает между позициями существенности и незначительности, то разворачивает его в вариантах текстуальных положений в несколько сюжетных звеньев, то округляет до единственного, закрашивая общую картину мира. У Эрно и Одри Диван, снявшей фильм, вечной точкой выставлено одно и то же событие — вмешательство акушерки и эмбрион. У меня было два эмбриона: аборт, белёсые сгруппированные точки на мониторе УЗИ, и их не стало, и мёртвая женщина, беременность восемь недель, на стенке матки плацентарная площадка. Лотман и Эрно объединили их, нещадно связали, небрежно закинув на другую ступень иерархии.
Фокусировка, наведение резкости, раздел происшествий в газете — и действо письма, торопливый неразборчивый текст в результате трансформируется в событие, разгоняя внутреннюю машину неудобных моральных вопросов о коллективной вине и ответственности.
К сегодняшней точке временной схемы со страхом стерпелись, наступает истощение стрáховой машинерии, это ли не событие для начала, несвоевременное, как и все другие.
***
И.:
В Ереване сегодня солнечно. Ходил по бульвару, шарахался от шумных компаний парней-сверстников, угрожающе говорящих на непонятном языке, с удивлением рассматривал пары девушек-подружек, ведущих себя, жестикулирующих, общающихся друг с другом совсем по-другому, чем привычные мне их московские аналоги. Бродил и с удивлением отмечал, что за несколько дней пребывания тут так и не встретил на улице мужчину и женщину, приходящихся друг другу просто друзьями. Все вокруг странное, неясное, не такое, чем кажется. Непривычной формы скамейки, непонятные мне взгляды, по другому поступающие на перекрестках водители. Все так разительно отличается от известного мне, все настолько иначе.
Сегодня к нам приехали еще двое знакомых. Трое, если считать малыша. Ближе к вечеру они смогли снять квартиру на краю центра. Они все еще надеются вернуться домой через несколько недель. Мать считает это наивностью. А я просто завидую. Я завидую тем, кто остался там.
Друга на днях остановили на Лубянке, он считал количество омоновцев, и его вежливо попросили открыть телефон. Слава богу, отговорился. Не знаю, что будет завтра. Будет ли завтра?
Все постепенно сходят с ума. Сошли с ума друзья. Не могут трезво рассуждать, паникуют, ликуют, ненавидят, ненавидят, и еще раз ненавидят. Сошли с ума СМИ. Нагнетают, усугубляют и ненавидят, ненавидят, ненавидят.
Даже те, кто не тронулся окончательно два года назад, начинают истерить, орать и ненавидеть, ненавидеть, ненавидеть. Люди сходят с ума. Главное, не сойти с ума.
***
Е.:
Тяжелее всего по утрам. Физически трудно возвращаться в кошмар из беспокойного полусна. Обязанность накормить и отправить в школу Варьку стаскивает с кровати безвольное слабое тело. До [РКН] мешавшие три кг веса тают, потому что есть не хочется. Некстати подумалось, что скоро все страдания по поводу зависимости от сладкого закончатся сами собой. Шоколад останется только в памяти.
Почистила список друзей, убрала всех, кто ни разу не отметился ни словом, ни лайком. И не по политическим разногласиям, просто от того, что хочется забиться в угол.
При встрече со знакомыми боюсь услышать про восемь лет и стучащий в сердца пепел донбасских детей.
Приступы тоски и безнадёжности со вчерашнего вечера сменяются приступами обессиливающего страха. Оказалось, что всё же умею плакать. Спасибо слезам.
Пробую писать, но получается не очень. Хочу написать сценарий о любви, надеюсь, процесс поможет на время уходить от реальности.
Хорошо, что вписалась в учёбу, это тоже немного поддерживает.
Наблюдаю за собой, как уходит необходимость принимать казавшиеся до [РКН] важными решения или сделать жизненный выбор, думать, как сделать то или это. Теперь не надо. Думаю, что смогу лично я, когда наступит время выживания. Я уже не та, что была в 90-е. Надеюсь на то, что, когда наступит этот момент, смогу мобилизоваться.
Думаю, что всё, что мы называем «пиздец», ещё не он.
Купила дочке бумажных книг.
***
А.:
Однажды ко мне приезжал племянник. После его визитов, наполненных неуёмной детской энергией и радостью, я обычно ещё долго нахожу заботливо приклеенные в самых разных потаенных местах стикеры, нарисованные на скатерти, мне непонятные, но очень нужные в тот момент ему, знаки, детальки конструктора в дальних уголках под шкафом или диваном.
Но в тот раз его очень заинтересовал деревянный человечек из Икеи. Это и неудивительно. Ведь у него двигались руки и ноги, можно было представить, как он делает акробатические трюки, бежит стометровки, перепрыгивает ужасные пропасти и летает, как супермен. В тот момент, когда человечек вдруг стал трансформером и должен был ловко сложиться определенным, одному моему племяннику известным образом, вместо трансформации произошла наглядная демонстрация выражения «руки отваливаются». Племянник выразил своё отношение к произошедшему озадаченным «Ой…», а человечек остался стоять на полке без руки.
Я сложила отпавшую деталь и винтик, ее придерживавший, в ящичек под названием «а вдруг пригодится», а человечка ласково окрестила «мой паралимпиец» и установила в позу атлета, готовящегося к забегу.
Сегодня, 8 марта, он снова попался мне на глаза. И я не смогла пройти мимо, как раньше. Я долго рылась в шкафчиках и ящичках в поисках того самого «а вдруг», потому что за прошедшее с момента события время напрочь успела забыть, куда это я положила детали, чтобы не потерять. Казалось, не было дела важнее. Нашла. Долго возилась с пружинкой и отверткой, вспоминала гайдаровское «пружина была упряма, а дедушка был терпелив», и, наконец, вернула руку на место.
Почему-то от осознания того, что ещё можно что-то починить, стало так тепло и спокойно. Пусть какую-то мелочь, но сохранить. Как точку опоры в мире, который рассыпается на глазах.
***
О.:
Я увидела девушку. Она плакала, сидя на лавке, перебирая в руках вянущие розоватые тюльпаны. Тихо, виновато, с глазами в пол. Чтобы никто не смотрел, не замечал.
Прохожие и не замечали, оберегая свой покой.
У девушки были светлые волосы с темными корнями, куртка совсем легкая, не по погоде, а на ногах найки. Эти кроссовки, несомненно, станут свидетельством другой эпохи. Той, что за нашими спинами захлопнули в начале февраля. Так же обретут историческую значимость игрушки из макдака, карандашик для бровей Sephora, пустая иконка нетфликса и дряхлеющая яблоковская техника.
Что-то подсказывало, что девушка плачет не из-за этого. Не потому с обреченным остервенением распушивает зеленый хвостик ленточки на букете.
Из-за солнца пришлось растирать глаза. А может, это жгли чужие слезы.
Когда я снова посмотрела на лавочку, девушки не было. На лавке рассыпались тюльпаны, более не связанные зеленой лентой.
***
L.:
«Давай я покажу тебе ещё один смысл».
Смотри, на улице не тает снег, а ведь уже весна. Тебе грустно от этого? Холод обнимает нашу землю, даёт временную анестезию, прячет боль, которую ей пока не пережить.
Ты плачешь — значит, ты жива. Тревога заставляет сердце биться. Думать. Делать. Биться.
Ты думаешь о мире, о мировоззрении, об идеологиях. О смыслах. О том, может ли вообще что-то быть правильным, единственно верным. Пишешь и дышишь. Но верного ответа нет.
Есть ещё один смысл. И ещё один. И ещё один. И ещё.
И ещё.
Семь миллиардов смыслов.
Есть правда кое-что, о чём нельзя говорить, и там ты видишь лишь один смысл —
погибель.
Ты не смотришь в ту сторону, когда твоя семилетняя племянница берёт фигурку, собранную из аквамозаики, крутит в руках и говорит: «Давай я покажу тебе ещё один смысл».
Ты не смотришь туда, но мысленно всегда там. Удерживаешься от погибели, держась за руку любимого ребёнка.
***
E.:
8 марта 2022 года. Один из моих любимых праздников. Я вообще люблю все праздники — и Новый год с пушистой елкой, круглыми конфетами, фейерверками и подарками, и дни рождения — свой и моих близких — за возможность встречи с теми, с кем давненько не встречались, и 8 марта — за окончание зимы, солнышко, выходной, цветы и опять же подарки. В этом году мы уехали от всего — телевизора с его безумными новостями, готовки, стирки, детских игрушек на полу. Уехали отвлечься и почувствовать праздник, весну, насладиться маленькими радостями и понять, что жизнь продолжается и каждый делает то, что может именно он в данной ситуации. Гостиница. Обожаю гостиницы. Не надо убирать постели и готовить завтраки, можно не бродить по квартире, наступая на лего (а это довольно неприятное ощущение), не надо выбирать, что вы оденете (выбор ограничен джинсами и парой футболок). Можно утром не спеша одеться и пойти завтракать. Выбрать в меню спагетти с соусом, блинчики, яичницу из трех яиц или даже банальную кашу (да, и в ресторанах заказывают каши, на мое удивление). Выпить чашечку кофе с булочкой, посмотреть карту, наметить маршрут, потеплее одеться и пойти бродить по небольшому, провинциальному, но такому милому городу. Потрясающий Кремль, подъем на башню, река с глыбами льда, мощеные улочки, ярмарка с цветными варежками, деревянными трещотками, сбитнем и смешными магнитами (какое же путешествие обходится без них). Обед в маленькой кафешке, потрясающий красный торт и молочные конфеты. Поездка к гигантскому памятнику — монументу. Все бегают вокруг и пытаются залезть хотя бы на ногу коня, ведь фотографироваться просто рядом никому не интересно. Закат над разноцветными черепичными крышами. И опять гостиница. Бокал красного вина с кунжутным сыром, вкусный ужин и чудесный фильм «Назад в будущее». Присланное из дома фото — уже появились первые подснежники. Ах, да, и конечно же подарок — роскошная красная туфля (надеюсь, хватит до осени). Я не могу изменить ничего уже случившееся, но могу жить здесь и сейчас, делать то, что должна и могу. И все равно радоваться каждому дню просто потому, что он наступил для меня.
***
D.:
Сегодня я испытываю гнев
Я выхожу на улицу и не вижу разрухи. Я не вижу горя и плачущих людей. Я не вижу матерей, хватающихся за голову, воющих и совершенно не представляющих, как жить дальше. Я не вижу отчаяния. Я не вижу раскаяния.
Мне навстречу идёт мужичок с завернутыми в пластиковый пакет цветами. Этот мужичок так ничтожен и сутул, как будто даже неопрятно одет. Его цветы как повинность, которую он с чувством собачьей преданности и надежды на благословение несёт в этот день какой-нибудь близкой женщине.
Меня злит в этом мужичке совершенно все — от его дремучести и того, что не знает, о чем праздник, до этого ужасного пакета. Но больше всего вызывает гнев, что он живет как раньше.
Его мир не разрушен, планы не сломаны, мечты не попраны, он, кажется, не постарел за эту неделю. Кажется, у него даже настроение хорошее. Мерзавец.
Его человечность его не беспокоит, он бежит с цветами в шуршащем пакете. Его личность не пострадала от причастности ко злу. Невозможно помыслить — такому хрестоматийному злу. Он остался цел. Он идёт с цветами, у него сегодня праздник. Возможно, он выпьет сегодня или сможет заняться любовью.
Но это пока. Скоро и он сломается, его душа разорвется на части, если, конечно, внутри него что-то есть. Он будет раздавлен, побит и опустошён. Он почувствует и на своих руках смерть и боль. Его это уничтожит. По-другому не бывает с теми, кто остается на тёмной стороне.
***
N.:
Обычно это был рисунок.
В центре существо с глазами-плошками и ресницами в пол-лица. Тонкая алая дуга обозначала улыбку. Охапка хвороста на макушке — прическу. И корявенькими разнокалиберными буковками — МАМА внизу. Ну и неизменные атрибуты детского рисунка — травка, солнышко, облака.
Последние двадцать лет среди подарков на 8 марта обязательно был хоть один такой.
Но все когда-то кончается. Время детских рисунков прошло. Моя младшая шестилетняя дочь в творческом порыве сотворила для меня не портрет в лучших традициях примитивизма. Смастерила брошь из фетра.
Я представляю, какой титанический труд проделали эти пальчики, ещё не прокачанные прописями. Представляю, с каким усердием они вырезали, клеили и пришивали бусины на этот шедевр. Предвкушали восторг в моих глазах.
Но будь проклято это страшное время! Дочь не подозревает, что надень я эту брошь, рискую нарваться на штраф, реальный тюремный срок и нападки воинствующих русофилов. Небесно-голубой кружок с одуванчиково-желтым цветочком и сердечком в центре.
— Почему ты выбрала эти цвета? — спрашиваю шестилетнюю Настю. А она смотрит на меня с недоумением, глаза ее округляются, как у персонажа картинки, подаренной на прошлое 8 марта.
— Мам! Как ты не понимаешь?! Голубой — это небо. Желтый — солнышко. Сердечко посередине — это любовь! Эта брошка про любовь!
Солнечный круг, небо вокруг — это поделка девчонки. Она и не подозревает, что окружающие увидят не мир, не любовь. Увидят «вражеский» флаг, увидят провокацию и ненависть. И не удивлюсь, если однажды Роскомнадзор изымет из всех российских палитр небесную лазурь и цвет солнца или запретит любое их сочетание.
Я восторгаюсь этой поделкой. Равно так же, как восторгалась бы красными маками на фоне синего неба и белых облаков.
И так не хочу, чтобы политический символизм ворвался в жизнь наших детей и раздробил их огромный мир на территориальные, национальные и идеологические кусочки, из которых, как ни крути, не складывается мирное небо и яркое солнце.
***
A.:
8 марта 2022 мы с дочкой ходили в «Макдоналдс». Тогда мы еще не знали, что «Макдоналдс» тоже всё.
Дело было, конечно, не в бургерах и коле — я хотела подарить дочке иллюзию привычной мирной жизни. Пусть еще на один день.
Дочке девять. Она веселая, смешливая, дерзкая. А ее радар так чуток к несправедливости, что порой мне страшно, как она будет с ним жить дальше. Жить сейчас. А через десять лет?
Дочке девять. Четыре из них она прожила с пьющим и ненадежным отцом, пусть мало теперь помнит. Но что помнит, то врезалось намертво. Еще год — в подвешенном состоянии, пока я не освоилась на новой работе. И лишь четыре года — в достатке и безопасности.
Дочке девять. 24 февраля по дороге из школы она ревела взахлеб, что не хочет Третьей мировой войны. Что не хочет умирать. Не хочет, чтобы умирали другие.
Пусть лучше плачет из-за закрывшегося «Макдоналдса». Но из-за него она плакать не стала.
И все же один беззаботный день я успела ей подарить.
***
П.:
Нужно выбрать что-то одно, событие, точку поворота (сюжет меняется каждый час, но неумолимо стремится в the end) — а мир вокруг и внутри дробится на мерцающие кристаллы, смутные копии того, что когда-то было единственной реальностью, и на нескладывающиеся — это невозможно сложить! — пазлы перевернутой, как у кошек, перспективы того, куда мы теперь живем.
Расщепление. Мерцание. Зияние. Аут. Шизофрения.
Что выцепить из полотнища дня? Если следовать логике бреда, то да, вот они, эти заметки, которые лягут — если выживем — потом в толстый том воспоминаний. Когда то, что нельзя называть, будет окончено, оплакано и отрефлексировано, когда мы поймем, зачем это было нужно (а если человеческой расе жить дальше, если глобал ворминг и пандемия c нами не справятся и мы будем все-таки жить, то нам придется изобрести объяснение, смысл, какой-то терапевтический нарратив — который однажды, согласно законам человеческой малости, неминуемо станет пособием для подлеца-пропагандиста), тогда я вспомню, как в этом мерцании дня восьмого марта две тысячи двадцать второго меня приветствует из пока тянущейся через впн, как мерседес по мерзлой мартовской целине, сториз приятельницы из благотворительного фонда — любительницы собак, души компании и сердобольной девушки: она салютует Zигхайлем в обрамлении чуть ли не вербовых пушинок, поздравляя одновременно с прощеным воскресеньем (девственное сознание быстро находит место на иконостасе для нового символа, сочленяя подобное с кажущимся подобным). Я вспомню рассказы об очередях, как в Мавзолей (нет, не в Икею, это было на прошлой неделе), а за семенами и саженцами, о гамбургерах на Авито и о том, как двое в ватниках закрашивают строительной краской слова на льду Мойки. А еще о том, как мой муж планирует копать погреб — бункер у нас уже есть, а вот консервы хранить где-то надо.
Это если посмотреть прямиком, не мигая, в бред. На нескладывающиеся пазлы, на рассыпающуюся картину песком, на фантомные боли то ли еще умирающего, то ли уже испускающего миазмы — удобрение будущей жизни…
Если же смотреть на здоровую часть бытия (мы приносим пушистых кроликов из вольера домой и делаем прививки всем семерым одной иглой — экономим — и расцеловываем; едим праздничный торт «Сказка», я его полюбила еще в 1980-х; дочка садится за математику; на тюльпанах играет солнечный свет, они распускаются к жизни, в воду в вазе нужно добавить сахар или специальный порошок; муж просит «обними меня», а сын зажимает в ладошке игрушечный поезд, мой талисман; снег на веранде почти растаял — и все как всегда, только солнечный свет, набирающий силу с каждым днем этой весны, режет глаза), если же смотреть на здоровую часть, на мерцание прежней жизни, пробивающееся сквозь пелену бреда, то… чувствуешь себя больной. Нет больше органа восприятия этого, т а к о г о мира.
И я думаю, что, наверное, подлинное событие дня вчерашнего для меня — это вот это усилие, усилие сверх Я, которое одновременно умирает и наблюдает, дышит и задыхается, мерцает и бдит, помнит и пытается забыть, прощается и надеется. Событие дня вчера — что я не сошла с ума. Окончательно.
Событие дня завтра — я даже не загадываю…
Но если я буду писать — значит, я буду.
***
Э.:
Звонок бабушке я откладывала все эти долгие, бесконечно тянущиеся четырнадцать дней.
Сегодня 8 марта. Надо звонить. Беру телефон, собираюсь с духом.
— Алло, баба Нина, с праздником! С праздником сильных женщин, которые так много выдержали и еще выдержат.
— Да, Машенька, выдержат…
— Как ты?
Вместо ответа — молчание и слезы, горечь которых не заглушают разделяющие нас четыре тысячи километров.
«Не будем обсуждать это по телефону», — пресекла бабушка мою попытку поговорить об этом. В стране, в которой запрещают называть вещи своими именами, ей остаются только слезы. Пока и их не запретили.
Ну что ж. Нельзя так нельзя.
— Отвлекаешься? Рассаду уже посадила? А можешь мне тоже штаны сшить?
— Штаны? Коне-ечно! Ты же знаешь, я легкие шью, хабэшечка. Давай и Коле сошью. Они хорошо проветриваются, мужикам нравятся.
«Хабэшечка». Я улыбаюсь, представляя Колю в штанах в стиле белорусского трикотажа с функцией проветривания яиц.
— Конечно, шей. Ему понравятся.
Лишь бы ты перестала плакать. Лишь бы кончилась [РКН].
***
D.:
ночь. москва. район академический. сижу у себя дома за столом и редактирую статью. я первый автор, а кристоф — второй. есть еще соавторы — йорг, манфред, йоханнес. мы метеорологи. в 2017 году мы все были в арктике, на шпицбергене, и занимались самолетными измерениями. я помню, как манфред, наш самый главный босс, полез на крышу самолета, чтобы протереть стекла датчиков, и порвал джинсы между ног почти во всю длину. потом так в них и сидел на совещании. мне нравится манфред. теперь институт кристофа прервал сотрудничество с российскими институтами, как и институт манфреда, как и все другие немецкие институты. но статью мы опубликовать еще можем. мы ее пишем уже года три, а данные начали обрабатывать еще в 2017-м. и вот почти закончили. это мучительно долго. почему так долго? переезды из квартиры в квартиру, из германии в россию, маленькая дочка, две работы, развод… наука это в любом случае не быстрое занятие. сейчас я еще посижу — до четырех утра — и отправлю кристофу материалы. моя часть работы почти окончена. останется совсем немного. после небольших правок мы подадим статью в журнал и будем ждать ответа от рецензентов. а у меня появятся силы на что-то еще. или не появятся.
***
H.:
Сегодня знакомые сербы прислали слова поддержки. Эх, сербы…. Слова поддержки мне, русской. Вот только я, русская, не могу поддержать других русских. Я против России сейчас. Эх, сербы… Милые мои, помнящие бомбежки НАТО, не любящие Америку, любящие все русское. Эх, Белград, любимый мой, безумный и веселый, с граффити на Дорчоле, с черными свечками разрушенных в 1999 домов, с памятными досками… Нарушилось всякое славянское братство. Так нарушилось, что и ваша поддержка, сербы, не радует. Что вам сказать?
***
E.:
— Уроки-то на завтра все сделаны?
— Еще сочинение писать.
— По Гоголю?
— Нет, Гоголя мы, похоже, не будем проходить. Ирина Викторовна в трансе, урок был непонятно о чем, обсуждали, кто какие книги любит читать. Про это и сочинение задали.
— Как не будете Гоголя проходить?! Вообще Гоголя или только «Вечера на хуторе»?
— Мама, я не знаю! Нам ничего не объяснили!
Слог у Николая Васильевича в «Вечерах», конечно, такой, что нежные язычки детей 21 века заплетаются изрядно. Не помогает даже список украинских слов, заботливо переведенных автором для читателей. Зная это, я сама стала вслух читать эту книгу дочке, а заодно и сыну, пока еще никаких сочинений не пишущему.
Ну что сказать? Через строчку «москаль» предстает ругательством в устах незатейливых хуторян. Только вот и «католик» оказывается там ругательством в не меньшей степени. «А сейчас для них католики, получается, наоборот, хорошие, из Евросоюза», — говорит мне ребенок. И я теряюсь от политизированности моей дочери, ученицы шестого класса. «Понимаешь, Дунечка, Гоголь написал так не потому, что хотел обидеть русских или европейцев. Он писал о том, что знал, и так, как это видел, будучи писателем. Эти и смешные, и страшные рассказы — не про политику и вражду, не про агитацию и пропаганду. Посмотри, как он посмеивается над своими персонажами, но и любуется ими как!»
Никогда великому русскому писателю Н. В. Гоголю не перестать быть украинцем (малороссом, как он, наверное, сам себя называл). А надо ли? Или его попросят прикинуться политкорректным? И больше не будут дети читать про запорожца Тараса Бульбу и учить его страстную речь про русскую землю и русскую душу?
Надеюсь, замешательство Ирины Викторовны будет недолгим. Ведь именно сейчас так важно вспомнить о том, что одно лишь искусство стоит выше политики, существует помимо экономических кризисов и уж точно не имеет национальностей.
***
A.:
Новый 1920, или
Об очередном русском исходе
/дневниковое/
Где-то на пятый день вынужденной эмиграции стала выползать не только из-под одеяла в ближайшую аптеку, магазин, кафе, но и решилась найти русских в Стамбуле.
Понятно, русскоговорящих незнакомцев на улицах день ото дня больше.
Зарубка на память, отдельное, новое явление: глаз встречается со странным, неприязненно-отстранённым чувством в глазах соотечественников, из встречного взгляда веет не то чтобы холодом, а мгновенной отстранённостью, поэтому губы не успевают сложиться в улыбке. Что это? Горько и больно. Ведь здесь оказались не те, кто поддерживают безумие. Те — остались. Что это? Пока не разобралась. И дело точно не в привычной атомизации XXI века. Тут что-то другое. Вдвойне неприятно потому, что на вид это явно свои люди: в основном такие лица, какие можно было встретить на маршах памяти Немцова, например. Как говорили, красивые лица. Но все по отдельности бродят, либо своими маленькими группками. Наверное, просто все в растерянности.
Я всё время, всё время вспоминаю «Бег»…
Да, много тех, кто на улицах шарахается от своих или смотрит сквозь них, но есть и те, кого я сама нашла и узнала. (Хотя, может, если бы не адресное знакомство, они точно также бы взглянули).
Нахожу в fb стамбульского экспата, ученицу Гусейнова, договариваюсь о встрече, а она сразу зовёт в гости. Проплутав по улицам без навигатора, по старинке спрашивая у прохожих (мне в принципе всегда это больше навигатора нравилось), дохожу до нужного дома. Думала, как обычно, идя в гости впервые: познакомимся, побеседуем, может, завяжется дружба. То есть, я рассуждала как в мирное время. Не тут-то было.
У Лизы дома — штаб. Только что прибывшая семья из Петербурга, прибывшая чуть ранее москвичка Наташа, сама Лиза всё время в телефоне, сразу ко мне: есть ли кто-нибудь, кто может принять семью из Сум, которая едет во Львов? Да, конечно, я тотчас пишу другу-киевлянину, который в эти дни волонтёрит во Львове. После обмениваемся несколькими репликами о происходящем. Опять ей звонят: кто-то из русских беженцев уже занялся оформлением документов в Турции, то есть остаётся здесь. (Для многих других Стамбул всё-таки перевалочный пункт). Потом она говорит внезапно: «Насть, третьи сутки сплю по два часа, а сейчас дети придут из школы, я посплю хоть чуть, а ты иди к моим гостям».
…Я выхожу на улицу покурить. Я больше не вернусь к Лизе, Стамбул был моим временным пристанищем. Но я желаю ей сил, как можно больше.
***
A.:
08.03
Мы стояли на краю Оки. Берег перестаёт быть собой, когда река во льду: непонятно, где вода начинается, а где заканчивается. Но уже весна, уже не сплошное пространство снега. Уже если наклониться совсем близко к кромке льда, можно увидеть подо льдом воду. Не постоянную, а то и дело подбегающую… к чему? Видимо, эту границу я могу назвать кромкой берега. Это не совсем так, много льда просто на песке, но ведь и ничем не скованная живая вода очень хитро работает с границами.
На середине реки лежали куски льда разного размера, а ещё гигантский кусок древесины, из которого получилось бы четыре-пять больших брёвен.
Папа удивился льдинам на льду.
— Может, кидал кто?
— Ну как-то слишком далеко они.
Решили проверить: папа, муж, дочка, я.
Несколько свободных льдинок лежали на песке. Мы бросали их то вертикально вниз, то кто дальше, то с корточек пускали, как блинчики по воде.
Льдинки скользили по поверхности с удивительно аккуратным и радостным шуршанием, все дальше и дальше от точки, где они соприкоснулись с замёрзшей рекой. Уже не опрятней модного паркета, но речка все ещё восхитительна в своей гладкой броне.
Мы никак не могли уйти, перестать бросать наши стеклянные камни. Вспомнилась Олимпиада и кёрлинг — сразу понимаешь, как его когда-то придумали. И пугающее официозное закрытие Олимпиады, и следующие за ним три дня.
Как странно одновременно думать о катающихся на коньках фламандцах, которые тоже могли играть в льдышки на своих реках, которые очень давно не покрываются льдом. И об изобретении смешного вида спорта, и о том, как хорошо стать глупее и веселее и просто играть в льдинки — для этого не нужен Эппл стор, Гугл, ИКЕА. Вот оно все здесь. Но для этого нужен дом, за который нужно платить. И одновременно с каждой бросаемой льдинкой пытаться выразить весь огромный, не имеющий права вырваться (по новому законодательству) гнев, всю злость. И при всем этом смотреть на то, как твоя льдинка скользит по поверхности реки и летит все дальше и дальше, несмотря на то, что от удара откололись края, несмотря на то, что она тает. И всё-таки летит, всё-таки живая.
Время разбрасывать льдинки.
***
L.:
— Господи, ну пожалуйста, выпусти их. Умоляю. — Я мысленно крутила эту фразу, пока дочка и Сашина мама проходили паспортный контроль и таможню. Время шло очень медленно, минуты тянулись, как плавленный сыр на горячем бутерброде, и было ощущение, что ты находишься в каком-то другом измерении. Я прокручивала в голове всякие сценарии.
— Не волнуйся, если что, завтра за ними вылечу, — произнес Саша, держа меня за руку.
— Слушай, нет, я не останусь тут, в незнакомой стране, непонятно где, с тремя детьми, а если и тебя потом не выпустят, что мне делать? — От панического ужаса я чувствовала, как маленькие пузырьки лопаются с треском у меня в голове: «Ну почему они не звонят?» Параллельно изводила другая мысль: «Что сейчас у Вероники, представляю, как они вывозили своих детей из Киева, это мрак, когда добровольно надо разлучаться с семьей с детьми», слезы подступили к горлу… «Почему так? Ради чего все это? Ведь мирные люди: дети в школу, взрослые булочки пекут». Звон эсэмэски вывел меня из оцепенения: «Мы прошли» — появилось на экране телефона… Почему-то в ответ нет радости, вместе нее какая-то бездонная серая тоска залила все внутри…
***
X.:
Миша сидит один в коридоре перед кабинетом. Его всегда приводят на полчаса раньше, и он ожидает нашей встречи в одиночестве. У Миши недавно случился второй в его жизни психотический эпизод. После изменения дозировки препаратов он чувствует себя лучше, но иногда не может понять, где реальность, а где — продукт его психики.
Мишина мама из Киева, а папа из Новосибирска. Познакомились они здесь, в Израиле, после репатриации. Сейчас они разводятся — громко, со скандалами. Миша каждый раз по-новому пытается объяснить мне (и самому себе, конечно же), что происходит между родителями. Иногда его доводы звучат очень логично, иногда — путано и странно. «Это потому, что папа не моет посуду». «Это потому, что мама часто ругается». «Все из-за того, что я болею».
На прошлой неделе два события сплелись для него воедино — он как-то связал для себя развод и начавшуюся [РКН]. Иногда его мозг цепляется за случайные совпадения и устанавливает между ними мостик. «Папа из России, а мама — украинка, потому они не могут быть вместе».
Мише не хватает критичности, он обычно просто соглашается с новым всплывшим в его сознании объяснением, и даже мой комментарий, что разводиться родители решили задолго до [РКН], у него не вызывает вопросов. В то же время эта случайная Мишина ассоциация даёт мне понять, как моему юному пациенту видится семейный конфликт — эта ежедневная война для него ощутимее, чем то, что он слышит про Россию-Украину.
Мише тринадцать, но он выглядит на восемь. Размышления его иногда тоже больше напоминают восьмилетнего второклассника, нежели подростка. На нем белая форменная школьная футболка, в руках он крутит цветной кубик Рубика. Он поднимает голову и неловко улыбается мне. Не переставая щелкать кубиком, Миша заходит в кабинет.
— Ух ты, как быстро у тебя получается!
— Это очень просто, надо всего лишь знать алгоритм. Я тебя научу.
И Миша учит меня алгоритму, ловко вращая оси. Он очень хорошо объясняет, но я не могу запомнить последовательность и теряюсь. Это уже не первое в моей жизни объяснение секретов Рубика, но у меня все равно не получается. Еще и в новостную ленту залезла до сессии вместо того, чтобы отдохнуть и переключиться. Теперь желто-синие и красные квадратики складываются во флаги, которые страшно смешивать. Надо просто знать алгоритмы — щелкает Миша.
Я думаю о том, что обычно Миша чего-то не понимает, а я пытаюсь сделать для него этот мир чуть более объяснимым. Миша рассказывает мне истории и ждёт моих вопросов — иногда они помогают понять, что случилось по-настоящему, а что — лишь в его голове. Часто «навести порядок» не удаётся — как с разводом, например. Щёлк. Сегодня у меня самой внутри — поле военных действий. Я знаю, что есть вещи, которые здоровой логикой объяснить невозможно. Щёлк.
Миша учит меня — это точно важное для него переживание: уметь объяснить что-то другому. Быть не только тем, кто запутался, но и тем, кто знает и умеет. Щёлк.
Я думаю о том, что это очень приятная и успокаивающая роль — объяснять. Я бы объяснила всем, что [РКН] — плохо, чей это на самом деле заговор и кому все это нужно. Я бы научила, какая позиция верна. Щёлк.
— Надо просто запомнить алгоритмы, и тогда все получится. Я посмотрел видео на ютьюбе пару раз, и теперь у меня всегда получается собрать кубик.
Я грустно улыбаюсь про себя — он так нуждается в алгоритмах, которые помогли бы ему собрать себя, свои отрывки восприятия мира, свою семью… Поэтому Мише так нравится играть с кубиком Рубика: как бы ты ни перепутал разноцветные квадратики, зная алгоритмы, ты сможешь вернуть все к порядку. Щёлк.
Маленький мир в твоих руках, который ты можешь контролировать. Щёлк — и нет психотических приступов. Щёлк — и тебе не снятся кошмары, смешивающиеся с реальностью. Щёлк — и родители снова любят друг друга.
Миша передаёт мне кубик и внимательно следит, чтобы я все делала правильно. Он поправляет меня, если я запуталась. Щёлк — на желтой грани не остаётся других цветов. Щёлк — и нет споров о том, что есть хорошо, а что — плохо. Щёлк — и нет коллективного психоза. Нет ссорящихся близких. Нет задержанных на митингах. Нет фейков.
Щёлк, щёлк — и нет убитых. И нет [РКН].
***
Y.:
8 марта мы кормили чаек.
В этом безумии последних дней, когда у одного народа рушился мир, а у другого — разрывалось сердце, я понимала, что как раньше уже не будет никогда.
Будет по другому, какое-то время будет очень плохо, потом очень трудно, потом маятник качнется обратно, но моя единственная жизнь и жизнь моих детей уже неумолимо унесется вперед. И в том, возможно, светлом и мирном будущем, когда все восстановится, я буду, например, пожилой тетей с больными коленками.
Если я в принципе буду.
А дети мои так и не были в настоящем парке аттракционов.
Не жили в отделе, не знают, что такое «завтрак включен», не умеют кататься на автодроме, том самом автодроме, который, конечно, совковый, скучный и бедный, но такой азартный и такой детский…
Я купила билеты в отель и входные билеты в парк, чтобы провести с детьми три дня в отпуске посреди катастрофы.
8-го марта с утра шел дождь, я продлила номер и уснула.
Отельное теплое ламповое телевизорное пространство, наполненное мультфильмами, детьми и чаем, было настоящей терапией. Горячей ванной для души.
А потом дождь резко кончился, солнце выглянуло, и мы срочно до поезда побежали на набережную.
Сын мой, трогательный умный мальчик, вечный хулиган и общественный изгой, впервые увидел чаек и кинулся к ним с остатками крошек. Чайки покружили и улетели, но я все-таки успела сделать кадр…
Зато налетели голуби и воробьи.
Он протянул руку.
На нее осторожно присел один голубь, а потом, потолкавшись, — второй…
Он робко вытянул другую руку.
И вот стоит мой ребенок — с раскинутыми руками, на которых сидят голуби, у его ног толпятся голуби потрусливее, где-то летают чайки, мое сердце разгромлено, и если я не плачу, то только потому, что отец приучил меня терпеть, несмотря ни на что…
Стоит в этом безумном мире мой ребенок со своими голубями, приучая их к рукам, наслаждаясь этим новым опытом… С настоящим, чистым, искрящимся детским восторгом…
Два часа летели, я читала новости, дочь собирала камушки, ветер дул, люди гуляли, мимозу продавали, море отражало серое небо, а нежнейшая душа узнала, наконец, каково это — зажмурившись, управлять миром голубей, когда морской воздух бьет в лицо, и мама рядом, и вообще не страшно, и все по-настоящему, до самой макушки — хорошо…
А у меня есть кадр с чайками и сыном. И заваленным горизонтом.
***
B.:
Какие бывают счастливые люди! Те, кто может про себя сказать что-то определенное и не поперхнуться. Кто ты — режиссер-авангардист, популяризатор сирийских хомячков, старший научный сотрудник института мозга, борец за права геев, писатель-испытатель, исследователь измененных состояний?..
Мне хочется сказать: я никто. Но это неправда, я еще только мечтаю стать никем. А пока у меня в трудовой указано «специалист по связям с общественностью», хотя эти слова не имеют никакого значения. После бестолковых двух высших я учусь на арт-терапевта, но это почти неправда. Потому что я ни черта не понимаю и не умею, и вряд ли доучусь. Бывшая жена, будущая жена. Мать ребенка, от которого я не в восторге и вообще предпочитаю побольше на нем экономить и мечтать о том, что когда-нибудь он наконец вырастет. Могла бы быть красавицей, но не сильно старалась для этого. Что-то писала, иногда чаще, чем сейчас, но меня не печатали, так что за ненадобностью почти прекратила. Что-то рисую, но толком нигде не училась, и потому вечный дилетант. Говорю только по-русски, и это роковой минус сейчас, когда страна, в которой я живу, оказалась сравнима для многих (не для меня) с фашистской Германией.
Мне не стыдно за эту страну, мне не стыдно за то, что я говорю и пишу по-русски, потому как я никогда не испытывала сладостного чувства слияния с местом. Я — отдельно, страна тоже где-то отдельно. Меня просто угораздило здесь родиться, поэтому у меня никогда не будет пособия и я могу рассчитывать только на неубиваемый инстинкт выживания в условиях тотальной дикости, нищеты и холода. Мне всегда здесь холодно, и у меня нет возможности свалить туда, где я могла бы быть счастлива. Мне кажется, что русские люди (то есть те, кого, как и меня, тоже угораздило родиться в России) имеют в качестве видового признака отсутствие стремления к личному счастью ввиду его невозможности в данных условиях. Как-нибудь дожить, пережить, превозмочь, перетерпеть. Интересно, заполнены ли сейчас храмы? Ведь что, как не православие, толкает нас в эту тягучую трясину смирения. А сейчас время смирения и терпения. Преодоление невозможности терпеть дальше. Когда-нибудь нам всем будет хорошо. А если не будет, то уже некому будет предъявить претензии. Значит, сам виноват — недостаточно смиренно терпел.
— Мне кажется, что это сон, и однажды мы все проснемся в привычной реальности.
— Тебе не кажется, это и есть сон, и смерть принесет пробуждение.
Но я пока не могу думать о смерти, это уж слишком. Я просто жду, когда все закончится. Я ничего не могу изменить, кроме отношения к происходящему. Но я пока не хочу менять это отношение, может, когда-то потом.
***
K.:
*зажмурить глаза, вдох-выдох — и открыть их в небо, серенькое, с голубыми проталинами*
Мы идем друг за дружкой по кладбищу в Переделкине. Иногда я беру тебя за руку, иногда ты поддерживаешь меня за локоть, иногда невольно я опускаю и сразу отрываю варежку от ржавой ограды с маленькими, но острыми пиками. Держим равновесие.
Под ногами скользкий, подтаивающий местами, ноздреватый лед, черными штрихами на нем маленькие шишки, палочки, пятнышки черной уже весенней грязи.
Шумит внизу дорога.
Мы пытаемся отыскать могилу Пастернака, потом я вспоминаю (воспоминание, как потом оказывается — ложное), что Пастернак ведь на Пер-Лашез, в Париже. Вспоминаем, что Чуковский тоже где-то здесь. В сущности, важно не это, а то, как тут тихо, и кругом, всё кругом лица, что-то знающие, с насупленными бровями и поджатыми губами, молодые и старые, очень разные. Люди, прожившие очень разное количество лет: кто-то умер в тридцать один (лицо усатое, как будто сильно старше), кто-то прожил долгую-долгую жизнь, пережил войну, кто-то даже обе — и первую и вторую.
В Переделкине очень много сосен.
Сосны красивы. Они устремляются вверх рыжими стволами с нежной, согретой мартовским солнцем кожей-корой, кроны, ветви прихотливо раскидываются. Прекрасные сезанновские формы, небо вплетается в кроны. Красиво и покойно. Но это только кажется. Нервное равновесие — снова я чуть не поскальзываюсь и хватаю твою руку, уводя взгляд от облаков.