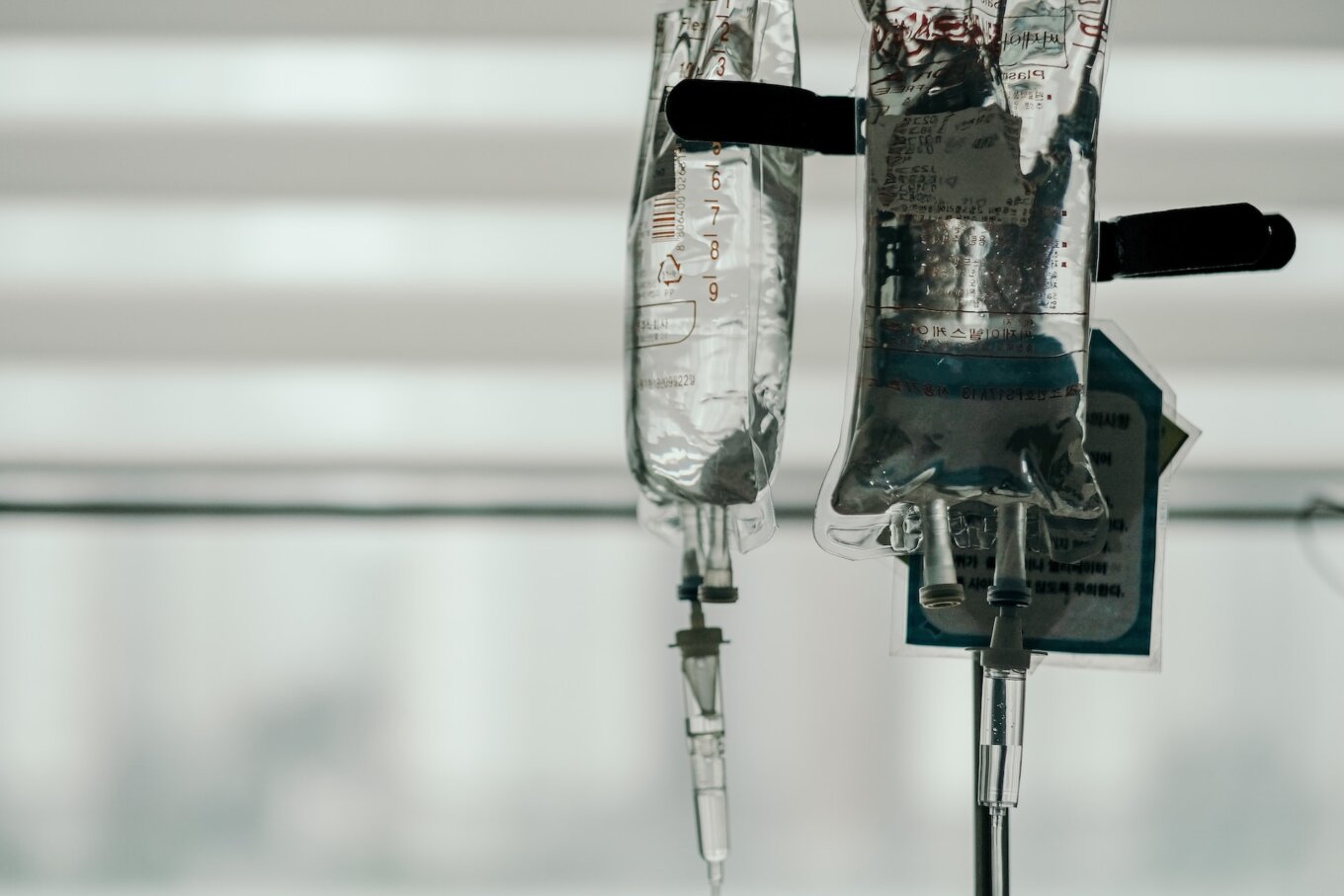Преподавательницу литературы Нину Петровну коллеги звали «Нинкой-цитатником» за несносную привычку отвечать на вопросы или что-то комментировать при помощи стихотворных и прозаических строк — к месту или не к месту. «Чтоб воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться и день и ночь», — сообщала Нина, выводя «парашу» в дневнике подростка, изнывающего от желания врезать по сухонькому пучку волос, стиснутому оранжевой заколкой-крабиком; или «Не спи, не спи художник, не предавайся сну, ты вечности заложник у времени в плену», — поторапливала училка сонную буфетчицу в столовой. И когда врачи «скорой» забирали литераторшу с гипертоническим кризом, та успела прошептать взволнованному завучу, которая провожала её до машины: «Их, похоже, штербе…», но никто из окружающих в тот момент не оценил ни цитаты, ни явленного при стрессовой ситуации чувства юмора.
Нину Петровну отвезли в ближайшую больницу, располагавшуюся в районе Швивой горки на территории бывшей усадьбы промышленника и благотворителя Баташева, несколько часов продержали в приемном покое, сделали укол и отвезли в кресле-каталке на этаж терапевтического отделения. Палаты были забиты, поэтому Нине пришлось удовольствоваться койкой в коридоре: они стояли по шесть в ряд возле стен и почти все тоже были заняты. Первую ночь Нина провела в полузабытьи, крепко заснув только под утро.
Сперва возник запах — едкий, едва переносимый, концентрированный, смутно знакомый. Нина уловила какое-то движение и вдруг почувствовала, что кто-то наклонился очень близко к её лицу, чужое жёсткое дыхание коснулось щёк и лба. Глаза открывать было страшно, с одной стороны, с другой Нина понимала, что нужно срочно оценить степень опасности, и все-таки сквозь ресницы решилась посмотреть. «Страшного я увидел “парикмахера”», — мгновенно подбросила услужливая память цитату из рассказа любимого писателя Коваля про «Картофельную собаку»: там герою снилось, будто парикмахер слишком усердно намыливает ему щеки, а открыв глаза, он увидел над собой черную лохматую собачью морду. Нину же разглядывало существо, чей облик тоже немедленно напомнил ей нечто литературное, а именно описание уэллсовских морлоков — в рассветном сумраке кожа пялящегося на неё человека выглядела бледно-серой, лицо было почти лишено подбородка, Нина увидела и запекшиеся уголки узкогубого рта, и глаза — очень большие, с воспаленными веками и редкими короткими белесыми ресницами, а голова была как бы приплюснутой сверху и совершенно лысой. Инстинктивно зажмурившись, Нина тем самым выдала себя, и существо расхохоталось:
— Ыы, не спишь, а не спишь! Курить есть?
Нина заставила себя посмотреть в упор на нависающую над ней личность. При ближайшем рассмотрении та оказалась женщиной неопределенного возраста в казенной ночной рубашке. Она улыбалась, являя абсолютно беззубые розовые дёсны. «Какой-то старый младенец», — подумала Нина и слабо махнула руками возле лица, отгоняя «младенца»:
— Нету, не курю, отодвиньтесь, пожалуйста!
— Тож мне, всосатова пипиндросина, из п…ды на лыжах вылезла, — ворчливо отозвалась фигура в рубашке, — фубля, где ж курева-то взять, эх…
Женщина плюхнулась на соседнюю кровать и сидела, болтая голыми ногами. Нина Петровна успела разглядеть темные подошвы и грубые багровые пальцы с кошмарными крошащимися ногтями. Соседка зевала и почёсывалась. Нина краем глаза на всякий случай следила за ней и вскоре услышала шаги по коридору — ночные дежурные сестры начинали новый день в отделении. Койка соседки находилась с краю, и она ухватила за полу белого халата пробегавшую мимо девушку:
— Сестра, слышь, сестра, курить есть, курить дай!
— Щас прям, — брезгливо выдирая халат из цепких пальцев женщины, огрызнулась медсестра, — ляг, не мешай, бомжара паршивая!
Тут у Нины сложился пазл: и запах, и вид соседки действительно означал только одно — рядом с Ниной находилась самая настоящая бомжиха. На дворе стоял декабрь 99-го года, страна готовилась к очередным выборам, и вышло какое-то распоряжение от властей — очистить к 19-му числу город от бездомных, часть из них с улиц попадала прямиком в больницы, куда при других обстоятельствах их бы не взяли как минимум без проломленной головы. Видимо, лысую гражданку привезли уже позже Нины, ночью, потому что постепенно просыпающиеся женщины, лежавшие рядом в коридоре, дружно заблажили — ой, уберите эту отсюда, она воняет, небось вшивая, точно заразная, почему мы должны и т. д. Особенно надрывалась полная одышливая дама с наверченным на голове вафельным полотенцем, конец которого с лиловой печатью все время падал ей на лицо. Бездомная не спеша встала с кровати и танцующей походочкой двинулась в сторону дамы, подойдя вплотную, подпрыгнула с криком «кийя!» — и пнула слёту даму черной пяткой по заднице. Тётка сипела, квакая ртом, другие же орали: «Милицию! Да что ж это делается такое!» Лысая бомжиха подмигнула замершей Нине:
— Заклюй ближнего — насри на нижнего! Я, бля, Брюс Ли по паспорту. — После чего сильно закашлялась, ссутулилась, еле добрела до своей койки и легла, повернувшись тощим задом к аудитории.
Каждое утро врачи обещали перевести Нину в палату, но всякий раз оказывалось, что есть кто-то более немощный, пожилой или просто настырный, таким образом, большинство из «коридорных» вскоре рассосалось по комнатам. Предпенсионная Нина Петровна же была человеком кротким и качать права не умела, посему все десять дней пребывания в клинике была вынуждена наблюдать свою бездомную соседку и терпеть её выходки. На вопросы врачей и медсестёр, как её зовут, бомжиха царственным движением протягивала руку как бы для поцелуя и сообщала: «Сопля Михална» или «Иришка — от п…зды задвижка». Документов у неё, разумеется, не было никаких, и врачи крыли «скорую», и власти, и вообще всех, благодаря кому они теперь были обязаны возиться с отвратительной бабой. На третий день с момента поступления она пожелтела вплоть до белков глаз и радостно хихикала, разглядывая себя в зеркале над умывальником. Нина же вполуха уловила из врачебных переговоров слово «цирроз» и посматривала на соседку с брезгливой жалостью, и при первой же возможности переехала от бомжихи на самую дальнюю кровать. В коридоре они оставались вдвоём.
Лечащим врачом у обеих оказалась совсем юная барышня, работавшая едва пару месяцев. Нину кое-как обследовали, гоняли с этажа на этаж к разным специалистам, ставили капельницы, по десять раз на дню мерили давление, которое никак не желало спадать до приличных цифр. К бездомной же докторша близко старалась не подходить и небрежно задавала вопросы о том, когда она последний раз пила и чем обычно питается. Бомжиха в ответ весело скалилась и выдавала какую-нибудь очередную матерную прибаутку, обилию и разнообразию которых филолог Нина Петровна внутренне изумлялась и искренне восхищалась этому неиссякающему фонтану. Визит пожилого усатого гепатолога, похожего на белогвардейского генерала, хулиганка отметила восторженным свистом: «Ой, усики — пропуск в трусики!», запивая таблетки, провозглашала: «За нас, за вас и за Кавказ!»; предложение навестить проктолога одобрила рассудительной фразой: «Лишний х…й в жопе не лишний!»; ежевечерний укол сопровождала словами «Я готова, дочь Попова, можно замуж выдавать!» — и так до бесконечности. Когда женщина не хотела чего-то делать, резко мотала головой — «Фыр-мыр!», а Нинино внимание привлекала добродушным: «Слы, очки!»
Нина Петровна мысленно окрестила соседку Дурочкой — по ассоциации с фильмом Тарковского всплыл в голове образ юродивой и одновременно с ним — частушки скомороха-Быкова. Ночами Дурочка вдруг резко подымалась с кровати, подбегала к Нининой койке и начинала, захлебываясь, лепетать нечто невнятное. Нина делала вид, что спит, и Дурочка, постояв, вздыхала и возвращалась к себе. Но иной раз ей не спалось, и тогда она отправлялась «на дело» — то соберет по всем женским палатам тапочки и свалит их горой возле сестринского поста, то просто пугала кого-нибудь, тащившегося в сортир, выскакивая навстречу из кабинки. Навестила раз мужскую палату — шарила по тумбочкам, за что крепко получила по шее и больше не отваживалась на такие подвиги. А иногда бездомная тоненько, беспрерывно хныкала во сне, и как-то раздраженная ноющими звуками Нина Петровна, подойдя, увидела, как текут по старческо-младенческому лицу мелкие мутные слезы.
Нина пыталась заговаривать с бомжихой, расспрашивать её о жизни, но никогда не получала внятных ответов, да и не всегда было ясно, насколько чётко Дурочка понимает, о чем ей говорят. Представления об этой низшей, опасной и асоциальной прослойке общества у Нины Петровны были не очень внятные. Ну, в переходах в центре всегда ощущался тошный запах немытых тел, мочи, перегара и гниющих ран, ну, по телевизору иной раз твердили что-то про «милосердие», или то вдруг в газете попадался очерк о том, что ни в коем случае нельзя подавать цыганкам со спящими младенцами, потому что младенцы эти краденые и накачаны наркотиками, чтобы все время спали, долго не живут, умирают, и их тут же заменяют другими. Нина когда-то для себя решила, что будет подавать милостыню только опрятным бедным старушкам, особенно её пронзила надпись на картонке у одной такой тихой бабули: «Помогите на хлеб бывшей учительнице, стаж 38 лет». Но из той же статьи она узнала, что и старушки могут быть не просто так — это часть мафии попрошаек, и про «бывшую учительницу» скорей всего враньё, после чего старалась быстрым шагом проходить вообще мимо всех просящих и бомжующих, подозревая их в профессионализме. Потому речи Нины Петровны в адрес Дурочки были в основном назидательно-вопросительными, мол, как же ты дошла до жизни такой, на что бездомная или фыркала, или отмалчивалась, пока в очередной раз не получила втык от Нины за то, что размазала еду по подносу — Дурочка скидывала второе в суп и туда же выливала компот, так что месиво выходило из берегов тарелки, жадно ложкой хлебала беззубым ртом, смотреть на это было противно, о чем учительница и сообщила бомжихе. Дурочка доела всё с подноса, вытерла кусочком хлеба тарелку и вдруг со всей силы швырнула ей в сторону Нины, проорав при этом:
Поступила в институт
Имени Мичурина.
Так и знала – отъ…т,
Просто сердцем чуяла!
Больше Нина Петровна не пыталась делать попыток воспитывать бездомную. Приходившая навестить коллега была в ужасе от этого соседства и просила у сестер спирта, чтобы продезинфицировать Нинину кровать и тумбочку. Словоохотливая медсестра спирту не дала, но сообщила, чтоб они не дёргались — через пару дней отойдет бомжиха, не жилец. Нина удивилась — Дурочка была, конечно, человеком совсем не здоровым, но и не выглядела умирающей. Пожилая преподавательница биологии, уходя, сказала Дурочке: «До свиданья, поправляйтесь…», на что та буркнула в своей манере: «Целую в плечи — до скорой встречи».
Эта же коллега принесла по Нининой просьбе книгу Жюльетты Бенцони «Марианна», очередной том о приключениях юной Марианны д’Ассельна де Вилленев — Нина Петровна считала, что в больничных условиях даже образованному интеллигентному человеку не стыдно развлечь себя легким чтивом. Устроившись на банкетке возле окна, она погрузилась в наполеоновскую эпоху, отмечая профессиональным глазом досадные опечатки в дешевом издании, и вдруг обнаружила рядом с собой Дурочку, на лице которой внезапно цвела не идиотская и не глумливая улыбка — улыбалась робко и тянула пальцы к томику в зеленой обложке:
— Гля… Марианна… это ж я!
— В каком смысле — «я»? — строго спросила Нина Петровна, убирая книгу за спину.
— Ну это… Марианна я. Ну. Ну имя такое… моё имя это. Слы, очки, дай подержать-то, ну дай… книжка-то — как про меня называется…
Нина протянула внезапно обретшей человеческое имя Дурочке книгу. Та приняла её бережно, провела пальцем по корешку, вдруг прижала к лицу и, прикрыв безбровые опухшие веки, с силой вдохнула запах, посидела так с полминуты и положила раскрытый роман вверх страницами Нине на колени. Потом быстрым движением поймала пролетавшую муху, поднесла кулак к носу, потрясла и радостно завопила:
— Муха — наложит в ухо!…
Накануне выписки Нина попросила подругу съездить к ней домой и привезти кое-какие вещи.
— Вот, — сказала она, садясь на край Дурочкиной кровати, — я завтра ухожу, а это тебе — ты уж больше недели в одном исподнем, грязное всё, фу! Держи вот — костюм спортивный, бельё, носки, майка, кеды мои — у тебя нога-то небольшая, точно влезешь, они разношенные. Слушай-ка, королевишна, помогу тебе одеться, снимай эту гадость…
Бездомная внимательно смотрела Нине Петровне в лицо, пока та, пыхтя, натягивала на неё штаны и пыталась застегнуть олимпийку. Нина же в очередной раз про себя ужаснулась яркой желтизне тела Дурочки, ее кривым торчащим рёбрышкам и выпирающим тазовым костям, большому следу от ожога на плече, синякам всех цветов радуги. «И ни одной наколки! Не сидела, значит», — успела подумать, шнуруя на бомжихе свои любимые старые кеды.
— Обедать, девочки! — явилась раздатчица со своим столом на колёсиках, уставленным гигантскими алюминиевыми кастрюлями, глубокими подносами со слипшимися биточками и чайниками с отваром шиповника, на которых широкими мазками коричневой краски были написаны какие-то аббревиатуры и цифры. — Давайте живее, ползёте мне тут!
Нина села к Дурочке спиной, чтобы поесть спокойно и не видеть, как та в очередной раз сольет всю еду в одну тарелку. Обернулась на громкое восклицание несущей грязную посуду в столовую женщины — и увидела то, что увидела. Голова Дурочки лежала на правой щеке на подносе, в одной руке она сжимала белую горбушку, а другую тянула в сторону Нины.
— Отмучилась бомжара-то наша, — с сердечной интонацией сказала дежурная нянечка, накрывая простынёй тело, — и откуда ж у ней шмотьё-то взялось?..
Уходя на следующий день домой, Нина получила на руки выписку, уже у лифта её нагнала сестричка и сунула в руки тоненькую пачку сколотых степлером листов:
— Пожалуйста, занесите в морг, мимо всё равно ж пойдёте, — и убежала.
Нина смотрела в историю болезни Дурочки: «Неизвестная, 40-55 лет, без определенного места жительства, документы отсутствуют».
Маленькое здание морга было завалено снегом. Нина толкнула тяжеленную дверь и вошла внутрь, в нос ей шибанул густой уютный запах свежей хвои. «Откуда тут ёлки?.. Синяя ёлка, малиновый ствол… А-а, это, наверное, венки! И Новый год уже скоро, — вспомнила Нина, — первый запах нового года…» Безмолвный медбрат поднял на неё глаза, увидел протянутые бумаги, кивнул и взял их. Нина направилась к выходу и вдруг быстрыми шагами вернулась:
— Молодой человек! Можно вас… дайте, пожалуйста… У вас есть ручка?
Получив ручку, Нина зачеркнула слово «Неизвестная» и сверху большими печатными буквами написала: МАРИАННА.