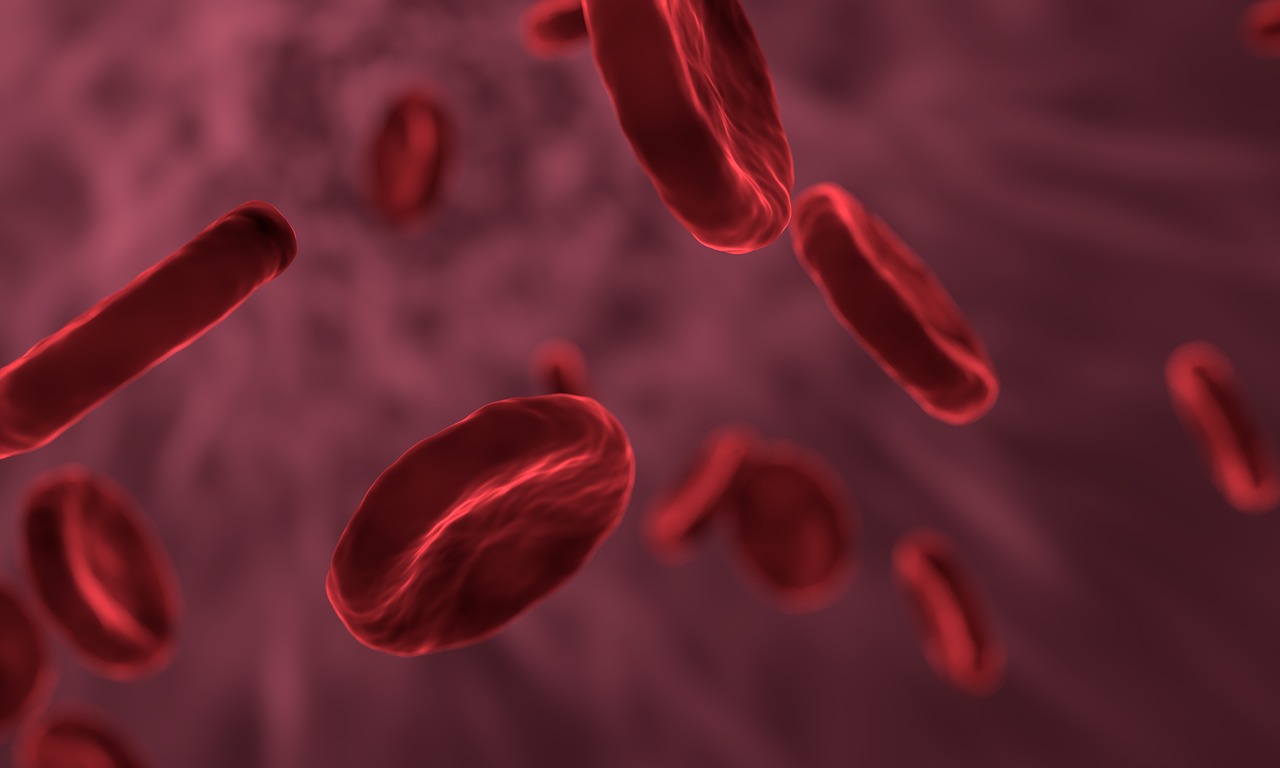Треснул школьный звонок.
Я ругнулась сквозь зубы и осела на край стула. Платков в портфеле не оказалось, а до туалета я уже не успевала. Ближайшие сорок пять минут буду дышать ртом, как карась.
Рядом Семков рылся в полупустой сумке. Руку он запускал внутрь чуть ли не по локоть и тщательно шарил ладонью в мягком зёве. Поочередно выуживал то исхудалую тетрадь, беспощадно растерзанную на листы, то ручку с изжёванным колпачком. Последним Семков извлек транспортир. На кой ему транспортир на биологии, я решительно не понимала.
Взгляд Семкова, направленный на мою половину парты, зацепился за учебник. Спустя мгновение Семков снова полез в сумку. Теперь он запустил уже обе руки и, казалось, вот-вот заберется туда с головой. Отчаянные попытки показать мне, что учебник там точно должен быть. Но куда-то запропастился. Семков, чуть более взъерошенный, чем обычно, уставился на меня. Я ухмыльнулась: глупо искать в сумке то, чего там не было.
Семков решительно сдвинул книгу на середину стола.
— Сегодня по твоему заниматься будем. Я свой забыл, кажется.
Я хмыкнула в ответ и отвернулась. Ну конечно же.
Семков понятия не имел, где его учебник. И мы оба знали об этом. Он раздраженно выдохнул. В конце года он возьмет у матери двести рублей — оплатить штраф в библиотеке, и дело с концом.
Биологички еще нет. Зависшую в классе тишину стремительно сменяла болтовня.
На пыльном подоконнике — нехитрые три буквы и иллюстрация из кружков и овала, чтобы было понятно наверняка. Деревянные рамы законопачены поролоном и малярным скотчем. Местами он отошел от белой масляной краски и болтается игривыми лентами. Духота.
Я шумно втянула воздух через заложенный нос. Медленными наслоениями сопли поползли по глотке. Семков с отвращением посмотрел на меня.
— Слышь, сопливая…
В ответ меня скривило от вида его серых манжет и грязных рук. Пальцы в заусенцах и мелких кровоточащих ранках, а ногти обкусаны. Лицо смугловатое, нелепо смазанное пубертатом, казалось перепачканным. Губы в крупных заветренных трещинах. Поганый рот чавкает жвачкой.
— Отвали, урод.
Время половина первого. Я беспокойно заёрзала на стуле. Уже сейчас.
Ирина Валентиновна вплыла в кабинет под шорох многослойной юбки в складку. На шее биологички сверкало бижутерное колье из крупных звеньев. Она величаво развернулась на кафедре, обвела нас взглядом и принялась за пометки в классном журнале.
Я открыла тетрадь: там скопированная из учебника схема дыхательной системы человека. Словно торт в разрезе, чтобы было видно начинку. Пришлось перерисовывать трижды — никак не давались пропорции. Но розоватая трахея получилась особенно хорошо.
А Семков грудью лёг на парту, как бы накрыв собой тетрадь. И замер.
Вообще, я всегда сидела с Гришиной за второй партой. Оттуда хорошо видно доску, и сквознячок долетает. Но Семков и его приятель Звягин настолько достали биологичку, что месяц назад она их рассадила. И это восьмой класс.
Теперь я сижу раскрасневшаяся, с ощущением пробивающейся под мышками влаги, которая вспреет к концу урока двумя темными пятнами.
А Гришина терпит звягинские притеснения и мелкомасшабный террор. Перед уроком мы с ней сочувственно переглядываемся. Семков наименьшее зло из этих двоих, но тот еще сосед.
Тем не менее, я оказалась ему полезна. Он списывает у меня проверочные: теперь его средний балл за четверть неуклонно стремится к твердой четверке. Наверное, поэтому он не наглеет вконец.
Но сегодня мне в принципе не до Семкова. Не до школы. Мне ни до чего вообще.
В двенадцать у бабушки операция.
С утра с мамой собирались молча. Молчали мы с ней об одном и том же.
Я хмуро жевала бутерброд с сыром, а мать, расплескивая чай, мешала ложечкой сахар.
В таком тяжелом молчании она закинула набитый учебниками рюкзак мне на плечо и проводила в школу.
Я холодела до полудня. Алгебра влетала вполуха. Я не решала задачки первая, не тянула руку и ни разу не вышла отвечать. Лишь рассеянно списывала ответы с доски и следила за минутной стрелкой на часах. После урока торопливо утекла из класса — не хотела нарваться на расспросы математички.
К двенадцати мир отдалился от меня, поблек, как на старом кинескопе. От тяжелого сердцебиения меня потрясывало.
Ирина Валентиновна сегодня снова про дыхательную систему. Я разглядывала большие плакаты с цветами в разрезе и строением человека на стенах класса. Включилась обратно на словах о респираторных болезнях и вреде курения. Семков рядом дёрнулся. Со второй парты, вывернув шею, выглядывал Звягин.
— Семков, сиги есть? — спросил он с наглой ухмылкой.
Я закатила глаза и продолжила конспектировать за биологичкой. Семков писать не успевал, поэтому подсматривал в мою тетрадь.
— Итак, вред курения состоит в том, что оно вызывает три основных заболевания: хронический бронхит, коронарную болезнь и рак.
На слове «рак» реальность схлопнулась.
Я узнала про рак классе во втором. Как-то мама болтала с соседкой по дому. Мы стояли у подъезда уже с полчаса, и я успела пересчитать все одуваны между бордюрных камней, пуговицы на мамином пиджаке и тётенькиной кофте. То одна, то другая охала или вздыхала.
— Там такая трагедия, ты не знала? У неё весной муж умер.
— Да ты что?
— Выявили рак в четвертой стадии. Сгорел за полтора месяца.
Я поёжилась и потрясла мамину руку, намекнув, что пора идти. Мама от разговора не отвлеклась, но в ответ сжала мою ладонь. А мне так резко захотелось в туалет, что я еле терпела. Так я стала невольным слушателем разговоров, которые мне не предназначались.
Ковыряя за ужином котлету, я не могла понять, почему у болезни такое нелепое название — при чем тут рак? Засыпала долго, так и не придумав ответа. У мамы спрашивать не хотелось. Но я усекла: рак — это приговор.
В конце второй четверти мама стала чаще говорить о плохом самочувствии бабушки. В день, когда мы средь московской зимы купили кокос, я уловила в ее словах что-то про кровь. Радость от кокоса отбило, ведь про кровь просто так не говорят.
Следующее воспоминание пахнет средством для мытья сантехники. Аромат притворного лимона скрывал замес агрессивной химии. Я застала мать рыдающей за мытьём ванны. Ей до этого кто-то позвонил. Я замерла в коридоре, а во рту пересохло. Происходило что-то нехорошее, о чем я не знала. Я сжала зубы и поторопилась обратно к себе в комнату, стараясь себя не выдать.
Она тоже стала сжимать челюсти, говорила неохотно. Всё чаще лазила в шкафчик за таблетками. Иногда по вечерам по квартире вместе со сквозняком расползался запах табака: она покуривала у себя в комнате.
— Мам, ты что, куришь? — однажды я спросила её в лоб, постучавшись к ней.
— Это от соседей тянет, — ответила она и закрыла передо мной дверь.
Спустя пару недель я нашла пачку в комоде, меж складок атласного покрывала. Тогда я распотрошила сигареты и спустила их в унитаз. Лёгкая табачная стружка дрейфовала на поверхности и смылась лишь со второго раза.
Одну сигарету я оставила себе. Мы с Гришиной, спрятавшись за трансформаторной после уроков, решили попробовать, что к чему. Сделали по неумелой затяжке и зашлись кашлем.
— Ну и дрянь, — смеялась Гришина, затаптывая сигарету. Глаза её слезились, как и мои.
С Гришиной мы гуляли всё чаще и дольше. У неё дома вместе делали уроки. Иногда я оставалась на ужин. Ещё мы часами могли играть в настолку «Эрудит», пока одна, психанув, не называла другую «долбаной ботаничкой».
Однажды мы с мамой поругались из-за сущего пустяка. Так бывает, когда тебе тринадцать. Я попросилась остаться у Гришиной на ночь. Мама была против, а я продолжала спорить и напирать, хотя видела, что лицо ее налилось красным. Я уже практически кричала:
— Почему ты меня не понимаешь?!
— Это ты не понимаешь! Тебе на всё плевать! На меня и на то, что у моей матери рак!
Дай она мне пощёчину — было бы так же больно. Как я должна была догадаться? Вместе со страхом, который поселился у меня в животе, пришло осознание тотального одиночества.
Вскоре мы забрали от бабушки кота — она едва могла позаботиться о себе. Жутковато сбылась мечта завести котика. Затем бабушку положили в больницу.
По выходным мы с мамой ездили её проведать. Привозили прозрачный куриный бульон в поллитровой банке. В палате были очень высокие потолки — в ясный день стены заливал теплый свет. Снаружи покачивались высокие берёзы, а мама мыла там окна. И, возможно, эти воспоминания казались бы даже счастливыми, если бы не обстоятельства.
По пути домой мы заезжали в ресторан быстрого питания и брали курочку в панировке — на ужин. Для моей матери-язвенницы, прежде ругавшей меня за чипсы и газировку, это было неслыханно. Дома мама наспех раздевалась, выпивала таблетки и ускользала к себе в комнату. Из-за закрытой двери было глухо слышно лишь телевизор.
А я доставала карандаши, большую советскую энциклопедию с иллюстрациями и садилась срисовывать оттуда картинки. Заявлялся кот и ложился ко мне на стол. К Гришиной я не ходила. Из-за недавней тройки по истории.
В прошлое воскресенье погода не задалась. Лил дождь, было сыро и зябко. Ноги вымокли, и в палате я долго перебирала стылыми пальцами внутри ботинок. Мать улыбалась, но её выдавали трясущиеся руки и суетливость.
— Бабуль, ты представляешь, кот шипит на пылесос, даже когда тот выключен! И его смешно заносит на поворотах, когда он бегает по квартире…
Я смеялась, но в горле стоял ком. Бабуля держалась молодцом, но я не могла не отметить её чрезвычайную худобу.
— Ты что-то бледная, золотая макушечка.
— Мне просто холодно.
Я поймала недовольный материн взгляд. Кажется, она не понимала, что я обхватила себя руками не потому, что продрогла. Мне было страшно. Я не знала ни стадии, ни насколько все плохо. Я знала только, что через три дня операция.
И всё произошедшее больно хлестнуло меня вместе с лекцией биологички. Я зажала рот ладонью.
— Чего замерла, дай посмотреть, что записала. — Семков толкнул меня под руку.
Беспристрастно о размножении раковых клеток, о метастазах, о разного рода терапиях и… маленьком проценте. А я хотела лишь заткнуть уши или убежать.
— Ты че, оглохла?
Острый угол транспортира, который Семков сжал в руке наподобие кастета, со всего маха вонзился мне меж ребер.
Я подскочила, бросила, что мне надо выйти, и вылетела из кабинета. В коридоре из меня вырвался дикий всхлип — слезы было уже не остановить.
Под лестницу кто-то притащил лавку: на переменах тут тусовались крутые старшаки. Мальчишки зажимали девчонок, а те хохотали под их сальные шуточки.
Там меня и вырвало.
Я забилась в самый уголок. Пожалела, что я не улитка и не могу очутиться в одно мгновенье в своем домике-ракушке, который всегда со мной. Обняв колени, я сжалась в тугой содрогающийся комок.
Вскоре меня отыскала Гришина в компании еще пары девчонок. За ними подтянулась биологичка.
— Лена… Лена, что случилось?
Я видела только, как шевелится её ярко обведенный рот. Она заметила лужицу рвоты, подсела ко мне и приобняла за плечи. Рука её была тёплой и тяжелой. Это внезапно доброе прикосновение меня растрогало. Мама не обнимала меня давно. Плакать было больно, глаза опухли до рези. Я пыталась продохнуть сквозь слёзы, нос был забит. Почему сегодня ни у кого нет платка для меня? Сквозь слёзную круговерть, полную моих всхлипов и нечленораздельного мычания, я увидела Семкова.
Он стоял чуть поодаль, пока классная меня успокаивала. Кусал губы и смотрел испуганно.
— Эй, Лен, ну ты чего. — Он подошел ближе и коснулся моего плеча. — Я не хотел сделать тебе больно… Прости.
— Семков, ты чего тут забыл? — шикнула биологичка.
— Ирина Валентиновна, это она из-за меня. Я Лену транспортиром ткнул.
— Семков, всё потом. В класс. Живо.
Я мотала головой. Нет-нет, Семков тут ни при чём. Он попятился, врезался спиной в дверной косяк, но всё же умотал. Затем пришла наша врач. Вместе с биологичкой они подняли меня с лавки и отвели в медкабинет.
Мне в ладонь насыпали каких-то мелких желтеньких таблеток и дали воды. Стакан ходил у меня в руках — я пару раз попала им по зубам. Усадили на кушетку, покрытую прохладной клеенкой. К ней быстро прилипали ладони.
— Лена, что у тебя произошло? Тебя кто-то обидел? В школе, дома?
Обе женщины терпеливо ждали моих ответов:
— Лена, как мы можем тебе помочь?
— Дайте мне высморкаться, наконец.
Это была моя первая фраза. Врач и биологичка переглянулись с облегчением. Упав лицом в платок, я прочистила нос что есть силы. Так гораздо лучше.
С остальных уроков меня сняли. Кушетку оградили ширмой, и я заснула в смутном беспокойстве за контрольную по истории. Предыдущий трояк я так и не исправила, и меньше всего мне хотелось, чтобы мама узнала о сегодняшнем пропуске.
Маме, конечно же, позвонили из школы. Меня разбудили, когда она приехала за мной. Я медленно собрала вещи и вышла, сжав кулаки. Наверняка ей пришлось отпрашиваться, и наверняка она недовольна.
Но она скорее выглядела обеспокоенно. Её шейный платок небрежно топорщился из-за ворота куртки.
— Я так испугалась… — Она забрала у меня рюкзак и помогла одеться. Ничего не сказала по поводу того, что я убрала руки в карманы.
По пути домой она сообщила, что операция прошла хорошо и врачи обещают скорую выписку.
А мой рюкзак так и болтался у неё на плече.