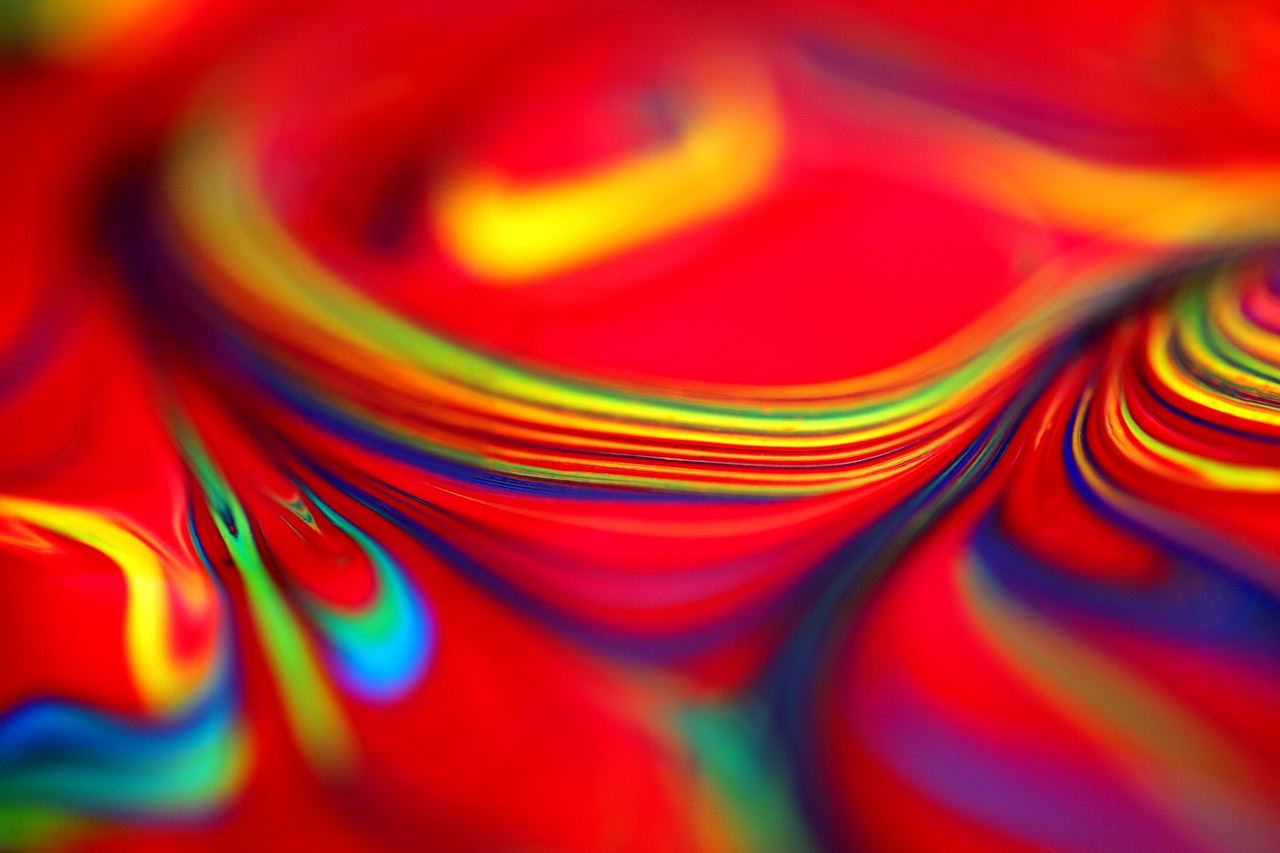Первое, что вспоминается о ней — удивительная способность цеплять женские взгляды. Она любит красивых женщин, а они любят ее. Слетаются на эту ее огромную любовь, как мотыльки на свет. Мы ехали в метро, напротив пара, еще зеленые, крепко сцепленные за руки. Несколько секунд она смотрела девушке в глаза тем особенным взглядом, вспоминая который я вздрагиваю и немного краснею. Вагон остановился, и пара начала выходить, а девушка, не отнимая руки у своего избранника, еще раза три оборачивалась на нее. Ревность, оказывается, можно привить.
Ее любимый цвет — красный. Свои картины она рисовала кроваво-алым. Иногда красный делил полотно с черным, но ему было не перекричать страсти красного, который был весь она. Ее руки касались также, как рисует красный цвет.
Ее было просто любить. Но терпеть невозможно. Совсем еще мальчишка, только девочка и скоро тридцать.
Август был первым. Но он быстро собрал вещи и, закуривая на ходу, двинул в сторону площади трех вокзалов, где месяцы садились в поезд с билетом в один конец. А где этот конец — никто не знал. Только изредка слали они оттуда письма, которые прилетали прямо в наши головы фотокарточками из прошлого.
Помнишь июнь? Я продала седло, и мы на месяц уехали в Европу. И жили у местных, и ночевали под дверями океанариума в Генуе, и в аэропорту Бергамо. Кругом прокуренные голоса женщин, на узких улочках не совпадающие фасадами крыши.
Бездомные и бездонные ночи. Декабрь? Столица просит жрать крупными купюрами. Из обветшалого окна невозможно сквозит, и гирлянда умело прячет зашарпанность коммуналки, и даже чайника нет, а мы танцуем между просевшей кроватью и сохнущим посреди комнаты бельем. Сентябрь помнишь? Российские побережья. Хамы-водители, очаровательные рынки, на которые мы ходили, как прилежные ученицы в школу.
Тяжелые сладкие арбузы, маленький щенок в светлом беже, который нам так взаимно полюбился. Крым в палатке, до моря несколько метров, снаружи на брезент налегают бездомные псы, а сквозь маленькое окно в крыше космическая простыня светится. В каком-то поселке мы убегали от мужиков, которые словами обвиняли нас в любви друг к другу. Я потом все ночи тряслась от страха, а ты терпела мои слезы и говорила так по-мужски, защитнически: «моя девочка», хотя талия твоя была такой же беззащитной, как и моя. На шее у тебя висел обрубок карандаша, в котором пробита дырка для цепочки. Ты не снимала его, хотя он так часто мешался ночами. Я цеплялась и душила тебя. И мы смеялись во время наших нелепых раздеваний, смеялись над звуком животов, разгоряченных и прилипших друг к другу, над тем, как случайно бьются лбы, колени и локти. И сколько же они шлют этих карточек. Тонны неразобранной почты.
А была ли вообще та Италия, крымские ночи, недоеденная овсянка, которую ты выбрасывала под окно голубям и очень ругалась на мальчишку, что кидался в них камнями? А наши случайные встречи с иностранцами? А ссоры, слезы, измены были? Или ты нарисовала все это своим кровавым акрилом, кусочек которого я храню в столе? Он затвердел, как камень, и в него вросла маленькая бумажка с надписью «влюбленность».
Было ли это?
Будь здорова, любовь моя. Ты только не люби писателей. Целовать тебя — не привилегия, но писать о тебе пусть будет только моей.