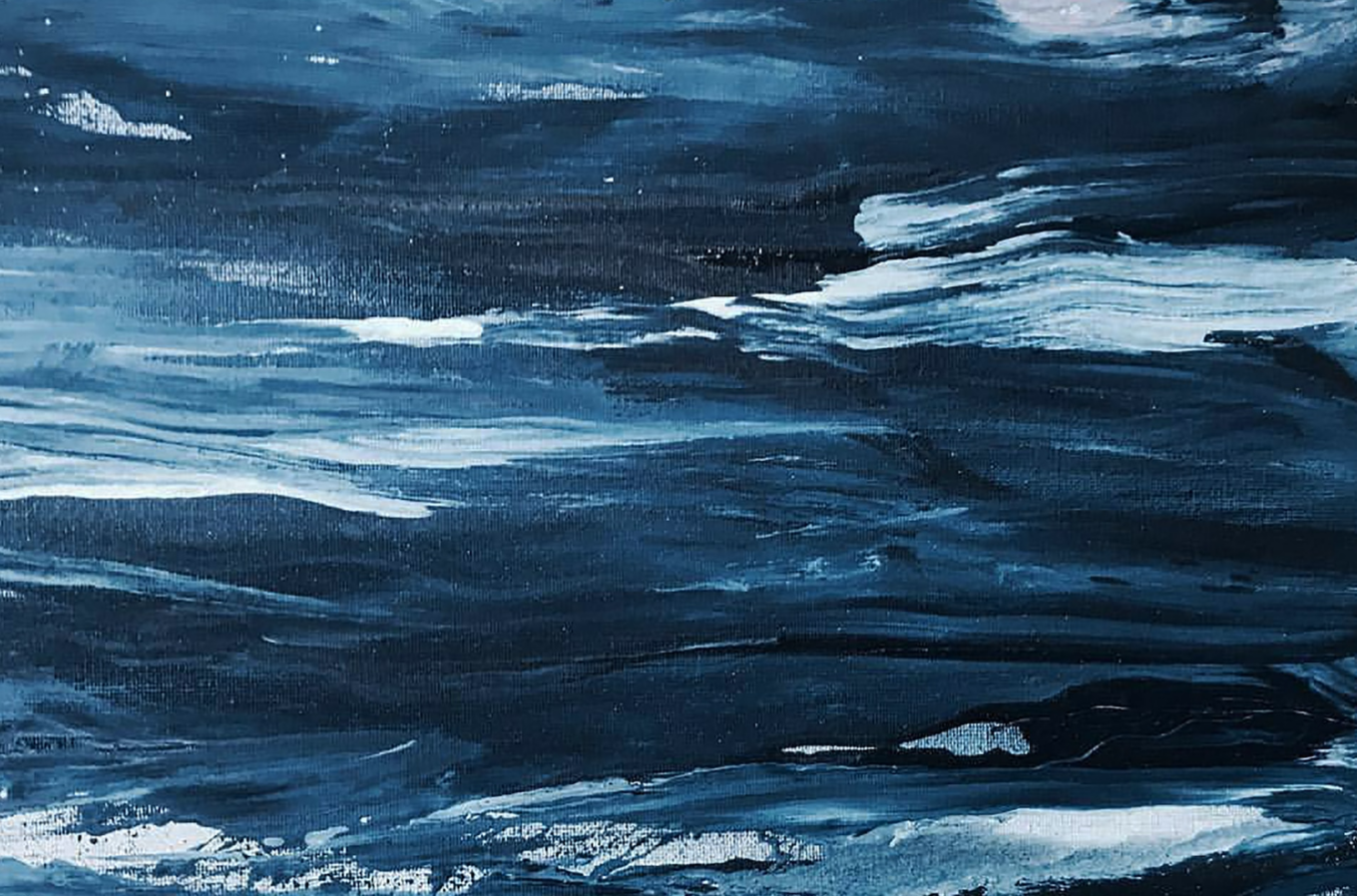Плотные, туго набитые снегом облака нависают тяжело и равнодушно. В разрыве белесой пелены проглянуло далекое, высокое небо. Но быстро — буквально пара порывов ветра — снова скрылось за давящей массой. Кобальт проглочен серым.
Небоскребы растворяются в сыплющихся сверху кристаллах постепенно: сначала исчезают белые части фасадов, теряя глянец. Затем, этажей на пять повыше, тает серое панорамное стекло. И наконец, только черные рамы, как крепкие сваи, структурируют недоснег, чтобы пропасть выше. Шунгит растворен в сером.
Если встать ближе к балконным перилам и посмотреть вниз, иллюзия единства небоскребов распадётся. Тридцать четыре вертикальные полосы глянцевого фасада и тридцать шесть вертикальных рядов одинаковых панорамных окон оказываются тремя зданиями. На земле становится понятно, насколько дома огромны и основательны. Между ними пока пустыня — снег с грязью, островки замерзшей глины, следы грузовиков и брошенные строительные материалы. Ветер создает барханы, наслаивает земляные узоры на новых слоях снега. Для внимательных — превращая случайное в искусство. Сиена немного гасит серое.
До того, как построили небоскребы, с балкона вся Москва была как на ладони, иногда я видел пять сталинских высоток из семи. Золотой шпиль ближайшей, на Баррикадной, стал привычной деталью пейзажа. В ясную погоду показывалась самая редкая — на Котельнической. Притворялась миражом, но все же трезубец башен и круглый шпиль рассмотреть удавалось. Теперь же только черно-белый забор небоскребов от земли до облаков.
Вдоль строительной площадки, уткнувшись в ограждение, мокнут десятки машин. С моего этажа они кажутся не больше спичечных коробков. Снежные шапки на крышах влажно оседают, текут по стеклам, блестят пятнами под колесами. Мимо машин движутся запятые — опущенные головы и сутулые плечи, — спешат куда-то, перескакивают через лужи и оставляют следы на свежем, быстро тающем снегу. Следы в магазин и на остановку обновляются, а вот редкие в сторону нашего дома заметает, растворяет непогода. Сверху происходящее на земле выглядит эскизом реальности. Сепия разбрызгана в сером.
Сигарета давно погасла. Пепел коротким серым столбиком еле держится, чуть посильнее ветер — окажется на ботинках. Виридоновый нубук уже намок, пепел угрожает яркому цвету. Ловким движением отправляю окурок вниз, в катакомбы стройки. И сразу удивляюсь себе, вот же пепельница, только протяни руку. Неужели так пожалел тимберленды? Джоггеры задрались, торчащие волосы на фоне ботинок — оранжевый кадмий — хороший контраст, на холсте я бы усилил.
Вдруг замерз. Холод сначала крепко обнял под худи, а затем быстро проник внутрь, под кожу, но перестал ощущаться у границы того нового и тяжелого во мне, чему не могу дать определение. Сначала я чувствовал это как дыру. Будто грудину насквозь пробил старинный снаряд, но не убил сразу. И жизнь утекала медленно-медленно сквозь некровоточащую, не затягивающуюся рану. Я даже привык к этому состоянию, перестал обращать внимание. А напрасно. Потому что однажды вместо пустоты обнаружил леденящий, уплотняющийся и растущий шар. Он заменил ребра и позвоночник, удерживая меня. Он сдавил легкие, почти отучив дышать. Он тяжелеет каждый день, достигнув плотности, неизвестной на нашей планете. Будто горошина этого вещества весит сотню тонн, а я ношу в себе шар пятьдесят второго размера. Уже нет сил, если честно. Кажется, я умер, оставаясь для всех живым.
Этой зимой я попробовал всё, чтобы вернуть себя себе. Чистое творчество и столько заказов на дизайн, что не отойти от ноутбука, алкоголь и клубы, одиночество и самокопание. Не вернул. Серая жизнь — не жизнь. Не моя жизнь. Не для меня.
Обернулся, сквозь стекло балконной двери оценил освещенный, лоснящийся свежими замесами холст на мольберте. Вспомнил Строгановку, поиск своего нового на четвертом курсе, Наталью Петровну и её «ну что ты рисуешь? что за пропорции? я бы такое простила только Пикассо, и то в поздний период, не в голубой и не в розовый». Живопись ускользает от меня. Я перестал уметь. Возможно, Пикассо тоже обнаружил в себе плотный шар, но позже, когда мастерство стало от него неотделимым. Поэтому-то и случился «поздний период». Прищурился. Не только пропорции, цветовые пятна на холсте — грязь. Ни красоты, ни идеи. Видеть не хочу.
Белесое небо как будто опустилось еще ниже. Давит. Бессмысленность жизни давит. В начале зимы поклялся себе, что весну встречу прежним, по-настоящему живым. Не получилось.
Скользкие от влаги перила блестят. Перекинул ногу, вторую, уселся. Подо мной двадцать шесть этажей свободы и мокрая задница. Достал новую сигарету. Когда докурю, у меня должно появиться разумное обоснование, для чего надо жить дальше. Или в квартиру, к мертвому холсту, я не вернусь.
Чиркнул зажигалкой, затем еще и еще. Как специально, будто кто-то тянет время. Наконец, первая глубокая затяжка наполнила легкие. Выдох в белесое небо, взгляд по траектории: спускающиеся из мути, набирающие объем дома — грязь стройки — плачущие машины — исчезающие следы ног. Новая затяжка и снова тот же круг. В голове пустота. Ветер сковал обнаженные щиколотки и толкает, колко толкает в спину.
Сигарета выкурена до фильтра. Время пришло. Достаточно оттолкнуться, чтобы беспросветный серый заиграл неведомыми здесь красками.
Ого, не так-то это просто. Гулкие, эхом расходящиеся удары сердца. Оглушили. Ладно, надо просто не смотреть вниз, только прямо перед собой, на этом сосредоточиться, вдохнуть и… Выше подбородок и взгляд, смотрю только на падающие, набухшие хлопья, лишенные бликов, изгоняю страх.
Медитативный настрой грубо прервал шуршащий, царапающий воздух звук. Кажется, и не увидел толком, но с фотографической точностью зафиксировал, заглянул в глаза и навсегда запомнил лицо соседки в это мгновение. Рыхлые щеки без привычных пятен охры наплыли на глаза, превратив их в щелки. Из щелок лился ужас. У ужаса цвет индиго. Краплак сухих, обычно небрежно торчащих волос стал короной.
Я понял, только когда услышал удар тела и крик женщины, оказавшейся неподалеку. Твою ж мать! Сколько раз, оказываясь с этой соседкой в лифте, думал о том, какая она нелепая. Молодежная одежда на стареющем, теряющем осанку теле, модные цвета без умения их сочетать, душные, концентрированные ароматы и флирт с каждым, кому не повезло оказаться запертым с ней в одном пространстве. Да что там, для меня она — воплощение пошлости жизни. И теперь эта пошлость лежит на моём месте, отобрав у меня право разбить неподъемный шар внутри.
Возмущение продолжает кипеть, но невозможно оторваться от ломаных линий распростертого тела. Едва видное с высоты, оно завораживает статичной архитектурой деконструктивизма, радикально отличающейся от привычно ожидаемого в человеческом теле. Расползается только темный капут-мортуум, поглощает розовый краплак волос. Радикальное сочетание.
Вокруг тела соседки начали собираться люди, они задирают головы и наверняка смотрят на меня. Я же не перестаю изучать схему тела, которое могло быть моим, решись я на пару минут раньше. Внезапное озарение: да ведь это и есть центр композиции, которого так не хватает бездыханному холсту с нагромождениями абстрактных острых форм, лишенных смысла. Разбитая пошлость.
Вернулся к холсту. Замерзшие пальцы опережают сознание, переносят, фиксируют увиденную геометрию неподвижности. Слепые зрачки цвета индиго, еще эскизно-непрописанные, уже сверлят невыносимый внутренний шар. Краплак, надо ввести розовый краплак и капут-мортуум, повысить драматизм восприятия.
«Тишина», так назову эту работу. Потому что «Крик» уже есть.