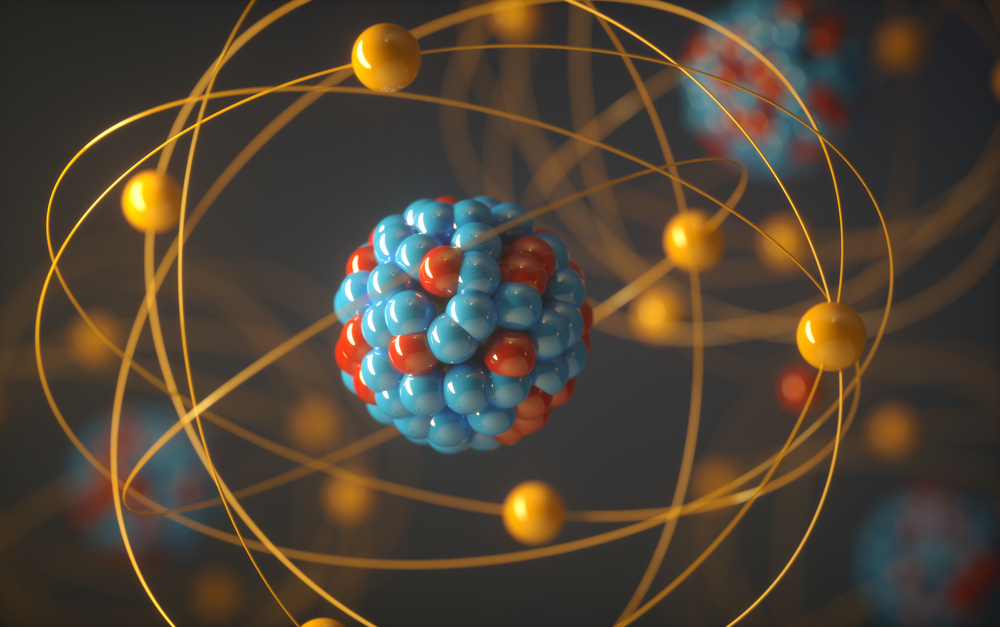Чаще всего от Игоря Васильевича слышали слово «Понимаю». Для всех, кто знал его, это были не пустые слова: он действительно все понимал.
В тот день в Доме Союзов Юлий Борисович Харитон очень старался не раскисать: с кем-то здоровался, отвечал на ненужные вопросы, даже шутил. Но он никак не мог выкинуть из головы, что еще несколько дней назад во время подмосковной прогулки знаменитого «Понимаю» так и не дождался. Да и чувствовал он себя среди этого раздутого, излишне официального процесса совсем не в своей тарелке. Зато Колонному залу подобные события были привычны: тут уже были и еще будут горы дорогих венков, тяжелый красный бархат, затемняющий свет люстр, длинные очереди к постаменту в центре зала и замерший почетный караул. Не первый и не последний раз под этим сводом раскатывается «Реквием» Моцарта, впрочем, и Юлий Борисович слышал его совсем не первый раз. Но только сегодня почувствовал всю мощь части Benedictus, действительно напоминающей атомную реакцию. Окончательно упустив нить разговора, он потерянно посмотрел на группу беседующих ученых.
— А не знаете, где достать пластинку Моцарта? — Услышав себя, Юлий Борисович даже сам удивился, как умудрился сказать сейчас что-то настолько невпопад.
Вопрос настолько вызывающе не вязался с обстановкой вокруг и самим разговором, что был встречен взглядами полного непонимания и так и завис над группой. Все молчали. Молчали, но Юлию Борисовичу казалось, что он и без слов слышит, как они выражают сочувствие в связи с его внезапно помутившимся рассудком. Так бы они и стояли молча под ударами грохочущей музыки до конца церемонии, если бы кто-то запоздало не пояснил:
— Игорь Васильевич просто недавно был на концерте. Высоко оценил. Просил достать запись. Сами понимаете, хотелось как-то, чтобы навсегда сохранилось.
Действительно, 4 февраля 1960 года в Московской Консерватории давали Реквием. Игорю Васильевичу все советовали отдохнуть, расслабиться, переключиться на что-то вечное, чистое и неизменное. Всего неделя прошла с его отпуска, хотелось побыстрее зарыться в работу, ведь так многое еще предстоит найти, показать, сделать. Но какой-то комок в груди все равно сжимался, с каждым днем становился больше, плотнее. Окружающее давило и раздражало. До начала концерта оставалось всего минут десять, и зал никак не мог успокоиться. Почему-то задача найти свои места среди заполняющихся рядов оказалась для зрителей непосильно сложной. Игорь Васильевич исправно встал раз шесть, чтобы пропустить всех проходящих к своим местам в центре, но кто-то все равно умудрился отдавить ему ногу. Вокруг кряхтели, сопели, ругались, требовали немедленно освободить полагающееся по билетам место. Казалось, некоторые куда лучше чувствовали бы себя, если прямо сейчас пошли бы в буфет без никому не нужной вынужденной музыкальной прелюдии. Как-то уж слишком все окружающее не вязалось ни с чистым, ни с вечным. Когда женщины позади начали обсуждать неудачный фасон платьев на оркестрантах, Игорь Васильевич стал уже переживать, что выбрал такую популярную программу. Но при такой нехватке свободного времени выбирать не приходилось. Впрочем, после брошенного через плечо сурового взгляда дирижера приветственные аплодисменты затихли и по залу тягучими волнами потекли звуки. Как и у настоящей волны, плавные переходы постепенно усиливались, проходя гребень, обрушивались на слушателей. Возрастающее давление заставило притихнуть даже сегодняшних посетителей Консерватории. Притихли и тягостные мысли Игоря Васильевича.
Притихли, но не ушли, возвращаясь, усиливаясь, ударяя по нему с новой силой, приносимой каждой музыкальной волной: все сложнее скрывать от людей и самого себя, что работать становится тяжелее с каждым днем; есть, конечно, много замечательных ребят, которые смогут подхватить и закончить проект, но разве можно расслабляться в этом мире, который уже один раз допустил Войну и уже поддался один раз лысенковщине. Конечно, теперь все пытаются побыстрее смыть с себя воспоминания о недавно ушедших десятилетиях, когда из-за правдиво описанных в научных трудах селекционных экспериментов или в неподходящий момент вылетевшей фруктовой мушки достойные ученые вздрагивали от любого неожиданного вечернего телефонного звонка, от любого неизвестного силуэта, ожидающего на кафедре. Да и не так уж много времени прошло. Как бы ни открещивались коллеги, а такое не забывается. Стоит только посмотреть, как тщательно формулируются доводы на научных слушаниях, как внимательно подходят люди ко всей этой словесной мишуре в диссертациях. И ведь не только в биологии, но и в физике! В науке, которая сама по себе должна быть абсолютной истиной, ближе к реальности, чем даже сама математика. Игоря Васильевича все еще электричеством ошпаривали импульсы почти бесконтрольной злости при мыслях о том, как нечто столь прекрасное, как научное познание окружающего мира, чистое и честное, как и звучащая сейчас музыка, можно было смешать с такими пустыми людскими дрязгами.
И ведь самое обидное, что эта ярость была с ним не всегда — она пришла на смену затянувшемуся оглушению. Казалось, он преступно долго не мог признать факт, что и науку может судить абсолютно любой человек, даже ужасно от нее далекий. Любой, не прочитавший ни одного фундаментального исследования, не пропустивший через себя ни одну математическую выкладку, может встать на собрании и сказать: «Чушь — я протестую». И как обычно, на вечный вопрос «кто виноват?» ответа нет. Ведь не только тот, кто встает и протестует, но и те сотни и тысячи, которые это допустили, которые позволили себе на столько лет закрыть глаза, заперевшись в своих лабораториях. Что уж скрывать, сам Игорь Васильевич не мог до конца простить себе, что только пять лет назад нашел в себе силы, взглянув в глаза Хрущеву, все сказать. И ведь это и сейчас было трудно, даже чувствуя за собой мощнейшую силу 297 подписавшихся в том самом письме. И наверное, именно то полное непонимание глубины проблемы, которое он видел на всех высокопоставленных лицах, читающих это письмо, окончательно доказало ему, что дело не в биологии. Просто нет в мире деятельности, защищенной от всепроникающей идеологической ржавчины. Даже если это физика. И теперь его не оставляла мысль: справятся ли они все, если он сейчас закроет глаза слишком надолго. Примут ли люди в зале, коллеги, страны, мир правильное решение, если он однажды не выйдет на работу.
И главное — достойны ли они принимать эти решения, ведь окончательное слово будет не за его коллегами, а вот за этими слушателями, которые думают больше о буфете или фасоне платьев.
Confutatis maledictis сменилась на всем известную Lacrimosa dies illa, вступили вокалисты. Зал вокруг как-то оживился, распознав популярные звуки. Сзади кто-то, очевидно, пытаясь произвести впечатление на перестаравшуюся с духами спутницу, прошептал:
— Вы знали, что Моцарт принял заказчика за самого Дьявола? Не представляю, как это возможно.
А Игорь Васильевич представлял. Вспомнился его визит в Москву для презентации «Проблем Урана», самое начало его работы, принесшей с собой одновременно и лучшие моменты в жизни, и постоянную слежку. Перед его глазами стояли неудачи, будущие и прошлые: срывы сроков, утечки, аварии, провалы.
Через ряд от Игоря Васильевича расположилась семья с маленьким ребенком. Мальчику сидеть так долго на одном месте стало совсем невыносимо, и он раскачивался, хрустя стулом и не обращая внимания на постоянные замечания замучавшихся родителей. Публика вокруг изредка лениво шикала на ребенка, а Игорю Васильевичу эти размеренные звуки совсем не мешали и даже почему-то нравились. Хруст напомнил ему звуки свежего уральского снега под ногами, когда в утренней темноте или в ослепительном мерцании дня торопишься к зданию заводоуправления, опять и опять биться над проблемами, которые будто бы размножались делением. Только разбираешься с одной, и вот уже вырастает новая, намного страшнее и запутаннее. Год на запуск абсолютно нового реактора: прорывы, «козлы», коррозия, перегрузки, истерики коллектива, ну и его инсульты. Запустили, конечно, но сколько рискованных, опасных решений было принято, сколько здоровых жизней брошено в котел, чтобы уцепить за хвост гонку за атомной энергией. Вспоминалось, как люди, облучаясь, руками доставали из реактора блоки и после осмотра снаружи вносили обратно, как челябинские неподготовленные водолазы погружались, чтобы найти утечку, стояла перед глазами авария на «Маяке». Нажал ли бы Игорь Васильевич пусковые кнопки, принял ли бы он эти решения, если бы каждый миг за ним по хрустящему уральскому снегу не полз приставленный Берия? Может быть, кавалер передушившейся барышни и не представляет, как такое возможно — считать, что выполняешь заказ от самого Дьявола, а вот он, Игорь Васильевич, прекрасно понимает, как несладко было музыканту. Кажется, им было бы что с Моцартом обсудить, получилось бы ой как занимательно.
Дирижер на сцене нервно тряхнул головой, изобразил полупоклон, взмахнул фраком и повел оркестр за собой к самым драматичным частям произведения. Игорь Васильевич почему-то впал в уныние, а жаль, совсем не этого он ждал от сегодняшнего дня. Никак не покидали его страшные картины Семипалатинского полигона, которые ярчайший свет навсегда впечатал ему в голову. Толпы людей с того момента начали бегать за ним и твердить один и тот же надоевший вопрос:
«Игорь Васильевич, Игорь Васильевич, что же вы думаете о моральной стороне вашей работы?»
И каждый раз он отвечал им одно и то же: моральная сторона есть у людей, может быть, у политики, но никак не у науки. И да, он в это абсолютно и свято верил, так же, как верил в своих коллег и здравый смысл. И выступая на конгрессах, верил. И запуская электростанции. И печатая статьи и доклады. И правя коллективные обращения. И до боли горла ради азарта споря с Капицей, верил. И сейчас, впитывая музыку и изредка попинывая портфель с очередной позицией о мирном атоме, свято верил. Но почему-то то, что несколько лет назад зародилось, как легкое вибрирующее сомнение в груди, все больше напоминало страх и никак не уходило. Ни во время работы или интервью, ни на успешных вроде бы конгрессах, ни при правке докладов и позиций, ни даже при споре с Капицей. Потому что морали у науки нет, но у людей ее может тоже не быть, что в последнее время стало Игорю Васильевичу все больше бросаться в глаза. Страшновато было: несколько шагов не туда, и не зазвучит уже «Реквием» в этом зале лет через пятьдесят. Загремели Hostias et preces. Публика попыталась настроиться на возвышенный лад.
В заднем ряду кто-то начал мирно и одновременно возвышенно посапывать. Кто-то из зала все-таки не выдержал такого долгого напряжения и заснул.
Что бы там ни говорили, а высидеть весь концерт, не отвлекаясь, трудновато. Публика слегка подустала: по залу стали разноситься покашливание и тихое кряхтение, мальчик спереди и вовсе извивался, как маленький ужик. Игорь Васильевич тоже притомился и решил изучить крупные портреты музыкантов, расположенных под потолком. Поднял глаза и сразу зажмурился, так резко ударил по глазам свет, пробивающийся через окна в верхней части зала Консерватории. Оркестр вступил с новой мощью. И тут вдруг страх первый раз за несколько лет почему-то стих, и Игорь Васильевич понял. Понял, что люди в зале, люди в стране, в мире — все движутся в нужном направлении. Наверное, и во времена Моцарта кто-нибудь беспокоился, что всех перебьют через несколько десятков лет, но вот же, полный зал людей. Свободнее стало дышаться: начались реабилитации, возвращаются коллеги, скоро окрепнет даже генетика. И ведь это не только в Союзе — везде, он видит это и на международных конференциях: его идею о мирном атоме поддерживают, в нее верят, к ней призывают даже капиталисты. Коллеги справятся, Капица справится, он обязательно сможет перевести весь мир на новую энергию; все будет хорошо, да и как по-другому может быть в мире, у которого теперь есть сила самого атома. Мажорно зазвучал Sanctus, Игорь Васильевич беззвучно прошептал: «Понимаю», и что-то, давящее грудь, отпустило. Удивительно, почему люди считают Реквием трагичным, ведь он дает надежду, если правильно его понять и направить, совсем как сила атомной реакции. Обязательно надо попросить Юлия Борисовича достать пластинку, чтобы слушать для профилактики пораженческих мыслей!
Прошло совсем немного времени до того самого момента, когда, гуляя с Юлием Борисовичем, он смахнул снег со старой парковой скамейки. Как хорошо рассуждает Юлий Борисович об исследованиях, планах, будущем, как же приятно его слушать. Игорь Васильевич последний раз закрыл глаза, понимая, что все хорошо, оставляя этот мир энергии мирного атома. В голове его все громче гремел Реквием, Lux aeterna.
Через шестьдесят лет в Курчатовском институте праздновали юбилей атомной промышленности. Был фуршет. Подозревалось, что подрядчик неплохо так украл на поставках к фуршету: колбаса была какая-то не та, десертов маловато, а некоторые сотрудники даже жаловались, что шампанское не доливают. Обсуждали отчеты, ведомости, доплаты, кого повысили, кого нет. Почему двоих молодых сотрудников так часто видят вместе. Отдельное внимание заслужил фасон сегодняшнего платья начальницы отдела.
А Реквием все гремел и гремел.