Июль 2020
Баня
Гаджи
На ягодах
Неопалимая
Последняя неделя надежды
Хакер
Экспеллиармус
Обратное движение
Про меня
Анри
Атласные туфельки
Баба Шура
Весенний слон
Вещий сон
Воспоминания
Гребибля и гребубля
Дым
Живет вечно
Защита
Карта Родины
Король и Кот
Никогда не быть такой, как мама
НоРене
По справедливости
Сервисный центр
Счастье внутренних дел
Съемная жизнь
Три Владимира
Фанаты
Вебинар с Майей Кучерской «Искусство перевоплощения»
Вебинар с Майей Кучерской «Как и где опубликовать свою прозу?»
Вебинар с Майей Кучерской «Как попасть в литературный мир»
Вебинар с Майей Кучерской «Писатель в изоляции»
Вебинар с Майей Кучерской «Тайны платяного шкафа»

Валерий Печейкин и Артем Фирсанов: «Документальный фильм рождается на монтажном столе»
В августе в прямом эфире пройдет летняя мастерская-интенсив Creative Writing School «Автопортрет: I-movie на фоне города», в которой студенты пройдут все этапы создания собственного фильма.
Мастерскую возглавят главный драматург Гоголь-центра Валерий Печейкин и режиссер Артем Фирсанов. Филолог Марсель Хамитов поговорил с мастерами о современном документальном кино и собственных авторских стратегиях.
— Насколько важное место в современном мире занимают сейчас документальные жанры, в частности кино? Можно ли говорить, что «чистый» фикшн постепенно уступает место нон-фикшн?
Валерий Печейкин: Не думаю, что сегодня можно говорить о таком процессе — когда одно уступает другому. Для этого нужно иметь на руках полную и независимую статистику, исследование. Скорее стоит говорить о том, что происходит не между формами (фикшн и нон-фикшн), а внутри форм. Чисто технически сториз или вайн — это микродокументальное кино. Раньше для съемки документального фильма было нужно сложное и дорогое оборудование, а затем носитель, а затем средства воспроизведения. Сегодня Ольга Бузова может мгновенно создавать микрофильмы о своей жизни. Рискну сказать, что они влияют на общество сильней, чем фестивали документального кино.
— А его конкретный подвид — «автофикшн»? В описании мастерской вы говорите, что освоение кинематографа стоит начинать с рассказа о себе — это важно для начинающего режиссера/сценариста или вообще для современной культуры?
Валерий Печейкин: В первую очередь это важно для автора. На первом занятии я всегда показываю автопортреты великих художников: от Микеланджело до Климта. Когда автор при жизни создает свой портрет, у него довольно низкая ценность на рынке. Он ведь себя рисует, а не вас и не уток в пруду, которых можно повесить в гостиной. Но после смерти именно автопортрет взлетает в цене. Вдруг выясняется, что автор представлял поколение и рисовал себя «на фоне истории». Что он герой нашего времени, которым хотел стать каждый, но стал один художник.
— В общих чертах: какой ваш принцип работы с документальным материалом? Где вы ищете тему, «вдохновение» для нового проекта?
Артем Фирсанов: В документальных фильмах сначала собирают материал, а затем монтируют. Чем больше материала, тем лучше. По сути, документальный фильм рождается на монтажном столе. (В игровом фильме практически наоборот.) Главное, что нужно выяснить, какой у вас есть документальный материал. Если у вас нет детской фотографии, то ее нельзя будет «сыграть». Нарисовать — да. Но все-таки сила документа в том, что он настоящий.
Валерий Печейкин: Кстати, недавно я обнаружил свой детский снимок. Качество было плохим, но через нейросеть Remini мне удалось его «вытянуть». Еще год назад я бы не смог этого сделать. Сегодня, благодаря нейросетям и технологиям, у нас появилась возможность сделать очень важную вещь — сохранить документы и даже сделать их лучше.
В документальном кино самое сложное — не врать о себе самом
— Как много свободы вы позволяете себе в соотношении нон-фикшн и фикшн?
Валерий Печейкин: Фикшн — это изначально вымысел, чтобы «слезами обливаться». Вы можете придумывать практически все что угодно, если это не байопик или историческое кино. Чем ближе ваша работа к документальности, тем больше у вас ответственности перед правдоподобием. В случае с историей это коллективная память. Если это I-movie (фильм о себе), то мало кто сможет вас опровергнуть. В документальном кино самое сложное — не врать о себе самом. И понять, кто ты такой. Это правда очень сложно. Как Жан-Батист Гренуй (герой «Парфюмера») чувствовал все запахи мира, кроме собственного…
— Валерий, а лично вам с чем интересней работать, с документальным материалом или воображаемым? Тем более что у вас очень разный опыт, от Овидия и Шекспира до «Кислоты».
Валерий Печейкин: Мне интересно работать с каждым из таких материалов — иногда одновременно. Они создают в голове «пульсацию», когда ты буквально задействуешь разные нейронные схемы. В творческом смысле это отличный тренажер.

— Артем, ваш фильм «7» вызвал громкий скандал во ВГИКе и в связанных с ним кругах. Расскажите из личного опыта, насколько опасна работа режиссера-документалиста? И получается ли разграничить художественное высказывание и политическую (в широком смысле) позицию?
Артем Фирсанов: Работа режиссера-документалиста опасна, прежде всего, для его техники. Ее могут разбить или, как у меня, украсть. Поэтому берегите лицо и технику. Что касается художественного и политического, я не понимаю, зачем одно отделять от другого. Конечно, как лабораторный эксперимент — это возможно. Есть «чистое искусство», например. Но даже в пейзажах и натюрмортах можно найти политическую (в широком смысле) позицию. Так в свое время Бэнкси купил в антикварной лавке пейзаж и дорисовал в нем нацистского офицера — получилась работа «Банальность банальности зла». Отличная работа, на мой взгляд.
— Как вы считаете, стоит ли для документальных жанров брать суперактуальные темы? Или сейчас снимать ролик о карантине — моветон?
Артем Фирсанов: Всегда можно снимать о чем угодно, но для документалиста важен вопрос актуальности. Быть первопроходцем. Сейчас тема карантина и ковида достигла гиперинфляции. Снимать, конечно, можно, только важно найти неожиданный ракурс этой темы.
— О насущном: как пробиться молодым драматургам и режиссерам? Как лично вам помогли конкурсы и премии — «Дебют», «Новая драма» и «Любимовка» для вас, Валерий, и кинофестивали «Окно в Европу», «Движение» и «Артдокфест» для вас, Артем?
Валерий Печейкин: у каждого из этих конкурсов своя аудитория и свой результат. «Дебют» был, например, важен и с точки зрения профессии, но еще там давали деньги. А для молодого автора это бывает важней признания. Мы сейчас как граждане оказались в ситуации, когда признания у нас очень много, а денег нет. «Любимовка» по-прежнему остается важнейшим фестивалем для профессионального роста. Я всегда говорю начинающим авторам: «Сначала на «Любимовку». Там прочтут внимательно. А я читаю только то, что пишу».
Артем Фирсанов: Для меня эти фестивали стали важной частью профессионального роста — буквально каждый из них. Отдельно хочу отметить «Артдокфест» и поблагодарить Виталия Манского за то, что он взял для показа мой дипломный фильм «7». Это было очень важно и профессионально, и по-человечески.
— Расскажите подробнее о предстоящей мастерской. Чему будут посвящены занятия?
Валерий Печейкин: На занятиях мы будем учиться делать то, что называется I-movie — кино о самих себе. Своеобразный автопортрет на фоне города. Чтобы такой фильм возник нужно, конечно, узнать кое-что важное о природе самого кинематографа — о том, как строить кадр и повествование. О том, как это делали до тебя. И что происходит прямо сейчас в мире документального кинематографа. Все вместе это делает работы студентов и серьезнее и легче, и просто лучше. Доказано на практике.

— Как это технически будет организовано в сегодняшних условиях? Не повлияет ли карантин (который, впрочем, уже подходит к концу) на «городскую» оптику мастерской?
Артем Фирсанов: когда наша предыдущая мастерская ушла в Zoom, мы думали, это будет серьезной проблемой. Но оказалось, совсем наоборот. Совет Бродского-Собянина «не выходить из комнаты» оказался плодотворным именно для формата I-movie. Студенты снимали свою комнату, вид из окна, а вместо пеших прогулок гуляли по Яндекс-картам. И концентрация «Я», возникшая на самоизоляции, дала хорошие результаты. Посмотрите, например, работу Марии Лобановой «Угол зрения». В ней есть все: и автор, и город, и собственный «угол зрения» (Работы участников весенней мастерской можно посмотреть здесь).
— Предполагается ли какой-то специальный бэкграунд у участников?
Валерий Печейкин: У участника должна быть биография. Для этого ему должно быть больше 16 лет. Вообще если вы живете на свете хотя бы месяц, у вас уже есть биография. А если вы, взрослый человек, прожили месяц на самоизоляции, то у вас есть набор воспоминаний и рефлексии, которыми вам стоит поделиться,
— Вы пишете, что для участия в мастерской достаточно любого смартфона. То есть итоговая работа будет существовать в виде фильма на телефоне? Как может складываться его дальнейшая судьба — короткометражные фильмы будут опубликованы на Youtube?
Валерий Печейкин: Лучшие работы мы по традиции опубликуем в электронном журнале «Пашня». Конечно, с нашими рецензиями. Обычно мы публикуем по две работы, чтобы показать, какими разными получаются фильмы. Потому что, простите за банальность, люди все разные. И, кроме того, это очень важно — писать и снимать не «в стол».
— Есть ли смысл почитать полезную литературу по теории документальных жанров? Или практика, практика и только практика?
Артем Фирсанов: Не менее важно посмотреть хорошие документальные фильмы. Например, по теме I-movie «Марш Шермана» Росса Макэлви. И спросить себя, что осталось от семейной хроники, детских фотографий, дневников, рисунков. А то, что осталось — сразу оцифровать.
— Пара общих советов начинающим драматургам и режиссерам.
Валерий Печейкин: Пишите каждый день. Перечитывайте. Дайте прочесть его другому человеку. Перечитайте еще два раза. Публикуйте.
Артем Фирсанов: Представьте, что ваш будущий фильм — это коробка с пазлами, где итоговое изображение неизвестно или даже изменчиво. В начале вы ищете опору — уголки, их всего четыре, и это тема вашего фильма. Затем, выстраиваете рамку — это герой вашего фильма. И только после этого вы собираете основную часть вашей головоломки, и это — проблема. С самого начала осознавая единство — тема, герой, проблема, — вы сможете из хаоса фрагментов пазла собрать цельное произведение.

Как рассказывать о самом себе с пяти разных точек зрения
- Взгляд детектива. Станьте детективом. Превратите съемку своего фильма в расследование. Ваш дом, как и отпечаток пальца, уникален и неповторим. Исследуйте его! Вспомните передачу «Обыск и свидание». Представьте, что это не ваша комната, а чужая. И вам нужно воссоздать портрет человека через найденные предметы.
- Взгляд свидетеля. Агата Кристи считала, что ближние знают о нас меньше, чем «дальние». Так ли это? Поговорите с родными и близкими о себе. Есть еще один способ узнать о себе что-то важное и личное. И это не скрытая камера. Что это? Об этом вы узнаете на самих занятиях в CWS.
- Взгляд документа. Ваша жизнь задокументирована. Первое событие в ней — рождение — имеет свое «свидетельство». Найдите основные документы, рассказывающие о вас. Первая фотография, первый класс, выпускной вечер. Все это, как правило, есть в семейных архивах. И один важный совет: оцифруйте их. С годами все труднее найти бумажку и все легче — файл.
- Взгляд художника. Представьте, что вы художник и вам нужно нарисовать свой портрет. В какой технике он будет выполнен? Реализм, импрессионизм или может абстракционизм? Ответ на этот вопрос поможет найти стиль съемки, художественный прием, через который вы напишете свой видео-портрет. Рассмотрите себя внимательно со всех сторон как 3D-модель. Ведь камера будет видеть вас таким же, объемным, взглядом. А еще нарисуйте свой шарж. Посмейтесь над собой! Ведь нас не привлекают идеальные герои. Мы любим чужие слабости и доверяем тем, кто честно рассказывает о них.
- Взгляд режиссера. Нарисуйте комикс. В пяти кадрах расскажите, как начинается ваш день. Будильник, солнце, кошка, тапочки, ютуб. Или что-то другое? Об этом знаете только вы. И только вы сможете снять этот фильм — о самом дорогом человеке на свете. О себе.

Восемь уроков писательского мастерства от Кадзуо Исигуро
Мало что можно сказать о Кадзуо Исигуро, что еще не было сказано до сих пор: он один из величайших романистов нашего времени, и этот факт нашел еще одно подтверждение в 2017 году, когда комитет Нобелевской премии решил вручить именно ему главный литературный приз. За прошедшие годы Исигуро дал целый ряд интервью, посвященных его рабочему процессу. В каждом из них он честно делится тем, чего стоит работа писателя, какой тяжелой она может быть и какие странные привычки помогают ему осуществить свой труд. Портал Writing Routines собрал полезные выдержки из этих интервью и составил небольшую подборку «уроков», которые могут помочь всем нам — будущим лауреатам или нет — улучшить свою работу. А мы их перевели.
Не бойтесь работать в разных жанрах
Исигуро не боится переходить от одного жанра к другому. В 2015 году, после десяти лет работы в совсем иных формах, он опубликовал «Погребенного великана». Сказочная история разворачивается в Англии времен короля Артура со всеми сопутствующими атрибутами: драконами, орками, легендарным рыцарем. Сам Исигуро не был уверен, что его читатели хорошо примут такой неожиданный переход к фэнтези-роману: «Я не знаю, что будет дальше. Последуют ли за мной мои читатели? Поймут ли они, что я пытаюсь делать, или они изначально будут настроены против такого мира? Скажут ли они, что это обычное фэнтези?» От романиста потребовалось немало мужества, чтобы так резко перейти от жанров, в которых он привык работать, к чему-то совершенно новому. Однако нам всем следует помнить, что многообразие — это достоинство, и вам не стоит бояться пробовать себя в разных литературных формах.
Попробуйте писать первые черновики ручкой на бумаге
Исигуро использует для первых набросков ручку и бумагу. Он намеренно пишет неудобочитаемым почерком, и как-то он объяснил журналу «The Paris Review», почему именно: «У меня два рабочих стола. На одном есть специальный письменный скат, на другом стоит компьютер. Последний появился еще в 1996 году и не подключен к интернету. Я предпочитаю писать первые черновики ручкой на письменном столе и пытаюсь сделать их более-менее нечитаемыми для всех, кроме меня самого. Черновой набросок — это всегда сумятица. Здесь я не обращаю никакого внимания на стиль или связность отдельных частей, мне важно просто набросать самое важное на бумаге. Если вдруг меня захватывает новая идея, которая никак не вяжется с прежней схемой, я все равно записываю ее. К этим заметкам я могу затем позже вернуться и переработать их. Затем на основе этих листов я подготавливаю план всего текста. Я нумерую отдельные отрывки и затем пытаюсь их расставить в нужном порядке. К тому моменту, когда я начинаю мой следующий черновик, у меня есть уже куда более ясное понимание того, куда я движусь. Тогда я пишу уже гораздо более аккуратно и внимательно».
Творческий процесс может не всегда приносить удовольствие, даже если вы пишете уже давно
Соблазнительно думать, что в случае столь талантливого и универсального писателя, как Исигуро, автору достаточно спокойно сидеть перед страницей и смотреть за тем, как Муза переводит его творческий гений в великолепную прозу. Однако это не так.
Даже для того, кто написал множество романов-бестселлеров — которые уже выиграли почетные Нобелевскую, Букеровскую и Уитбредовскую премии, — творческое письмо не всегда является лишь приятным времяпровождением. Как-то на официальном вечере в Оксфорде Исигуро спросили, нравится ли ему писательский труд. Его ответ должен подбодрить всех, кто испытывал муки творчества: «Это не удовольствие, но я уже так долго этим занимаюсь… Впрочем, я не пишу каждый день».

Пишите в вакууме по методике «Ударной работы» Исигуро
В статье в «The Guardian» Исигуро рассказывает об особом рабочем ритме, который позволил ему за четыре недели превратить пустой лист в завершенный черновой вариант его великолепного романа «Остаток дня». Да-да, вы все верно прочитали: первый вариант «Остатка дня», принесшего его автору Букеровскую премию, был написан за четырехнедельный спринт. Вот как Исигуро описал этот процесс, который они придумали вместе с женой для того, чтобы осуществить этот замысел:
«Лорна и я разработали специальный план. На четыре недели я должен был полностью очистить мой рабочий график и сосредоточиться на том, что мы назвали «Ударной работой» [в оригинале «Crash»]. В течение этого периода я с понедельника по воскресенье, с 9 утра до 10:30 вечера, должен был не заниматься ничем, кроме письма. У меня был только часовой перерыв на обед и двухчасовой — на ужин. Мне нельзя было открывать письма и даже просто приближаться к телефону. Никому не разрешено было приходить к нам в дом. Предполагалось, что в эти четыре недели мои домашние обязанности, в том числе готовку, придется взять на себя Лорне, у которой и так был напряженный рабочий график. Мы надеялись, что так мне удастся не только написать большее количество текста, но и достигнуть особого ментального состояния, в котором мой вымышленный мир стал бы для меня более реальным, чем действительность».
Оставьте что-то в запасе к концу дня
Впрочем, перед своим опытом с «Ударной работой» Исигуро придерживался более традиционного взгляда на рабочий ритм и полагал, что у него есть определенный ежедневный объем «производительности» и что он должен оставить часть своей «мощности» на следующий день. При помощи этой энергосберегающей стратегии он написал два великих романа, так что стоит внимательнее отнестись к его словам:
«Я не пишу каждый день; это зависит от того, в какой точке работы я сейчас нахожусь. Для первого черновика даже контрпродуктивно работать над ним слишком долго. Если я пишу больше 5-6 страниц в день и не останавливаюсь, то результат получается ниже того уровня качества, который я стараюсь держать. Это как работа джазового музыканта, который должен дать отдых легким после мощной игры. Всегда есть другие рабочие и бытовые моменты, которые нужно решать».
Отказ может обратиться признанием, даже если вы этого не ожидали
В некоторой степени писательская карьера Исигуро началась с отказа, который затем обратился признанием. Эта вдохновляющая история может дать надежду всем нам: «После университета, когда я работал с бездомными в Западном Лондоне, я написал получасовую радиопьесу и отправил ее на BBC. Она была отклонена, но я получил ободряющий ответ <…> Затем, практически случайно, я по небольшому объявлению узнал о курсе литературного мастерства Малькольма Брэдбери в университете Восточной Англии <…> Я отправил свою радиопьесу Малькольму Брэдбери вместе со своей заявкой. Я был поражен, когда был принят, потому что все это внезапно стало реальностью».
Великие поэты-песенники могут научить нас, как писать великую прозу
Творчество Исигуро началось с песен — и собственных, и чужих, большим почитателем которых он был с самого детства. Как это сформулировано в биографической справке в сентябре 2017 года в газете «The Telegraph», благодаря музыке «он избавился от традиционных описаний «переживаний подросткового возраста» и подражания «модернистским вещам вроде джойсовского потока сознания» и, наконец, записал «довольно плохое демо» в своей спальне, в котором уже чувствовался его тонкий стиль с умолчаниями и недосказанностью» .
Журналу «The Paris Review» Исигуро рассказывал: «Мне нравилась сама идея, что музыкант может быть полностью самостоятельным и независимым. Ты пишешь песни сам, поешь их сам, сам же их оркестрируешь. Меня подкупало это, и я начал писать песни».
Более того, песенное творчество вдохновляло его и в будущей писательской карьере: «Из канадцев на меня больше всех повлиял, вероятно, Леонард Коэн и его песни… Он оказал глубокое влияние на мое становление и на мое обращение к творчеству. Для меня был невероятно грустным тот день, когда я узнал о его смерти. Леонард Коэн и Боб Дилан оказали самое большое влияние на меня и во многом способствовали моему желанию стать писателем».
Помните, что идеи могут прийти отовсюду
Вот история создания романа «Остаток дня», выигравшего Букеровскую премию: «Все началось с шутки моей супруги. К нам пришел журналист для интервью о моем первом романе, и жена спросила меня: «Разве не будет весело, если вот пришел человек, чтобы задать тебе все эти важные и напыщенные вопросы о твоем романе, а ты притворишься, что ты мой дворецкий?». Мы решили, что это очень забавная идея. С этого момента я был одержим дворецким как метафорической фигурой».
Действительно, шутливое предложение притвориться дворецким вылилось в одну из лучших работ Исигуро. Так что идеи могут прийти откуда угодно.

Даниэль Орлов: «Проза — это квинтэссенция опыта автора, опыта народа и опыта человечества»
С 14 по 16 августа в Петербурге пройдет очная интенсивная мастерская «Технология прозы» писателя, лауреата литературных премий, редактора Даниэля Орлова.
Мастер рассказал филологу Марселю Хамитову о роли редактора в литературном процессе и о том, какими принципами должен руководствоваться современный прозаик.
Любой ли человек может стать писателем?
Я далёк от иллюзий, вернее от ереси, что любой человек может стать писателем. Не любой. Да и из тех, кто может, лишь доли процента становятся писателями. Писатель — это предназначение и служение. История определённой аскезы, форма светского монашества.
Где бы вы посоветовали начинающим писателям искать материал для их дебюта — в личном опыте, на улицах, в спасительных костылях жанровой прозы?
Только не в жанровой прозе. И так современные книги полны вторыми и третьими производными от первоначального опыта и смыслов. Только опыт. Ничего другого, кроме опыта. Проза — не самовыражение, не устаю это повторять, и в течение курса буду, как заклинание, повторять снова и снова. Проза — это квинтэссенция опыта автора, опыта народа и опыта человечества, в том числе опыта по переживанию.
Константин Симонов в своём письме к молодым авторам отправлял их на завод, в поле, в далёкое плавание, в тайгу и в пустыню, туда, где реальные люди делаю реальные дела. Это, несомненно, всегда будет основой прозы любого поколения. Есть проза кабинетная, как правило, проза филологов, собранная из найденной в кабинете информации, но плотно отрефлексированная. Так тоже можно. Мне это не очень интересно читать, но сотни тысяч людей будут благодарны.
Важно запомнить главное — ваши переживания интересны только вашим близким и больше никому. А писать надо для читателя, который вас не знает, иначе это не проза, не художественная литература, а домашнее творчество, лёгкая игра в буквы.
Вы не работаете с жанровой прозой?
Я не отрицаю иные жанры, я просто в них не работаю сам. Хотя у меня были и есть ученики, которых я научил писать триллеры и детективы. Они издаются теперь весьма ощутимыми тиражами. Надо сказать, что, конечно же, они многому научились помимо меня, потому я с интересом наблюдаю за их ростом. И дело, как вы уже поняли, не в высококлассности, а в экономии средств. Простота, в том числе в средствах выражения своих идей — добродетель для прозаика.
На какую аудиторию может (и должен ли) ориентироваться современный прозаик — особенно если он работает в малом жанре?
Стреляйте в невидимую цель! Так написал однажды Валерий Попов. Если без метафор, то писать надо для своего поколения и так чтобы это было понятно и интересно читателям поколения на 20 лет вас старше и поколения на 15 младше. Работайте в этой полосе. Для начала этого достаточно. Не задумывайтесь, что пишите для вечности, это ведёт к тому, что пластичная субстанция словосмыслов превращается в бетон идей и штампов. Специально сильно суживать свою аудиторию, используя какой-нибудь субкультурный волапюк тоже не стоит. Вообще, пора перестать спорить о форме. Надо спорить о смыслах.
Как вы считаете, привлекающие читателя метафоры, живой юмор — обязательное условие для художественного произведения или можно с интересом читать «сухой», «голый» текст?
Всё написанное кем-то будет прочитано и кем-то, вне всякого сомнения, похвалено. Одно из умений начинающего прозаика, которое надо в себе культивировать — не реагировать на похвалу. Похвала губительна. Автору необходимо выбрать для себя некоторое количество Учителей, мнению которых можно доверять и в дальнейшем опираться только на их суждения о результатах его литературного труда. Ни на чьё другое! До той поры, пока не накачается авторский мускул. Да и потом не стоит всерьёз относиться к тому, что пишут о ваших произведениях. Но к выбору подобного Учителя надо подходить осторожно и ответственно. Похоже на выбор Духовника, только внутри профессии. Я ни в коем случае на эту роль не претендую, но подтолкну и покажу, как искать.
Что касается юмора внутри прозаического текста, то всего должно быть в меру. Автору нельзя плавать между жанрами и превращать молитву в фарс. А про «сухой» и «голый» текст я не очень понял. Эти эпитеты могут быть как синонимами удачного текста, так и неудачного, всё вопрос инструментария и того, как автор раскрывает тему. У Достоевского сухой текст? Сомневаюсь. Напротив, он многословен. Но все его книги — широкое полотно смыслов, эмоций. Всё очень человеческое. Вспомним современников: у Романа Сенчина «голый» текст? Скорее простой. Но сие не значит, что Сенчин не может писать развёрнуто. Он сознательно выбирает такую форму подачи. Так что, вопрос исключительно конкретики.
Одна из непосредственных задач литературы — метафоризировать реальность
Что, по вашему мнению, обеспечивает языковую дифференциацию героев? Нужны ли для этого экзотические персонажи с яркой речью или писатель может провести это различие мягче?
Речь иных людей, особенно в замкнутых коллективах не сильно различается. Однако в замкнутых коллективах возникают свои словечки, свои интонационные конструкции. Их необходимо подмечать и выковыривать на свет божий. Литература — это не как в жизни. Литература про другое. Одна из непосредственных задач литературы — метафоризировать реальность. Литература, как и искусство вообще, работает с абстракциями, с условностями. В противном случае мы выходим из области художественной литературы и попадаем в документалистику, в очерк. Это всё тоже очень важно, там схожий инструментарий, но мы со студентами этим заниматься не будем. По крайней мере, в рамках данного курса.
Вы много работали и редактором, и с редакторами. По вашему опыту, чужая редактура мешает замыслу или облагораживает его?
Одна ныне издаваемая и весьма писучая барышня однажды сильно оскорбилась на мою редактуру и поставила условие: либо всё оставляем, как есть, либо она забирает рукопись, которая на тот момент была в работе (готова обложка, вёрстка, даже сделан платёж в типографию). Книга выходила в серии, и мне пришлось оставить всё как есть. Теперь не могу ту книгу открыть без стыда, хотя автор за неё даже получила диплом одной не самой глупой литературной премии. Как? Бог знает, это вопрос удачи. Впрочем, это случай экстремальный. Обычно проблемы редактуры решаются на другом издательском этапе.
Известно, что любому, даже самому именитому автору, нужен редактор, сторонний взгляд. Однако, я встречал очень неквалифицированных редакторов, не чувствующих авторов, не понимающих ни ритма, ни структуры произведения, но которое взялись редактировать и высказывать своё суждения в том, что они не в состоянии осознать по узости собственного мировоззрения. Что характерно, обычно они имеют сценарный диплом одного из театральных ВУЗов, например ВГИКа. (Ох, меня сейчас закидают помидорами. Хотя, я привык). Это связано не с качеством преподавания, оно там блестящее. Дело в том, что в театральные ВУЗы идут люди с определённым темпераментом и определенными качествами, которые востребованы и полезны именно в киношно-театральной среде, но не являются добродетелями для литературы.
Что касается редакторов, работающих в современных толстых литературных журналах, то могу им только рукоплескать. Это люди высочайшего профессионализма и такта. Такой редактор никак не может «мешать» замыслу. Опять же, если текст уже принят издательством, то о каком изменении замысла идёт речь? Это может быть коррекция стиля, в некоторых местах коррекция фактологической основы, взаимосвязей событий и персонажей (автора может занести). Но это не продюссерский труд. Здесь никто не делает «социальный заказ».
Можно ли все же научить писательским навыкам?
Навыкам, действительно, можно научить. Это ведь совокупность приёмов. Но ничто не сделает вас писателем, кроме самого Создателя. Другое дело, что это поможет раскрыться вашим творческим способностям. А они уже могут быть востребованы за рамками литературы. И вот это факт. Принципы построения гармонии общие для очень многого, если не для всего во вселенной. А взять и написать бестселлер невозможно, просто потому что кроме правил, есть ещё элемент хаоса в тексте, без которого это не художественная литература, и высокий элемент случайности: повезёт или не повезёт. Обычно всем не везёт. Однако вдруг именно вы входите в тот процент счастливчиков?

Семь советов всем, кто пишет прозу:
- Начинающий автор должен концентрироваться на собственном тексте, слушать свой внутренний голос, следовать своему ритму повествования. Потому опасно в период активного написания собственного художественного текста или непосредственно перед этим читать кого-либо из признанных стилистов. Если вы на ночь будете читать Ремарка, сами того не замечая, напишите «Три товарища».
- Прежде чем писать следующий абзац, перечитайте два предыдущих. Так вы не только не собьётесь с ритма повествования и сохраните стиль, но и найдёте ошибки и неточности, исправите их и сделаете свой текст лаконичным.
- Читайте и перечитывайте свой текст вслух. Для этого не обязательно должны присутствовать слушатели. Даже лучше, если их не будет. Удивительным образом вы заметите большинство своих стилистических и ритмических ошибок, которые пропустите при простом саморедактировании.
- Не верьте тем, кто станет соблазнять вас быстрым успехом, в случае, если будете следовать тем или иным «писательским» приёмам. Инструментарий писателя — его настроенная интуиция, обнажённые нервы и способность к эмпатии.
- Писательский успех – это произведение суммы таланта и труда на удачу. Если вам особенно прёт по жизни, вы станете популярным, даже написав инструкцию к освежителю воздуха. Вы получите за эту инструкцию литературную премию, но литературой ваша инструкция от этого не станет.
- Проза — это не самовыражение. Если есть желание выразить себя, пишите стихи, рисуйте картины или сочиняйте музыку. В этих занятиях вас будет ровно столько, сколько вы того хотите. В прозе автора быть не должно. Проза пишется для читателя.
- . Носите с собой в кармане блокнот. Записывайте каждую удачную мысль, каждое наблюдение. Подслушивайте и подглядывайте за людьми. Будьте к людям внимательны, но оставайтесь незаметны. Если вас заметят, правды вам не откроют. Правду жизни писатель может только подсмотреть, подслушать, а после прочувствовать.
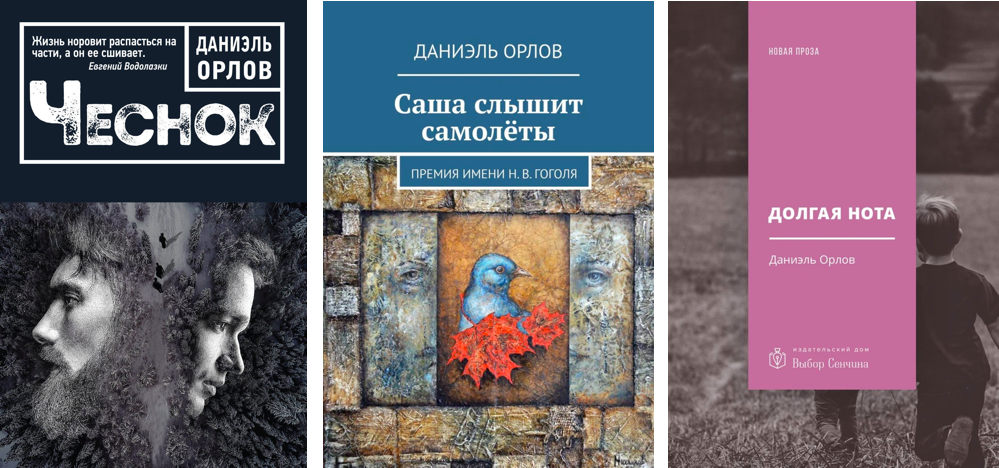
Литературная десятка:
книги, которые вам просто необходимо прочитать
- «Жизнь 12 Цезарей» Гай Транквилл Светоний. Это не просто исторический очерк, это весьма ехидная литература, из которой выросли многие современные очеркисты. С удивлением вы увидите, что стилистически Светония цитируют даже Жванецкий и Гришковец.
- «Генрих фон Офтердинген» Новалиса. Прочесть эту книгу необходимо для того, чтобы понять: не надо накручивать многомудрость вокруг пустоты, ее давно уже в пустоту поместили, чем пустоту наполнили. Здесь вся методология подвига и загадки.
- «Кандид, или Оптимизм» Вольтера. Так сейчас писать нельзя. Ни один уважающий себя литератор не позволит высказываться впрямую. Эта прямолинейность убивает литературу и то живое и нездешнее, что в нее помещает Небо. Но Вольтеру можно. Он был большой просветитель и писал книги для того, чтобы их читали вслух тем, кто не умеет читать.
- Великое пятипьесие Чехова: «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишнёвый сад», «Безотцовщина». Чехов — плохой писатель, скучный сам себе. Ему не хватало просто литературы. Начинал он как фельетонист, продолжал как невольник-рассказчик, пишущий, чтобы прожить, а не от избытка, а закончил как очеркист. Вот тут он был прекрасен. Его «Сахалин» велик. Почему? Фиг его знает, но там что-то очень мощно-трагичное внутри, большее, нежели просто публицистика. А в пьесах Чехов велик. Конкретно в этих. Тут русское всё. Всё совсем русское.
- «Братья Карамазовы». Нельзя заниматься русской литературой, прозой, не прочитав трижды этого романа. О! Нет! Не подряд три раза! А раз в десять лет. Вам двадцать? Вы должны уже один раз прочесть «Кармазовых». Тридцать? Уже два раза. Сорок? Почему Вы решили записаться на курсы? Вам пора всё понять из «Карамазовых».
- «Воскресенье» Льва нашего Николаевича (грозного) Толстого. Страшнее этого романа ничего в русской литературе нет. Но перед вами пример абсолютной жертвенности автора. Тут автор умер во всех персонажах. Кто сейчас так сможет?
- «Ювенильное море» Андрея Платонова. Вот так Платонов предложил писать, когда уже нельзя было писать по-старому. А по-новому — так, как готовы были читать, — ему было писать противно. Посмотрите. Это ли не русский язык? Но лексика уже новая, ритм новый, а смыслы… Ого!
- «Фактотум» Чарльза Буковски. Прочтите для того, чтобы понять, что всё про «я нас*ал на ковёр, потом тр*хнул Бетти» уже в мировой литературе было. А в русской литературе — стараниями сотни эпигонов. Так что хватит. Остановитесь! Кстати, сам Чарльз считал себя эпигоном Генри Миллера и очень ценил его «Тропик Рака».
- «Грузовики “Вольво”» Эрленда Лу. Смешно? Мне тоже смешно. Но этот простой норвежский писатель показывает, как готовы читать в Европе. Ироничная, лёгкая проза без зауми с огромной любовью к персонажам. Он мой ровесник, я его понимаю. А попробуйте написать так просто? Думаете, это легко? Ха-ха! Русскому человеку трудно писать просто и одновременно самостоятельно. Докажите, что под силу!
- «Чеснок» Даниэля Орлова. Как же я буду преподавать студентам, которые не читали моих книг?.. Почему именно «Чеснок»? Потому что он очень разный. Стиль разных частей различается, и это повод для разговора уже о ваших текстах.

Как издать книгу и что делать после
В Creative Writing School пройдет короткая мастерская «Как издать книгу и что делать после».
Ее проведут сразу три мастера: издатель, редактор, переводчик Шаши Мартынова, бренд-менеджер «Редакции Елены Шубиной» Татьяна Стоянова и филолог, редактор Анна Рябчикова.
Вместе с мастерами слушатели разберутся, как оценить готовность текста и где имеет смысл публиковаться. Узнают, как выглядит издательский процесс и что должно быть в договоре. Потренируются составлять синопсисы и презентовать свои тексты издателям и литературным агентам.
А пока наши мастера ответили на несколько вопросов.
Шаши Мартынова,
переводчик, издатель, редактор, писатель, соучредитель и креативный директор сети магазинов «Dodo», в издательском деле с 1998 года.
Как вы думаете, сегодня начинающему автору сложнее публиковаться, чем 10-20 лет назад?
Смотря что мы понимаем под публикацией. Если выход в традиционном издательстве полного цикла тиражом от 2000 экз. и с прилагающимся каким-никаким продвижением — нет, не проще, думаю. Если вообще любое издание не за свой счет — проще, конечно.

В западном литературном мире, особенно в США, сейчас очень развиты различные неклассические сценарии издания книг — от краудфандинга до электронных издательств и print on demand. Насколько все это приживается в России?
Приживается, хоть и неравномерно по стране.
В советское время было привычное для русского уха явление — самиздат. Бум современных платформ для публикаций — это совсем другой феномен?
Нет, вполне тот же, просто гораздо технологичнее.
Есть ли зависимость между типом издательства и качеством продукции?
Есть, конечно. Издатель рискует деньгами и репутацией (это не всегда и не для любого издательства значимо, но тем не менее), а самиздат-платформа — нет.
Вы сами покупаете или скачиваете самиздатные книги?
Покупаю и скачиваю, но редко. Это всегда лично знакомые мне авторы и/или интересующие меня исследовательские темы.
Татьяна Стоянова,
поэт, писатель, бренд-менеджер «Редакции Елены Шубиной».

Сейчас существует столько различных платформ для продвижения собственных книг — это не мешает крупным издательствам?
Разнообразие платформ помогает обрести своего читателя книгам с самой вариативной аудиторией, судьба которых в электронном виде благополучней, чем в печатном. Это здорово, когда есть выбор без ограничений. Свобода слова здесь воплощается наглядно.
При этом книга — как результат работы большой команды профессионалов в издательстве — зачастую чувствует себя на рынке более защищённой. В этом случае автор остается автором, отпуская текст в свободное плавание в крепко сбитой лодке, на веслах который — опытные гребцы. Ему не надо трансформироваться на каждом этапе в дизайнера, редактора, корректора, верстальщика, маркетолога, менеджера по рекламе, думать о том, как продвигать книгу в магазинах и СМИ: издательство ведет этот процесс с нуля и во всем помогает писателю.
Насколько суров ценз в таком издательстве, как «Редакция Елены Шубиной»?
Книги РЕШ — актуальная проза: художественная и мемуарная. Рукописи отбираются по принципу «точный удар, а не шквальный огонь». Мы очень внимательно изучаем присланные произведения: стиль и язык автора, мастерство работы с сюжетом и героями, актуальность и востребованность читателями проблематики. Для нас очень важно качество подготовки книги на всех этапах, от редактирования, корректуры и художественного оформления до типографского исполнения. Изначально мы подходим к выбору книг в портфель с той позиции, что каждая книжная новинка — это важная реплика в разговоре о смыслах и проблемах культурного пространства XXI века. Хотелось бы, чтобы она была весомой и неординарной, вызывала отклик.
Реально ли туда попасть начинающему автору?
Да, реально. Создавать и угадывать тренды в литературе — то, к чему мы стремимся. РЕШ не только издает книги известных писателей, но и ищет новые яркие имена и помогает им найти своего читателя. Мы стараемся следить за развитием начинающих писателей, поскольку зачастую именно их энергия и свобода вносят что-то новое в осмысление современности. Так, РЕШ издает сборники победителей премии молодых писателей и поэтов «Лицей». Кроме того, молодые авторы публикуются в наших сериях «Роман поколения», «Другая реальность», «Классное чтение» и «Актуальный роман». Среди них — Ольга Брейнингер, Вячеслав Ставецкий, Григорий Служитель, Арина Обух, Игорь Савельев, Константин Куприянов, Павел Селуков, Евгения Некрасова, Анна Немзер, Керен Климовски.
Сегодня возможно жить за счет гонораров, роялти и прочих доходов от творчества? Или об этом авторам лучше сразу забыть?
Жить только за счет писательских доходов могут себе позволить авторы бестселлеров, у которых в портфеле есть стабильно продающиеся книги, собравшие вокруг себя массовую аудиторию. Гонорары за встречи и туры, статьи и колонки, продажа прав на переводы, постановки и экранизации, литературные премии — все это также приносит деньги, особенно если автор зарекомендовал себя в медийном пространстве.
За рубежом практика такова, что у писателя есть агент, продюсер или помощник, который берет на себя юридические и финансовые вопросы, чтобы автор писал книги и не задумывался о «насущных заботах». Для российского книжного рынка это скорее не системная ситуация, поэтому мы по мере сил стараемся ее менять и помогать авторам во всех вопросах продвижения.
В целом же ситуация такова, что большая часть писателей совмещает литературную жизнь с какой-то профессией (прямо или косвенно связанной с текстами). Это дает стабильность вне зависимости от успеха книги.
Какие общие советы вы бы дали тем, кто хочет постучаться в крупные издательства?
Если вы верите в свою книгу, дерзайте. Двери открываются тем, кто в них стучится настойчиво и по адресу.
Анна Рябчикова,
филолог, редактор, руководитель редакции «Творчество, популярная литература» в издательстве «Питер».
Как будут проходить занятия в мастерской?
Занятия пройдут в формате вебинара в течение двух дней, что задает хороший ритм работы. В первый день я расскажу о том, как оценить готовность рукописи, почему стоит задуматься о написании нон-фикшена, как стать заметным для издателя и где опубликовать свою книгу. Также мы поговорим про составление синопсиса и разберем заявки в издательство от самых смелых участников мастер-класса.

Во второй день Татьяна Стоянова расскажет о том, как оформлять письмо в редакцию, а Шаши Мартынова — о том, как работает краудфандинг и чем он может помочь автору. Во второй половине занятия мы, лекторы, уйдем на задний план и с удовольствием послушаем вас, участников. Питчинг — это репетиция вашего общения с издателем. Здесь мы будем не строгими экзаменаторами, а продюсерами, так что вместе подумаем, как выгоднее представить вашу рукопись.
Помогут ли эти занятия достучаться до издателей?
Да, помогут, потому что вы поймете порядок работы издательства, фокус их интереса и решите, нужно ли это вам. Может, попробовать другую стратегию?
Как понять, что твой текст готов к публикации, и решиться отправить рукопись в издательство?
В следующий раз, когда вы будете в незнакомой, но дружественной компании, проведите эксперимент. Представьтесь писателем и отвечайте на вопросы заинтригованных собеседников. Они точно спросят у вас: о чем книга, про что она (да, это разные вопросы), для кого и зачем вы ее написали. Если окажется, что вы путаетесь в показаниях, звучите неубедительно и толком не знаете, что ответить, значит, книга не готова и вам стоит порепетировать еще раз. Это самый бюджетный способ проверить идею рукописи. Если вы готовы к затратам, то эффективнее всего поработать с редактором или бета-ридером.
Какие самые частые ошибки начинающих авторов, во что бы то ни стало мечтающих опубликовать свой текст?
Корень зла один — это поспешность. Автор так хочет поделиться своим озарением, что не дает тексту отлежаться, не показывает эксперту, не изучает книжный рынок, толком не разбирается кому из издателей отправлять, а делает веерную рассылку… Когда вы закончили рукопись, ликуйте и пируйте неделю, а потом вернитесь в образ делового человека, составьте стратегии публикации рукописи и действуйте методично, пока не добьетесь своего.
Как правильно выбрать издательство для публикации?
У каждого издательства есть свой профиль. Если вы плохо ориентируйтесь в книжном рынке, помогут два универсальных совета. Первый, очевидный — зайти на сайт издательства и почитать раздел «О нас». Как правило, там рассказано и о миссии, и о портфеле, и о критериях отбора рукописей новых авторов. Второй совет — посмотреть, кто издал книги, которые близки вашей задумке, и написать в эти редакции.
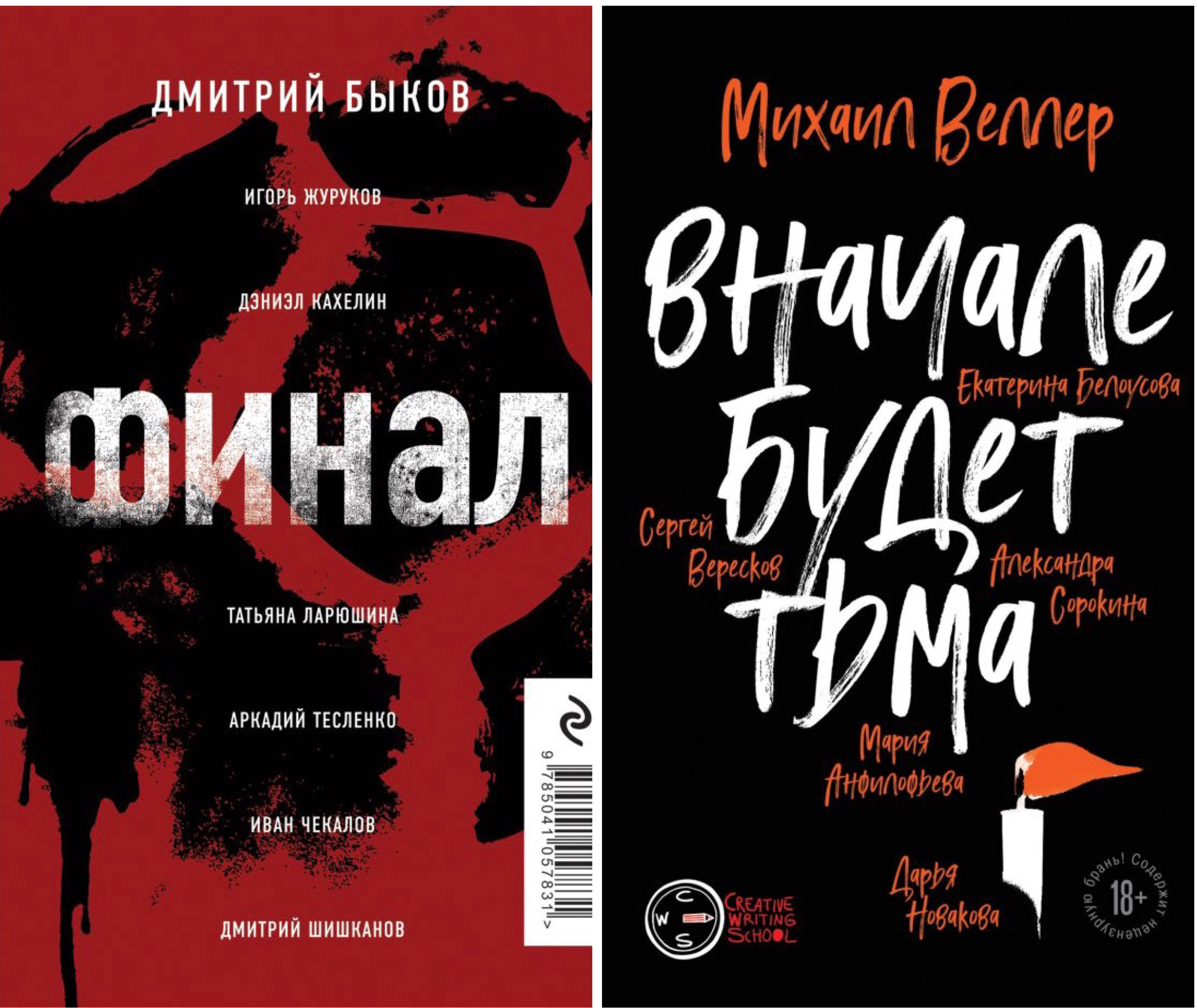
Как написать коллективный роман
В конце 2019 года в издательстве «Эксмо» вышла книга-перевертыш, появившаяся в результате «Битвы Романов», совместного проекта CWS и издательства «Эксмо». В экспериментальном проекте две группы начинающих писателей под руководством опытных наставников работали над коллективными романами. Роман о футболе «Финал» создали молодые писатели под кураторством Дмитрия Быкова*. Социально-фантастический роман о будущем «Вначале будет тьма» написали их оппоненты вместе с куратором Михаилом Веллером.
Наши коллективные романы «Финал» и «Вначале будет тьма» стали частью спецпроекта издательства «Эксмо» и Национальной электронной библиотеки. В этом проекте библиотека и издательство бесплатно делятся новинками современных авторов со всеми, кто зарегистрирован на портале «Госуслуги». Просто заходите на сайт и читайте!
Коллективные романы имеют свою историю и особенности. Представляем перевод статьи писательницы Керидвен Дови из журнала «New Yorker» о трех коллективных романах, созданных в Австралии, Италии и Южной Америке, и тех радостях и трудностях, с которыми пришлось столкнуться их авторам.
Истории трех писательских коллективов на трех разных континентах
Все началось на выходных в сиднейском книжном клубе «Букслатс» (Booksluts, букв. «Книжные проститутки»). Девиз клуба звучит: «Мы прочтем что угодно». Шесть из восьми постоянных членов группы обсуждали «Преступление и наказание» и предстоящую десятую годовщину клуба, которую они мечтали отпраздновать путешествием по Транссибирской железнодорожной магистрали. Они в шутку решили, что соберут средства на эту поездку, написав совместный роман. К этому времени было выпито много водки, и обсуждение сюжета переросло почти в истерику.
Но на следующее утро друзья купили плотную бумагу и маркеры и потратили весь день, набрасывая идеи. Они решили, что напишут «сельский роман», действие которого будет разворачиваться в австралийском буше. Договорились, какой будет предыстория их героини, городской девушки, получившей в наследство ферму, на которой вырос ее отец, таинственно исчезнувший. А искры полетят, когда она встретит по соседству прекрасного (и помолвленного) владельца животноводческой фермы.
Домой «Букслатс» принесли обозначенные сцены, которые нужно написать, а также невысказанное сомнение, что проект добьется успеха. Однако спустя время завершенные фрагменты начали одновременно, как в часовом механизме, приходить в их папку «Входящие». Спустя несколько месяцев встреч и внутренних рокировок была образована рабочая группа из пяти женщин — Дженни Крокер, Мадлен Оливер, Джейн Ричардс, Джейн Сент-Винсент Уэлч, Дениза Тарт. Лишь немногие из них имели писательский опыт, в основном в области журналистики, а некоторые вообще не имели никакой подобной практики. В чем у них и был богатый опыт благодаря десятку лет в книжном клубе, так это в критике романов с уверенной и одновременно уважительной интонацией.
Следующие три года они виделись так часто, как только могли (обычно один раз в неделю) и писали в любой свободной момент, который выдавался в течение рабочего дня и между семейными делами. Уже по ходу дела они разработали систему, позволяющую управлять логистикой группового письма и его проблемными точками. Они совершили поездку в сельскохозяйственный район, где происходит действие их романа, далеко на западе от Сиднея. Там они поняли, что многое представляли себе неправильно: земля была черной, а не красной; белое вещество на бушах было не мусором, а хлопком, который упал с тележек.

Эротические пассажи поначалу были очень проблемным местом. Каждая из авторов представила анонимную версию первых сексуальных сцен романа, этот подход они позднее описали как «ты покажешь мне твое, и тогда я покажу тебе мое». Однако они быстро поняли, кто какой фрагмент написал, — слишком хорошо друг друга знали. Их мнения о том, что можно считать эротикой «в законных рамках», сильно различались (сцена, которая в итоге была включена в книгу, смешивает все их варианты). Со временем они преодолели внутренние запреты на описание или обсуждение секса, но осторожно следили за тем, как называют эти сцены в компьютере — на случай, если в файлы заглянут их дети подросткового возраста. Например, хорошим вариантом была «Инструкция к стиральной машине», «потому что ни один пятнадцатилетний подросток не откроет этот документ». Сейчас писательницы гордятся тем, сколько запретов им удалось преодолеть: в начале книги героиня мастурбирует, что чаще всего табуировано в традиционном романе, а также в книгу вошла противоречивая сцена, в которой героиня занимается сексом со своим возлюбленным в пещере над скелетом ее отца.
Друзья и родственники пришли в восхищение от их проекта, но иногда, казалось, делали ставки, как долго он продержится. Однако, несмотря на переезды, смену работы и болезни, женщины продолжали писать, потому что это было здорово — создавать что-то вместе.
В конце 2013 года они отправили свою рукопись под названием «Раскрашенное небо» (The Painted Sky) главному австралийскому издателю. Это было единственное место, куда они подали ее, и были поражены ответом: «Я читаю вашу книгу, не могу оторваться». Издатель был впечатлен единым голосом рассказчика и выразительными описаниями. Они выбрали псевдоним для романа, который скоро должен был выйти в печать. Остановились на Алиса Кэмпион (Alice Campion) — издатель посоветовал взять фамилию, начинающуюся с буквы, которая на полках в книжных магазинах соответствовала бы уровню глаз, а имя с австралийским колоритом.
Чтобы отпраздновать, Алисы (как они стали теперь называть себя) купили одинаковые браслеты, сделанные из старых деталей печатной машинки, и сразу же приступили к работе над сиквелом.
Примерно в то же время в Кейптауне в Южной Африке три женщины — Сара Лотц, Хелен Моффетт, Пэйдж Ник — решили за обедом с обилием шампанского написать серию эротических романов в формате «Выбери себе приключение» (Choose-your-own-adventure). Книга «Пятьдесят оттенков серого» тогда была на пике популярности, и женщин раздражало, что после десятилетий феминизма героиня этих романов была стереотипной «невинной девственницей», которую «укрощает» мужчина. Они решили, что было бы классно придумать опытную героиню, которая испытывает своих сексуальных партнеров. У них уже был опыт работы, связанной с литературой и творческим союзом с другими людьми, — в рекламе, в качестве автора ужастиков или фантастики (которые иногда пишутся вместе с партнером), преподавателя или редактора. И все они были трудоголиками.
На пути домой после обеда одна из участниц начала продумывать сцену в своей голове; она писала в этот вечер допоздна. Затем отправила остальным то, что получилось. Другая участница группы, страдающая бессонницей, приняла эстафету. Третья позвонила своему агенту и рассказала ему об их плане. «Это либо сумасшествие, либо великолепно», — ответил он. Созданная на основе этого плана первая книга «Девушка идет в бар: твоя фантазия, твои правила» («A Girl Walks Into a Bar: Your Fantasy, Your Rules»), была продана в 21 стране. Им пришлось за год с небольшим написать еще три книги серии. В качестве своего псевдонима они выбрали имя «Хелена С. Пейдж» (Helena S. Paige). Как объяснили писательницы, «Хелена» звучит более порнографично, чем «Хелен», а Сара согласилась, чтобы включили ее инициал.
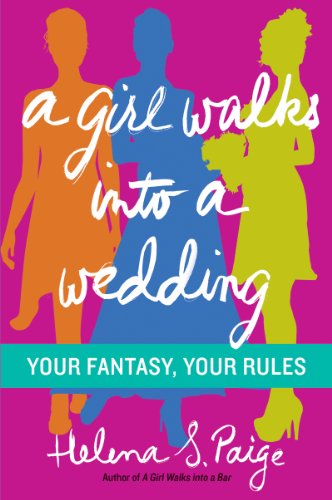
Хотя романы, написанные тремя и более людьми, являются редкостью, «Хелены» знали, что творческие дуэты встречаются довольно часто и что другие формы художественного развлечения (телешоу, фильмы, спектакли, песни) обычно являются продуктом совместной работы. Они не думают, что романы должны в этом чем-то отличаться — особенно в эротическом жанре, где читателям нужен не особый взгляд на мир, а увлекательное и возбуждающее чтение с одним или двумя неожиданными поворотами сюжета.
Они начали писать и вскоре столкнулись с несколькими препятствиями. Одна из авторов обнаружила, что она впадает в ступор каждый раз, когда героиня близка к сексу. «Здесь следует сцена секса», — писала она, когда готовила план. Другая страдала от временной амнезии после того, как ее ударили по голове во время ограбления дома. Она шутила: «Когда я получила обратно мою память четыре месяца спустя, то с изумлением обнаружила, что стала соавтором эротического романа!». Им часто приходилось режиссировать постельные сцены, чтобы увидеть, какие куски куда должны пойти. В одном случае они поняли, что их героине понадобилось бы три руки, чтобы сделать все то, что они заставили ее делать на одном особом свидании. Они выкинули из своего словаря эвфемизмов формулу «дамский садик» (англ. «lady garden», т. е. лобковые волосы), купили розовое эрекционное кольцо, чтобы посмотреть, как оно работает, и заключили договор, согласно которому если кто-то из них умрет во время написания романа, то «одна из оставшихся должна немедленно добраться до их компьютера и удалить историю поисков в браузере».
К счастью, они обнаружили, что у каждой из них есть дополнительные умения: кто-то был мастерицей сюжетостроения, кто-то ломовой лошадью, кто-то безжалостным редактором. Это было изнурительно и безумно весело. Это был проект, о котором никто из них не мог бы даже и мечтать в одиночестве. Они стали называть друг друга Домовыми, как в сказке братьев Гримм «Домовые и сапожник». Написание романа в группе может казаться почти магией, книга таинственным образом все растет и растет, почти независимо от чьего-то индивидуального усилия.
Уже прочно укрепилось представление о романистах как одиноких творцах. Больше двадцати лет назад группа итальянцев решила развенчать эту идею. Они были частью сообщества художников и активистов «Лютер Блиссетт» (Luther Blissett Project), который взял свое имя, по сложной ассоциативной связи, от английского футболиста, у которого в начале 1980-х был короткий и катастрофический матч за клуб «Милан». Самые большие отделения «L.B.P.» были в Болонье и Риме, и в основном они совместно организовывали контркультурные выходки против истеблишмента ведущих СМИ. На встрече около пятидесяти участников «L.B.P.» в 1995 году кто-то предложил, чтобы болонское отделение написало в качестве эксперимента роман. Четверо мужчин — Роберто Буи, Джованни Каттабрига, Лука Ди Мео, Федерико Гульельми — вызвались волонтерами и приступили к работе над текстом, который они назвали «метаисторическим» романом.
Для вдохновения они обращались к итальянским художественным группам прошлого, таким как сюрреализм. Все мужчины были из семей рабочих и проверяли свои университетские штудии в области философии и истории тяжелым трудом — от работы на плантации киви рядом с Болоньей до службы почтальона или ночного курьера. Никто из них до этого не писал романы, но они привыкли объединять усилия в качестве средства сопротивления авторитарным и капиталистическим силовым структурам. Писать художественную прозу вместе им показалось вполне естественным. Они надеялись, что совместный роман сможет быть лучшим средством сопротивлениям.

Каждому из них нравилось исследовать исторические периоды, так что они решили написать свой первый роман «Q», основываясь на этом. Они набросали заметки по истории Европы XVI века, эпохе Реформации и крестьянской войны в Германии, затем соединили конкретные точки, «импровизируя материал в ходе долгий обсуждений», проработали персонажей, сценарий, сюжетные линии. Затем они позаимствовали кинематографические термины, чтобы определить фазы работы, разделив «сценарий» на «нарративные ряды». Они разбавили густой исторический материал тем, что по существу можно назвать триллером: главный герой, реформист, в течение тридцати лет преследуется по всей Европе шпионом католической церкви.
Когда «Q» был опубликован в 1999 году под «многопользовательским» псевдонимом Лютер Блиссетт, он стал бестселлером в Италии, продавался по всему миру и попал в лонг-лист конкурса «First Book Award» газеты «The Guardian». После этого группа добавила пятого участника, Риккардо Педрини, и они решили назвать себя Ву Минг — имя, которое иногда использовалось китайскими диссидентами для того, чтобы подписывать политические трактаты, и которое означает «Анонимный» или «Пять имен».
Коллектив Ву Минг продолжил писать совместные метаисторические романы, среди которых «Манитуана» об американских колониях XVIII века, и «Алтаи», где история рассказывается венецианским охотником на шпионов XVI века. Участники также организовали один или два параллельных проекта с одобрения всей группы. Так, например, Ву Минг 4 основал итальянскую ассоциацию по изучению трудов Толкина.
Как заявляет группа Ву Минг, в Италии различия «высокого» и «низкого» искусства менее строгие, чем в англоязычном мире. Тогда как другие их совместные проекты часто описываются как авангардные, метаисторические романы вполне успешно располагаются в популярном сегменте литературы. Они читаются так, как если бы Дэн Браун написал их под наркотиками. Главы кончаются на неожиданном повороте сюжета, «Алтаи» рассказывают о мужчине, который «видел тела, превращенные в бесформенную массу артиллерией Ипполита д’Эсте, оттоманских пиратов, загружающих корабли, перерезанные глотки, тела с половиной лица и одним широко открытым глазом».
Сегодня Ву Минг состоит из трех членов: Ву Минг 1, Ву Минг 2 и Ву Минг 4. Они встречаются раз в неделю в доме Ву Минг 2 в Болонье, когда их супруги на работе, а дети в школе, а пишут в остальные дни. Когда они уже погружены в работу над романом, то встречаются каждый день. Сейчас они уже могут жить за счет писательства: хотя их романы можно скачать бесплатно, продажи бумажных книг все еще значительны, особенно в Италии.
Романы являются частью широкой экосистемы «Ву Минг»: они работали вместе с уличными артистами и фокусниками; они создали «Wu Ming Foundation», которая проводит передвижные мастерские по искусству сторителлинга; они участвуют в других коллективах, включая проекты по совместному туризму и писательству. Они называют себя «группой» и даже выпустили музыкальные записи; они описали свои книжные туры как «почти в духе Grateful Dead». Однако они отказываются фотографироваться или выступать на телевидении, поскольку не выносят культ знаменитостей.
Их романы время от времени критикуются более консервативными итальянскими критиками. Вот перевод фрагмента одной рецензии: «В нашей литературе четыре мозга объединились, чтобы написать книгу, равную нулю мозгов или даже меньше». Рецензент добавил, что работа представляет собой «фруктовый салат из комических книг, старых фильмов, ТВ-клипов, сошедших с ума киносценариев, иностранных телефонных справочников», плюс описания «старинных картин и бредовых имитаций» авантюрных романов Эмилио Сальгари.
Удовольствие от совместного творчества может показаться таким плодотворным, что впору задуматься, почему кто-то вообще пишет в одиночку. Различные методы работы в группе — чередование устного проговаривания с глазу на глазу (что коллектив Ву Минг называет «импровизацией в свободной форме») и писания в одиночестве между встречами — дает людям с разными творческими темпераментами равные шансы привнести что-то в проект. Многие соавторы говорят, что коллективное обсуждение идей было безопасным пространством, в котором ни одна идея не могла показаться смешной и ни одно предположение не игнорировалось. Вместо одиночества и бесконечного сомнения в себе пишущего в одиночку автора у них было товарищество и подбадривание друг друга.
Многие из них позже описывали, что их стимулировало писать лучше чтение блестящей сцены соавтора. Они чувствовали ответственность за свою работу и желание не подвести других. Когда группа встречается с творческим кризисом, это оказывается не свидетельством слабости или провала, но знаком того, что они на ложном пути как группа. Они культивировали отношение «подталкивающего компромисса», договорившись, что они должны сделать что-то радикальное, чтобы вновь активировать творческий источник — «сделать это более сумасшедшим», или удалить все, или же использовать «необычный элемент или сюжетный механизм, которые не использовал бы никто другой».
«Алисы» вначале переживали, что читатели не будут знать, что делать с «ненормальным пятиголовым» автором, или решат, что это было обычным трюком. Они также беспокоились, не помешает ли удовольствие, которое они получали, восприятию их групповой работы. Как они говорили, «в случае романа люди хотят, чтобы вы доказали им, что вы действительно страдали, пока писали его». Но все, кого они встречали, были заинтригованы их историей совместного творчества. Книжные туры для всех трех групп превращались в веселое шоу. Даже чтения в пустых региональных библиотеках не были скучными, потому что они не были там в одиночестве. У разделения ответственности в публичных выступлениях есть и другие преимущества. Так, участники Ву Минг, поочередно сменяя друг друга, смогли посещать около ста пятидесяти событий ежегодно, чтобы встретиться со своими читателями по всей Италии, а Алисы и Хелены могли продолжить трудиться на своей дневной работе во время рекламных туров их романов.
Так почему написанные группой романы так редки?
Конечно, есть отталкивающий финансовый фактор: распределение между собой авансов и авторских гонораров означает, что это не слишком прибыльный проект (впрочем, таким не является и написание романа в одиночку). Также преградой служат устоявшиеся представления о том, чем должен быть роман. Фильм и телевизионные сценарии зависят от многих людям с различным набором умений — продюсеров, дирижеров, актеров. В результате эти сценарии представляют собой смесь художественных и технических элементов. Но романы обычно не считаются техническими документами, которые можно разложить на составные части — чаще всего представляется, что их пишут «от всего сердца». Как полагают Алисы, из-за этого люди склонны сомневаться в «честности» написанного группой романа. Они говорят, что «культуре сложно поверить в идею разделенных сердец».
Люди также склонны полагать, что сообщество авторов никогда не сможет иметь тот «усредненный» общий голос, что чаще всего есть в личных высказываниях. Авторы двух скандально известных групповых романов прошлого даже не заботились о таком синтезе. «Плавающий адмирал» (The Floating Admiral), опубликованный в 1931 году, был написан тринадцатью членами Детективного клуба, включая Агату Кристу и Г. К. Честертона, причем каждый автор брал себе отдельную часть так, чтобы они не перекликались. В 1969 году двадцать пять журналистов газеты «Newsday» опубликовали под псевдонимом Пенелопа Эш эротический роман, названный «Незнакомец пришел обнаженным» (Naked Came the Stranger), со свободным неоднородным стилем. Зачинщики группы хотели доказать ироничное предположение, что любая книга может добиться успеха, если она достаточно извращенная. Роман стал бестселлером; мистификация, обнаруженная через пару недель после его выпуска, только способствовала его популярности.
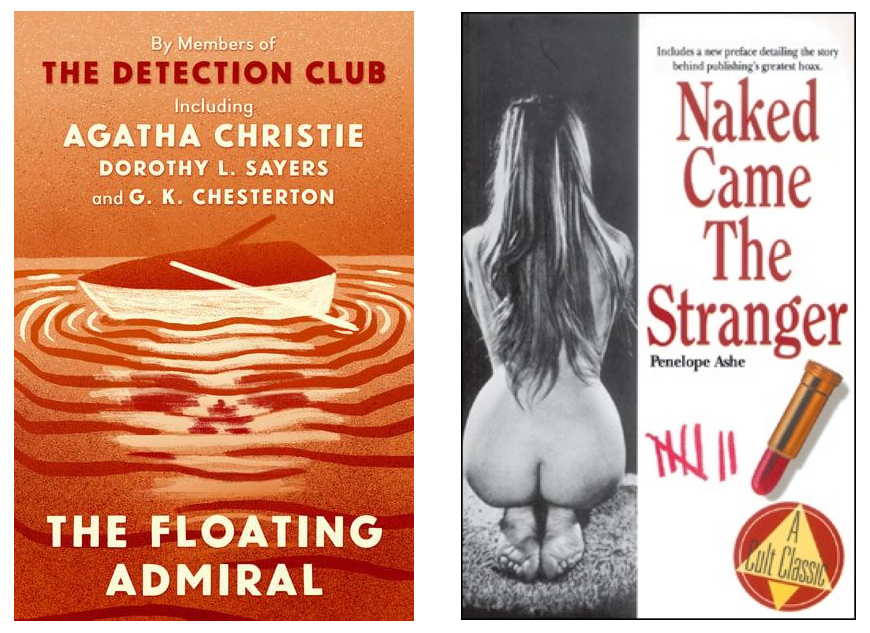
«У людей есть предрассудки о литературном стиле, — сказал один из членов Ву Минг. — Они думают, что у каждого писателя есть его собственный голос, причем только один. Мы думаем, что у каждого автора, индивидуального или коллективного, много голосов». Однако, как Алисы и Хелены, коллектив Ву Минг попробовал метод, который произвел эффект унификации: как только конкретная сцена была написана одним из участников группы, она переписывалась кем-то еще, затем передавалась для переписывания третьему участнику. Это постоянное переписывание лишало смысла любые утверждения о «собственности» характеров или сцен и означало, что каждый автор должен приспосабливать его или ее личный вклад к основному стилю группы (первая сцена в «Раскрашенном небе» была переделана Алисами пятнадцать раз, прежде чем роман был допущен к публикации).
Тогда как Алисы и Хелены рассматривают возможность подавить личное эго для совместного творчества как преимущественно женскую суперсилу, группа Ву Минг оперирует сходным принципом: «Писать вместе значит не выдаваться». Как они говорят, ты должен признать, что «ты не высекаешь свои слова в камне или мраморе, ты пишешь их на песке палочкой». Они настаивают, что общая неспособность увидеть саму возможность совместной работы над романом тесно связана с идеологией. Они уверяют, что «это все связано с капитализмом, с теми ожиданиями, что у тебя есть на рынке идей, книг, издательской индустрии, а не с тем, что роман объективно сложнее написать вместе».
Естественно, есть те элементы, что мешают процессу. Контроль версий электронных документов стал настоящим кошмаром для Алис, так что они, в конце концов, выбрали Денизу Тарт «святым KOW», то есть Хранителем Слов (Keeper of the Words). Она потратила кучу времени, сверяя возраст персонажей, целостность сюжета, семейные древа, даже количество этажей в домах (в какой-то момент они поняли, что по-разному представляли себе фермерский дом). Она осторожно сохраняла названия и нумерованные версии сцен и делала заметки во время встречи, чтобы группа затем могла осуществлять проверку. Тарт, как говорят остальные участницы, может вспомнить знаки зодиака каждого персонажа из их книг, более того, она посылала всей группе электронные письма, отмечающие очередную годовщину больших событий в жизни их героев («Сегодня годовщина того дня, когда Нина и Хит занялись сексом в пещере!»). Хелены также изначально приняли несколько базовых правил, одно из которых гласило, что в случае любых несогласий нужно следовать большинству, и никому нельзя было обижаться, если была выбрана не ее точка зрения.
Худшей стороной группового письма — как это испытали на себе Алисы и коллектив Ву Минг — оказалась потеря одного из участников из-за ссоры или творческих различий. Когда Алисы почти завершили первый роман, после нескольких лет совместной работы в «удивительной гармонии» одна из участниц группы, Мадлен Оливер, которая основала книжный клуб «Букслатс», не согласилась со сроками издания и заявила, что группа не должна была принимать изначальные сроки, предложенные издателем. Ее возражения была отвергнуты, и она решила, что была исключена из группы. Она отказалась идти на презентацию книги, сказав: «Я чувствовала, что не могу играть «счастливую семью», когда я была так жестко исключена из нее». Она не присоединилась к остальным для написания второго романа Алисы Кэмпион, «Изменчивый свет» (The Shifting Light, 2017).
«Совместная работа была одним из самых волнующих и вдохновляющих периодов моей жизни и одновременно одним из самых болезненных, — сказала она. — Это не озлобило меня против совместного письма, совсем; на самом деле это научило меня важности умения управлять своими ожиданиями и быть честной». Сейчас она пишет мемуары об этом опыте.
Трое из Алис затем написали электронное пособие по групповому творчеству. Здесь они рекомендуют сразу установить сроки работы, прежде чем начинать, в случае если дела пойдут наперекосяк. Электронная книга содержит образцы Кодекса поведения (№1: Я обязан смотреть на эту книгу вплоть до конца; №12: Я буду сохранять свое чувство юмора) и Соглашение о совместном авторстве, в котором четко обозначено, что должна делать группа, если один из авторов выйдет из проекта, и какие правила регулируют будущее использование группового псевдонима.
Участникам Ву Минг также пришлось решать проблему сохранения целостности группы. Ву Минг 3 вышел из коллектива в 2008-м, поскольку у него была, по его собственному описанию, «сложная личная ситуация», без каких-либо очевидных недовольств с его стороны. Даже в этом случае было непросто. Оставшиеся участники описали потерю Ву Минга 3 как «по меньшей мере, дезориентирующую. Это был кризис». По их словам, им пришлось начать все сначала, чтобы дать всей группе естественный импульс «работать, писать и взаимодействовать».
В 2015 году Ву Минг 5 также решил оставить группу после нескольких лет нарастающего отчуждения. Дела приняли неприятный оборот, когда он опубликовал книгу под именем Ву Минг 5, хотя он уже не был официальной частью коллектива, и дал интервью СМИ, в котором сказал, что не разделял этические и публичные взгляды группы (он также позировал для фото). «Это было не просто больно, а поставило нас в тупик», — сказал один из участников. Оставшиеся члены Ву Минг решили формально дистанцироваться от него, проинформировав прессу, что им «не нравится как его поведение, так и сама книга, которая не имеет ничего общего с их поэтикой». Больше они его никогда не видели.
*Признан иноагентом на территории РФ
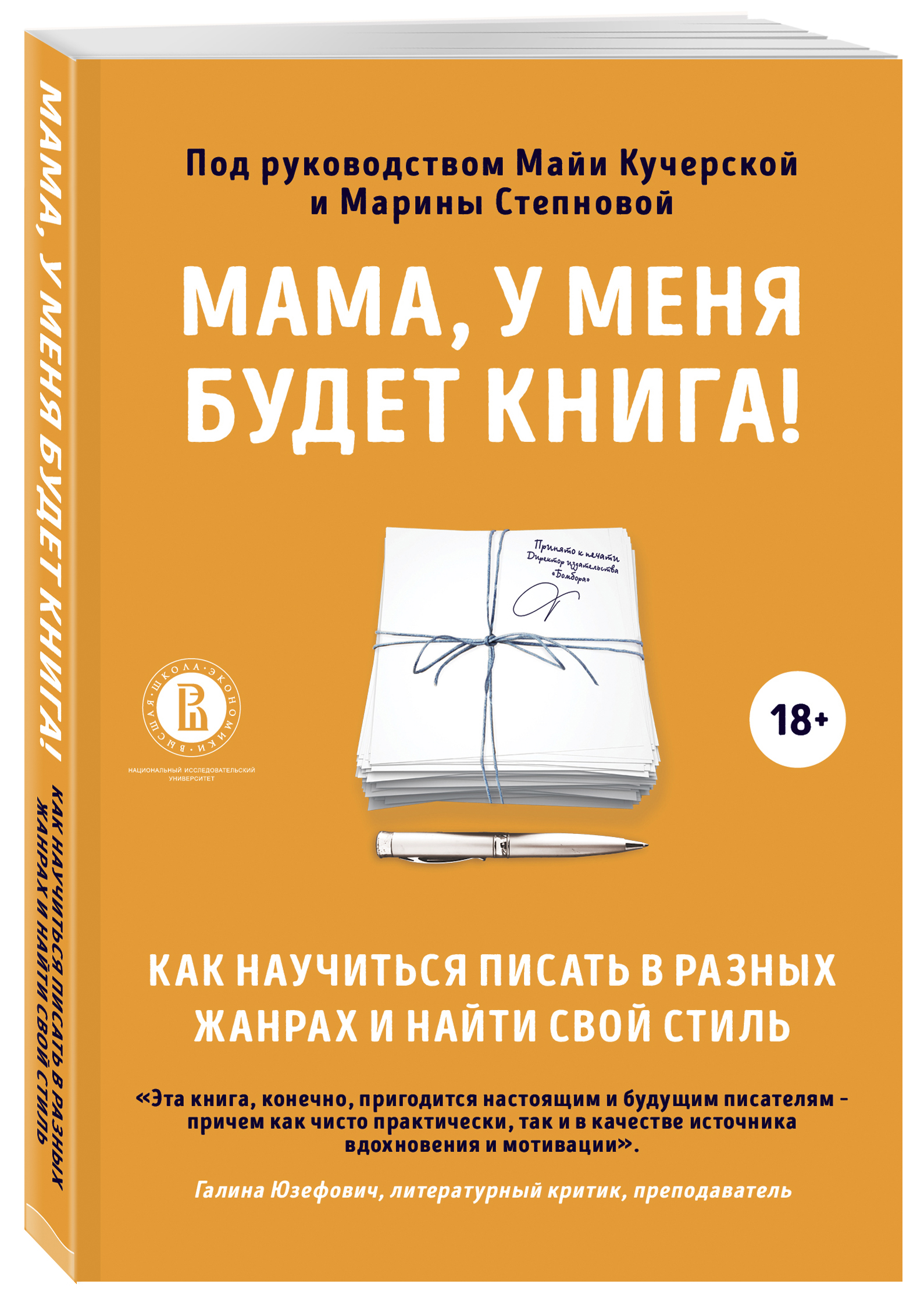
Кросс-жанр
В издательстве «Эксмо» вышел сборник «Мама, у меня будет книга!», посвященный жанрам художественной литературы.
Авторы этой книги — молодые писатели, выпускники магистерской программы по литературному мастерству НИУ ВШЭ. А некоторые из них — Наталья Калинникова, Анастасия Пономарева, Анастасия Фрыгина, Сергей Лебеденко — также вели мастерские в Creative Writing School. Руководили проектом писатели и преподаватели Майя Кучерская и Марина Степнова.
Книга разбирает по полочкам девять ведущих жанров художественной литературы: детектив, фантастику, антиутопию, фэнтези, ужасы, эротику, магический реализм, а также кросс-жанр, главу о котором мы и предлагаем прочитать.
У жизни нет жанров. Жизнь — это ужасающий романтический трагический комический научно-фантастический детективный роман с ковбоями. И с щепоткой порнографии, если повезет.
Алан Мур, писатель, автор комиксов
Давайте сразу признаем одну важную вещь: разделение культуры на «высокую» и «низкую» никуда не делось. Утверждая обратное, мы только рискуем впасть в когнитивный диссонанс, когда захотим почитать дискуссии о современной литературе: литературные критики на полном серьезе отказываются обсуждать фантастику, за ними следуют издатели, которые фантастику не печатают, с другой стороны, появляются фантасты, которые искренне признаются, что не знают, кто такой Лев Данилкин, и с религиозным пылом набрасываются на литературного критика, пишущего об условном «мейнстриме», если он попытается вынести хоть какое-нибудь суждение о фантастике, претендующее на компетентность. Фантастика как жанр оказывается в «гетто», куда ее загоняют предрассудки высоколобых критиков и защитные инстинкты самих фантастов.
С другими жанрами происходит все то же самое, но там конфликта «высокого» и «низкого» восприятий не наблюдается: авторам детективов и романтической прозы просто не за что воевать, а фантастам как провозвестникам будущего приходится свою версию этого самого будущего отстаивать. А в каких-то случаях отстаивают и саму попытку заглянуть в будущее, ведь разочарованный житель 2019 года предпочитает антиутопии утопиям, а новости из наших лент соцсетей только поддерживают пессимистический настрой.
Если мы утверждаем, что разделения на «низкое» и «высокое» не существует, то подобные дискуссии вызовут у нас только недоумение.
Вот только правомерно ли это деление?
«Но ведь «большие романы» всегда отличает изысканный стиль, высокое качество прозы, цельность замысла!..» — воскликнет здесь консервативный читатель, на что в ответ я молча разверну список книг авторов «большой прозы», где мой уважаемый незримый собеседник увидит драму с элементами детектива, историческую прозу с перемещениями во времени, историческую прозу с элементами фэнтези и антиутопии и настоящий магический реализм, в котором древнегреческая мифология тесно сплетается с реалиями обычного российского города нулевых.
Авторы «большой прозы» пишут фантастику и ужасы, а фантасты пишут популярный нон-фикшн. Происходит полное смешение жанров и разрыв границ литературы, так что у уверовавшего в грани- цы между «высоким» и «низким» при взгляде на шорт-листы главных литературных премий может случиться легкое помешательство.
Но его ждет еще большее изумление, когда я скажу, что смешение жанров и переплетение «высокого» с «низким» существовало всегда.
Нет необходимости прослеживать всю историю жанровых смешений от средневековых мистерий до фантастического «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле и фэнтезийного «Сна в летнюю ночь» Шекспира, так что перенесемся сразу в 1764 год, когда Хорас Уолпол публикует первый готический роман — «Замок Отранто». Смешение жанров встречает нас уже во вступительной статье, в которой автор пишет:
«В этом произведении была сделана попытка соединить черты средневекового и современного романов. В средневековом романе все было фантастичным и неправдоподобным. Современный же роман всегда имеет своей целью верное воспроизведение Природы, и в некоторых случаях оно действительно было достигнуто. В вымысле нет недостатка и ныне; однако богатые возможности воображения теперь строго ограничены рамками обыденной жизни. Но если в новом романе Природа сковала фантазию, она лишь взяла реванш за то, что ею полностью пренебрегали в старинных романах». (Перевод В. Шора)
Итак, автор задавался целью соединить в романе миметическое повествование с диегетическим, то есть и сюжетные события по- казать как-они-есть, и насытить рассказ художественной образностью. В результате герои романа вовлекаются в драматический конфликт, который сопровождают сверхъестественные события. Тут важно и то, что главным героем «Замка» является некий Манфред Отрантский, прототипом которого стал реально существовавший король Сицилии XIII века. Таким образом, в сплетенном из разных художественных традиций «Замке Отранто» рождаются два новых жанра: исторический и готический романы, — и два этих отпрыска XVIII века долго будут находиться в нерушимой взаимосвязи 1. Достаточно вспомнить, как в романах классика исторического романа Генрика Сенкевича в роли второстепенных героев появляются вурдалаки и нежить — гости из «готики».
Готический модус характерен и для исторических романов Вальтера Скотта, а действие произведений «певцов романтизма» Гёте и Кольриджа часто разворачивается в Средневековье.
Для русской литературы этого периода характерно жанровое смешение не просто характерно. Все еще серьезнее: русская литература из этого смешения родилась. Юрий Тынянов пишет:
«Вся революционная суть пушкинской «поэмы» «Руслан и Людмила» была в том, что это была «не-поэма» (то же и с «Кавказским пленником»); претендентом на место героической «поэмы» оказывалась легкая «сказка» XVIII века, однако за эту свою легкость не извиняющаяся; критика почувствовала, что это какой-то выпад из системы. На самом деле это смещение системы» 2.
«Смещение» литературы в результате «смешения» жанров вообще ключевое определение для Тынянова. Его поддерживает Лотман:
«При таком соотношении жанров, их постоянной перекличке и взаимном вторжении, образовывавшем как бы единый многоголосый оркестр, в принципе отменялся иерархический подход к жанрам. Ценность того или иного жанра определялась его художественной выразительностью в рамках данного замысла, а не местом в абстрактной иерархии. Перенесение норм одного жанра в пределы другого оказалось важным революционизирующим средством пушкинского стиля и источником его динамики. Отсюда поражавшее современников ощущение новизны и необычности пушкинского стиля» 3.
Итак, Пушкин переформулировал литературу как систему за счет того, что отбросил привычные представления об иерархии и играл на смешении жанров и стилевых регистров. Разумеется, не стоит считать, что на Пушкине эксперименты в литературе закончились. Поэма Лермонтова «Валерик» представляет собой переплетение элементов эпистолярного романа, эпоса и репортажа. На смешении построено и творчество Гоголя: «Петербургские повести» соединяют элементы готической поэтики и характерное для позднего романтизма внимание к быту и нравам людей. Смешав жанровые элементы, Гоголь положил начало русскому реализму. Всю историю русской литературы XIX века можно представить как большую реку, в которую вливаются новые жанровые притоки, чтобы, входя в единый культурный поток, создавались произведения вне иерархических скоб.
Рождение газет и массовой печати привело к появлению бульварных романов, в которых действовала намного более простая сюжетная и стилевая машинерия по сравнению с «высокой» литературной традицией. В России популярность приобрели лубки о Ваньке-Каине, в Великобритании — лубочная сатира на современные сюжеты. Уже в викторианскую эпоху «грошовые романы», насыщенные сценами ужаса, сексуальных перверсий и опасных приключений, приобретают особую популярность у «низов». После тяжелого дня рабочие фабрик, солдаты, матросы, ткачихи, прачки, кухарки читали насыщенные ужасами и юмором истории, напечатанные на дешевой бумаге. Как замечал философ Алексис де Токвиль: «низы не индифферентны к культуре, наукам и литературе, они лишь разрабатывают их на свой манер». Кажется, именно из восприятия бульварных романов как «романов для низов» и растут предрассудки по отношению к массовой культуре. Тем забавнее, что бульварным чтивом как источником новых идей и элементов повествования пользуются два крупнейших писателя эпохи: Чарльз Диккенс и Федор Достоевский, в романах которого элементы авантюрных произведений в духе Эжена Сю сплетаются с элементами проповедей, житий святых и детективов.
В это же время начинаются эксперименты c пространством текста: книга должна быть больше самой книги, книга должна вместить все книги. По мнению Мишеля Фуко, первой такой книгой должно было стать «Искушение святого Антония» Гюстава Флобера — недописанный роман-мистерия, отдельными частями издававшийся в 1856—1857 годах. Структура книги «матрешечная»: укрываясь от ужасов ночи, Антоний зажигает факел и открывает книгу, откуда в свою очередь на него (а значит, и на читателя Флобера) выливается целый поток ярких образов — пиршества, дворец, сладострастная царица и ученик Иларион. Иларион, в свою очередь, открывает иллюзорное пространство, откуда появляются еретики, боги и разные формы жизни. Однако и здесь текст не прекращает плодить сущности: еретики рассказывают о своих обрядах, боги повествуют о временах былого могущества и т. д. Фантастические герои сосуществуют с историческими, и все повествование разворачивается в своеобразный марионеточный театр, где самые страшные образы выныривают из глубины повествования на передний план. Фуко отмечал, что мотивы из «Искушения» появляются почти во всех крупных произведениях Флобера.
Таким образом, жанровые иерархии оказываются неактуальными для литературы XIX века. Все несколько меняется с появлением фантастики: несмотря на то, что крупнейшие писатели вроде Толстого и Достоевского также экспериментировали с фантастикой, фантастический элемент еще довольно долго (вплоть до наших дней) будет восприниматься как маркер «низкой» литературы, на которую серьезному читателю не стоит обращать внимания. Уже Жюль Верн жаловался на то, что его тексты о техническом прогрессе и космических приключениях не воспринимаются серьезно. Не в последнюю очередь этому способствовали сами фантасты: визионер и блестящий писатель Герберт Уэллс решительно отказал фантастике в способности «предсказывать будущее»: «У меня, в конце концов, нет хрустального шара». Даже в Советской Рос- сии, где произведения футуризма грезили будущим и фантастика была на подъеме, писателям-фантастам в итоге указали на дверь, за которой часто оказывался припаркован «черный воронок». В опале оказались Кржижановский, Платонов, обэриуты. Беляеву и Алексею Толстому предлагают искать «новый жанр», фантастический элемент активно изгоняется из литературы. Советский чело- век должен узнавать о том, как живут и трудятся советские люди, а мечты о будущем коммунизме должны оставаться максимально неконкретными, чтобы ненароком не разойтись с генеральной линией партии.
Итак, и в западноевропейской, и в русской литературной традиции фантастика оказалась в «жанровом гетто». «Несерьезной» литературой считались и детектив, и романтическая проза. Тем временем эксперименты продолжались: в «Опавших листьях» Розанова максимы в стиле Ларошфуко смешиваются с традиционным мемуарным нарративом; смешением литературных стилей отличается повесть Андрея Белого «Петербург». Фантастичны по своей сути повести Кафки, а Джеймс Джойс создает «Поминки по Финнегану», которые можно назвать буквально памятником жанровому смешению, потому что их невозможно отнести к какому-либо жанру в принципе — как и «Искушение святого Антония» Флобера много раньше.
Особняком в нашем кросс-жанровом списке стоит синтез фантастики и сатиры. На Западе примером становится «Война с саламандрами» Карела Чапека — пародия на современную политику, а в России — «Мастер и Маргарита». Сатирический очерк о нраве Москвы 1920-х «становится повествованием о судьбе художника, о его отношениях с властью и о любви, которая его спасает», в повествование вплетается фантастический сюжет с визитом сатаны в Москву, и в качестве еще одного сюжетного пласта возникает евангельская история Иешуа из романа Мастера. Фантастика, евангельские мотивы тесно сплетаются с любовной линией, и жанровый синтез порождает один из крупнейших русских романов XX века.
Воплощением жанрового синтеза стала литература Латинской Америки. Реальность накладывается на древние мифы, сливается с ними; современность и миф переплетаются в слиянные миры магического реализма. «Америка — это единственный континент, где человек ХХ столетия может оказаться среди людей, живущих в самых различных эпохах, вплоть до эпохи неолита, и эти люди тоже будут его современники», — писал Алехо Карпентьер. В 1940-е начался золотой век так называемой «философской фан- тастики» (en. Speculative fiction) — фантастики о вымышленных мирах, в которой научной стороне сюжета уделяется меньшее внимание, чем в научной фантастике. И хотя теоретически оба понятия разработаны еще не были, на практике уже начались эксперименты по их слиянию. С 1939 по 1945 год писатель и богослов, автор «Хроник Нарнии» Клайв Льюис издает «Космическую трилогию» — цикл романов, в которых в космическую фантастику в духе Уэллса и Жюля Верна вплетаются фэнтезийные элементы с тем, чтобы в последней части, «Мерзейшая мощь», научная и христианско-мифологическая картины мира сплелись в единую авторскую концепцию бытия.
Фантастика вообще оказывается отличным полигоном для жанрового смешения, поскольку главный ее элемент — фантастическое допущение вида «А что, если?..» — позволяет писателю наиболее свободно распоряжаться другими элементами сюжета. В 1950-е выходит цикл детективно-фантастических романов Айзека Азимова «Детектив Элайдж Бейли и робот Дэниел Оливо». Роман Энтони Берджесса «Заводной апельсин» 1962 года оказывается одновременно антиутопией, социальной драмой и фантастикой с элементами триллера. Поводом к написанию книги стала травма: первую жену Берджесса Луеллу Джонс изнасиловали и избили четверо дезертиров из американской армии, после чего беременная Луелла потеряла ребенка и впала в тяжелую депрессию, из которой так и не выбралась. Попытка осмыслить травму в принципе рождает кросс-жанровые произведения, поскольку травма сама по себе сложное явление нашей психики. «Бойня номер пять» Воннегута основана на реальных событиях: писатель попал в плен к немцам в 1944 году, во время Арденнского наступления вермахта, и был направлен на работы в Дрезден, где он и стал свидетелем уничтожения города союзной авиацией. Ужасы войны, потеря товарищей готовят героя романа Билли Пилигрима к встрече с инопланетной расой тральфамадорцев — существ, наблюдающих все события одновременно. Метафора приходит на помощь травмированному сознанию — и все это задолго до того, как американские психиатры разработают понятие «посттравматического синдрома» и методы его лечения.
Главное оружие фантастики — метафора — помогает задавать вопросы, на которые так называемая «внежанровая» литература оказалась неспособна, «Левая рука тьмы» Урсулы Ле Гуин 1969 года — важное высказывание о проблемах гендерного равенства, религиозного фанатизма, общечеловеческой коммуникации. В жанровом смысле оно представляет собой хитросплетение фантастики, фэнтези и мотивов притчи. Ле Гуин — не единственный фантаст, прибегающий к кросс-жанру. «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Филипа Дика 1968 года — смесь фантастики и детектива. «Противостояние» Стивена Кинга 1978 года оказывается одновременно антиутопической эпопеей и романом ужаса, который по величине замысла часто сравнивают ни много ни мало с «Войной и миром» и «Властелином Колец».
Постмодернизм окончательно покончил с жанровыми границами. На практике это означало обособление жанровой прозы от прозы экспериментальной, однако вскоре они снова сблизились — и на сей раз не только на поле фантастики. Если роман Итало Кальвино «Если однажды зимней ночью путник…» 1979 года сочетает традиции магического реализма с литературной игрой, то «Имя розы» Умберто Эко 1980 года переосмысляет жанр детектива, создает произведение массовой литературы на основе постмодернистского принципа «двойного кодирования»: «Наличие разных уровней прочтения моделирует ситуацию, когда один и тот же текст может по-разному восприниматься читателем: например, как детектив или приключенческий роман или как произведение, поднимающее актуальные вопросы современности» 4. «Имя розы» можно читать как детектив, как исторический роман или как драму о том, как человек зависит от знаковой системы, в которую он погружен. «Хазарский словарь» Милорада Павича 1984 года окончательно ликвидирует границу между литературой и игрой — знаковый признак постмодернизма. «Двойное кодирование» как метод хорошо освоил Владимир Сорокин: ужин провинциальной дворянской семьи конца XIX в рассказе «Настя» превращается в ритуал в духе «каннибальских метафизик», а в загородный дом олигарха в «Заносе» под видом ОМОН вторгается нечисть.
В 1990-е между жанровым синтезом и постмодернизмом снова появляется граница — читателю в постмодернистских произведениях недостает искренности. Литература синтеза оказывается более отзывчивой к читателю за счет наличия выстроенной сюжетной линии, вплетенной в правдоподобный вымышленный мир, который становится глубже за счет масштабных жанровых заимствований. С этой точки зрения иконической является «Бесконечная шутка» Дэвида Фостера Уоллеса — в сущности своей антиутопия и пост- модернистский роман, главной целью которого становится «дать голос» всем его персонажам. От литературных игр фокус смещается на героя, который путешествует между жанрами — в каком- то смысле это тема комедийно-фантастического романа Дугласа Адамса «Автостопом по галактике».
Цикл Стивена Кинга «Темная башня» (первая книга издана в 1982 году, последняя — в 2004-м) становится образчиком смешения жанров, поскольку вбирает в себя и фэнтези, и традиционный для Кинга роман ужасов, и вестерн.
В 1999 году выходит культовый роман Косюна Таками «Королевская битва» — антиутопия здесь сочетается с приключенческим романом, романом взросления и даже с ужасами (школьников в антиутопическом мире будущего заставляют сражаться друг с другом на масштабной кровавой арене).
Русская литература 1990-х также возникает из жанрового переплетения. Фантастика и философия синтезируются в произведениях Виктора Пелевина и Владимира Сорокина. В романе Марии Елиферовой 2007 года «Смерть автора» филологический роман смешивается с вампирской прозой. Тему вампиров обыгрывает и деревенский роман Олега Дивова «Ночной смотрящий». Синтез жанра как метод освоил и успешно применяет Алексей Иванов — фэнтези и исторический роман сочетаются в «Сердце Пармы» 2003 года, в «Летоисчислении от Иоанна» 2009 года и в «Псоглавцах» 2011 года.
На рубеже 1990-х и 2000-х популярным становится направление New Weird, ключевые представители которого, Чайна Мьевиль и Джефф Вандермеер, выступили решительно против жанровых границ, призвав сочетать в литературных произведениях элементы разных жанров, обозначая ключевым мотивом «новых странных» мотив сверхъестественного чувства — мотив того, что под зыбкой материальной реальностью скрывается реальность метафизическая. Из русских писателей к «новым странным» относят Марию Галину и Эдуарда Веркина.
Синтез жанров уничтожает границы между «высоким» и «низким», топчет маркетологические межи, которые прокладывают издательства и книжные магазины (по меткому выражению Нила Геймана, автора романа «Американские боги», в котором типичный «дорожный» роман смешивается с фантастикой и фэнтези). Кадзуо Исигуро, попытавшийся экспериментировать с постмодернизмом в «Безутешных» 1995 года, вступил на арену жанрового смешения с фантастическим романом «Не отпускай меня» 2005 года и «По- гребенным великаном» 2015 года.
Особняком стоят романы-«мэшап», популярные в начале 2010-х в Европе и на российском рынке. Мэшап — это роман, в котором в качестве «основы» используется известное классическое произведение и к нему примешивается знаковый образ из масскульта. Типичными представителями «мэшапа» являются «Гордость и предубеждение и зомби» Сета Грэма-Смита 2009 года, «Тимур и его команда и вампиры» Татьяны Королевой 2011 года и «Андроид Каренина» Бена Уинтерса 2010 года издания. Исследователи отмечают: мэшап-романы, во-первых, позволяют широкой публике ознакомиться с классическими произведениями, а во-вторых, обнаруживают заложенный в самом произведении потенциал. Так, появление зомби в мире романов Остин можно трактовать как реализацию подавленных злобы и боли, которые у самой Остин сублимируются в обмене любезностями 5.
К 2019 году литература подбирается в условиях, когда жанровые границы максимально разъяты. «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова сочетает реалистический сюжет с триллером и мифологическими мотивами. «Тобол» Алексея Иванова оказывается одновременно фэнтезийным и историческим эпосом. В романе Алексея Поляринова «Центр тяжести» реалистическое повествование перерастает в антиутопию и сатиру. «В Советском Союзе не было аддерола» Ольги Брейнингер сочетает фантастический элемент с реалистическим нарративом. Слияние переходит границы литературы и захватывает другие жанры: «Раунд» Анны Немзер использует журналистские приемы для ведения повествования, такие как репортаж и интервью.
Разрушение жанровой иерархии — как мы помним, именно на этом основании когда-то строилась русская литература XIX века, — гибкая, стройная литературная система, свободная от условностей, стала основой для будущей эволюции. Нечто подобное происходит и в нашу эпоху — знаковые романы последних лет часто оказываются образцами жанрового синтеза.
Современный писатель не мыслит жанрами. Он мыслит замыслом и сюжетом, а уже потом использует те жанровые элементы, которые ему необходимы.
Современный писатель не мыслит шаблонами. Он разрушает их, чтобы создать нечто новое.
Инстукция
Итак, что же нужно делать, чтобы жанровый микс удался и не превратился в нечитабельную макулатуру? Иначе говоря, как экспериментировать правильно?
- Выбрать основной жанр произведения. Чаще всего в романах синтеза можно определить один элемент, по которому определяется ведущий, «векторный», жанр. При наличии фантастического элемента ведущим жанром оказывается фантастика, при наличии загадки — детектив. Если же речь идет о взаимоотношениях двух возлюбленных, то ведущим жанром окажется любовный роман. К примеру, «Сумерки» — любовный роман с элементами фэнтези. Историю можно считать законченной, только ответив на главный вопрос: останутся ли вместе Белла и Эдвард? В синтетическом романе главным остается жанрообразующий вопрос.
- Жанров не может быть намешано много. Жанровые элементы следует добавлять так, чтобы они не мешали ключевому сюжетообразующему элементу, иначе мы рискуем потерять читателя. Обычно ключевых жанров в произведении два: это могут быть научная фантастика и детектив, либо детектив и любовный роман, либо — распространенный ныне вариант — детектив и триллер.
- Второстепенная линия может облегчить задачу в построении сюжета произведения. Чтобы середина романа не просела, не вышла затянутой и скучной, ее либо насыщают событиями, либо вводят второстепенные сюжетные линии. И здесь в дело вступают элементы из других жанров. К примеру, детектив может влюбиться, либо это может произойти с одним из второстепенных героев — тогда детектив смешается с романтическим произведением, однако в идеале эта линия будет связана с основной — разгадыванием загадки.
- Главное — не увлекаться жанровыми формулами, а переосмыслять их, держа в центре внимания сюжет. Что, если главная героиня сможет стать колдуньей, которая способна становиться вместилищем духов и призраков, однако из жертвы превратится в героиню, которая противостоит колдовскому клану на фоне большого исторического полотна? Именно так выглядит «Девочка с медвежьим сердцем» Фрэнсис Хардинг — один из шедевров young adult прозы последних лет.
Упражнения
- Выберите два жанра из следующего списка:
- Детектив
- Триллер
- Научная фантастика
- Комедия
- Драма
- Ужасы/мистика
- Напишите короткий (4—5 тысяч знаков) этюд на тему: «Талант и бездарность», «Деньги моего друга», «Зачем соседу понадобился мой телефон?», «Философия кота» и «Биография несуществующего писателя».
- Напишите 1—2 предложения в духе космической оперы. Это будет начало вашего рассказа. Затем напишите 1—2 предложения, которые стали бы идеальной концовкой романтической комедии. А теперь напишите абзац — середину истории. Получилась ли связная история?
- Попробуйте написать уже известную историю с точки зрения разных героев. Как выглядела бы «Красная Шапочка» с точки зрения волка? А «Колобок» с точки зрения Лисы? А «Золушка» с точки зрения тыквы?
- Напишите историю о червячке, живущем в яблоке, в стиле ветхозаветной притчи или в стиле Гомера.
- Зайдите в «Википедию» и откройте несколько статей по ссылке «Случайная статья». Пусть это будут пять случайных статей. Попробуйте придумать историю на основе заголовков этих статей или частей их содержимого.
- Можно сказать, что «Замок Отранто» положил начало и жанру комедии ситуаций, ведь молодой принц в самом начале погибает от того, что на него неизвестно откуда падает гигантский рыцарский шлем, — сцена, достойная фильмов Чарли Чаплина или мультфильма Looney Tunes[↑]
- Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М. , 1977. С. 255[↑]
- Лотман Ю. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М. , 1988. С. 9[↑]
- Н. Н. Валуева. Разработка литературных жанров с использованием постмодернистских приемов.[↑]
- М. Антоничева. Роман с зомби. // «Знамя», No 1, 2012[↑]

Элина Петрова: «Театр — возможность через чужие истории понять что-то про себя»
C 7 по 9 августа в Петербурге пройдет очная мастерская Элины Петровой «Драматургия текста: герой, сюжет, конфликт и автор». Элина — шеф-драматург проекта «Квартира», драматург инклюзивных проектов, автор пьес. Ее постановки идут в репертуарных театрах России, в независимых театральных проектах Петербурга. Редактор и руководитель проекта «CWS Питер» Анна Рябчикова поговорила с Элиной о востребованности документальной драматургии, о том, как драматургу найти своего режиссера и чем полезны театральные лаборатории.
Документальная драматургия — что в ней такого, чего нет в пьесах с художественным вымыслом? Почему этот формат мысли и письма стал так востребован в наши дни?
Большая драматургия всегда обращается к реальности, потому что законы драматургии непосредственно связаны с механикой судьбы. Жизнь подкидывает невероятные сюжеты, и задача драматурга эти сюжеты увидеть, укрупнить, художественно переосмыслить. В этом плане документальная драматургия — это первый срез, возможность здесь и сейчас уловить, снять, зафиксировать течение повседневной жизни или какого-то важного события. Возможность через чужие истории понять что-то про себя. Рассказывая свои истории и слушая чужие, мы переживаем заново важные моменты жизни и упорядочиваем собственный опыт.
Объясните, пожалуйста, что такое инклюзивный театр и что он дает артистам и зрителям?
Инклюзивный театр — это театр, в котором принимают участие как люди с особыми потребностями, так и люди без особых потребностей. Инклюзивный театр — это театр включения. Очень долгое время люди с особыми потребностями были выключены из театрального процесса, у них не было возможностей заниматься театром на профессиональном, даже иногда и на любительском уровне. Появление инклюзивных театральных проектов дает возможность очень многим людям вне зависимости от физических или ментальных особенностей заниматься театром, играть на сцене, писать пьесы, делать декорации, так или иначе принимать участие в создании спектаклей. Инклюзивный театр создает ситуацию для проявления Другого, человека, у которого другой способ восприятия мира, другое тело, другие возможности и ограничения, другое творческое выражение. И в театре этот Другой становится твоим партнером, вы вместе исследуете границы театра, вместе создаете искусство. А у зрителя есть возможность к этому исследованию подключиться.
Как пишутся пьесы для инклюзивного театра и кто их заказывает?
Я как драматург принимаю непосредственное участие в репетиционном процессе и тексты, которые получаются, напрямую зависят от всех участников команды. То есть я не пишу инклюзивные пьесы для театров отдельно. Через совместные упражнения, истории, походы в музеи или по улицам города мы всей инклюзивной командой набираем материал для будущего спектакля. Моя задача — структурировать эти материалы, обнаружить внутреннюю драматургию, оформить вербальную составляющую постановки. В этом плане, как правило, текст появляется немногим раньше самого спектакля.
Принимаете ли вы театр как форму досуга и развлечения?
Я считаю, что театр может быть всем, чем угодно. Драматург Елена Гремина говорила, что в театре места хватит всем. Я искренне с этим согласна.
Я на своем опыте знаю, как тяжело начать, тяжело разрешить себе писать, заниматься театром
Чего вам больше всего не хватает в современном театре и современной драматургии?
Поддержки для независимых театральных объединений, драматургических фестивалей. Мне жаль, что независимым театрам так редко дают помещения и финансирование. Это боль.
Большинство ваших проектов реализованы в соавторстве с Борисом Павловичем. Как драматургу найти своего режиссера?
Да, это такая животрепещущая для драматургов тема, мы часто ее обсуждаем с коллегами. Я для себя как-то поняла, что самая лучшая стратегия — делать театр с теми, кто действительно близок по духу, с кем связывает искренняя дружба, доверие, человеческая любовь. А Борис, конечно, очень важный человек в моей жизни. Когда я вижу спектакли, которые у нас получаются, я думаю, какая же я счастливая, я работаю в театре моей мечты. Для меня работа с Борисом — всегда работа на вырост. И я очень ценю то доверие, с которым Борис ко мне обращается как к драматургу. Конечно, мне очень близок этот вектор, обращенный на инклюзию, горизонтальность, на новый тип театра, в котором каждый получает возможность проявить себя как художник.
Какая задача/миссия была у проекта «Квартира» и как вы сами определяете свою роль в нем?
Проект «Квартира» прежде всего был местом встречи. В «Квартире» в ситуации театра встречались очень разные люди, нейротипичные и нейроотличные, люди с особыми физическими потребностями и без них, люди разных возрастов и социальных статусов. «Квартира» принимала любого таким, какой он есть. Давала возможность существовать в том ритме, в котором человек хотел. Я в «Квартире» отвечала за структуру. Я как драматург и помощник режиссера обеспечивала материальное, фактическое — писала расписание, готовила пространство к спектаклям, гладила костюмы, координировала передвижения в спектаклях. «Квартира» — вариант творческой коммуны. Когда мы репетировали «Исследование ужаса», я и обеды готовила. В Квартире бытовая жизнь, разговоры за чаем, прослушивание проигрывателя, все превращалось в творческий процесс, в творческое исследование.
Должен ли драматург при написании пьесы думать о том, как она будет поставлена? Подробные ремарки, описание обстановки, последовательность действий персонажа — где проходит граница между полномочиями драматурга и режиссера?
Я люблю писать пьесы с минимальным количеством ремарок. Но это мое авторское желание. А вот сейчас я вспомнила, что у меня есть пьеса, в которой очень много ремарок и мало текста персонажей. Все же это зависит от конкретных творческих задач и авторской воли драматурга. Нет рецепта. Мне кажется, что для одного проекта нужно видеть в голове, как твоя пьеса может быть поставлена, а в другой раз писать совершенно не задумываясь об этом. И в обоих вариантах есть шанс сделать что-то великое. Я часто залезаю на территорию режиссуры, но я готова и к тому, что режиссер будет заниматься текстом. Мне очень нравится, что в пьесе «Не зря» несколько монологов написаны Борисом Павловичем. Это как раз о том, что границы профессий размываются, а это дает расширение, углубление, укрупнение, что в творческом исследовании очень ценно.
Чем полезны театральные лаборатории? На кого они ориентированы?
Мне кажется, театральные лаборатории хороши встречами с людьми, которым интересно то же, что и вам. Это возможность быть в очень живой творческой среде. Какое-то невероятное ощущение, когда собираются вместе люди, заряженные на творческий поиск, вместе создают текст или спектакль, находят вдохновение в общении друг с другом. Это очень заряжает. Я стараюсь на своих лабораториях создать такую творческую атмосферу, которая поможет участникам в дальнейшем сделать что-то свое, написать пьесу, запустить свой театральный проект, отправить заявку на конкурс. Мне действительно очень важно, чтобы первые шаги участников в драматургии были поддержаны. Я на своем опыте знаю, как тяжело начать, как бывает тяжело разрешить себе писать, заниматься театром. Просто потому что я сама с детства хотела связать себя с театром, но по-настоящему дала себе шанс на это только в 26 лет. Мне бы хотелось, чтобы на мою лабораторию пришли очень разные люди, чтобы никого не останавливали никакие факторы — ни образование, ни возраст, ни физические или ментальные особенности, ничто иное. Творчество не имеет границ.
Чего вы сами ожидаете от мастерской «Драматургия текста»?
Я жду прекрасных встреч. Для меня мастерская тоже приключение, никогда не знаешь, что мир предложит в этот раз. Мне бы очень хотелось быть полезной. Я хотела бы поделиться своими навыками, знаниями, чтобы люди других профессий и стремлений могли использовать инструментарий драматургии в своих областях.

Инструкция по распознаванию историй
Удивительно, но источник вдохновения для истории или рассказа может находиться совсем недалеко. А именно — в вас самих, в авторе. Для того чтобы его найти, нужно стать немного исследователем — автоэтнографом или автоархеологом. Элина Петрова предлагает инструкцию по распознаванию историй в собственной биографии.
- Найдите вещь в вашем доме, которая вам не нравится, но которую при этом вы не можете выкинуть. Вспомните, как она у вас появилась. Какая история за этим стоит? Какой человек? Почему вы не можете от нее избавиться? Опишите вещь, составьте историю, попробуйте найти незримые связи между вашей любимой вещью и нелюбимой.
- Загляните в семейный архив. Найдите снимок, о котором вы не помните ничего. Попробуйте найти настоящие сведения, кто на этой фотографии, когда она была сделана. Что с этими людьми было до, что после. Если нет достоверной информации, то цепляйтесь за любую деталь. Сочиняйте. И самое главное, записывайте все, что узнаете или придумываете.
- Прокрутите список ваших чатов на год назад. Остановитесь на том, который вас зацепил. Откройте его, прочтите от начала до конца. Взгляните на чат как на историю. Запишите в виде плана, о чем эта история, какой в ней конфликт и кто действующие лица. Попробуйте посмотреть на переписку отстраненно и представить, какие люди могли такое друг другу написать.
- Найдите ваши старые записные книжки, дневники, стихотворения. Составьте из этих материалов портрет человека, который это писал, в какой ситуации человек находился, чего хотел, о чем желал? Напишите письмо из вашего времени этому человеку.
- Составьте карту альтернативных миров. Как сложилась бы ваша жизнь, если бы вы сделали другой выбор? Напишите историю о себе, который живет в параллельной реальности. Что происходит с этим человеком?

Баня
Потащила меня как-то мамка в общественную баню. Мне тогда было лет шесть, не больше. В бане я еще ни разу не была, но бабушка иногда читала мне Зощенко, и я примерно знала, куда иду.
Во всяком случае, понимала, что в таком месте главное — не потерять номерок, который к ноге привязан будет.
Набили мы сумку, идем. И чем дальше от дома, тем страшнее становится. Думаю, как это куча людей вместе моется, стыдобища какая! И представляется мне душный липкий пар, внутри которого тела вошкаются, а в середине этой массы стою я, маленькая и голая. И такая жуть меня взяла! Уперлась и не хочу идти, хоть ты тресни! Но у мамки хватка железная, прикрикнула: «Айда!» — и дальше меня тащит.
— Мам, а там стоя или сидя моются?
— Сидя, конечно.
— Мам, а тетеньки и дяденьки вместе моются?
— Нет, конечно.
— Мам, а вдруг нам шайки не хватит?
— Хватит, конечно.
И вот подходим мы к бане. Смотрю — и не баня будто вовсе, а дворец. Колонны, окна в арочках, над входом загадочное слово «Монша» 1. Заходим. Справа — гардероб с пустыми вешалками — слава богу, номерков не будет, слева — буфет с коржиками, которыми заведует царственная Буфетчица. На стойке у нее вертится карусель со стаканами, под которыми фонтанчики бьют. Стаканы нужны для абрикосового сока из трехлитровой банки, который я ужасно люблю. Мамка, видя мой интерес, говорит: «Будешь себя хорошо вести — зайдем на обратном пути». Проходим дальше.
Оказалось, что мы опоздали в наш заход, но сердобольная бабушка-смотрительница пропустила нас в раздевалку. К моему облегчению, номерков здесь тоже не было — шкафчики вообще не запирались. Мамка только посмеялась над моими страхами, сказала, кто ж голь такую обворует, была последняя ценность — кастрюля большая — и ту сперли.
И вот мы готовы. Теплая воздушная волна выплеснулась из помывочной и увлекла нас за собой. Почти все места были заняты, но без толкотни. Прежде не доводилось мне видеть толпу голых женщин, и я с интересом всех рассматривала. Старые, молодые, толстые и тонкие синхронно двигались, натирая себя вихотками, раскалявшими спины докрасна. Многие смеялись, болтали, не стесняясь наготы, и я тоже как-то быстро перестала стесняться. Мы прошли к дальней лавке, где брюхами вверх лежали два жестяных тазика. Мамка поставила меня караулить место, а сама ушла за водой.
На другом конце зала сидел мальчишка. Подошли женщины, стали ругаться с его мамашей, дескать, зачем такого большого пацана привела, ему с отцом уже пора ходить в мужское отделение — та оправдывалась как могла. Мальчик прикрыл глаза, наверное, чтобы не видеть, как у отвратительных теток трясутся гневливые вторые подбородки и все, что ниже. Конечно, ему было обидно за мать, хотя, думаю, он и сам бы с удовольствием отсюда смылся. Но что ты можешь сделать, когда ты маленький?
Вернулась мамка, велела мне намыливаться. И я, так же, как и все, стала натирать себя и думать, какое тело у меня вырастет, и будет ли у меня большой круглый живот, и почему у людей пупки разные.
— Мам, а почему тетя старая, а тити как у молодой?
— Потише говори. Молока ляльке не давала, вот и сохранились.
— Мам, а почему тут стекла цветные?
— Чтобы свет разноцветным казался, так красивее.
— Мам, а почему с нами мальчик моется?
— Так получилось. Будь ты мальчиком, я бы тоже тебя взяла.
И еще много-много всего у нее спрашивала, а она отвечала мне со всякими подробностями и интересностями — я и не знала, что она так умеет. А потом кто-то замурлыкал песенку, и мама тоже начала подмурлыкивать, и все, кто был рядом, подхватили. И так было хорошо, спокойно и радостно…
Обратно мы шли в халатах и с большими тюрбанами на головах — прямо по улице! Особый шик считался. По дороге я думала, как сейчас буду рассказывать бабушке, что наврал все Зощенко, номерков в бане нет, а шайки есть, и сок там вкусный — в общем, место замечательное!
А кастрюлю нам потом вернули, правда, когда уже горячую воду дали. Подкинули в общую кухню, на плиту, как будто она там всю неделю стояла, нас ждала.
Фото с сайта городских бань Тамбова
- Монша — «баня» по-казахски.[↑]

Гаджи
Гаджи плыл на своей машинке по торговому центру, как османский паша верхом на коне. Он держался бы в седле еще непринужденнее, если бы ему не нужно было оборачиваться назад, чтобы посмотреть, не оставляет ли машинка после себя мыльной пены.
Гаджи хорошо знал свое дело — пол должен быть чистым, блестящим и сухим. Он сидел прямо, положив руки на руль, очки блестели на его переносице золотистой тоненькой дужкой. Гаджи водил по полу взглядом, как водят рукой по подоконнику, чтобы узнать, много ли на нем пыли.
Просторная галерея с магазинами пролегала перед ним широкой дорогой, вымощенной плитами цвета песчаных барханов. Отсветы ламп жирными мазками растекались по полу и сияли несуществующими лужицами. Из колонок, спрятанных под потолком, лилась музыка.
— Доброе утро, Гаджи! — От стены отлепился охранник в черной форме, застегнутой наглухо, до самого подбородка. Гаджи остановил ход своего каравана и подал ему руку.
— Наконец-то подняли меня на первый этаж. Две смены просидел на парковке! — У охранника было грустное вытянутое лицо. Сам он не был человеком печальным или несчастным и помнил много смешных историй, но почему-то его характер никак не отражался в лице, как будто снятом с другого.
Гаджи улыбнулся и сказал:
— Хорошо, что вернулся, Юрий Алексеевич. Легкой работы!
И машинка снова поползла вперед.
— Я обедать пойду в два часа. Пойдем вместе, Гаджи? — Охранник помахал ему вслед, как отплывающему кораблю. Но вдруг Гаджи остановил свой огромный пылесос, спешился и вернулся.
— Ты сможешь сегодня сходить к ним снова? — Когда Гаджи не сидел верхом на моющей машинке, становилось видно, что он небольшого роста. На длинного Юрия Алексеевича он смотрел снизу вверх, и в том, как вздрагивали ресницы Гаджи, было что-то от того, как они дрожали, когда ему было пять лет и он просил свою маму достать сладкий персик с дерева. А мама, сама еще совсем ребенок, дразнила его и щекотала, смотрела черными глазами, осыпала поцелуями и смеялась тихо, но бесконечно.
Охранник покрутил туда-сюда ручку громкости на трубке рации и вздохнул:
— Сегодня?
Гаджи сказал — да.
— Упекут меня опять на нулевой этаж — они терпеть не могут, когда охранники суют свой нос в магазины.
— Уборщикам туда совсем путь заказан.
Юрий Алексеевич прицепил рацию на пояс и кивнул.
— Какие на этот раз?
Гаджи достал из нагрудного кармана блокнот на пружинке, ручку, давно потерявшую колпачок, и написал название.
Юрий Алексеевич сказал, что не понимает ни слова, Гаджи ответил, что они поймут.
День потянулся. Когда был вымыт пол на первом этаже, у Гаджи выдалась минута, чтобы выкурить сигарету, потом он вместе с пылесосом на грузовом лифте поднялся на второй этаж. Его должна была убирать Гуля, но сегодня она не пришла.
Второй этаж не был хорошо знаком Гаджи, он с интересом читал названия магазинов и один раз чуть не наехал на ногу даме, которая остановилась посреди галереи и не отрывала взгляда от телефона с большим экраном, как от компаса, будто сбилась с дороги.
— Смотри, куда едешь! — подпрыгнула, пошатнулась и взмахнула пакетами дама.
— Извините, — сказал Гаджи. — Это моя вина.
— Конечно, твоя!
В комнате, где обедал персонал, горбатились длинные столы, светили серые лампы, гудели микроволновки. Продавцы болтали друг с другом. Девушки из отдела с итальянской мебелью первым делом снимали туфли на высоких каблуках и громко смеялись. У одной из них под тонкой вуалью натянутого капрона был виден яркий оранжевый лак на ногтях. Парень из отдела фототехники смотрел на нее, не отрываясь, и думал: «И на крошечном мизинчике тоже!»
Юрий Алексеевич и Гаджи любили садиться подальше от двери, но сегодня их место было занято, пришлось устроиться как попало. Гаджи ел быстро и аккуратно, как
будто всегда безошибочно зная, где у куска мяса слабое место, которое точно поддастся ножу.
Когда с обедом было закончено, из кармана куртки Юрий Алексеевич достал белую полоску бумаги, на них в магазинах распыляют духи. Он держал ее за самый кончик, как бенгальский огонь.
— Скажи, Гаджи, откуда ты знаешь все эти названия? Девчонки-продавцы сказали «Шалимар». Правильно?
Слово покатилось шаром и поднялось сияющим паром.
Гаджи подставил ладони, и бумажная полоска опустилась в них.
— Когда-то у меня были мать, жена и дочери. — Гаджи снял очки и сложил хлипкие дужки. — Это возвращает их мне ненадолго. Возвращает красоту миру, в котором я живу.
Гаджи закрыл глаза, поднес полоску к лицу и сделал глубокий вдох. И закурился прозрачными столбами ладан, брызнул сок мандарина, раздавленного прямо рукой, и капли его угодили на кожаное седло, брошенное в углу, на каменные плиты древнего храма. На серебряном подносе, исписанном вязью, поднесли сладкую ваниль и горький кедр, и сказали Гаджи — ешь их. И он ел их руками и слышал, как за стеной храма, у самого его порога, сначала прорезаются сквозь землю, а потом раскрывают свои бутоны ирисы. По узкой тропинке в гору поднималась женщина, закутанная в бархатную чадру, и несла в руках розы.

На ягодах
Случилось это прошлым летом на ягодах. Уговорили они меня тогда детей в тайгу везти. У меня был должок перед другими учителями. В летний выезд я тогда набедокурил. Вышел на озеро на моторке где-то на середину, чтоб никто не видал. Закинул удочки, сижу, из фляги похлебываю. Ну и не рассчитал я как-то. Уже смеркаться начало, я назад повернул. Течение меня немного к тому берегу отнесло, так что долго назад плыл. Причаливал затемно. Шел на огоньки деревни, что рядом с лагерем стояла. В итоге напоролся на пристань на полном ходу. Лодка ко дну пошла сразу, удочки утопил, сам еле выбрался. На шум все сбежались — учителя, дети, родители. Стали меня из воды вытаскивать, ну и почувствовали запах-то. В общем, нехорошо получилось.
А тут осенний выезд. Школа всегда детей возит на чернику и потом еще на бруснику в октябре. Завуч говорит:
— Подсоби, — мол, — Данилыч, не хватает нам одного взрослого.
И так смотрит на меня исподлобья, как будто проверяет, как я сейчас себя поведу. Должен ведь. Детям в тайге обязательно сопровождающий нужен. Мало ли что. Ну и я понимаю, что деваться мне некуда.
— Хорошо, — говорю, — Сергей Геннадьевич, конечно, помогу.
Так и поехал.
Набралось нас два автобуса. В самую чащу забрались. Чей-то родитель показывал, куда рулить. Первые два часа по асфальтной дороге ехали, потом по грунтовке пошли. Последний кусок вообще по тракторной колее ехали. Водитель ругался на чем свет.
— Не пройдем, — говорит.
А родитель ему:
— Да я тут на Жигулях проходил в прошлом году.
В общем, с горем пополам добрались.
Выгрузились из автобусов, размялись немного и стали в тайгу собираться. Погода стояла солнечная, поэтому мошка набросилась так, будто весь год нас тут ждала. И чем она только питается, когда ей детей не привозят? Одели сетки, стало полегче. Достали рюкзаки. Рюкзаки — это такие плоские ведра пластиковые с лямками. Вешаешь за спину и в них ягоду кидаешь. Собирают ее, ягоду эту, специальным совком. Край у него как расческа, сверху совок крышкой закрывается. Чтобы поймать туда ягоду, нужно большим пальцем хлястик нажать, тогда крышка откроется, расческой с куста ягоду вместе с листьями зачерпнуть и за спину, в ведро. Так и собирают. Листья от ягод потом перебирают. Там своя техника.
Достались мне пять ребят. Я их знал, конечно, по физкультуре. Два балбеса из девятого, две подружки из восьмого и девочка Ольга, не помню из какого. Но тихая такая, неприглядная. Обычно с такими меньше всего проблем. Двинули мы в лес. Минут через десять зашли в хорошее место и стали дергать. Дергаем, значит, и разговариваем. Пацаны все твердят, что ягода им эта даром не нужна, что лучше бы эту ягоду на рынке купить и воскресенье целое на нее не тратить. Я так-то примерно то же самое думал, но соглашаться было непедагогично. Поэтому я им рассказывал, что надо собой жертвовать ради других и родителям помогать. И что ягода в лесу и лучше, и чище, и слаще. И что своими руками собранное всегда лучше, потому как в ней частичка труда твоего остается. Ну и все такое.
Им эти все басни, понятное дело, давно надоели, поэтому они новую тему завели. А что, говорит один, если тут, в лесу, на ночь остаться? Можно до людей добраться или сгинешь?
— Да чего там, главное, на ночь укрытие повыше сделать, чтобы волки не съели, а утром двигаться в одном направлении, — говорит другой.
— И как узнать в каком направлении? Так ведь можно в сторону Владивостока уйти. Полгода идти будешь, — отвечаю я.
Вышли на поляну просторную. Тот, который в лесу жить собирался, все что-то говорил и вдруг оборвался на полуслове.
— Медведь, — говорит.
Я голову отрываю от ягоды и вижу медведицу в ста шагах. Здоровая, как уазик-буханка. Мальчишки ковши бросили и бежать. Медведица, как это увидела, сразу на нас двинулась. Сначала медленно, потом быстрее, быстрее и все, вижу, пошла на добычу. Девочки мои стоят, ждут команды. Я говорю:
— Бегите назад.
Они рванули, а Ольга стоит. Вижу, побледнела вся, застыла, не шевелится. Глаза вытаращила и дышит так, часто-часто и глубоко. Секунд десять прошло, но я все за это время передумал. Бежать бесполезно. Медведь по тайге бежит — как тот автобус по грунтовке. Кого-то точно сожрет. Без детей возвращаться нельзя. Можно тогда крест на мне ставить. Никто даже здороваться не станет, не то что на работу брать. А то и посадят. В общем, двинулся я было на медведя. Пусть уж, думаю, лучше меня рвет, а дети пока уйти смогут. И тут я услышал самый жуткий звук в моей жизни. Ольга вдруг завизжала так протяжно, звучно и истошно, на одном дыхании, как будто у нее легкие были не одни, а несколько сразу, будто медведь ее уже драть начал. Я от этого звука испугался больше, чем от надвигающегося зверя. Медведица тоже испугалась. Замедлила шаг, потом притормозила. Звук не стихал ни на секунду и даже не думал ослабевать. Медведица засомневалась, секунду еще постояла, повернулась и ушла в лес.
Спасла нас Ольга тогда. Век ей не забуду.

Неопалимая
В крещенскую ночь семнадцатого года она вдруг начала задыхаться и дрожать. Разметались беспорядочно ярко-рыжие пряди. Голова пылала и раскалывалась. Она изо всех сил пыталась держаться твердо, не поддаваться этому безумию, но не выдержала – дрогнула гордой головой и зарыдала сотнями свечей.
А колокол, захлебываясь криком, уже гнал по округе весть: «Пожар! Троицкая! Троицкая горит!»
К ней бежали люди. Много темных людей в тулупах и валенках. Возле чугунной ограды со стеклянными шарами на столбах они останавливались и топтались, глядя, как густые огненные пряди все туже опутывают первый из семи церковных куполов. Стеклянные шары ограды вспыхивали, наливались беспокойным багровым светом. Колокол продолжал кричать, смешиваясь с голосами прихожан:
— Спасать надо!
— И-и-их, спасать?! Сгорим сами! Деревянная ведь!
— И изба поповская пущай тоже горит!
— Цыц, окаянный!
— Господь попускает, уже не первую церковь в губернии жгут. Что дальше-то будет?
— Темные времена наступают. О-о-ох…
— Отец Николай-то где?
Многие плакали, кто-то ухмылялся, но все враз смолкли, когда увидели на пороге церкви невысокого человека. В руках он удерживал стопку икон в тяжелых окладах. Большой лоб и молочная борода человека капали слезами, и по ним все узнали священника Троицкой церкви — отца Николая.
— Православные… Братья, сестры… Помогайте выносить святыни! — закричал он.
Толпа заколыхалась. Кто-то отступил в темноту, другие заохали, поплотнее кутаясь в платки и шапки и глядя на взвившийся вверх новый столб пламени. К горящей церкви ринулась Прасковья; за ней следом несколько баб и мужиков.
Святые лики. Несвятые лица. Восковые слезы. Позолоченные крестьянские руки. Вздрагивающие деревянные стены. Нестерпимый жар железной крыши. Дым. Топот торопливых ног. Слово Божие искрами сыплется на снег. «Гос-с-с-с-поди…», — облегченно шепчут спасенные церковные книги, погружаясь в сугробы, и затихают.
А пламя безумствует, скачет по стенам, подбирается к крестам. Прасковья снова вбегает в ограду — уже одна. Вслед ей несется:
— Куда-а-а-а! Григорьевна! Сгинешь ведь! Вишь, еще купол занялся!
Она мечется между восковых луж, теряет себя в дыму, шарит по стенам, где еще недавно плотно в ряд стояли иконы. На мгновение перед ней мелькает лазоревый кафтанчик маленького Иисуса. Прасковья бросается к нему. Простой деревянный оклад, стекло, а под ним в пышных бумажных цветах Сын Божий в лазоревом и Богородица в багряном.
Казанская! Это ее кроткий взгляд утешал Прасковью, когда она приходила сюда оплакивать мужа и брата, погибших в русско-японскую. Прасковья протянула к ней руки, услышала, как затрещали, затряслись церковные своды, и понеслась обратно.
Троицкая догорала. Отец Николай вгляделся в рослую фигуру Прасковьи, в мерзлый пух платка, губы в молитве, тулуп, вовсе не тронутый огнем, руки, сжимающие икону.
— Неопалимая.
— Казанская, святой отец, — ответила она и благоговейно подняла перед собой икону.
Отец Николай задумчиво поглядел, покачал головой, хотел еще что-то добавить, но не стал. Обвел глазами толпу.
— Схороните в своих избах до лучших времен! — попросил он просто и осенил крестным знамением всех: и тех, кто верует, и разуверившихся. Мужики и бабы молча посмотрели на его редеющие волосы, уже застывшие на морозе неровным серебристым нимбом, на молочный кол бороды, и гуськом направились к скирде икон и церковных книг.
Святые лики смотрели в темноту небес. Они больше не плакали.

Последняя неделя надежды
1. ИНТ. КВАРТИРА НАДЕЖДЫ. ГОСТИНАЯ. ВЕЧЕР.
Комната неуютная, практически пустая, несколько шкафов, стол и кровать. В углу стоят коробки. Двери шкафа распахнуты. НАДЕЖДА (33 года), светловолосая, стройная, приятной внешности, но неухоженная, наводит порядок, достает одежду, вещи и книги, раскладывает все по коробкам.
Звонит телефон. На экране высвечивается — Людмила Павловна, завуч. Надежда нажимает на значок громкой связи на телефоне.
ГОЛОС ЗАВУЧА
(по телефону)
Надежда Михайловна, добрый вечер. Тут такое дело: нужно завтра выйти на замену в 8 «А».
НАДЕЖДА
(устало)
К какому уроку прийти?
ГОЛОС ЗАВУЧА
(по телефону)
Ко второму.
2. ИНТ. ШКОЛА. КАБИНЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. ДЕНЬ.
Светлая комната. На стенах висят портреты Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Тургенева, Ахматовой. За партами сидят ученики 8 «А». Надежда стоит у стола учителя и смотрит в тетрадь с конспектом урока. Она выглядит усталой, трет покрасневшие глаза. Звенит звонок. Надежда закрывает тетрадь, улыбается детям.
НАДЕЖДА
Ребята, добрый день! К сегодняшнему занятию вы подготовили сочинение на выбранную вами тему. Давайте посмотрим, что вы написали.
Надежда смотрит на список учеников.
НАДЕЖДА
А… Авдеева Софья! Софья здесь?
СОНЯ (14 лет), полноватая, рыхлая, бледная девочка с волосами мышиного цвета, плохо одетая, медленно и неохотно поднимает руку.
НАДЕЖДА
Соня, пожалуйста, прочитай нам, что ты приготовила.
Соня молчит.
НАДЕЖДА
(слегка раздраженно)
Пожалуйста, не заставляй нас ждать.
Соня мотает головой. Ребята начинают перешептываться, кто-то смеется. Соня готова расплакаться.
НАДЕЖДА
(мягко)
Если ты не хочешь читать при всех, ничего страшного. Я приму работу в письменном виде. Итак, кто хотел бы поделиться своим рассказом?
3. ИНТ. ШКОЛА. УЧИТЕЛЬСКАЯ. ВЕЧЕР.
Большая комната, освещенная неприятным ярким светом. Несколько столов и стульев. За одним из столов Надежда и листает тетради, периодически что-то в них помечает. За другим столом МАРЬЯ ПЕТРОВНА, учительница русского языка и литературы (45 лет), полная, с пышной укладкой и накрашенными губами. Она листает тетради и делает пометки быстрее Надежды. Марья Петровна закрывает последнюю тетрадь, встает и ставит на стол большую кожаную сумку.
МАРЬЯ ПЕТРОВНА
Ну и засиделись мы, Наденька! Как говорится, работа учителя после уроков только начинается. И ради чего? Чтобы всякие лоботрясы под партой в телефонах сидели?
НАДЕЖДА
А вдруг у кого-то настоящий талант?
МАРЬЯ ПЕТРОВНА
Мне твой энтузиазм всегда нравился. Конечно, понимаю, маме твоей помощь нужна… Но не верится, что ты уходишь. Смотри, то есть, это последняя неделя надежды!
(хихикает)
Дурацкий каламбур, знаю.
Марья Петровна надевает куртку, берет свою сумку и уходит.
4. ИНТ. ШКОЛА. КОРИДОР. ВЕЧЕР.
Надежда идет по коридору. На лавочке около раздевалки сидит Соня и что-то пишет в тетради. Надежда подходит к Соне. Соня вздрагивает, прижимает тетрадь к груди.
НАДЕЖДА
(ласково)
Надеюсь, это сочинение, которое ты собираешься мне сдать?
Соня смотрит в пол.
НАДЕЖДА
Я шучу. Сейчас твое свободное время. Интересно, что ты так его проводишь. Одна, в школе, пишешь что-то.
СОНЯ
(с надеждой)
Вам правда интересно?
НАДЕЖДА
Если хочешь рассказать… Тебе в какую сторону? Давай я тебя провожу. Мне некуда торопиться…
5. НАТ. У ДОМА СОНИ. ДВОР. ВЕЧЕР.
Плохо освещенный двор, лампочка над дверью подъезда не горит. У подъезда лавочка. Надежда и Соня подходят к подъезду. Соня набирает код на двери. Надежда садится на лавочку и завязывает развязавшиеся шнурки на ботинке. Соня подходит к ней и тихо садится рядом.
СОНЯ
Хотите, я вам дам их почитать? Ну, мои стихи.
Соня протягивает помятую тетрадь. Надежда осторожно берет ее и кладет в сумку.
НАДЕЖДА
Соня, спасибо. Хорошего вечера.
Соня встает и идет к подъезду. У самой двери она оборачивается и смотрит на Надежду.
6. ИНТ. КВАРТИРА НАДЕЖДЫ. КОМНАТА НАДЕЖДЫ. НОЧЬ.
Надежда лежит в кровати, с открытыми глазами, ворочается, не может уснуть. Включает ночник, достает тетрадь Сони со стихами. Надежда читает с увлечением. За окном светлеет.
7. ИНТ. ШКОЛА. КАБИНЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. ДЕНЬ.
Звенит звонок. Ученики 8 «А» выбегают из кабинета.
НАДЕЖДА
Соня, задержись, пожалуйста.
Соня подходит к столу Надежды.
НАДЕЖДА
Я ночью читала твои стихотворения.
Соня в волнении мнет край блузки.
НАДЕЖДА
Я считаю, у тебя талант. Думаю, тебя можно отправить на конкурс в Москву, регистрация открыта до конца недели. Ты хотела бы?
СОНЯ
(после паузы)
А что для этого нужно?
НАДЕЖДА
Разрешение от твоих родителей на участие и поездку. Дай мне телефон мамы, я все ей объясню.
СОНЯ
У меня только бабушка.
8. ИНТ. ДОМ СОНИ. ПОДЪЕЗД. ВЕЧЕР.
Облупившаяся зеленая краска на стенах лестничной площадки, грязный пол. Надежда и Соня стоят перед дверью квартиры Сони. Надежда нажимает на звонок. Тишина. Надежда снова нажимает на звонок и держит палец на кнопке звонка. Дверь приоткрывается. Видно, что изнутри закрыто на цепочку. Между косяком и дверью в проеме появляется БАБУШКА (60 лет), седая, волосы убраны в пучок, худая, с трясущимися руками, в очках и со слуховым аппаратом.
НАДЕЖДА
(очень громко и четко)
Анна Валентиновна, здравствуйте! Я учительница Сони по литературе и русскому языку.
9. ИНТ. КВАРТИРА СОНИ. ГОСТИНАЯ. ВЕЧЕР.
Стены увешаны коврами, мебель старая, советская. В комнате бабушка и Надежда. Бабушка сидит на кровати, Надежда взволнованно ходит по комнате.
БАБУШКА
Надежда Михайловна, милая! Спасибо, конечно, что обратили внимание на Соню. Но я ращу ее одна, Соня никогда далеко не уезжала. Ну как я ее отпущу?
НАДЕЖДА
Это удивительный шанс! Соня выступит в Москве, ее стихи могут опубликовать в альманахе. А приз — летнее обучение в литературном лагере!
БАБУШКА
Но у нас совсем нет денег…
НАДЕЖДА
Школа может отправить заявку на одного ученика. Если ее одобрят, а Сонины стихи действительно хороши, то поездку оплатит фонд!
10. ИНТ. ШКОЛА. УЧИТЕЛЬСКАЯ. ДЕНЬ.
Большая комната. В комнате Надежда. Она нервно ходит между столами, прижимая к уху телефон.
НАДЕЖДА
Ничего не понимаю! Я говорила с учителями накануне, заявку никто не отправлял… И времени до конца недели…
(после паузы)
Как, вы говорите, зовут ученика?
11. ИНТ. ШКОЛА. КОРИДОР. ДЕНЬ.
Надежда стоит перед дверью в кабинет. На двери табличка «Заведующая учебной частью. Мартынова Людмила Павловна». Надежда громко стучит.
12. ИНТ. ШКОЛА. КАБИНЕТ ЗАВУЧА. ДЕНЬ.
Уставленная мебелью комната. У окна стоит стол из темного дерева. За ним в кожаном кресле сидит ЗАВУЧ (50 лет), женщина с квадратным лицом, подведенными синим карандашом глазами и залакированной прической.
ЗАВУЧ
Надежда Михайловна, я вас сегодня не ждала… Вы вроде все документы уже подписали. Или передумали уходить?
НАДЕЖДА
Не думала, что вы на такое способны! Поощрять дорогие подарки от родителей это одно, но пользоваться положением, чтобы отправить племянника в Москву, извините, совсем другое!
ЗАВУЧ
(спокойно)
Просто Леша талантливый мальчик.
НАДЕЖДА
Да он двух слов связать не может! С чем вы вообще его отправляете?
(иронично)
Надеюсь, с эссе, победившим в школьном конкурсе?
ЗАВУЧ
(зло)
Не ваше дело! Вам повезло, что со следующей недели вы здесь не работаете!
(спокойно)
А кого вы там отправить хотите?
НАДЕЖДА
Соню Авдееву из 8 «А». У нее чудесные, необычные стихи. Вы хотите отобрать у девочки такую возможность?
ЗАВУЧ
Слушайте, лучше возвращайтесь в свою деревню, лечите больную маму, как собирались. А если так хотите отправить эту Авдееву, вам никто не запрещает. Только не от школы. Заявка уже ушла.
НАДЕЖДА
Но тогда фонд не сможет…
ЗАВУЧ
А мне какое дело? Сами ищите деньги.
Надежда уходит из кабинета, громко хлопнув дверью.
13. ИНТ. ШКОЛА. КОРИДОР. ВЕЧЕР.
Надежда идет к выходу из школы. На лавочке возле раздевалки сидит Соня. Надежда опускает голову и ускоряется.
СОНЯ
Надежда Михайловна! Я вас искала! Спасибо, что уговорили бабушку! Теперь она ждет конкурса больше меня.
Надежда смотрит на Соню и молчит.
СОНЯ
Все в порядке? Вы же уже отправили заявку?
Надежда прикусывает губу.
14. ИНТ. КВАРТИРА НАДЕЖДЫ. ГОСТИНАЯ. НОЧЬ.
В комнате темно. Надежда в пижаме сидит на заправленной кровати. Ее лицо освещается светом от экрана ноутбука. Надежда вбивает в поисковую строку Яндекса «Гранты и стипендии для школьников».
НАДЕЖДА
(сама себе)
Слишком долго ждать, не успеем.
Надежда вбивает в строку «Микрозаймы» и быстро стирает. Она медленно набирает «Как ограбить банк». Надежда прокручивает страницу поиска. Затем открывает карту города. Надежда встает, одевается и выходит на улицу.
15. НАТ. ОТДЕЛЕНИЕ «ПОЧТА БАНКА» УЛИЦА. НОЧЬ.
Надежда в темном пальто и шапке стоит перед зданием «Почта Банка». Подходит к окнам и заглядывает внутрь. Отходит и разглядывает землю. Нагибается и поднимает кусок кирпича. Замахивается.
16. ИНТ. ШКОЛА. УЧИТЕЛЬСКАЯ. РАННЕЕ УТРО.
За столом сидит всклокоченная Надежда. На стуле рядом с ней лежит небрежно брошенное пальто. Перед ней груда тетрадей. Надежда лихорадочно их листает. Дверь распахивается.
17. ИНТ. ШКОЛА. УЧИТЕЛЬСКАЯ. РАННЕЕ УТРО.
Заходит Марья Петровна.
МАРЬЯ ПЕТРОВНА
Наденька! Что же ты сегодня так рано? Опять загрузили?
Надежда поднимает голову. У нее воспаленные глаза.
МАРЬЯ ПЕТРОВНА
Ты что же, не спала совсем?
НАДЕЖДА
Мария Петровна, это была безумная ночь. Я почти…
(осекается)
У меня будет к вам большая просьба.
18. ИНТ. ШКОЛА. КАБИНЕТ ЗАВУЧА. ДЕНЬ.
Завуч сидит в кресле и говорит по телефону. Дверь открывается, Надежда решительно заходит в кабинет. У нее в руках тетрадь.
ЗАВУЧ
Надежда Михайловна! Пришли попрощаться? У вас завтра последний день. Не могу сказать, что буду скучать. Хотя детям вы нравились.
НАДЕЖДА
Людмила Павловна, отзовите заявку.
ЗАВУЧ
(насмешливо)
Опять вы за свое. С какой стати?
НАДЕЖДА
Я нашла информацию о заявках на сайте конкурса, а потом и оригинал сочинения, которое вы отправили. Как я и думала, его написал не ваш Леша. Думаете, родителям
(смотрит на тетрадь в руках)
Лены Васильевой из 9 «Б» понравится то, что вы используете ее работу?
ЗАВУЧ
Ваша Авдеева все равно не поедет.
НАДЕЖДА
Но поедет другая талантливая девочка. Мы же работаем, чтобы вдохновлять детей, помогать им.
19. ИНТ. ШКОЛА. УЧИТЕЛЬСКАЯ. УТРО.
В комнате Надежда. Она выдвигает ящики стола, достает оттуда вещи. На столе аккуратно разложены бумаги. Лежат несколько открыток — «Надежде Михайловне от 5 “А”», «Любимой учительнице», «Надежде Михайловне от Кристины». Надежда перебирает их.
В комнату заходит Марья Петровна. С ней еще три учительницы.
МАРЬЯ ПЕТРОВНА
Наденька, ты же не думала, что сможешь с нами не попрощаться?
Надежда поднимает голову.
МАРЬЯ ПЕТРОВНА
Родителям совсем не понравилась история с конкурсом. Скажем так, тебя тут еще будут вспоминать.
НАДЕЖДА
Но я же ничего не говорила…
МАРЬЯ ПЕТРОВНА
(усмехается)
Допустим, ты — нет.
(после паузы)
Нам всем очень нравилось с тобой работать. Твоей новой школе повезло.
Остальные учительницы кивают. Надежда неловко улыбается.
20. ИНТ. КВАРТИРА СОНИ. ГОСТИНАЯ. ВЕЧЕР.
В гостиной на стуле сидит Соня. Входят бабушка и Надежда. Соня резко встает со стула.
НАДЕЖДА
Здравствуй, Соня. Вот зашла с тобой попрощаться. И извиниться тоже…
(взволновано)
Я поспешила с этим конкурсом, так хотела тебя отправить… Обнадежила, а потом…
БАБУШКА
Это не ваша вина. Вы же хотели как лучше.
СОНЯ
(перебивает)
Да я на конкурс согласилась, чтобы вас порадовать. То есть, мне выступить тоже хотелось… Но будут же еще конкурсы. Только не уезжайте!
НАДЕЖДА
Мне правда нужно. Жаль, мы с тобой поздно познакомились. Но я рада, что ты так по-взрослому все понимаешь.
(бабушке)
И вам спасибо большое!
Надежда что-то ищет в своей сумке.
НАДЕЖДА
Я не просто так пришла. Смотри, вот список стипендий, на которые можно подать. А если понадобится помощь… Марья Петровна тебе поможет. Я с ней договорилась. Мне ты тоже можешь писать, конечно. Вот мой e-mail.
Надежда достает из сумки блокнот и ручку. Вырывает из блокнота лист бумаги и быстро пишет адрес. Кладет бумажку на стол.
НАДЕЖДА
Мне пора. Завтра уже поезд.
Надежда делает шаг в сторону прихожей. Соня порывисто подбегает к Надежде и обнимает ее. Надежда растерянно гладит Соню по голове. Соня отпускает Надежду и смотрит в пол.
СОНЯ
У меня еще кое-что для вас есть.
Соня подходит к столу, берет тетрадь и вырывает из нее две страницы.
СОНЯ
Извините, что неаккуратно. Я не знала, что вы придете. Это я про вас написала.
Надежда берет протянутые листы и кладет в сумку.
21. ИНТ. КВАРТИРА НАДЕЖДЫ. ГОСТИНАЯ. УТРО.
В комнате горит свет. На кровати нет покрывала и постельного белья, шкафы открыты и пусты.
22. ИНТ. КВАРТИРА НАДЕЖДЫ. ПРИХОЖАЯ. УТРО.
Стоят несколько сумок. Надежда уже в пальто и уличной обуви. Звонит телефон. Надежда подносит его к уху.
НАДЕЖДА
Да-да, сейчас спускаюсь. Осталось последнее захватить.
(сама себе)
Ну вот и все. Еще раз по списку.
Ищет список в сумке. Достает листы. Это стихотворение Сони. Надежда читает его, на глаза наворачиваются слезы. Надежда вытирает их. Надежда берет сумки, выключает свет и выходит из квартиры.

Хакер
Комедийная драма. Хронометраж — 10 минут.
1. НАТ. ДВОР ДЕРЕВЕНСКОГО ДОМА КОЛЯНА И ЕГО МАМЫ. ОСЕННЕЕ УТРО.
Колян (17 лет) вылетает из дома во двор, его глаза слезятся.
КОЛЯН
Блин! Ну не должно так быть!
Мама Коляна (37 лет) выходит во двор в солнцезащитных очках, с контейнером с бутербродами, суёт контейнер в руки Коляну.
МАМА КОЛЯНА
Коль, ну хватит, ей—богу. Дядя Саша не такой уж плохой человек. Он нас любит с тобой. Возьми бутерброды.
Колян отбрасывает контейнер и бежит в сторону калитки. Перед тем, как выйти на улицу, оборачивается.
КОЛЯН
Жесть! Я вытащу нас из этой дыры!
2. НАТ. ДЕРЕВЕНСКАЯ ДОРОГА. ОСЕННЕЕ УТРО.
Колян быстро идёт, пинает камушки и лужи, разглядывает нищету: исписанный незамысловатым граффити заброшенный ларёк, лузгающих семечки старух, работяг, засыпающих яму битыми кирпичами и прыгающими по ним для утрамбовки. Колян подходит к банкомату, достаёт наличку и банковскую карточку.
К нему подкатывает Морда (17 лет) и бьёт Коляна по плечам.
Колян уменьшается в росте, оборачивается и испуганно кивает.
МОРДА
Бу! И тебе — здорово! Бабки где?
КОЛЯН
Сегодня, блин, матч. На этот раз победа, стопудово. Ночью всё отдам.
Морда отвешивает Коляну поджопник.
МОРДА
Дуй с Богом! Встретимся ещё.
3. НАТ. ДЕРЕВЕНСКАЯ ДОРОГА ВОЗЛЕ ШКОЛЫ. ОСЕННЕЕ УТРО.
Мимо банкомата с ребятами проходит Сергей Викторович (42 года, абсолютно лысый, даже без бровей). Из—за его лысой головы и слишком приличной для этой местности одежды все прохожие удивленно его разглядывают.
Сергей Викторович заходит в двухэтажную потрёпанную школу, над дверьми которой висит плакат «С Первым Сентября!», изображённый в неповторимой колхозной манере.
4. ИНТ. КОРИДОР, ВЕСТИБЮЛЬ ДЕРЕВЕНСКОЙ ШКОЛЫ. УТРО.
Сергей Викторович поднимается на второй этаж, в вестибюле ученики и учителя собираются на праздничную линейку. Сергей Викторович замечает, что в плафонах полно воды — лампочки плавают на боку. Он подходит к Директрисе (55 лет).
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Мария Семёновна, что произошло?
ДИРЕКТРИСА
Беда, Сергей Викторович, беда. Крышу сделать не успели, а ночью — дождь откуда ни возьмись, чтоб его.
Мимо них среди прочих учеников и учителей проскакивает Колян. Мелкие пацаны его элегантно роняют. Колян падает, неловко машет руками, изображая желание подраться, но те разбегаются, все смеются. Колян встаёт в угол вестибюля — так, чтобы на линейке быть крайним в последнем ряду.
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Я, конечно, не большой специалист, но, может быть, что-то сделать? Отключить электричество?
ДИРЕКТРИСА
Электрик-то трубку не берёт, пьянь. А я только один рубильник знаю, но от него вся энергия из школы уходит. А в холодильниках – молоко. Давайте лучше начинать!
Директриса театрально и властно закашливается, ученики и учителя принимают торжественные позы.
ДИРЕКТРИСА
Здравствуйте, мои дорогие! Соскучились? Сегодня у нас новый год, новые горизонты… к нашим великим целям. Поможет нам новый учитель информатики — Руднев Сергей Викторович. Он прямо из Москвы!
Директриса показывает на Сергея Викторовича, тому хлопают все, кроме Коляна. Сергей Викторович замечает, что Колян что-то тыкает в телефоне. Тот завершает процесс делания ставки. Он поднимает глаза, встречает взгляд Сергея Викторовича и вздрагивает — ждёт подлянки за то, нарушает правила линейки. Сергей Викторович дружелюбно ему улыбается.
ДИРЕКТРИСА
Ну, что? Готовы? Давайте минут пять переведём дух и приступим!
Перемена радует младших школьников. Они носятся по коридору, играют в агрессивные латки. Сергей Викторович дежурит у выключателей, бегает за кучей-малой из малышни и держит руку на выключателях так, чтобы никто на них случайно не нажал. Колян в одиночестве стоит в углу, уткнувшись в телефон.
5. ИНТ. КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКИ ДЕРЕВЕНСКОЙ ШКОЛЫ. УТРО.
Кабинет человек на 18. В классе 7 учеников. Парты в 3 ряда. На учительском столе — стопка ноутбуков с наклейками: «Выборы 2011» (места с лого партии на них надорваны – неаккуратно, видимо, «Выборы 2011» оторвать кому-то просто не удалось).
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Да, 11 «А», немного вас. Ну, ничего. Ребята, поможете мне с партами? Давайте их в круг поставим.
Сергей Викторович подходит к парте, приподнимает её. Мальчики подключаются. Кто-то из девочек тоже берётся за край парты.
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Думаю, мы с ребятами справимся. А если девочки хотят помочь — расставься ноуты, пожалуйста.
ИРА (17 ЛЕТ)
Хорошо. А, извините…
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Почему я лысый?
Ира смущённо кивает.
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Это такая болезнь, алопеция. Волосы выпали и не растут. Не заразная.
ИРА
А вы к нам надолго? Ну, работать?
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Посмотрим.
Теперь парты стоят «в кружок», Сергей Викторович садится в круг с учениками. Перед каждым из сидящих свой ноутбук.
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Программировать умеете?
Олег (17 лет) отрицательно машет головой.
ИРА
Нам ноутбуки даже трогать не разрешали, мы всё алгоритмы на досках чертили какие—то…
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Такое бывает. Открывайте ноуты. Я вам пришлю ссылку, там видеообзор на ютубе и задание в комментах.
ОЛЕГ
А как вы задание пришлёте?
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Как вас зовут?
ОЛЕГ
Олег.
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Очень хорошо. Сделай, пожалуйста, Олег беседу во «ВКонтакте». И меня добавь. А я туда всё и пришлю.
Ученики, заходя в «Контакт», крайне удивлены.
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сегодня у нас вводное занятие по языку программирования «python». Посмотрите обзор и выполните первый квест — сделайте так, чтобы на экране всплыл Артём Дзюба с любым текстом. Только без мата, ок?
Ученики приступают к работе. Некоторые отвлекаются, используют «Контакт» по другому назначению, кажется, что Сергей Викторович не обращает на это внимания.
ОЛЕГ
А вы знаете, почему с нами не работает предыдущий учитель?
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Ушёл по собственному желанию.
ОЛЕГ
Он одному нос на уроке сломал.
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Да ладно! Кому? Зачем?
ОЛЕГ
С нами учился «Морда», веселиться любил. Теперь с отцом в мастерской.
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Я вас бить не буду, обещаю.
ОЛЕГ
Поглядим.
На экране монитора Коляна, который листает ленту «ВКонтакте», появляется второй курсор. Курсор закрывает «Контакт», открывает блокнот и пишет: «Высоко сижу, далеко гляжу! Не делай так». Колян поражён. Он смотрит на Сергея Викторовича. Звонит звонок. Сергей Викторович подходит к доске.
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сохраните проекты, продолжим на той неделе. ДЗ. Жду от вас сочинения на тему «Что такое интернет и кто такие хакеры?». Работы присылайте на почту: sv_77@mail.ru.
Сергей Викторович записывает адрес почты и свои ФИО на доске. Ученики дублируют их в своих тетрадях.
6. ИНТ. ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОМ КОЛЯНА И ЕГО МАМЫ. РАННИЙ ВЕЧЕР.
Колян, прыгая у телевизора, смотрит футбольный матч. Добавленное к игре время. Свисток. Колян падает на диван. Его глаза слезятся, а руки касаются пола. Приходит Мама Коляна.
МАМА КОЛЯНА
Привет! А ты не заходил в магазин, не взял хлеба?
КОЛЯН
Неа.
Мама Коляна подходит к шифоньеру, достаёт конверт из внутреннего кармана своей шубы.
МАМА КОЛЯНА
Ты снова деньги из заначки воруешь?
Колян молчит, он слишком подавлен проигрышем команды.
МАМА КОЛЯНА
Ну ты же понимаешь, что так тебе только армия светит? На институт никогда не накопим. Может, всё-таки в автослесарный поступишь, а?
КОЛЯН
Ну ма. Не начинай.
МАМА КОЛЯНА
Что не начинай? Тебе семнадцать, а ты так со мной. Весь в придурка-папашу! Слава богу, что я от него сбежала.
Колян открывает тетрадь.
КОЛЯН
Не могу этот бред снова слушать. Буду домашку делать, всё.
По телевизору криминальная программа, выступает полицейский.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ (В ТЕЛЕВИЗОРЕ)
Месяц назад банда хакеров ограбила банк, верно. Сбежал только один из них, сорокалетний москвич по кличке SEVER7. Есть одна примета — он абсолютно лысый, даже без бровей. Далеко он не убежит. Скорее всего, отсиживается в какой-то дыре.
Колян смотрит в свою тетрадь, в которой записано «Сергей Викторович Руднев, sv_77@mail.ru», и на экран телевизора, где выведен титр «SEVER7», его озаряет. Он выбегает из комнаты.
МАМА КОЛЯНА
Хлеба купишь?
7. ИНТ. ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОМ СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА. ВЕЧЕР.
Сергей Викторович сидит за столом, на нём — ноутбук. Открыт Телеграм, чат с контактом «Жёнка». Последние три его ночных сообщения доставлены, но не прочитаны: 19.08 – песня Мумий Тролля «С любимыми не расставайтесь», 24.08 – «Пролитая слеза» Полины Агуреевой, 28.08 – «Вот и всё» Андрея Макаревича. Сергей Викторович отпивает коньяк из чашки, закусывает мандаринкой, закуривает сигарету, достаёт телефон и нажимает в Телеграме «записать аудиосообщение». Жёнке.
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ (ДИКТУЕТ)
В интернетике пишут, что это написал твой любимый Маяк. «Жену свою я не хаю,/ И никогда не брошу её./ Это со мной она стала плохая,/Взял-то её я хорошую». А это текст Олега Григорьева. Так-то.
Контакт «Жёнка» появляется в сети.
ЖЁНКА (В ЧАТЕ)
Интересно, привет. Как ты там?
Сергей Викторович набирает «А как ты сама дум…». Раздаётся стук в дверь. Сергей Викторович идёт к двери, открывает её.
КОЛЯН
Можно?
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Заходи, а что стряслось?
Колян разглядывает зал Сергея Викторовича. Далеко не все коробки распакованы. На столе ноутбук, рядом с ним несколько полароидных снимков — Сергей Викторович с какой-то женщиной.
КОЛЯН
Жена ваша?
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Бывшая. Развелись недавно.
КОЛЯН
Понятно. А я вас раскусил. Вы — хакер СЕВЕР7!
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Что ты имеешь в виду?
Колян подходит к ноутбуку Сергея Викторовича, тот захлопывает крышку. Колян разглядывает впечатляющий беспорядок на столе: пепельницу, початую бутылку коньяка, кожицы мандаринок, мятые салфетки, застывшие лужицы коньяка, пепел, увядшую колбасу.
КОЛЯН
Месяц назад вы с бандой ограбили банк, сбежали. Я хочу долю за тишину, не то — сдам ментам.
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Понятно. А зачем тебе деньги?
КОЛЯН
Уеду. И маму увезу. Ад здесь.
Сергей Викторович наливает себе стопку, выпивает, закуривает.
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Аплодирую твоей сообразительности. Но денег у меня сейчас особо нет. Я их вывел в офшоры. Надо подождать годик, отсидеться. Чтобы не замели.
Колян садится на кресло.
КОЛЯН
Совсем нет? Я не могу так долго ждать, в армию загребут. Не врёте?
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Нет. Знаешь, идея есть. А что — если новый банк ограбить, вместе?
КОЛЯН
А как?
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Да запросто. Программировать быстро учишься. Математику знаешь?
КОЛЯН
Не очень.
Сергей Викторович перебирает коробки, разрезает их ножом, разглядывает внутренности — дипломы, пластинки, книги.
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Тогда чуть сложнее. Ну, к лету успеем, думаю. А там и уедешь, в июле-августе. О, нашёл!
Сергей Викторович достаёт из коробки книжечку.
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Я в прошлой жизни работал в ВУЗе хорошем. И старшеклассников к поступлению готовил. Моя методичка.
Колян принимает от Сергея Викторовича методичку для поступления в инженерный ВУЗ: подготовка к экзамену «Программирование на языке python».
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Так что, по рукам?
КОЛЯН
А можете мне денег занять?
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сколько?
КОЛЯН
Семь тысяч. Я маме должен. И Морде.
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Только с возвратом. В смысле — я запишу. Маме скажи, что мне в школе помогать будешь. Как лаборант.
КОЛЯН
Благодарочка!
8. ИНТ. ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОМ КОЛЯНА И ЕГО МАМЫ. ВЕЧЕР.
Колян влетает домой, отдаёт маме буханку хлеба и пять тысяч рублей.
КОЛЯН
Я теперь в школе лаборантом буду по информатике. И хакером, то есть, как его, программистом стану!
МАМА КОЛЯНА
Ты же не умеешь?
КОЛЯН
(показывая маме методичку)
Научусь!
В дверь стучат, Колян её открывает. На пороге ехидный Морда.
МОРДА
Приветики.
Колян протягивает ему две тысячи рублей.
МОРДА
Ну, встретимся ещё.
Морда уходит, Колян закрывает дверь.
Из зала доносится голос Петровича.
ПЕТРОВИЧ (45 лет)
Марусь, ну что там? Всё стынет уже!
Мама и Колян проходят в зал. За столом — Петрович, выпивает.
ПЕТРОВИЧ
О, Колька! Присоединяйся.
МАМА КОЛЯНА
Правда, Коль. Суп будешь? Ты же голодный небось.
КОЛЯН
Спасибо, но мне уроки надо делать.
Колян проходит в свою комнату, отделённую от зала висюльками.
9. ИНТ. ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОМ СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА. НОЧЬ.
Сергей Викторович выпивает, закуривает. Открывает ноутбук, удаляет в Телеграме «А как ты сама дум…». Закрывает в браузере вкладку «Виды самоубийств» и видеообзор «Как завязать петлю, что выдержит взрослого человека». Звонит «Жёнка».
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Ага, привет. Почему не дописал? Да ты не поверишь. Да, да в деревне, живой. А тебе как твоя новая жизнь? Это главное. Ага. Приходит ко мне домой ученик, говорит, что я хакер.
Вот я и сам не понял сначала.
10. ИНТ. ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОМ КОЛЯНА И ЕГО МАМЫ. НОЧЬ.
(в звуке — разговор Сергея Викторовича по телефону)
Колян читает методичку, ставит пометки. Рядом – нетронутая тарелка супа. В зале ругаются мама с Петровичем: Петрович встаёт из-за стола и, шатаясь, подходит к буфету; мама Коляна пытается его остановить, но он её отталкивает и достаёт из буфета бутылку. Колян глядит в их сторону, закрывает ладонями уши, возвращается к чтению. Петрович наливает стопку, мама подходит к Коляну и гладит его по голове.
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
(закадровый голос)
По телеку показали какого-то чувака, а пацан решил, что это я. Ну да. Я ему другой банк предложил ограбить. Но для этого же надо хоть немного поучиться, правильно?

Экспеллиармус
ИНТ. СПАЛЬНЯ МАРИНЫ — УТРО
МАРИНА (34) — худая женщина с прямыми темными волосами и бледным лицом — неподвижно сидит на краю двуспальной кровати в пижаме и смотрит в одну точку. На прикроватной тумбочке начинает вибрировать мобильный телефон. Марина медленно переводит на него взгляд. На экране улыбающееся лицо русоволосого, хорошо постриженного мужчины и надпись «Сергей». Марина берет трубку и молчит.
ГОЛОС СЕРГЕЯ
Марина? Марин, ты вечером будешь дома? Я оставил документы в сейфе, надо забрать. Я зайду?
Марина молчит.
ГОЛОС СЕРГЕЯ
(громче)
Марина?
МАРИНА
Хорошо.
Марина отключает телефон, отбрасывает его на кровать, медленно встает и подходит к шкафу-купе. Она открывает зеркальную створку. Внутри половина отсека для висячей одежды заполнена ее вещами, а вторая половина — пустыми вешалками. Марина снимает с вешалки платье и кладет его на кровать.
НАТ. ШКОЛЬНЫЙ ДВОР — УТРО
Марина вливается в поток детей и родителей, стекающийся к школе, какое-то время идет с ними, а потом останавливается под деревом слегка поодаль и наблюдает за проходящими мимо детьми. Она задерживает взгляд на одном белокуром мальчике, чуть позже — на другом.
ИНТ. ШКОЛЬНАЯ РЕКРЕАЦИЯ — УТРО
У окна две учительницы. Они смотрят на Марину, стоящую под деревом, и переглядываются.
УЧИТЕЛЬНИЦА 1
Я бы ее вообще к детям не подпускала.
УЧИТЕЛЬНИЦА 2
Злая вы, Наталья Николаевна. Человек такое пережил.
Учительницы продолжают смотреть в окно. За их спинами проносятся ученики младших классов.
ИНТ. КАБИНЕТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА — ДЕНЬ
Сидя за учительским столом, Марина наблюдает, как второклассники собирают в портфели книжки и тетради и, расталкивая друг друга, прорываются к двери. За второй партой стоит СЛАВИК (8) — светловолосый мальчик среднего роста и телосложения. Он засовывает в портфель пенал, когда его случайно толкает рыжеволосый одноклассник. Пенал падает на пол, высыпаются ручки и карандаши. Славик наклоняется и принимается их собирать. Он берет один из карандашей, направляет его на рыжего мальчика и взмахивает, словно волшебной палочкой.
СЛАВИК
(шепотом)
Остолбеней.
Славик замечает, что на него смотрит Марина. Мальчик смущается, но Марина ему подыгрывает, взмахивает своей шариковой ручкой и произносит «заклинание», призванное обезоружить соперника.
МАРИНА
Экспеллиармус.
Славик нарочно роняет карандаш, как будто заклинание сработало. Славик хохочет, а Марина горько улыбается.
НАТ. ШКОЛЬНЫЙ ДВОР — ДЕНЬ
Перед дверью школы топчется Славик. Из двери выходит Марина в легком плаще и с сумкой.
МАРИНА
Ты чего здесь?
СЛАВИК
Маму жду. Она вечно опаздывает.
Марина и Славик видят, как в ворота школы входит ОЛЬГА (32) — женщина с округлыми формами, в джинсах и водолазке. В одной руке она держит АРИШУ (1), а в другой — телефон. Ольга быстро идет к зданию школы. Когда она подходит совсем близко, Марина открывает рот, чтобы поздороваться, но Ольга продолжает говорить по телефону и не обращает на нее внимания, вышагивает перед Мариной и Славиком туда-сюда, сосредоточенная на разговоре.
ОЛЬГА
(в трубку)
К утру понедельника я пришлю готовые чертежи.
(слушает)
Нет, Вадим Олегович, как в прошлый раз не будет. Я вам обещаю, к началу рабочего дня в понедельник.
(Марине, с дежурной улыбкой)
Здравствуйте.
(Славику)
Слав, ну чего стоим? Побежали.
МАРИНА
Подождите, пожалуйста. Я учительница Славика по английскому. Марина Витальевна. Очень кстати, что мы встретились. Вы знаете, что Славик почти не делает домашнее задание по английскому? Обратите на это внимание.
ОЛЬГА
Ох, Марина Витальевна, мне только английского не хватало. Я ж сама немецкий в школе учила, мне английский — что китайский.
МАРИНА
И никто в семье не владеет?
ОЛЬГА
(глядя на годовалую дочь)
Ариша, у тебя как с английским?
(нервный смешок)
МАРИНА
Я могла бы заниматься со Славиком после школы.
ОЛЬГА
Что вы! Это дорого. У нас на репетиторов денег нет.
МАРИНА
Заплатите, сколько сможете. Это не важно. Славик смышленый мальчик, главное — не запустить.
ОЛЬГА
Правда? Ой, спасибо вам огромное.
МАРИНА
Тогда завтра и начнем.
ОЛЬГА
Хорошо. До свидания.
Ольга со Славиком быстро уходят в сторону ворот. Ольга держит Славика за руку и тянет так, что тот едва успевает перебирать ногами. Марина видит, как Ольга оборачивается и сердито бросает Славику:
ОЛЬГА
Вот, значит, как ты у нас домашнее задание делаешь…
ИНТ. КВАРТИРА ОЛЬГИ — ПРИХОЖАЯ — ДЕНЬ
Ольга с детьми входит в квартиру. Ариша плачет.
ОЛЬГА
Тщ-тщ-тщ… Сейчас, моя маленькая.
Славик бросает портфель на пол.
ИНТ. КВАРТИРА ОЛЬГИ — ЗАЛ — ДЕНЬ
Рабочий стол Ольги завален бумагами. На большом мониторе открыта проектировочная программа «Автокад». Рядом на диване сидит Ольга и качает на коленке Аришу. Девочка успокоилась и улыбается. Подходит Славик, плюхается на диван рядом с матерью и прижимается к ней. Ольга обнимает сына за плечо. Ариша, которую больше не качают, начинает снова кричать и отталкивать Славика.
ОЛЬГА
Сынок, иди на кухню кушать.
СЛАВИК
Я не хочу на кухню. Я хочу с тобой.
Ариша кричит что есть мочи.
ОЛЬГА
Ну пожалуйста. Видишь, что с ней творится.
Славик не двигается с места.
ОЛЬГА
(кричит)
Я сказала, на кухню! Что тут непонятного?!
Славик встает и плетется к двери.
ИНТ. КВАРТИРА МАРИНЫ — ПРИХОЖАЯ — ВЕЧЕР
Звонок в дверь. Марина видит в глазок Сергея, который пришел за документами. Он выглядит гораздо хуже, чем на фото в телефоне — заросший, небритый. Марина порывается открыть дверь, но не может собраться с духом, чтобы повернуть ключ.
ИНТ. ПОДЪЕЗД — ПЕРЕД КВАРТИРОЙ МАРИНЫ — ВЕЧЕР
Сергей вдавливает кнопку звонка и не отпускает.
СЕРГЕЙ
Марин, я знаю, что ты дома. Открывай.
ИНТ. КВАРТИРА МАРИНЫ — ПРИХОЖАЯ — ВЕЧЕР
Марина с опущенной головой упирается одной рукой в дверной косяк, а второй держится за ключ, но не поворачивает его.
ИНТ. ПОДЪЕЗД — ПЕРЕД КВАРТИРОЙ МАРИНЫ — ВЕЧЕР
Сергей барабанит в дверь кулаком.
СЕРГЕЙ
(сердито)
Ну что за детский сад? Впусти меня! Я просто заберу документы и сразу уйду. Марин, ну нельзя же так!
ИНТ. КВАРТИРА МАРИНЫ — ПРИХОЖАЯ — ВЕЧЕР
Марина прислоняется спиной к двери и сползает по ней, по лицу ее катится слеза. Сергей продолжает барабанить в дверь.
ГОЛОС СЕРГЕЯ
(в ярости)
Марина, мне что, дверь ломать?! Мне нужны эти документы, у меня сделка срывается! Если я его не заберу…
(запинается)
…их не заберу, все полетит к чертям!
Марина обращает внимание на оговорку Сергея и задумывается. Раздается глухой удар ногой с обратной стороны двери, слышны быстрые удаляющиеся шаги по лестнице.
ИНТ. КВАРТИРА МАРИНЫ — СПАЛЬНЯ — ВЕЧЕР
Марина подходит к шкафу, отводит зеркальную створку, сдвигает одежду на вешалках. В левом нижнем углу стоит компактный сейф. Марина садится на пол перед шкафом и набирает четырехзначный код — сейф пищит и не открывается. Марина вводит другой код — сейф открывается. Внутри лежит револьвер, за ним коробка патронов и никаких документов.
Марина берет в руки оружие и рассматривает его. На деревянной рукояти револьвера Colt Python с шестидюймовым стволом гравировка «Покоритель Дикого Запада».
Зеркальная створка шкафа трогается с места и закрывается перед лицом Марины. Она видит себя в зеркале с пистолетом в руках, берет его в правую руку и медленно подносит к виску, не сводя глаз со своего отражения. Потом вздрагивает, быстро опускает пистолет, открывает створку шкафа, кладет пистолет в сейф, захлопывает дверцу, подскакивает на ноги и уходит.
БОБСЛЕЙ:
ИНТ. КВАРТИРА МАРИНЫ — ЗАЛ — ДЕНЬ
Марина и Славик сидят за столом. Перед ними раскрытая рабочая тетрадь. Марина что-то объясняет, Славик кивает. Марина с распущенными волосами и в платье. Славик в школьной форме.
ИНТ. КВАРТИРА МАРИНЫ — КУХНЯ — ДЕНЬ
Славик за кухонным столом ест булочку и запивает ее молоком, у него остаются молочные усы. Марина смеется, показывает Славику его отражение в маленьком круглом зеркальце, он улыбается. Волосы Марины забраны назад. Она в юбке и блузке. Славик в школьной форме.
ИНТ. КВАРТИРА МАРИНЫ — ЗАЛ — ДЕНЬ
Славик и Марина сидят на полу и разрисовывают друг другу лица гримом. Марина с хвостиком и в джинсах. Славик в школьной форме.
ИНТ. КВАРТИРА МАРИНЫ — ПРИХОЖАЯ — ВЕЧЕР
Марина и Славик кидают скомканные бумажки в корзину для бумаг, которая стоит на другом конце прихожей. Славик попадает и подпрыгивает от радости. Марина одета в мягкий кардиган, волосы собраны назад. Славик в школьной форме.
КОНЕЦ БОБСЛЕЯ
ИНТ. КВАРТИРА МАРИНЫ — ЗАЛ — ВЕЧЕР
Марина и Славик стоят у окна, смотрят во двор, на вход в подъезд. На темнеющем небе прорисовывается бледный круг полной луны. Славик вздыхает.
МАРИНА
Пробки, наверное.
СЛАВИК
Угу.
У Марины звонит телефон. На экране надпись «Мама Славика». Марина берет трубку.
ГОЛОС ОЛЬГИ
(тараторит)
Марина Витальевна, у Ариши подскочила температура, нас забрали в больницу. Придется тут остаться на ночь. Можно Славик переночует у вас? А то мне совершенно некого попросить его забрать. Пожалуйста.
МАРИНА
(слегка растерянно)
Д-да… Да, конечно. Пусть остается.
Марина кладет трубку. Славик смотрит на нее вопросительно.
МАРИНА
Ну что, по какао?
Славик улыбается.
ИНТ. КВАРТИРА МАРИНЫ — ВАННАЯ КОМНАТА — ВЕЧЕР
Марина сидит на полу и роется в шкафчике под раковиной в поисках новой зубной щетки для Славика.
МАРИНА
Сейчас зубы почистим, и спать. Ну где же она? Я же точно помню, что была.
Она роется все более лихорадочно, потом закрывает дверцу шкафчика и часто дышит, как будто вот-вот расплачется. Славик, стоявший все это время в дверях, подходит к ней и гладит ее по голове.
СЛАВИК
Подумаешь, щетка. Ничего страшного. Я и дома не всегда зубы на ночь чищу.
Марина поднимает на него глаза.
СЛАВИК
Мама не проверяет. Я воду открываю, потом чуть-чуть постою, а потом иду в кровать книжку читать. Она мне и книжку почти никогда не читает.
Марина смотрит на Славика и едва заметно кивает.
ИНТ. КВАРТИРА МАРИНЫ — СПАЛЬНЯ — ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР
Славик в длинной женской футболке сидит на одной половине двуспальной кровати, ноги вытянуты перед собой и накрыты одеялом, под спиной подушка. Марина стоит на стуле и роется в шкафу. Из дальнего угла самой высокой полки она достает какой-то маленький предмет и сжимает его в кулаке. Выходит в прихожую.
ИНТ. КВАРТИРА МАРИНЫ — ПРИХОЖАЯ — ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР
Марина стоит и смотрит на закрытую дверь, потом разжимает кулак — там ключ. Она отмыкает ключом запертую детскую и входит туда.
ИНТ. КВАРТИРА МАРИНЫ — ДЕТСКАЯ — ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР
Марина входит в современно обставленную мальчишескую детскую. На полке в шкафу стоят семь книг о Гарри Поттере, а рядом в рамочке фотография, на которой Марина, Сергей и мальчик в шляпе волшебника и с волшебной палочкой в руках запечатлены в парке Гарри Поттера. Перед рамкой лежит волшебная палочка с фотографии. Марина быстро хватает с полки палочку и третью книжку из серии, вылетает из комнаты и захлопывает дверь.
ИНТ. КВАРТИРА МАРИНЫ — СПАЛЬНЯ — ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР
Марина подходит к кровати, кладет книгу на прикроватную тумбочку, присаживается на край рядом со Славиком, держа одну руку за спиной.
МАРИНА
У меня для тебя сюрприз. Ты знаешь, что в Америке есть настоящий Хогвартс, Косой переулок и горки с драконами и гиппогрифами?
СЛАВИК
(удивленно)
Да-а? А откуда вы знаете? Вы там были?
МАРИНА
Была. И кое-что с собой привезла. Держи, это тебе.
Марина достает из-за спины руку и протягивает Славику палочку.
СЛАВИК
Ого!
Славик хватает палочку, сбрасывает одеяло, подскакивает на кровати и размахивает палочкой.
МАРИНА
Это волшебная палочка профессора Люпина.
СЛАВИК
Класс! Он же оборотень!
МАРИНА
Оборотень, но это не главное. Главное, что он верный друг и всегда пытается защитить Гарри.
Славик продолжает скакать на кровати и делать разные движения палочкой. Марина улыбается.
ИНТ. КВАРТИРА МАРИНЫ — СПАЛЬНЯ — НОЧЬ
Полная луна светит через окно на кровать. Славик спит в обнимку с палочкой. Марина лежит рядом и, подперев голову локтем, смотрит на Славика не мигая.
ИНТ. ПОДЪЕЗД — ВОЗЛЕ ЛИФТА НАПРОТИВ КВАРТИРЫ МАРИНЫ — УТРО
Захлопывается дверь. Ольга нажимает кнопку лифта. На плече у Ольги спит Ариша. Воодушевленный Славик стоит рядом.
СЛАВИК
И еще она мне подарила волшебную палочку!
Славик машет палочкой перед лицом Ольги.
СЛАВИК
Это точно такая палочка, как у профессора Люпина.
ОЛЬГА
Который огромный, лохматый?
СЛАВИК
Мам, ну ты что? То Хагрид.
Открываются двери лифта. Ольга и Славик заходят. Свободной рукой Ольга обнимает Славика за плечо. Двери лифта закрываются.
ИНТ. КВАРТИРА МАРИНЫ — ПРИХОЖАЯ — УТРО
Марина запирает дверь за только что ушедшими Ольгой и Славиком, достает телефон и звонит.
МАРИНА
Игорь, привет.
(слушает)
Да, да, сколько лет… Слушай, давай встретимся? Дело есть.
(слушает)
Да мне без разницы.
(слушает)
Хорошо. Тогда в три.
ИНТ. КАФЕ — ДЕНЬ
Марина сидит за столом, напротив нее ИГОРЬ (34) — шатен в джинсах, кожаных мокасинах и мягком пиджаке.
ИГОРЬ
Ну, а ты с кем-нибудь из наших общаешься?
МАРИНА
Нет, как-то всех раскидало. Я даже в соцсетях ни за кем не слежу.
ИГОРЬ
Ясно с тобой. Ладно, Куликова. Колись, чего звала.
МАРИНА
Мне помощь нужна, Игорь. Два заграна, на меня и ребенка. С американской визой. Плюс заверенное разрешение отца на выезд.
ИГОРЬ
Марин, ты чё? Я ж не занимаюсь.
МАРИНА
Игорь, мне больше не к кому обратиться. Я знаю, у тебя есть выходы. Понимаешь, мой муж… Он бьет нас. И ладно я… Я бы потерпела…
(начинает заводиться)
Но ребенок! Ребенок должен расти в любви и заботе.
(почти кричит)
Только я могу ему это дать!
ИГОРЬ
Ну тихо ты, не кипятись. Понял я. От мужа сбежать хочешь. Сколько у тебя денег?
Марина водит пальцем по экрану телефона, открывает банковское приложение и показывает Игорю сумму на счете.
ИГОРЬ
Мало, Марин. Это хорошо если четверть.
Марина смотрит на него глазами, полными слез. Игорь думает.
ИГОРЬ
На что ты готова?
МАРИНА
Игорь, я на все пойду, чтобы спасти Егора.
ИГОРЬ
Тогда вот что.
(почти шепотом)
Мы тут дело готовим. Долго уже. А у нас человек слился. Ты машину водишь?
МАРИНА
Да.
ИГОРЬ
Твоя работа непыльная. Будешь в машине сидеть, нас ждать возле банка. Мы там подчистим, а ты нас увезешь. Свою долю и документы получишь в тот же день. Идет?
Марина смотрит ему в глаза и кивает.
НАТ. ВОЗЛЕ БАНКА — ВЕЧЕР
Марина за рулем автомобиля. Из банка выбегают трое грабителей, садятся в машину. Марина жмет на газ, и машина уезжает. Грабители снимают маски. Это Игорь и двое незнакомых мужчин.
НАТ. ПУСТЫРЬ — ВЕЧЕР
За рулем сидит Марина, на переднем пассажирском сиденье — Игорь. На задних сиденьях две спортивные сумки.
ИГОРЬ
Куликова, я вчера нашел тебя на Фейсбуке. Ты небось и не знаешь, что там вся стена завалена соболезнованиями… полтора года не заходила. Я покликал туда-сюда и наткнулся на жуткую историю, как мужик катал сына на катере, а мальчишка выпал за борт, его там засосало… Разве это был не твой сын?
От неожиданности Марина теряется, смотрит на Игоря широко раскрытыми глазами и неубедительно выдавливает:
МАРИНА
Н-нет…
Игорь открывает перед лицом Марины новый поддельный паспорт с лицом Славика, а рядом держит телефон с фотографией Егора из профиля в Фейсбуке.
ИГОРЬ
Не очень-то эти двое похожи. Ты меня за идиота держишь? Кого ты пытаешься вывезти?
Марина все еще в шоке, не знает, что сказать. Игорь, видя такую реакцию, качает головой.
ИГОРЬ
Ты чё, мать, совсем охренела? Я в похищении ребенка не участвую.
Игорь выходит из машины, открывает заднюю дверцу и ныряет головой в салон. Он роется в сумке.
ИГОРЬ
Деньги я тебе отдам. Ты свою работу сделала. Но документы… Извини.
Выражение лица Марины становится сосредоточенным. Она оборачивается через плечо, смотрит на Игоря и вытягивает вперед револьвер Colt Python, который держит обеими руками. Игорь поднимает глаза, Марина стреляет.
ИНТ. КВАРТИРА МАРИНЫ — ПРИХОЖАЯ — ДЕНЬ
Марина и Славик заходят, Марина закрывает входную дверь. У двери стоит чемодан на колесиках. Марина приседает к Славику.
МАРИНА
Помнишь, я рассказывала тебе про волшебный парк в Америке? Мы сегодня полетим туда, и ты сам все увидишь. Своими глазами.
СЛАВИК
(улыбается)
Как? Правда?
(улыбка сходит с лица)
Меня мама не пустит.
МАРИНА
С мамой я договорилась.
Славик расплывается в улыбке, вынимает палочку из-за пазухи, разворачивается к двери и произносит «заклинание», открывающее двери.
СЛАВИК
Алохомора!
Марина распахивает перед ним дверь. Славик выбегает, Марина берет чемодан и выходит следом.
БОБСЛЕЙ:
ИНТ. ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ АЭРОПОРТА — ВЕЧЕР
Марина и Славик подходят к стойке.
ИНТ. ПОДЪЕЗД — ПЕРЕД КВАРТИРОЙ МАРИНЫ — ВЕЧЕР
Ольга с ревущим ребенком на бедре звонит и барабанит в дверь, никто не открывает.
ИНТ. ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ АЭРОПОРТА — ВЕЧЕР
Марина протягивает пограничнику паспорта, разрешение на выезд от отца ребенка и посадочные талоны.
НАТ. ДВОР ПЕРЕД ДОМОМ МАРИНЫ — ВЕЧЕР
Ольга выбегает из подъезда и кричит что-то в трубку телефона. Из только что подъехавшего автомобиля решительно выходят двое бандитов, участвовавших в ограблении банка. Они проходят мимо Ольги, не обращая на нее внимания, и заходят в подъезд Марины.
ИНТ. ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ АЭРОПОРТА — ВЕЧЕР
Пограничник ставит штампы и возвращает документы Марине. Они со Славиком проходят дальше.
НАТ. ШКОЛЬНЫЙ ДВОР — ВЕЧЕР
Ольга выскакивает из дверей школы в растерянности.
ИНТ. АЭРОПОРТ — ЗОНА ВЫЛЕТА — ВЕЧЕР
Марина и Славик идут через зону вылета.
ИНТ. ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК — ВЕЧЕР
Ольга объясняет что-то полицейскому.
ИНТ. АЭРОПОРТ — ВЕЧЕР
Марина и Славик предъявляют посадочные талоны и проходят на посадку через телетрап.
КОНЕЦ БОБСЛЕЯ
НАТ. УЕДИНЕННЫЙ ДОМ У ОЗЕРА В ЛЕСУ — ДЕНЬ
ТИТР: Два месяца спустя
Подъезжает машина. Из нее выходит Марина, забирает из багажника пакеты с продуктами и идет в дом.
ИНТ. КОМНАТА СЛАВИКА — ДЕНЬ
Славик сидит за письменным столом, что-то рисует. В двери появляется Марина с подносом. Она проходит мимо шкафа, где стоит фотография в рамочке. На ней Марина и Славик в остроконечной шляпе и с волшебной палочкой в руках запечатлены в парке Гарри Поттера.
Марина ставит поднос перед Славиком.
МАРИНА
Смотри, Егор, я купила твои любимые груши.
СЛАВИК
(кричит)
Я ненавижу груши! И я не Егор! Я Славик!
МАРИНА
(улыбается)
Ну что ты, милый. Мама всегда знает, как зовут ее сына.
Славик вскакивает со стула и выбегает из комнаты. У него под столом валяется сломанная в двух местах волшебная палочка.
ИНТ. КВАРТИРА ОЛЬГИ — СПАЛЬНЯ СЛАВИКА — ВЕЧЕР
В углу валяется раскрытая книжка о Гарри Поттере. Мать Славика сидит на кровати сына, качает Аришу и сморит в одну точку.

Обратное движение
Этот фильм был снят в мастерской CWS «Автопортрет: I-movie на фоне города», которая проходит под руководством журналиста и драматурга Валерия Печейкина и режиссера Артема Фирсанова.
В видеомастерской собрались студенты, не имеющие опыта создания фильмов. Всего за девять занятий с нуля они создали короткометражные фильмы о самих себе. И попутно научились работать с программами для монтажа, писать закадровый текст, подбирать музыку, освоили другие навыки, необходимые для создания фильма.
В процессе обучения в Москве был введен режим самоизоляции, съемки в городе стали невозможны, но для настоящих документалистов сложные условия делают задачу только интереснее. Слушатели мастерской использовали домашние съемки, фрагменты видеоинтервью, записанные через Zoom, личные архивы и виды из Google Maps.
Одна из самых сложных форм — это лирика. В школе она используется как испанский сапог инквизиции. Ведь никто не объясняет, зачем нужны все эти «лирические отступления».
Артем Фирсанов:
«Анна Пестерева средствами кино решает одну из самых сложных и абстрактных задач. В самом названии “Обратное движение” задается тема времени, идущего вспять. Желание обернуться и посмотреть на прожитую жизнь — задача, которую ставит по-настоящему зрелый автор. В фильме упоминается картина де Кирико “Меланхолия и тайна улицы” — одна из самых загадочных метафизических работ ХХ века. Пестерева замечает, что Москва без людей становится таким же универсальным европейским городом как и любой другой. Фрагменты наблюдений складываются в рассказ об универсальном опыте уединения и меланхолии. Объединяющем, как потраченное время. Всего 7 минут и 47 секунд фильма, которые идут одинаково в любом месте. Но у каждого зрителя — по-своему».

Про меня
Этот фильм был снят в мастерской CWS «Автопортрет: I-movie на фоне города», которая проходит под руководством журналиста и драматурга Валерия Печейкина и режиссера Артема Фирсанова.
В видеомастерской собрались студенты, не имеющие опыта создания фильмов. Всего за девять занятий с нуля они создали короткометражные фильмы о самих себе. И попутно научились работать с программами для монтажа, писать закадровый текст, подбирать музыку, освоили другие навыки, необходимые для создания фильма.
В процессе обучения в Москве был введен режим самоизоляции, съемки в городе стали невозможны, но для настоящих документалистов сложные условия делают задачу только интереснее. Слушатели мастерской использовали домашние съемки, фрагменты видеоинтервью, записанные через Zoom, личные архивы и виды из Google Maps.
Одна из самых сложных форм — это лирика. В школе она используется как испанский сапог инквизиции. Ведь никто не объясняет, зачем нужны все эти «лирические отступления».
Валерий Печейкин:
«Это не просто хорошая работа. Это работа, над которой я думаю “для себя”. Мне интересно, как она устроена. А сделана она сложно и парадоксально. Постоянная смена техник, регистров, звуков, оптик — все это могло бы превратиться в сумму частей. Но стало целым. “Про меня” — так называется работа Марии Карлсон. Но она и про меня тоже. В моей голове тоже смешивается всё со всем, как в китайском блендере. Иногда мне кажется, что он вот-вот взорвется. Как и моя голова. Но каждый раз он удивляет меня тем, что у него все получилось. Так удивил меня и фильм Марии Карлсон. Из набора всего, что могло бы стать ошибкой, она собрала историю о собственном разуме. Карлсон использует кино для того, для чего оно придумано — показывает, что происходит в голове автора. А происходит там — всё. И мне это очень нравится».

Анри
Последние две недели Таня жила, задержав дыхание. Так бывало всегда, когда заболевала дочка. Между болячками — работаешь, учишься, планируешь, даже мечтаешь. А потом 38,5 — и ждать. Не дышать. Таня толкла в ложечке четвертинку антибиотика, наблюдала похожие на снег белые фармацевтические хлопья и думала, что сейчас придет очередь мужа, а потом и ее. И затянется эта пилюльно-кисельная канитель еще недели на три, а то и на четыре.
— Гойко, мама! — Майя сидела на кровати, свесив худенькие, похожие на лапки замороженного цыпленка, ножки в толстых шерстяных носках.
— А ты закрой глаза и представь, что это конфетка.
— Эклер, ладно?
Майя жмурилась, глотала, морщилась, крепко сжимая уголок расшитого невиданными цветами шелкового покрывала. А потом открывала глаза и, гладя себя по животу, мурлыкала:
— М-м, как вку-усно!
Почему никогда не хворавший ребенок к трем годам вдруг начал болеть по два раза в месяц, было загадкой не только для Тани, но и для врачей.
Известный на всю Москву ЛОР предлагал на всякий случай удалить аденоиды, остеопат, лечивший всех актрис, у которых Таня брала интервью, — прогнать паразитов. Гомеопат говорила что-то про лимфу и психологическую атмосферу в доме.
Атмосфера в доме была и вправду — психологическая.
* * *
— Майка, а ты знала, что мы произошли от обезьяны?
Макс пил чай, сидя на самом краешке круглой икеевской табуретки, и покачивался на двух ее ножках взад-вперед. Маленькая табуретка, казалось, вот-вот сломается: Макс был крупный мужчина. Крепкие руки, покрытые зарослями жестких волос, когда-то производили на Таню сильное впечатление.
— Правда? — с восторгом закричала Майя и закашлялась со свистом, напоминающим что-то птичье. Отхлебнула компот из розовой чашки с единорогом. — А кто еще произошел от обезьяны? Ты и кто еще, папа?
Максим увлекался лекциями Станислава Дробышевского. Таню антропология интересовала мало, поэтому в собеседники он загодя готовил дочку. Получалось не очень. После пары подобных Майкиных комментариев Макс раздражался и ложился на диван с влажным полотенцем на лбу:
— Больше не могу.
Таня понимала: по сути своей муж — поборник тишины, порядка и философских разговоров под косячок — был чайлд-фри. Понимала и его трагедию: нелегко узнать о себе такое, особенно уже после появления собственного ребенка… И поэтому жалела Макса, как могла, прощая и отсутствие работы, и нытье по поводу необходимости заменять ее с малышом во время вынужденных отлучек. Тем более что оставлять ребенка надолго, даже с папой, Тане, честно говоря, не очень-то и хотелось. Через полчаса после расставания с дочкой на молодую мать обрушивалось такое горькое чувство вины и потери, словно ехала в поход с большим рюкзаком и забыла его в электричке вместе со всеми деньгами и документами. Так что лучше уж было самой, все самой.
* * *
Природа подмешала Тане те же гормоны, что достаются всем молодым матерям. Только в тройном объеме. Первые года полтора она, не позволившая себе и недели декрета, таскала Майку на встречи и планерки. Расшифровывала интервью, устроив ее, сосущую, на груди. Готовила, убаюкивая дочку в слинге. Писала статьи по ночам. Падала в обмороки днем. Видимо, в благодарность за такой мощный душевный и физический вклад дочка точно считывала малейшие мамины состояния.
Тане порой не по себе становилось, насколько.
На следующий день после того, как муж сделал ей выговор из-за беспорядка в квартире (Майка в это время крепко спала за звукоизоляционной дверью), девочка подошла к маме и спросила: «Мам, а почему папа тебя вчера не любил?»
В другой раз, когда Макс ударился в воспоминания об их вольной добеременной жизни и сказал, что бездетного времени не вернешь, Майя пришла из сада и в своей картинной манере, раскинув руки, сказала: «Простите меня!». «За что, за что простить, ты сломала что-то? Это не страшно», — принялась ее успокаивать Таня. «Простите меня — за любовь…» — сказала девочка и грустно посмотрела маме в глаза.
Майя вообще любила экстравагантные фразы, словно в прошлой жизни была начинающим поэтом Серебряного века. За супом могла ни с того ни сего выдать рифму: «Любовь — кровь». Один раз заехала ребрами в угол деревянного кухонного стола и заявила: «Я ударилась сердцем».
В тот день, когда Майя долбанулась об стол, сердцем ударилась не она одна.
* * *
С Анри Таня познакомилась в начале апреля — туманного, сырого, но, как всякий апрель, обнадеживающего. Она узнавала его по частям, словно проявляла пленочную фотографию. Нездешнее имя, в котором слышался хруст свежих парижских круассанов. Выпуклый лоб с глубокими висками и напряженной пульсирующей жилкой. Черная, под ретро, водолазка с пуговками на горловине, которые он будто специально оставлял расстегнутыми, обнажая невозможно красивую шею. Руки с тонкими длинными пальцами, в которых млела обласканная в каждом своем сокровенном уголке аккуратная пленочная «Лейка»… После первого семестра в Школе фотографии, куда Таня пришла случайно, выиграв конкурс и, в общем-то, нехотя (два вечера в неделю без Майки), она не видела его все лето и даже начала забывать, как он выглядит.
Но осенью Анри пришел, как и она, на продвинутый курс, и ощущения закрепились, будто фотография после фиксажа. В первый раз они пошли вместе на выставку в октябре. В Москву привезли известного фотографа, у Анри оказалась бесплатная проходка, у Тани — время перед планеркой. После выставки решили поснимать готичный особняк Кекушевой на Остоженке — она на «Зенит», он на «Лейку». Таня смеялась: чего он носится вокруг здания, как вокруг звезды на красной дорожке. Анри объяснил: дело в свете, редкий он, надо его поймать. В какой-то момент Таня засмотрелась на политую закатной глазурью пряничную башенку, представляя, как из узенького окошка выныривает в черное московское небо обнаженная ведьма с распущенными волосами. Тогда Анри подошел к ней очень близко и попросил снять резинку с хвостика. А потом растрепал ее волосы своей рукой и сделал портрет крупным планом.
В тот день Майка заболела в первый раз.
* * *
— Мама, я ничего не вижу! Ма-а-ама! Глазки не открываются!
Всхлипывающие крики застали Таню в ванной, затемнив романтично-красный проявочный свет до венозной густоты. Таня бросила пленки в химикатах и рванула в детскую. Дочка металась по подушке. В уголках глаз и на ресничках скопился гной. Майка непрерывно болела уже месяца два. Но то, что ангина уже на финишной прямой споткнется о конъюнктивит, лечить который так же неприятно, как выговаривать это слово, было уже слишком.
Таня намочила марлю, промыла дочке глаза, закапала левомицетин, включила сказку про Айболита. Днем Майя больше не спала. А ночью три часа просидела на кровати с открытыми глазами, обнимая маму за шею. Боялась, что глазки слипнутся.
К тому моменту они встречались с Анри уже восемь недель, ненадолго — между интервью и походами по детским врачам. Выставки, бульвары. Разговоры о пленке и цифре. О Робере Дуано. О «Фотоувеличении» Антониони. Никакого намека на плотское. Все предыдущие Танины истории развивались вообще не так: сначала был секс, а потом узнавание, чаще всего становившееся после близости неинтересным. Даже мужа она сначала попробовала, рассмотрела, после чего все рассчитала и построила семью. Пора было. Не ждать же, в самом деле, единственную любовь, когда тебе вот-вот стукнет тридцать.
Таня была из тех воспитанных бабушками девочек, которые, едва перестав верить в Деда Мороза, начинают так же истово верить в рыцарей. Немалую роль в формировании этого мироощущения сыграл папа — всегда мужественный, спокойный, галантный. Когда Тане исполнилось четырнадцать лет, он раздобыл карету, запряженную тремя белыми скакунами, и, усевшись на козлы, прокатил дочь по Битцевскому парку на виду у удивленно раскинувших ветки лип и берез. Бабушка потом говорила, что удовольствие обошлось папе в целый оклад. В девяностые годы они у военных были с игольное ушко. И чудо еще, что через это ушко прошла целая тройка белых лошадей, специально по такому случаю освобожденных от выездки по выглаженному песочку Битцевского конно-спортивного комплекса.
С годами Таня обнаружила, что мужчины ее поколения не только не катают принцесс на белых лошадях, но и не носят сумок с продуктами, не дарят цветов и вообще не стыдятся жить за счет своих женщин. Но это знание не разуверило ее в существовании рыцарей. Наоборот! В конце концов бабушка тоже тянула на себе все, включая пьющего мужа, но верила же. Просто для Тани эти рыцари жили где-то в параллельной Вселенной, отгороженной от современного мира большими эпохами, как Бог отгорожен от людей плотными подушками облаков.
В этом смысле Анри был для нее гостем из другого измерения. Он дарил цветы: то белые, похожие на жирные кремовые, розы, то веселые разноцветные герберы, то до неприличия обнаженные и оттого еще более стесняющиеся орхидеи. Глядя в ее проваленные от бессонных ночей глаза, беспокоился о самочувствии. Мало говорил, зато слушал — взахлеб. И Таня, не приученная делиться, рассказывала ему сокровенное, детское, больное. Про то, как ворона на ее глазах вытащила птенца из чужого гнезда и уронила прямо ей, восьмилетней, под ноги. И как птенец, странно горячий, с неуклюже вывернутой шейкой, которую так и хотелось ввернуть обратно, умер прямо у нее в ладошках. Про судороги, которые случились с ней в первый раз сразу после этого случая, и ужасные таблетки, которыми их лечили целых полгода. Полгода вязкого плотного тумана, в котором легко было потерять не то что узелок с малиновым вареньем, но и свое имя, возраст, себя.
Про фантазии, в которые, как в байковое одеяло, было уютно прятаться — сначала от хаоса школьной рекреации, потом от холода офисных опенспейсов. Про вторую жизнь, в которую научилась отправляться «гулять», выполняя скучную и неприятную работу. В эти моменты девочка будто раздваивалась. Одна Таня выполняла задание по чистописанию, а другая гуляла с мамой за ручку по майскому парку. Одна выводила левой рукой неподдающееся «я», а другая наблюдала, как полупрозрачные листики лип, будто новогодние гирлянды, меняют цвет с зеленого на желтый и обратно, стоит солнцу скрыться или выглянуть наружу.
Про маму, которая рано ушла из-за рассеянного склероза, и про детскую обиду на нее: ну как можно из-за простой рассеянности перестать узнавать своего ребенка, а потом и вообще — умереть! Про книжку о человеке с улицы Бассейной, которую боялась брать в руки лет до двенадцати…
Анри слушал, вздыхал, жалел. Но странное дело: все равно оставался чужим. Как остаются чужими случайные собеседники в поезде, которые обнаруживают друг в друге родственную душу, с энтузиазмом обмениваются телефонами и никогда не созваниваются.
* * *
Однажды в конце ноября Таня возвращалась вечером домой. Было уже поздно. На выходе из метро за стеклянными дверями рядком, как голуби, стояли мужчины, ожидая своих женщин. Таня поднялась по лестнице, вышла на почти догола прополотый проспект, сиротливо прикрывавшийся именем — Зеленый. Спрятала нос в колючий шерстяной шарф, укрываясь от бьющих в лицо микроскопических ледяных крупинок.
Таня свернула на 3-ю Владимирскую улицу — звенящий трамвайными переливами ручеек, впадающий в грязное шоссе Энтузиастов, бывший Владимирский тракт. И вдруг задумалась о каторжных: интересно, сколько дней вели бедных энтузиастов по этапу во Владимир? Тане вдруг отчетливо показалось, что она сама каторжная. И это ее ноги в гремящих цепях тяжело плетутся прямиком на угли тлеющего домашнего очага. Таня не успела как следует обдумать эту мысль, как дорогу ей перегородил здоровенный мужик в красной куртке.
— Можно проводить? — От мужчины сильно пахло перегаром.
— Лучше не надо. — Таня сделала шаг в сторону.
— Но почему? Красивая такая. — Мужик расставил в стороны широкие лапищи.
— Я очень несвободный человек. — Таня легонько толкнула мужчину, пытаясь пройти.
— Но я тоже занятой!
— Я не занята, я несвободна.
— Ну и вали! — раздраженно бросил пьяный и, косясь на выглядывающую из Таниной сумки белую розу, шатаясь, ушел в дворовую темноту.
Таня с горечью подумала об Анри. Хотел ведь проводить. Но она не позволила: не желала, чтобы знал, где она живет. Конкретный адрес, математически точный его цифро-буквенный код, как и ее семейный статус, моментально задали бы координаты их любви и свели бы все к банальному адюльтеру. Таня подошла к подъезду, не глядя, вытащила цветок из сумки и бросила в урну. Роза мягко стукнулась о металл, о который позавчера, теряя рыжие лепестки, так же точно ударилась оранжевая гербера.
Раздеваясь перед сном, Таня обнаружила, что кулона, который она носила рядом с крестиком — первого и единственного подарка мужа — нет.
Решила: три дня будет держать пост, а потом пойдет на исповедь.
* * *
В районной церкви в Ивановском уже началась служба. Таня попыталась перешагнуть через вязкую жижу у входа на территорию, но глинистое серое тесто облепило каблуки, не давая пройти. Таня вырвалась, потопала ногами, стряхивая с разношенных, купленных еще на третьем месяце, сапог грязь. Прошла мимо осевших старых могилок служителей, перекрестилась, вошла. Встала позади всех, рядом со скамейками. На одной сидела беременная женщина с огромным животом и шептала молитву. Таня нашла очередь на исповедь, вздохнула и двинулась к аналою.
От ладана кружилась голова. Шелковый платок сползал с волос.
Женщина перед Таней закончила исповедь и отошла в слезах. В груди у Тани закололо.
Она приблизилась к батюшке, сложила руки, собралась с духом. И уже приготовилась произнести заученное: «Грех мечтания». Но вместо этого, неожиданно для себя самой, произнесла: «Прелюбодействовала в сердце своем».
Батюшка грехи отпустил.
К причастию Таня в тот день не пошла.
Вечером читала Майке отрывок из «Красавицы и чудовища». Когда дочка задремала, Таня поцеловала теплый лобик, зажгла ночник с Маленьким принцем и уже собиралась закрыть за собой дверь детской, как услышала шепоток:
— Мам, а ты скоро станешь старенькая, да?
— Ну, не очень скоро, но буду.
— Я буду по тебе скучать!
Таня закрыла за собой дверь и еле слышно проговорила: «Я тоже».
* * *
На следующий день Таня увиделась с Анри. В первую же минуту объявила — в Школу ходить больше не будет. Анри обалдел: «Почему?». Таня глубоко вздохнула и начала что-то лепетать про финансы. Анри рассмеялся: «Ерунда, я тебе помогу». Таня грустно посмотрела ему в глаза: «Давай просто пройдемся». Прогулка получилась какая-то скомканная: на выставку в МАММ не попали (понедельник), прогулялись от Кропоткинской до Тверской, зашли в «Москву», ничего не купили и спустились в метро. Долго стояли у красно-синей стойки на станции «Охотный Ряд». Мимо проносились поезда, сквозняк играл Таниными волосами — в последние недели она стала носить их распущенными вместо привычного хвоста. Анри начал было говорить что-то про выставку их общего знакомого, но голос у него был тусклый и дергающийся, как перегорающая лампочка.
Таня перевела блестящие глаза с Анри на потолок, разделенный на рельефные, похожие на окошки большого дома, клеточки. Опустила взгляд в пол, тоже клетчатый. Огляделась.
— Ой, смотри!
Из поезда, двигающегося в сторону Сокольников, вышли два человека в белых халатах с пустыми носилками. Таня повернулась к Анри: странная вещь, их же «Скорая» должна возить! Но врачи так быстро растворились, что Анри не успел их рассмотреть. Когда прощались, он привычно по-дружески поцеловал ее в щеку, по ошибке задев уголок рта. Словно решив исправить неточность, поцеловал снова. На этот раз — в губы. В грудь Тани вбили осиновый кол. Дышать стало невозможно. Она мягко отстранилась, уткнулась в телефон, чувствуя, как холодеет вокруг сердца. В том, что сейчас позвонит Макс, она ни секунды не сомневалась.
* * *
— Таня, Таня! — голос у Макса был сдавленный, как у сорвавшегося с веревки висельника.
— Что, Макс, что, говори!
— Она, не понимаю, дышит или нет, Таня, у нее судороги. Неотложку, какой номер. Ноль три, ноль девять, я забыл, Таня!!!
— Девять-один-один! Держи ее на руках. Скоро буду. — Таня слышала себя со стороны и поражалась своей выдержке. Мир вообще вдруг стал каким-то спокойным.
Пассажиры задвигались медленно, как будто вальсируя. А потом вдруг пленку закрутили в утроенном темпе.
Вниз по лестнице. Зеленая ветка — «Новокузнецкая». Переход на желтую — «Перово». Вверх, направо, вверх. Зеленый проспект. 3-я Владимирская. Подъезд. Лифт.
С грохотом саданула дверью решетки о стену лестничной клетки, так что сквозь салатовую корку показалась серая бетонная начинка.
Майя мирно спала в кроватке.
— Сделали укол. Сказали, бывает: реакция на температуру. — Голос Макса дрожал. В квартире пахло марихуаной.
* * *
Пассажиры Московского метрополитена, совершавшие пересадку в тот декабрьский день на станции «Охотный Ряд», обратили внимание на необычную женщину. Она была красиво, но как-то небрежно одета и, кажется, давно не причесывалась. Женщина стояла у стойки SOS одна, но при этом жестикулировала и будто разговаривала с кем-то. Студенту Гнесинки, который ждал в центре зала опаздывающую подружку, чтобы вместе пойти на занятия, показалось, что женщина плакала. Потом у нее зазвонил телефон, она что-то прокричала в трубку, бросила мобильник в сумку и убежала. Пожилая работница метрополитена, подхалтуривающая уборкой в подземке на подарки внукам, видела, как из раскрытой сумки женщины выпала фотография. Она подождала, пока женщина скроется, а потом подняла фото и рассмотрела. На снимке был запечатлен красивый мужчина в полурасстегнутой водолазке на пуговках, с фотоаппаратом в руках. Чем-то, возможно, крупным лбом и глубокими висками, мужчина напомнил сотруднице клининговой службы ее покойного мужа в молодости. Внизу карточки было написано: «Анри Картье-Брессон, автопортрет, 1933». Уборщица перевернула фото, обратная сторона оказалась пустой. Тогда она бросила снимок в ведро с отходами и присыпала сверху влажными опилками.
Через тридцать минут странную женщину с нерасчесанными волосами и расстегнутой сумкой заметила полная, обтянутая узенькой будкой, как платьем-футляр, продавщица цветов с Зеленого проспекта. В тот вечер постоянная клиентка, почти товарка, пробежала мимо, даже не поздоровавшись. Цветочница ждала клиентку на следующий день и через день. Но напрасно: больше та любительница роз, гербер и орхидей не покупала у нее цветов.
Ольга Славникова:
«Между болезненным воображением и больной реальностью — тонкая, режущая грань. Эту грань, этот нерв Катерина Фадеева укутывает в спокойное, «семейное» повествование. Но напряжение прорывается, и все предстает не таким, каким казалось изначально. Проза Фадеевой — на деталях, на нюансах. Они и помогают читателю сложить весь пазл».

Атласные туфельки
Готовиться к школе Люся начала загодя. Она обожала канцтовары и к первому классу скопила целую коллекцию карандашей, блокнотов, тетрадей, ручек и ластиков. Перебирая свои сокровища, Люся размышляла, какой будет ее первая учительница.
Та представлялась ей то юной прекрасной принцессой с диадемой в высокой прическе, то Мальвиной в бархатном платье, то строгой красивой дамой в шляпке-канотье и клетчатой юбке, то маленькой феей в малиновых атласных туфельках. Чем ближе к школе, тем больше возникало этих образов, и выбрать из них один было совершенно невозможно.
На торжественной линейке Люся так нервничала, что полчаса простояла, закрываясь букетом гладиолусов и не глядя по сторонам. Потом все вокруг начали шептаться, знакомиться, и Люся отвлеклась на новых подружек, а про учительницу и вовсе забыла.
Чуть позже классы выстроились на спортплощадке большими ровными квадратами, как солдаты на параде. По бокам лепились взволнованные родители. Время от времени они принимались фотографировать любимое чадо, делая ему знаки, чтобы оно лучше вписалось в кадр. Самые активные папы и мамы то и дело нарушали ряды, кидаясь к детям, чтобы что-то проверить и подправить. Новоиспеченные школьники возмущенно пищали, вырывались и делали серьезные лица.
По периметру квадратов прохаживались старшеклассники в пионерской форме с красными повязками дежурных. Они следили за порядком и помогали опоздавшим найти свой класс. В глазах их плескалось величие.
У каждого квадрата с угла стояли тетеньки в темных костюмах. Они держали в руках длинные палки с табличками: «1 А», «5 Б», «10 В». Тетеньки отгоняли особо рьяных родителей, призывали нарушителей соблюдать спокойствие, а иначе грозились открутить уши. Той самой эфирно-прекрасной Учительницы среди них точно не было. Ну, ничего: она наверняка прихорашивается, как и положено даме, и ждет их в классе.
Играла торжественная музыка, и над площадкой плыл, преодолевая ветер, начальственный бас: «Дорогие школьники… Товарищи… Поздравляю вас с началом… Мы вступаем… Обещаем не посрамить… Мы за мир… Так покажем же пример…» Голос словно говорил сам с собой, и никто особо не прислушивался.
Когда старшеклассник понес на плече первоклашку с колокольчиком, передние ряды подались вперед и загудели, пытаясь разглядеть получше. Музыка грянула громче, и колонны медленно двинулись к школе. Родители снова защелкали фотоаппаратами.
Люся посмотрела вокруг и увидела возле себя Наташку Волчкову из соседнего подъезда.
— Приветик! В одном классе будем. — Наташка подрагивала нижней губой и отчаянно бодрилась. Люся кивнула ей, перехватила букет покрепче и завертела головой, стараясь не пропустить учительницу.
— Ты уже видела нашу? Во-он, гляди! — Волчкова толкнула Люсю в бок. Люся споткнулась.
У крыльца под табличкой «1 Б» стояла невысокая толстая тетенька в зеленом платье в лиловые розочки. На широкой груди, между двумя лопастями воротника, располагалась большая круглая брошка, очень похожая на кнопку на животе у Карлсона. С трех шагов тетенька напоминала широкий диван на тонких полированных ножках. Ножки были обуты в бордовые войлочные тапочки на «манке».
Вид у тетеньки был румяный и воинственный. Короткие черные волосы стояли над макушкой жесткой щеткой. Под носом у тетеньки Люся с удивлением разглядела щеточку поменьше.
Увидев несмело приблизившихся Люсю и Наташку со товарищи, та провела рукой по короткому черному ежику и по-бобриному оскалила верхние зубы:
— Здравствуйте, ребята!
Ребята нестройно ответили.
— Меня зовут Татьяна Ивановна. Я ваша учительница. А это наша школа, — продолжала тетенька.
Не может быть! Учительница? А где же прекрасная дама?
Уже позже, на уроке мира, Люся никак не могла отделаться от ощущения, что Татьяна Ивановна ей кого-то напоминает. Казалось, что учительница что-то скрывает от всех и, как ряженый волк из сказки, вот-вот снимет маску и скажет: «Ага! А вы-то меня и не узнали!»
Первые два месяца класс усиленно осваивал букварь, прописи и устный счет, а Люся внимательно наблюдала за Татьяной Ивановной, выискивая в ней признаки Той Самой Учительницы. Образ Татьяны Ивановны легко дробился на мелкие части, но Прекрасная Дама пряталась где-то очень глубоко и показываться не желала.
В ходе наблюдения выяснилось, что кроме зеленого платья, которое, видимо, предназначалось для особых случаев, у учительницы имеется еще одно — бордовое, из плотной, почти пальтовой ткани. Поверх него в холодные дни предполагалась толстая вязаная кофта цвета какао — с такими большими пуговицами, что Люсе хотелось разложить в них печенье, как в блюдца.
Задумавшись, Татьяна Ивановна по-мужски коротко и точно проводила пятерней по волосам ото лба к затылку и обратно, а затем «рогаткой» из большого и указательного пальцев поглаживала щеточку над верхней губой. Затем, если никто не отвлекал, Татьяна Ивановна повторяла эти движения по нескольку раз. Люся как-то насчитала восемь таких циклов. Будь на месте учительницы Люсина бабушка, она бы уже вся перепачкалась в помаде, но Татьяна Ивановна косметикой не пользовалась.
В начале второй четверти весь первый «Б» приняли в октябрята. По этому случаю в класс вызвали фотографа. Это было первое общее фото, и почти все на нем выглядели испуганно. В центре композиции восседала Татьяна Ивановна в своей любимой кофте «с блюдцами». Когда Люся получила свой экземпляр, домашние сбежались посмотреть и устроили шумное обсуждение. Разглядев Татьяну Ивановну, мама поперхнулась, а папа весело гаркнул:
— Ух ты, а это что за мужик тут с вами?!
* * *
В середине ноября Люся умудрилась схлопотать три двойки по математике. С прописями она справлялась, по чтению была первой в классе, а вот математика давалась ей с трудом.
Татьяна Ивановна велела ей подойти на перемене и, полистав классный журнал, задумчиво взъерошила щетку на голове. Люсю осенило: так вот на кого она похожа! Это ж вылитый сосед дядя Гена с автобазы! Он точно так же проводит рукой по затылку, когда играет в домино с мужиками во дворе. И усы у него так же топорщатся! Люся хихикнула.
Татьяна Ивановна сердито дернула плечом.
— Как не стыдно, Петрова! В двоечницы уже скатилась, а все хихикаешь. Вот оставлю тебя после уроков примеры решать — будешь знать. И без родителей не приходи! Поговорить с ними хочу.
Вместе с Люсей решать примеры оставили второгодника Серегу Сошникова. Татьяна Ивановна раздала им обоим листочки и вышла. Серега уселся позади Люси и принялся сопеть и пыхтеть, пытаясь справиться с заданием. Когда Люся кое-как одолела третий пример из десяти, сопение прекратилось, а Сошников больно ткнул ей между лопаток и сказал:
— Слышь, Петрова, ручка есть? Моя не пишет че-то. Закончилась, видать.
Пока Люся рылась в портфеле, Серега от скуки несколько раз сильно встряхнул свою «закончившуюся» ручку, и та щедро плюнула пастой прямо на стену, на пол и на стол Татьяны Ивановны. Когда та вернулась в класс, Люся и Серега были перемазаны в чернилах, ручка лежала на парте в синей лужице, а на полу и на стене красовались живописные разводы. Тряпку никто намочить не догадался.
— Это что такое? Чем вы тут занимались? Оставить нельзя на пять минут! — бушевала учительница.
— А мы что? А мы ничего! Ручка просто… Ну… Эт-самое, — забубнил привыкший оправдываться Сошников. Люся пристыженно молчала.
— Так, все с вами ясно! Сейчас берете тряпки и моете весь класс! Через полчаса приду — проверю!
Люся хотела было подать пример лодырю Сошникову, как надо мыть полы, но тот ее опередил: оказалось, что мать у него — уборщица, и он уже давно ей помогает по вечерам. Пока Люся оттирала губкой испачканную стену, Серега, ловко обернув швабру ветошкой, помыл пол во всем классе, дошел до стола учительницы и зашуршал под ним. На обратном пути он зацепил головой выдвижной ящик и рассыпал по мокрому полу все содержимое.
— А-а-уу, — взвыл Серега, потирая затылок.
— Сошников, ты совсем дурак, что ли? — Люся кинулась ему на помощь. — Сейчас нам еще больше попадет, если мы ящик сломаем!
Но ящик не пострадал. Отклеивая мокрые листочки от пола, Люся и Серега сложили обратно все рассыпанное, а потом поправили и задвинули подальше лежавшую под столом стопку газет, на которой аккуратным крупным почерком Татьяны Ивановны было написано «Макалатура».
И тут в углу ящика Люся заметила цветную фотографию.
— Серега, смотри, что это? — Люся схватилась за уголок.
С фотографии улыбалась Татьяна Ивановна в оранжевом сарафане с синим лаковым поясом. Жесткие волосы скрывала панама с широкими полями. Одной рукой учительница обнимала чернявого краснощекого подростка, а в другой держала маленького лохматого пуделя с высунутым языком. Рядом с Татьяной Ивановной, сверкая золотыми зубами, стоял тот самый дядя Гена с автобазы! На обороте фото было написано:
«Гриша, Гена и Сашок. Июль 1983».
— Гриша… — пробормотал Сошников. — Это внук ее. Его я знаю.
— А вот сосед наш, точно он! — перебила Люся.
Серега почесал в затылке.
— Мужик этот на «Волге» сюда заезжал. Наша ему в окно машет, а он ей на весь двор: «Сестренка, привет!» Сестренка, хы… Вот мы ржали с пацанами!
Сходство между учительницей и ее братом было разительное. Казалось, натяни пузатый дядя Гена на себя зеленое платье в розочку, и люди вокруг не сразу заметят подмену. Бывает же такое! Люся покачала головой.
— Так, я не понял, а кто Сашок-то? Эта шавка, что ли? — хмыкнул Сошников.
Люся не ответила. На фотографии Татьяна Ивановна была другая — задорная, совсем не строгая, какая-то… молодая! И улыбалась совсем иначе.
* * *
Ближе к Новому году Татьяна Ивановна объявила, что их класс будет участвовать в праздничном утреннике для учителей и родителей.
— Будем читать стихи! — сказала она, а на следующий день принесла три листа с четверостишиями и распределила их на всех. Начались репетиции. Каждый должен был выучить свою часть и запомнить, после кого он выступает.
Сошников по секрету сообщил Люсе (а ему сказал сам Гриша!), что Татьяна Ивановна лично все эти стихи две ночи писала. Ничего себе! До этого Люся думала, что все знаменитые поэты уже умерли. Просто невероятно!
Вечером она спросила у мамы:
— А чтобы быть поэтом, нужно долго учиться?
— Ты хочешь быть поэтом? — заинтересовалась мама. Люся рассказала про утренник и прочитала два четверостишия, которые ей достались:
Мы октябрята-молодцы,
Новый год приходит к нам.
Вам подарки принесли,
Отдадим их вам.
Октябрятам пионер —
Пламенный пример.
Макалатуру всю собрал,
Шагает он в размер!
Родители прыснули. Бабушка вытаращила глаза. Дедушка уронил ложечку в чай и закашлялся.
Вытирая слезы, папа пробормотал:
— Макалатуру всю собрал, свой жует эклер!
— Едет на пленэр! — подхватила мама.
Готовиться к утреннику после этого было очень трудно: домашние, шикая друг на друга, каждый вечер упражнялись в рифмах, и Люсе все время лезли в голову новые варианты.
* * *
Наступил день праздника. Люся отчаянно потела, стоя за занавесом и дожидаясь своей очереди. Новый кружевной воротничок платья сильно колол шею, а крылышки фартука сползали то с одного, то с другого плеча. Больше всего Люся боялась выдать не ту рифму: за две недели их накопилось изрядно. Родители сидели во втором ряду и корчили рожи, как школьники.
Но все прошло хорошо. В нужный момент Люся сильно зажмурила глаза, и коварные пленэр с эклером не вырвались на свободу. Теперь можно было перевести дух и спокойно досмотреть концерт. Люся спустилась в зал и уселась рядом с родителями. С танцевальным номером выступил 5 «В», а музычка Вера Ивановна сыграла на аккордеоне «Синий платочек»: школа провожала на пенсию старенького завхоза.
Потом на сцену поднялась старшая пионервожатая Леночка Красько.
— Уважаемые педагоги! Товарищи родители! Дорогие ребята! — звонко начала она. — Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем вам отличной учебы и успехов в труде! В заключение нашей программы — музыкальный номер-сюрприз!
Все зашушукались. Музычка переместилась к фортепиано. Открылся пыльный бархатный занавес, а за ним оказалась зеркальная стена, увешанная бумажными снежинками и серебряным дождиком.
Раздались первые аккорды, и на сцену выпорхнула дама в струящемся серебристом одеянии, карнавальной маске и маленькой кокетливой шапочке шлемиком. Сверху на шапочке покачивалось синее перо.
Дама легко переместилась к самому краю сцены, встала вполоборота, и Люся ахнула: из-под края серебристого балахона выглядывали малиновые атласные туфельки на маленьком рюмочном каблучке.
— Я вам песенку спою про пять минут,
Эту песенку мою пускай поют…
По Люсиной спине побежали мурашки. Покачиваясь в такт музыке, певица повела плечами, вздернула подбородок и двинулась по сцене, приплясывая и меняя направление на каждом куплете. Голос ее легко взлетал над слушателями, кружил бумажные снежинки, нежно покачивал шары на елке. Зал хлопал в такт. Кто-то подпевал, все улыбались. От официального настроя не осталось и следа.
— С Новым годом, с но-овым счастьем! — На последней ноте певица топнула туфелькой, ловко извлекла из складок платья серебряную палочку, взмахнула — и с обеих сторон на сцену ударил дождь из конфетти. Фея! Самая настоящая! Люся затаила дыхание.
— С наступающим вас Новым годом, товарищи! — сказал со сцены знакомый голос. Зал зааплодировал. Дама приветливо оскалилась и поклонилась. Потом провела рукой по макушке и сняла маленькую серебристую шапочку, из-под которой появился жесткий черный бобрик.
Ольга Славникова:
«У Виктории Шмелевой богатая образная память, особенно детская. Писать про детей для взрослых — трудно, но в этом рассказе все получилось».

Баба Шура
— Ветреный июнь в этом году… — тихо произносит отец.
Размешав ложкой сметану в тарелке с щавелевым супом, он глубоко вдыхает носом и медленно закрывает глаза. Так же медленно открывает их на плавном выдохе. Кажется, что отцовские глаза умеют дышать…
Сережа внимательно наблюдал за ритмичным движением век. Ему хотелось, чтобы весь замечательный воздух, живущий у них во дворе — и в овраге неподалеку, и во всей Старой Выси! — всегда оставался тихим и незлобивым, как отец. Но сегодня с воздухом творилось что-то неладное: залетая на террасу и с грохотом захлопывая за собой дверь, он, чуть помедлив, с силой распахивал ее и уносился прочь. Отец не стал долго терпеть такую дерзость — положил ложку, поднялся из-за стола и вышел во двор. Появившись на крыльце уже с кирпичом в руке, он мягко придержал свободной рукой дверь, чуть-чуть не успевшую садануть по косяку в очередной раз, широко открыл ее и припер. Вернувшись к столу, отец еще немного поводил ложкой в тарелке и приступил к обеду. Воздух, поборов в себе бессмысленную злость, но сохранив пустое уныние, теперь стыдливо пробирался на террасу и лишь качал края скатерти.
— Все лето будет ветрено… — с досадой изрек Сережа.
Ему нравилась отцовская манера говорить, ни к кому не обращаясь, и он старался ее перенять. До этого Сережа учился дышать глазами: медленно закрыть на глубоком вдохе, медленно открыть на плавном выдохе… Азами необычного дыхания он овладел быстро — заметно труднее оказалось быть похожим на отца в разговоре.
Отец, поглядев на Сережу, хитро сощурился, но тут же принял важный вид и сочувственно протянул:
— Ой, не говори, кума.
Сережа замечал, как ловко отец переходит на ироничный тон, но сам этой ловкости пока не научился. Оставалось только молча улыбнуться в ответ.
Щавелевый суп в тарелках убывал. Глубоко дышали отцовские глаза…
— Та-ак, хорошо. Спасибо этому дому, — проговорил отец и положил ложку в пустую тарелку. — Истинная вкуснота, а с яичком — так вообще… Значит, сейчас в Новую Высь съезжу, хлеба куплю хорошего. Валентина по выходным как раз печет. Нам и бабе Шуре возьму.
— А бабе Шуре зачем? — удивился Сережа.
— День рождения у нее сегодня. Хлебушка подарим.
— Пап, ты чего? Зачем ей хлеб-то дарить?
Отец строго взглянул на Сережу и отчеканил:
— Затем. Как вернусь — сходишь к ней и подаришь. Скажешь, что от нас.
— Пап, ты чего…
— Пойдешь и подаришь, я тебе сказал!
Сережа побаивался этого чеканного голоса, особенно когда он начинал звучать громко. Хмыкнув на кроткий Сережин кивок, отец начал послеобеденную уборку.
* * *
Сережа принимал вечер в Старой Выси за одинокого, никому не нужного актера, репетирующего свое представление — не для кого-то, а просто по привычке. Интереснее всего было смотреть за репетициями со старой липы, росшей на заброшенном участке. Сережа тщательно хранил тайну своего зрительского места и никому о нем не говорил.
Представление шло с небольшими вариациями и поправками, но чаще всего состояло из четырех действий.
Действие первое. Вечер успокаивал дневной воздух и окрашивал его в золотисто-желтый цвет. Чем тщательнее работал вечер, тем крепче Сережа обнимал ствол липы, ощущая щекой шершавость коры.
Действие второе. Вечер учил воздух изъясняться на своем стрекочущем, шелестящем наречии. Сережа заметил, что один и тот же звук мог длиться разное время и имел разные оттенки, а сочетания звуков образовывали такое множество причудливых фраз, что и сам вечер, похоже, терялся в их хитросплетениях.
Действие третье. Вечер наполнял воздух запахами, описать которые Сережа затруднялся. Поутру он старался записывать в свою тайную тетрадку их краткие характеристики, но получалось плохо — «сырая доброта», «землистая радость», «древесная вера»..
Действие четвертое. Вечер творил настоящие чудеса, постепенно сгущая, сжижая воздух, наделяя его вкусом. Воздушное питье отлично утоляло жажду, одновременно опьяняя. Сережины руки заметно слабели, голова начинала кружиться — значит, стоило поскорей спуститься с липы на землю, оставив каплю сил на возвращение домой.
Сережа не всегда успевал к началу представления — бывало, приходил и к середине. Или наоборот, смотрел с самого начала, но не досиживал до конца, если очень уставал за день. Сегодня он знал, что успеет в лучшем случае к третьему действию — отец попросил сходить к бабе Шуре и поздравить ее с днем рождения.
«Зачем же ей хлеб дарить? — спрашивал себя Сережа, направляясь к ее дому с парой сдобных крепышей в руках. — Может, она бедная очень, и папа ей помочь хочет?.. А куда же она зимой-то девается?.. Наверное, в спячку впадает и только весной просыпается… Нет, это вряд ли… Эх, как не хочется к ней идти… Страшная, старая-престарая… Ладно, отнесу, раз папа просит. Только вот чего сказать-то ей?.. А, просто отдам и побегу себе…»
Чем ближе Сережа подходил к дому бабы Шуры, тем явственнее слышались неестественные, совсем чуждые вечернему наречию звуки, тем заметнее деревенели ноги, тем бойчее ерзал сладкий комочек в животе…
Прошлым летом Сережа заходил к бабе Шуре пару раз. Около двери, ведущей на маленькую кособокую терраску, он замирал и прислушивался к тому, что происходит внутри. Стоял неподвижно две-три минуты, потом набирался смелости и стучал настолько робко, что и сам еле слышал свой стук. Никто не открывал. Тогда Сережа подходил к одному из окон. Стараясь не заглядывать в него, он барабанил пальцами по стеклу и тут же отбегал к двери, снова замирая и прислушиваясь… В глубине дома раздавался короткий глухой звук, как будто роняют на пол большой мешок с сахаром. Размеренные шаги, начинаясь в сенях, перемещались на терраску и там затихали. В этот момент само время, опасаясь идти дальше в прежнем темпе, начинало красться на цыпочках. Спустя несколько тягучих секунд открывалась дверь…
Сейчас прошлогодний ритуал легко вспомнился и в точности повторился. Правда, звук упавшего на пол сахарного мешка Сережин слух не уловил, но время все равно ступало на носочки, отсчитывая секунды неуверенно и неумело, подобно малышу в детском саду на уроке устного счета — одна-а, две-е, три-и…
— Ой, Сереж, ой, Сереж, в сердце посередке нож… Здравствуй, сердцеед!
Сережа вздрогнул и обернулся.
Вот она.
Худющая, высоченная мужская фигура… Снова та же, что и год назад, коричневая кофта, снова черные рейтузы и валенки, снова хитрый головной убор, полностью скрывающий волосы, снова сладковатый, терпкий, уютный запах ее одежды, снова невозможный смех… Он не звучал, а тек — тепло, тихо, долго, с полминуты, причем баба Шура, пока смеялась, не делала ни единого вдоха. Ни единого.
«Интересно, какие у нее волосы… — размышлял Сережа, пытаясь понять, чем обмотана голова бабы Шуры. — Не видел их никогда. Седые, наверно… Короткие или длинные?.. Там они, там, под шапкой этой… А может… под ней и нет ничего?.. Может, и головы-то самой — нет?..»
Баба Шура очень ловко завязала разговор, и Сережа забыл о том, что совсем недавно побаивался к ней идти. Сейчас он охотно рассказывал о переходе во второй класс, об отце и бабушке, которая скоро должна приехать сюда и остаться с ним, потому что у отца отпуск кончается… Баба Шура все спрашивала и спрашивала, озорно сворачивая некоторые гласные в окающие шарики.
Сережа так увлекся, что сам захотел о чем-нибудь спросить бабу Шуру. Ничего толкового не придумав, он брякнул:
— А вы… давно в школе учились?
— И-их, давнешенько-о… Война шла… Как же голодали мы… Вот сидишь на уроке, на учителя смотришь, он дроби свои рисует, а у тебя-то глаза квадратные, переменка скоро, и вместо дробей ентих хлебушек на две части делишь — одну на переменке, вторую потом… А ты чего с беленьким-то прибежал? У папки стащил?
Сережа озадаченно посмотрел на свои руки. Про хлеб он забыл сразу, как только услышал жутковатую песенку-присказку бабы Шуры за своей спиной.
— Ой… Это ж… Это вам. Свежие они. Мы с папой… дарим… Ну, с днем рождения.
Баба Шура нерешительно взяла подарок и пропела:
— Ой, Сереж, ой, Сереж, в сердце посередке нож…
Маленькая песенка-присказка плавно перетекла в смех — теплый и тихий…
Что-то происходило с бабы-Шуриными глазами. Они постепенно становились однотонными — белое и голубое в них смешивались, образуя лужицы, в которых растворялись зрачки. Баба Шура возвышалась над Сережей, и он смотрел на нее снизу вверх, задрав голову. Цвет ее глаз теперь совпал с цветом вечернего неба, застывшего над Старой Высью. Сереже казалось, что в голове бабы Шуры образовались две сквозные дырки, и небо проглядывало сквозь них.
Сережа сам не мог объяснить себе, каким образом догадался, что баба Шура так плачет. Она не всхлипывала, не утирала слезы — их и не было — и все же плакала, не спеша, со спокойным и приветливым лицом…
Сережа завороженно наблюдал за невидимым плачем, за тем, как хорошо плещутся лужицы в глазницах… Баба Шура проворным движением достала из кармана кофты конфету и протянула Сереже. Точно такую же она подарила ему и прошлым летом. Сережа хорошо запомнил, что вкус той конфеты и запах, идущий от одежды бабы Шуры, оказались совершенно одинаковыми.
«Как это так? — удивлялся Сережа тогда. — Чего-то не то с конфетами этими. Может, она от себя по кусочку отщипывает и конфеты из этих кусочков делает?..»
Сережа опасливо взял гостинец, неразборчиво что-то пробормотал, повернулся и пошел прочь.
— Беги, беги, сердцеед. Ой, Сереж, ой, Сереж, в сердце посередке нож… — доносились до него слова песенки-присказки.
Сережа брел домой, рассеянно блуждая взглядом по густой высокой траве, норовившей схватить за ноги и повалить на землю. В голове его суетился неумелый оркестрик: одна мысль заглушала другую, желая стать первой скрипочкой, но им обеим на смену приходила новая, более подходящая на эту роль, а за ней — следующая…
Чего она плакала-то? Папа знал, что она плакать будет? Подшутил надо мной, что ли? Зачем?..
А может, с ума она сошла? То плачет, то смеется. И смеется-то как — вроде и не дышит вовсе… Видать, у нее жабры какие есть — она же старая-престарая… Неспроста же ворот у кофты высокий — прикрывает…
И зачем папа придумал хлеб ей дарить? Вон как плакала. А если она теперь сильно загрустит и умрет?..
— Ты чего, Сереж? Кто умрет?
Сережа поднял голову и огляделся. В десяти шагах от него любимое крыльцо с темнеющим прямоугольником дверного проема — отец так и не убрал кирпич. За спиной — калитка, которую он дважды забыл закрыть — отправившись к бабе Шуре и только что вернувшись. По правую руку поленница, а рядом с ней — встревоженный отец с пилой в руке. Видимо, Сережин оркестрик настолько увлекся поисками первой скрипочки, что вытолкнул последнюю мысль в слышимый мир.
Сережа рассказал отцу о неожиданной реакции бабы Шуры на подарок. Помня о чеканном голосе отца за обедом, он не решался снова спросить, для чего же все-таки понадобилось дарить бабе Шуре хлеб. Отец молча слушал Сережин рассказ, щурился, еле заметно улыбался и помалкивал.
* * *
Третье вечернее действие только начиналось, но Сережа на представление не пошел. Встреча с бабой Шурой получилась настолько волнующей, что он мысленно возвращался к ней до самой темноты… Отец уже мирно посапывал около печи, а Сережа лежал на своем топчанчике и вспоминал возвышающуюся над ним бабу Шуру и небо, проглядывающее сквозь дырки в ее голове.
«Изба у нее, небось, пустая, унылая… — предположил Сережа, повернувшись на бок. — А вот интересно, она тряпье свое снимает с головы, когда ложится? Или так и спит замотанная?.. Разочек бы в избу заглянуть, но страшно ведь… Да и ночью-то как заглянешь… Ой… Сплю… А баба Шура уж давно спит — старая же престарая…»
Сережин топчанчик примыкал к окну. Ночами становилось холодно, и отец закрывал створы на крючок, чтобы Сережу не продуло.
Уловив звериным ночным слухом характерный короткий звук откидывающегося крючка, Сережа решил, что ему послышалось, потому что крючок сидел в петельке туго и просто не мог выскочить сам. В следующий миг окно мягко распахнулось. Сережа приподнялся на топчанчике и уставился в сизую мглу, а та дохнула на него то ли «сырой добротой», то ли «землистой радостью» — тем, что осталось в воздухе после вечернего представления. Сережа ни капли не боялся ожившего окна — наоборот, с любопытством изучал его…
Мгла дышала все настойчивее.
Мгла хотела чего-то.
Мгла звала.
Сережа принял приглашение и, не одевшись, вылез через окно.
Ноги несли его к грозно чернеющей махине дома бабы Шуры. Нахалка-трава, днем пытавшаяся схватить Сережу за ноги, сейчас боязливо расступалась перед ним.
Подойдя к кособокой терраске, он открыл дверь, не спросив себя, почему она не заперта. Умудрился подняться по ступенькам и пройти в сени, ничего не задев и ни на что не наткнувшись, как будто c малых лет рос в этом доме и проделывал этот путь сотни раз.
Дверь в избу открылась бесшумно — не скрипнув и не чертыхнувшись коротко, как делали все двери в Старой Выси.
Темнота невесомыми пологами заполняла все пространство от входа до окон. Как только Сережа перешагнул через порог, пологи, тяжелея, начали опускаться на пол. Лунный свет, не мешкая, принялся обживать избу, и Сережа смог разглядеть топчан около печи, массивный шкаф вычурной формы и пустой стол с парой стульев. Коричневые стены были увешаны черно-белыми фотографиями, на одной смутно просматривался силуэт худой высокой женщины с длинными — до пояса — каштановыми волосами.
Баба Шура покоилась на топчане, не укрытая одеялом, одетая в коричневую кофту и черные рейтузы, как и днем. Голову ее по-прежнему увенчивала самодельная шапка. Сережа подошел к топчану и склонился к бабе Шуре. Гладкий лоб, широко расставленные глаза, большой прямой нос, тонкая линия рта, рельефные скулы…
«Старая-престарая… А лицо какое… хорошее…» — поразился Сережа.
В его голове ожил оркестрик и с первых секунд зазвучал вразнобой…
Чьи-то пальцы легонько коснулись Сережиного плеча. Он выпрямился, но обернуться не посмел, подчинившись веренице странных ощущений.
Частое дыхание в затылок…
Чьи-то руки, стянувшие грудь тугим обручем…
Пульсирующее тепло, мгновенно обложившее всю спину…
Шальной сгусток этого тепла, сползший вниз по нутру и застывший между ног…
Каштановые волосы, спадающие откуда-то сверху до самого пола, образующие уже вполне осязаемый душистый полог…
Когда призрак исчез, Сережа понял, что не узнает свой оркестрик. Никакого беспорядка, никакой суеты, но тихая бессловесная музыка, до слез колющая глаза, подобная той, что отец с серьезным видом как-то давал послушать, путано объясняя: «Это “Легенда” цоевская, в оркестровом варианте…»
Сережин оркестрик играл свою собственную «Легенду». Давясь плачем, Сережа забрался на топчан и прилег рядом с бабой Шурой. Запах ее одежды уютно укутал, но в этом уюте почему-то отчаянно хотелось дать волю погибающей от тоски тоске, мечущейся в грудной клетке, бьющейся в запертую глотку.
Баба Шура проснулась, повернулась на бок, увидела Сережу, обняла его и пропела:
— Ой, Сереж, ой, Сереж, в сердце посередке нож…
Услышав песенку-присказку, а за ней и смех, Сережа зарыдал.
Тоска, выходя горлом, забирала с собой и «Легенду». Каждая ее фраза путалась в голосовых связках и из тихой бессловесной музыки превращалась в выкрик…
«Ты бедная-а!..»
«Ты голодная-а!..»
«Почему ты одна-а!..»
«Ты красивая, не умира-ай!..»
Сережины внутренности тоже тянуло наружу вслед за тоской, тошнотворное удушье коверкало рассудок… Одежда бабы Шуры начала таять, и запах, шедший от нее, тоже таял, сменяясь другим — горьковатым, молочным, очень знакомым…
Сережа лежал на топчане отца, остервенело елозя по его груди, уже скользкой от слез.
— Пап… — всхлипнув, хрипло позвал Сережа.
— Проснулся, бедолага… — гулко откликнулась отцовская грудь. — Я это, я… Ну, орал так орал… Напугал, елы-палы…
Ольга Славникова:
«Сергей Маслов умеет видеть в обыденном — таинственное. Инструмент этого видения — образный язык. Мифологическое сознание ребенка расширяет реальность, для героя рассказа дачный поселок — целый мир, а летние каникулы — вечность».

Весенний слон
Она как будто провалилась в другой мир. Именно так она себя и чувствовала, когда шагала по мерзлой улице, и ее обтекали прохожие, такие же точно, как неделю назад, и гудели в пробке машины, и в киоске точно так же продавали журналы и всякую китайскую дребедень — зоопарк ведь рядом. Люди говорили в телефоны, пили кофе на ходу, тащили на буксире детей, спешили, а она не могла себе представить, что вот еще совсем недавно была одной из них, и не существовало этого невидимого стекла, которое теперь окружило ее глухим пузырем.
Этим стеклом ее отрезало от прежнего напрочь, она не могла, да и не пыталась вспомнить сейчас ту неделю благополучной, солнечной жизни, когда самой большой их с Саней проблемой была свекровь, названивавшая каждый час с предложениями, как назвать новорожденную. Они не говорили, что уже выбрали имя. Охраняли от всех ту внутреннюю тишину, в которой медленно, чутко прислушивались, вглядываясь в деткино лицо: Вероника?
Врач «Скорой» сказала: «Ну вы же опытная мать! У вас, вон, старший мальчик растет». И это было еще там, в нормальном мире, где она подивилась абсурдности этой фразы: да я у взрослого никогда не видела одышки, не то что у младенца, откуда вообще можно знать, как она выглядит? Теперь она знала. Могла и других научить: видишь, втягивается яремная впадинка? А кожа, тонкая нежная кожа между ребер ходит ходуном — видишь?
Дорога длилась час, через все московские пробки, и Ника слабела у нее на руках, а доехав, она услышала, что ребенок у нее реанимационный, а реанимация на ремонте, и что им вызвали другую «Скорую», с реанимационной бригадой, чтобы те увезли их куда-нибудь еще. Другая бригада ехала за ними еще почти час.
Попадая в такое, человек как будто расслаивается. Сверху, все истончаясь, цеплялось за жизнь ее всегдашнее рациональное «я», ее разум — и сейчас он был начеку, схватывал обрывки фраз, считал минуты, лихорадочно строил варианты. Но под ним она обнаружила огромную, темную, звериную себя — такую, какой раньше не знала. Та, другая ее часть заступала дорогу смерти, торговалась с судьбой, была готова хрипеть, и выть, и драться, цепляться зубами, есть землю, обещать кому угодно что угодно, продать себя и других с потрохами, выменять Нику, какую бы цену ни попросили — только вот не с кем было договориться.
А с внешней, видимой стороны она вся целиком была занята тем, что грела Никины замерзшие ладошки и смотрела детке в глаза, и чуть-чуть тормошила, не давая отключиться, и говорила-говорила-говорила всякую незначащую ерунду.
Реаниматолог откинул одеяло, глянул на Никины ручки-ножки и изменился в лице. Быстро-быстро выгнал всех из бокса приемного покоя, рекрутировал девочку-интерна себе в помощницы и интубировал Нику прямо там.
Она сидела, вцепившись пальцами в банкетку, девочка-интерн осталась с Никой качать мешок амбу (теперь она знала и что это такое, и как его используют, и зачем), а реаниматолог где-то вдалеке орал. Слов было не разобрать, но смысл и так был ясен. «Я ее никуда не довезу», — прогрохотало на весь коридор еще до того, как кто-то прихлопнул дверь.
Место в реанимации им нашлось — в соседнем корпусе, не дальше, и «Скорая» отвезла их туда со всей помпой, даже с мигалками. Скорачи оттеснили ее, словно Ника была уже не столько ее ребенком, сколько их больной, но в этой сцене ей пока еще было прописано место, пусть и с краю, и она просочилась к Нике голосом — будто между ними снова выросла невидимая пуповина, и она, торопясь, толчками, захлебываясь, выталкивала в нее все слова, все важное, все, что сказала бы через годы, а может, и не сказала бы вовсе — но что сейчас или потом Нике могло бы понадобиться.
В том корпусе Нику забрали наверх, а ей сказали: «Ждите», — и следующие два часа у нее не получалось ни толком вспомнить, ни отодвинуть от себя насовсем. Только спустя несколько лет однажды ночью принялась разлеплять спекшиеся странички памяти, разглядывать по одной.
Рацио отступило и сдалось, забившись в угол крашенного в зеленый бокса, и она узнала, что метаться как раненый зверь — выражение вполне буквальное. Она то стояла, то ходила, бормотала, срываясь в речитатив, похожий на стон и на вой, прислонялась к стенам то спиной, то разгоряченным лбом — так маются люди во время очень сильной боли, пытаясь избыть ее движением, прижать, убаюкать, усмирить холодом или теплом, чем угодно унять хоть ненамного. То, что у нее болело — было там, наверху, и избыть это не было никакой возможности. Если есть ад, то мой — здесь.
В соседних боксах иногда кто-то появлялся, промелькнули лица растерянной пары с малышом — Боже, я пугаю собою людей, — и она пыталась заставить себя усидеть на месте, но потом забывалась и опять кружила, и никак не могла выпустить из рук Никины вещи, утыкалась в них лицом — они пахли мирно спящей Никой, и, может быть, это все, что у меня от нее осталось, и она уже наперед боялась, что этот запах тоже когда-нибудь кончится, и, может быть, я еще буду хотеть вот сюда, в эту минуту, вернуться, — и она заходила на следующий круг бесконечного и бессмысленного торга.
Когда к ней вышла усталая врач, похожая на актрису после спектакля, и она, разом взяв себя в руки, выслушала все очень, очень внимательно, и задала спокойные четкие вопросы, и уложила в голове про врожденный — врожденный! — порок сердца, — ее обожгло облегчением и стыдом, и только по ним она поняла, что, оказывается, еще она боялась услышать, что это она виновата. Она не знала еще, что вина все равно придет и встанет у изголовья, не давая спать, и днем будет маячить за плечом недвижной тенью — но эти несколько секунд ослепительной невинности перед судьбой, вслепую бросающей кости, стояли особняком, и она возвращалась к ним за утешением раз за разом.
* * *
Мой мирок такой маленький — вся Москва размером с деревню, и все в ней друг друга знают. За тот вечер ближние и дальние ее знакомые выстроили две разные цепочки контактов, что вели к нему — лучшему в городе диагносту по детскому сердцу, — но у врачей из больницы контакты оказались еще короче.
Он приехал на следующее утро и привез волшебную ампулу, с которой Нике поставили капельницу. Сейчас все решается, сказал он, и это все, что пока можно сделать.
А если не поможет. Она вцепилась в Санину руку и спросила это вслух.
Он был похож на прибалта, этот человек со сказочной фамилией Гофман, — очень сдержанный, очень спокойный, он так отстраненно выговаривал слова, будто лекцию читал, а не беседовал с обезумевшими родителями — и от этого, кажется, совсем не выбирал обходных маневров.
— Тогда ребенок довольно быстро умрет.
На несколько минут она выключилась из разговора, безжалостно достраивая внутри до конца, до конца. Это он сказал сейчас про нас. Мой ребенок — наша Ника — умрет. Довольно быстро — это когда?
Вместо этого они спросили, когда нужно привезти следующую ампулу.
Им казалось, в аптеке должны бы их чуть ли не ждать — но она оказалась целиком заполнена молчаливой очередью, как в далекие девяностые. Через двадцать минут безнадежного стояния она углядела табличку: «В реанимацию лекарства отпускаются без очереди». Она прочистила горло и сказала на весь зал чужим надтреснутым голосом, ни к кому конкретно не обращаясь:
— У меня младенец в реанимации. Можно я пройду?
Очередь откачнулась от нее, и в пустой тишине она шагнула к окошечку. Вот тогда он и образовался — ее стеклянный пузырь.
* * *
В кардиохирургии мамы пропитаны суевериями. Суеверия разлиты в воздухе, незримо подмешаны в атмосферу, и каждый надышавшийся очень быстро сам становится бациллоносителем такого взгляда на мир. Конечно же, нельзя вперед ногами — и они с медсестрой умучились, разворачивая на тесном пятачке громоздкую каталку. Нельзя, чтобы на ребенка падала чужая тень, и особенно тень от птицы, слышишь, когда когда-нибудь — когда-нибудь! — пойдешь гулять, запомни: вообще нельзя, чтобы птица пролетела над ребенком. Было еще много «нельзя», которыми не делятся, у каждого свои.
Одну примету ей сообщили сразу, и она кочевала потом вместе с ней из больницы в больницу: когда ребенка забирают на операцию, то снятые с него ботиночки нужно поставить к дверям реанимации — пятками к двери, а носами, конечно, в мир. Чтобы вышел, чтобы там не остался. У Ники не было никаких ботиночек, пинетки, ни разу не надеванные, остались дома («Продаются детские ботиночки, неношеные». — Она с яростью выгнала из головы непрошенного Хэма — нельзя, нельзя!) — впрочем, она бы все равно вряд ли решилась. Вход в оперблок больше напоминал шлюз на космической станции, ничто не могло бы выглядеть рядом с ним более неуместно. Разум бы ей не позволил. Наверное. Теперь она не очень может за себя ручаться.
Еще совсем недавно она искренне считала, что Бог в сердце, а не на шее, и крестик старшего, Славки, лежал себе спокойненько в белой коробочке, ожидая, пока дитя достаточно подрастет. Никин, которым крестил ее больничный священник в первый же вечер в той самой первой реанимации, — аккуратно залепленный пластырем, безотлучно болтался у Ники на лодыжке. Кто-то сделал так, готовя Нику к операции, и с тех пор его никто не снимал — и она не снимала тоже.
До вчерашнего дня. У Ники опять была температура и рвота фонтаном, лечдок — лечащий доктор, царь и бог их здешней судьбы, — устроил показательный разнос за бардак на тумбочках, а потом сказал, что переводит Нику в карантинную палату, а ее вообще пока выгонит домой, а то ходят тут мамаши, хлюпают носами, разносят заразу, подвергают риску детей. Ее драконье «я» подняло голову раньше, чем она успела опомниться.
— Я не пойду. Нике нужно молоко, я же по ночам кормлю.
Она никогда не перечила врачам, особенно — этим. Надо было быть полезной, внимательной, оптимистичной, со всем соглашаться, ни во что не лезть, пока не попросят. Надо сотрудничать. Но как она сможет сотрудничать, если ее выгонят, если Ника тут останется одна — на этом слове она будто потеряла разумную опору и, падая куда-то в безвоздушное пространство, заспорила горячо и жестко.
Все зря. Спор она проиграла. Оказалось, у их всегда корректного, прогрессивного, стопроцентно положительного лечдока тоже есть темное «я».
Только на новом месте, раскладывая трясущимися пальцами Никины вещички, она обнаружила, что крестика нет. Она сняла его как раз перед всей этой бурей, чтобы поменять испачканную веревочку, и, видно, смахнула вместе с использованными пластырями.
Разума хватило, чтобы набрать Санин номер и объяснить про белую коробочку — спокойно, спокойно и внятно, — и она продержалась почти до конца, а потом стало все равно, и она зажмурилась и прибавила своим настоящим голосом:
— Приезжай, пожалуйста, прямо сейчас.
Она не плакала в отделении ни разу — здесь было не принято, нельзя, нельзя! — а сейчас сидела лицом в стену и тряслась неостановимо, прижимая кулаки к глазам. В глазах было черно.
За окном начало смеркаться, когда в палату заехала, громыхая своей тележкой, уборщица — пожилая рязанская баба, с остервенением драившая полы, стены, раковины и подоконники, — тронула ее за плечо и, заглядывая в лицо, отчеканила с расстановкой:
— А я знаешь, что тебе скажу? Кто его найдет, пусть сам его и несет.
Она смотрела в морщинистое задубелое лицо и повторяла про себя, будто первый раз за день проснувшись: «Пусть сам его и несет». Пусть сам его и несет.
К ночи температура у Ники упала. Лечдок зашел вечером, покачался с пяток на носки, поглядел на собранную сумку у ее ног, бросил отрывисто «Можете оставаться» и ушел, взмахнув, как крыльями, полами халата.
Она спросила у той нянечки имя и добавила его мысленно в свой список. Когда Нику оперировали, а ее, как было принято, «временно выписали» из отделения (выгнали — нет, выписали, нельзя, нельзя!), они с Саней, пытаясь пристроить себя к делу, приезжали к больнице и часами бродили по переулочкам, расширяя круги, заходя во все церкви подряд. Никогда ее вера не была сцеплена с местом, но теперь это как будто обрело смысл, и она старалась не вдумываться, чтоб не спугнуть. В храме она долго молча стояла, а уходя, писала записочки — за Нику и за тех, кто встретился Нике на ее пути. Теперь же, сидя в больнице безвылазно, она продолжала эти действия мысленно, и Никин список все рос и рос.
* * *
Они, казалось, прижились в отделении, чтобы остаться там на годы. Меняли палаты, провожали на выписку соседок и встречали новых, заводили дружбы, обменивались телефонами, расставаясь, — а потом мялись над кнопками, не решаясь спросить, как дела.
Она все хотела позвонить Тамаре, красивой женщине с плавными движениями и глубоким голосом, с которой они сошлись в карантинной палате — их с сыном Ашотом выписали две недели назад, — и тут по отделению шорохом прошла весть: Ашотик умер. Тромбоэмболия легочной артерии, ТЭЛА — красивое, звучное слово, означавшее, что никто не виноват. Это не было ни осложнением после операции, ни чьим-то недоглядом. Чистый случай, «так бывает». Судьба вслепую бросила кости.
Светка, ее нынешняя соседка, боевитая пермячка, мама полупрозрачной тихони Ксю, с утра была странно молчалива. Светка читала Андерсена. Она тоже сунула нос, пока Светка обедала, прочитала одну из не самых известных историй, потом пробежала глазами другую, потом еще пару — а потом, решительно отодвинув стул, унесла книгу обратно в коридор, на общественную полку, а взамен хлопнула перед Светкой том Марка Твена. «Янки при дворе короля Артура» и рассказы из серии «Как я редактировал сельскохозяйственную газету» — это вот будет получше.
— Андерсена в детских больницах надо вообще запретить. От него и здоровый с моста кинется.
— Ну да, а мы тут больные все, — хмыкнула Светка, но Твена послушно подвинула к себе.
Так и есть.
Ей самой надо запретить себе смотреть в окно. Она не читает, почти не ест, ничего для себя не хочет (нельзя, нельзя!), не загадывает дальше обеда — но иногда ей до одури хочется настежь распахнуть затекшие створки и проверить: вдруг уже в воздухе пахнет развязкой, талым снегом, ветками, новым солнцем. Как-то ночью, пялясь без единой мысли в голове на снег, подсвеченный фонарями, она загадала, что они выйдут отсюда, когда наступит весна.
Их корпус нависает торцом над задворками зоопарка. Зверей не видно, только какие-то сараи, службы, но она все равно, проходя мимо, замедляет шаги: пару раз вроде бы слышала львов.
Дни тянутся, как давно потерявшая вкус жевательная резинка, складываются из кормлений и капельниц, записей по часам, обработки швов, обходов, обедов, отбоев, и кирпичики этих дней образуют тонкую надежную стенку, за которой только она и Ника, и больше никого. Вчера приходил Саня, принес, как обычно, к дверям отделения все, что было нужно, просил ее выйти, а она не могла, и только когда он написал: «Ладно, мы пошли», — она, наконец, освободилась и выглянула в окно. Внизу Саня ежился без шапки, одергивал воротник, а рядом с ним, похожий на снеговика, выкатился из-под козырька пухлый голубой колобок и протянул ему руку. Славка. Ее ожгло. У меня еще Славка ведь есть.
Месяц назад она не знала, как уедет в роддом — как Славка будет засыпать без нее в эти три дня, и как она сама будет без него. Месяц. Дни и недели, про которые она никогда уже не узнает, чем они были наполнены для него. Она почувствовала себя так, будто ее обокрали.
Вечером она выдернула лист из блокнота.
«Привет, Славка!». Она помедлила с карандашом над бумагой, потом начеркала клетчатого ежика, несущего на спине пару яблок. «Я тут узнала одну историю. Жил-был в лесу ежик…».
* * *
Больше всего ее поражало, что этих болезных, с огромными заклеенными шрамами через все тельце, опутанных проводами детей надо было ежедневно купать — в настоящей, выдраенной содой детской ванночке, поставленной на стол, проверяя температуру воды, упаси боже, не локтем, а термометром, с точностью до полградуса. Как будто попала в книжку о быте восьмидесятых.
Непонятно было, нравится ли Нике купаться — погруженная в воду, она замирала, молча глядела, а иногда даже спала. Но не сегодня — сегодня Ника будто очнулась. Она встряхивала руками и ногами, поднимая волну и разбрасывая брызги на все вокруг, они с медсестрой взвизгивали и смеялись, и Ника погукивала, будто в ответ, и брызгалась снова. Она вымокла до нитки. Никиными вещичками была заполнена вся тумбочка, а свою единственную сменную футболку она уже сунула в стирку, так что оставалось только ждать, пока ткань высохнет сама собой, и это наполняло ее странной гордостью. Мой ребенок брызгался в ванной, я вся промокла. Совсем как в нормальной жизни, пусть и из восьмидесятых.
Им снова сменили терапию, и теперь ей было поручено трижды в день замерять Никин пульс. К расчерченным на колонки страничкам — вес, температура, съедено, выписано — они взвешивали эти памперсы бесконечно, бесконечно, — она прибавила еще колонку и попросила Саню купить фонендоскоп, чтобы не ходить всякий раз к медсестрам. Ей нравилось вешать его на шею — было похоже на детскую игру во врача.
Сегодня солнце било в окно и добиралось даже до них, сидящих в глубине палаты. Она наклонилась к Нике, и солнечный зайчик скользнул по гладкому металлу, и Ника вскинула маленькую ладошку, сжимая пальчиками воздух. Она не поверила. Попробовала снова. Потом опять.
— Смотри! — показала Светке.
Я это запомню. Я запомню этот день. Фонендоскоп качался маятником у нее в руке, Ника дергала ручонками, не в силах пока скоординировать движения, чтобы его поймать, и солнце попало ей в глаз и защекотало в носу. Она нашла в блокноте страничку, куда писала всякое помимо нужного, поставила сегодняшнее число и вывела: «Ника впервые тянется рукой к игрушке».
* * *
Зуб болел третий день, уже нестерпимо. Видно, не обойдется, надо сдаваться. Она пошла к лечдоку, мысленно подбирая слова, готовая к тому, что ей откажут, и к тому, что будут заставлять выписываться, оставив Нику в отделении, — но, к ее удивлению, док только коротко кивнул: «Поезжайте».
На улице она опьянела от запахов. Задрала голову, ловила ртом снежинки — оказывается, она и забыла, как пахнет снег. Опомнилась, заспешила к метро, укутывая лицо в маску, и сверху еще во вторую, чтоб не дай бог.
Зуб залечили, и по времени она все рассчитала точно, и вернулась еще засветло — только-только зажглись фонари в больничном сквере, и когда до корпуса осталось пройти метров двести, ноги ей вдруг отказали. При мысли о дверях отделения у нее закружилась голова, и, хватая воздух, она добрела до скамейки и села, нахохлившись, сунув руки в карманы, дрожа и пытаясь выровнять дыхание. Рядом с мощеной дорожкой рос чахлый, потрепанный жизнью снежник, на ветках застряло несколько сморщенных ягод — такие уже не лопнут, если кинуть их на асфальт и наступить ногой, как они бесконечно делали в детстве.
— Девушка, девушка! С вами все в порядке?
Оказывается, она закрыла глаза. Она вскочила, пробормотав: «Да, да, спасибо», — и, суетливо поскальзываясь, ругая себя последними словами, побежала дальше.
Пока в предбаннике отделения она переодевалась из уличного в больничное, а уличное пихала в шкафчик (она смотрела на эти шкафчики, не отрываясь, ожидая, когда выйдет врач и расскажет, как прошла Никина операция, — так что теперь старалась не цепляться за них взглядом, выхватывая вместо этого глазами то куртку, то запасы памперсов, то упрямо вываливающийся сапог), паника внутри росла, росла и, наконец, заполнила ее до краев.
Задыхаясь, она влетела в палату. Ника спала. Ксю смотрела мультики в телефоне. Светка подняла глаза от книжки:
— Ужин пропустила, гулена? Я взяла тебе, вон, на столе.
Ночью, встав по будильнику, чтобы покормить Нику, она нашла при свете дежурной лампочки другой блокнот — с гладкими плотными страницами, — который передал ей недавно Саня. Пролистав до свободного места между Никиными спящими профилями — тени от ресниц, складка рукава и откинутая во сне безмятежная ладошка с пухлыми пальчиками — она зажмурилась, восстанавливая в памяти картинку, а потом быстро-быстро стала набрасывать: скамейку, фонарь и — тщательнее всего — тот кривобокий куст с мочалкой прошлогодних листьев, тонкими перепутанными ветками и помятыми градинами ягод.
* * *
Палату кварцевали — бесконечный страх гриппа их всех измучил — и они со Светкой, Ксю и Никой, бутылочками, соской, пеленкой, салфетками — вывалились в коридор и бесцельно бродили, по сотому разу разглядывая картинки на стенах. Прислонились к окну. Мимо пробежал лечдок, притормозил, вернулся, поглядел на Нику оценивающе.
— Знаете, что? Я вас выпишу, хватит вам тут сидеть. Вас есть кому забрать завтра?
Она, растерявшись, еще суетливо кивала, а Светка тормошила ее за плечо, глядя с веселым удивлением, совсем по-девчачьи:
— Слышишь?!
Она обернулась.
— Слон, что ли, трубит в зоопарке? Чего это вдруг?
Светка пожала плечами, смеясь:
— Весна, наверное.
Ольга Славникова:
«Внезапная, фатальная болезнь ребенка — страшная трагедия. Из тех, какие очень трудно показать в прозе без грубого давления на слезные железы читателя. Наталье Вдовикиной удалось. Ей свойственен честный и тонкий психологизм, благодаря которому веришь каждому слову рассказа».

Вещий сон
Я спрашиваю: «Что привело вас ко мне?» Она не смотрит на меня, продолжает отрывать заусенцы и ещё больше вжимается в кресло: напряжённая, она — сплошной зажим, воплощённое напряжение, бомба, которая сама себе не даёт взорваться.
Я спрашиваю: «Что вас беспокоит?» Она часто моргает, жмурится, поджимает губы, чтобы не дрожал подбородок. Оставляет в покое свои истерзанные пальцы и тянется к коробке с салфетками. Они ей ни к чему: истерика отражается в мимике, бушует внутри, но не прорывается, пульсирует в венах на висках, сковывает всё тело, но не побеждает — слёз нет.
Я молчу. Она аккуратно разделяет салфетку на слои — я вижу, что это её успокаивает. Начинает рассказ несмело, как бы на цыпочках, ощупью, и потрошит салфетки — одну за другой. Слово за слово, она разгоняется, имитирует звуки, показывает размеры, дышит часто, говорит уже не со мной — вот он, «момент откровенности пациента с диагнозом «депрессивное расстройство» в ходе клинической беседы». Я больше не задаю вопросов, и глухой звук её голоса доносится до меня, как будто проходя через толщу воды. Я могу расфокусировать взгляд, словно хочу хорошенько рассмотреть 3-D картинку; я могу увидеть то, о чём она говорит: мне, словно батюшке, исповедуются уже двадцать лет, и каждая история — почти под копирку, с поправкой на мелкие детали. Я вижу, как появился на свет её сын.
В родильном отделении обычного петербургского роддома на окнах стоят решётки. На вопрос «Зачем?» — ответ: «Были прецеденты». Роженицу везут на каталке: грохот, крик, вой. Молодая, не больше двадцати пяти, волосы медовые, но у лица — тёмные, слипшиеся от пота. Одета в казённую ночнушку из грубой льняной ткани — такие пошили недавно, говорят, сложнее порвать. Тонкие губы покусала в кровь, в коньячного цвета глазах полопались капилляры. Она вгрызается в железные прутья, не орёт — рычит, сжимает кулаки так, что на ладонях остаются багровые следы от впившихся ногтей. Анестезию не дали; на все просьбы матёрая озлобленная акушерка отмахивалась: «Первые роды долгие, пока рано, лежи, не мешай работать». Так и проглядели полное раскрытие, эпидуралку ставить поздно. Её и на кресло посадили еле-еле, когда уже показалась черноволосая головка.
— Да хватит орать! Ты сейчас всех остальных напугаешь, им-то как рожать после твоих воплей?
В ответ — невнятное «больно», звериное, страшное.
— А трахаться тебе не больно было? Бог терпел и нам велел. Тужься давай! Тьфу ты, рожать не умеет, а ещё бабой называется.
Целых шесть часов ей казалось, что внутри шпарит кипятком, прокручивает через мясорубку, тянет и рвёт, а на кресле была минут двадцать, не больше. Всё прошло. Акушерка отчего-то переменилась: довольная, будто сама родила, аккуратно положила мальчика на грудь мамы, как-то извращённо-ласково отрезала пуповину и зыркнула на мать: «Смотри не покалечь».
Вот он — сын. Синий, весь в крови, будто и не человек, но волосы на голове чёрные-чёрные, как у отца. Она смотрит на младенца и шепчет: «Некрасивый ты. Не мой». В это время её шьют наживую.
Увезли в палату, стало тихо. Кресло натёрли хлоркой, по полу сухой тряпкой размазали капли крови, пыль разнесли по углам и привезли следующую — молчаливую. А когда ей кричать? Что ни потуга, то потеря сознания, ещё потуга — и снова темнота. О такой темноте, прохладной, спасительной и спокойной, рассказывала другая клиентка, на вчерашней консультации.
Палаты совместные, от истошного крика крошечных новых людей никуда не скрыться. Встать, успокоить не получается — страшно, швы могут разойтись.
— Тебя как звать? — спрашивает добродушная санитарка.
— Аня.
— Ань, а папка-то его где? Почему вещи не привезёт? У тебя же совсем ничего с собой нет. Простынешь в ночнушке, не май месяц.
И правда, где он был? Не было его среди тех, кто часами караулит жён под окнами, не было в компании пишущих на бетонном заборе чёрт знает каким слоем «Любимая, спасибо за сына!», и тот парень, пальцем тыкавший на нос, мол «Нос-то, нос чей?» — тоже не он. Отец Аниного ребёнка, черноволосый, с почти прозрачными и оттого такими честными глазами, оказался одним из тех, кто не носит кольцо, потому что «неудобно». Жена об Ане так и не узнала, а вот Аня о ней — слишком поздно. Денег на аборт не взяла, соврала, что своих хватит, а сама — мигом в женскую консультацию, вставать на учёт. В палате Аня смотрела на сына и видела его отца.
Она рассказывает так, словно читает перед классом длинный стих наизусть. Каждая часть её истории — как будто строфа. Строф, предположим, десять, и она загибает пальцы, чтобы ни одной не пропустить. Понимаю: у неё нет денег на терапию. Готовилась, репетировала — нужно уместить всю боль всего в один час. А в конце она посмотрит на меня испытующим, выжидающим взглядом, мол, вот моя жизнь, вся как на ладони, дай совет, как стать нормальной матерью?
— Дома, в привычной обстановке, вам стало легче?
— Нет. Дома я начала кормить грудью.
Она вдруг сгорбилась и скрестила руки. Так делают девушки-подростки, у которых грудь появляется раньше, чем у ровесниц — стесняются, прячутся от сальных косых взглядов одноклассников. Но тут — другое. Ане было невыносимо больно кормить. Мокрая от молока сорочка мерзко липла к коже, грудь каменела, от бесконечного сцеживания ломило руки. Между кормлениями — ничтожный час, сын не наедался. Трещины не успевали заживать. Он кусал остервенело, жадно, а Аня, сжав зубы, стонала, мычала, и однажды в гневе отшвырнула ребёнка на край кровати. Больно, обидно, непонятно — «за что он меня ненавидел»?
— А вы любили сына в тот момент?
— Я едва сдерживалась, чтобы не столкнуть его на пол.
— Что вас остановило?
— Мне позвонила мама. Это бывает редко, и я всегда беру трубку: мало ли, вдруг кто-то умер.
Внук её не интересует. На выписку не приехала; Аня знала, что никого не будет, и отказалась от нарядного детского конверта с голубым бантом. От мамы незадолго до Аниных родов ушёл третий муж, она уволилась с работы и перестала выходить из опустевшей после развода квартиры — он забрал с собой всё, даже выключатели выдрал. Однажды Аня пришла к маме в гости показать внука. Дверь была незаперта, а за ней — груды грязных пакетов, выцветшие газеты, засаленные пледы и затхлый, кислый воздух. Мусор был везде, он затопил квартиру, не давал вздохнуть, прожигал глаза. Мама что-то готовила — из кухни слышался частый стук ножа по деревянной доске. Аня прикрыла сыну глаза и убежала, не захлопнув за собой дверь.
А в детстве мать заставляла отличницу Аню расставлять учебники по высоте: от огромного Enjoy English к небольшому сборнику задач для поступающих в вузы. Обувь нужно было мыть после каждого выхода на улицу, по три раза в день, иначе грязные кроссовки оказались бы на Аниной кровати. За то, что на тщательно вытертой после вечернего душа стене осталась незамеченная капля воды, мать хлестала дочку удлинителем. Она забивалась под кровать и уворачивалась от извивающегося провода, а мама, багровая от ярости, заглядывала под оборку покрывала и кричала: «Вылезай, скотина!»
— Сейчас я маму понимаю. Мне от этого страшно. Я понимаю, почему она меня ненавидела. Помню, мама рассказывала, как каждый день ходила в парк и тащила коляску прямо по огромным корням дубов — меня трясло нещадно, плюс свежий воздух. Только так я прекращала орать и засыпала. Смешно, конечно: додуматься только — по корням!
Аня впервые улыбается. Щурится, смущённо поджимает губы и немного краснеет, но тут же, будто опомнившись, снова наводит на себя привычную серость. Я как будто поневоле возвращаюсь из транса, в который погружаюсь на каждой консультации, и про себя отмечаю: это было красиво.
Сейчас сыну три года. В одну минуту он увлечённо собирает новый конструктор, в другую — махом сметает его со стола и с каким-то злобным, издевательским смехом пинает разноцветные пластмассовые кирпичики, захлёбывается от восторга, а Аня просит перестать, потом — приказывает, быстро закипает, хватает за руку и трясёт его, смех переходит в истерику, он картинно падает и валяется на этом проклятом конструкторе, надрывается, хрипит, она тоже плачет и снова трясёт, шлёпает, и сразу — целует, «прости меня, сыночек», он хватает её за волосы и дёргает изо всех сил. «За что он меня ненавидит?»
— У вашего сына сейчас трудный период. Ему три года, он переживает серьёзный кризис: осознаёт свою независимость от вас, понимает, что он — отдельный человек, с собственными мыслями и чувствами. Это тяжело, ведь раньше вы были единым целым.
Зачем ей всё это? Второй консультации не будет. Но Аня внимательно слушает, а я замечаю в её глазах жёлтые крапинки — они лучиками расходятся от зрачка и рассекают коньячную радужку. Я уверен, что на самом деле её сын — чудесный мальчик, они просто в упор не видят друг друга из-за пелены боли — той, которая тянется через всю её жизнь, паутиной опутывает воспоминания о прошлом — давнем и вчерашнем, ползёт в настоящее, запускает в него свои щупальца, захватывает все мысли, проникает в сны и сеет злость, нервозность, тревогу, прорастает, пускает корни, хочет сожрать ребёнка. А он «зеркалит» Аню.
— Настоятельно рекомендую вам начать приём антидепрессантов. Они стабилизируют эмоциональный фон, и вы сможете вернуться к нормальной жизни.
— Я боюсь привыкания.
— Вы уже привыкаете, и это гораздо страшнее.
Аня задумчиво заправляет медовый локон за ухо. Остаётся пять минут, больше она не придёт. Я впервые нарушаю правила.
— Моя жена покончила с собой три года назад. Она проснулась ранним утром, тихо покормила нашу дочку, уложила её рядом со мной — аккуратно, так, чтобы я не задавил её во сне, и в одной ночнушке вышла в подъезд. Отправила мне сообщение и бросилась из окна. Она тоже наотрез отказывалась от антидепрессантов. Какой я после этого психотерапевт?
Аня перестаёт рвать бумажные салфетки и как будто впервые за всю консультацию по-настоящему замечает меня. Мы поменялись ролями. Я почему-то думаю, что сегодня она мне обязательно приснится. К чёрту главный закон врачебной этики.
— Можно я провожу вас домой?
— Разве так можно? С пациентами…
— Нельзя. У нас всего минута. Давайте встанем друг напротив друга, между нами должно быть примерно пять шагов. Вот так. Сейчас я протяну руку и начну медленно подходить ближе, а вы скажете «Стоп», как только вам станет некомфортно. Я остановлюсь, обещаю. Это упражнение на проверку личных границ. Готовы?
— Д-да, готова, — недоверчиво ответила Аня.
Шаг — она повела плечом, выпрямилась, посмотрела мне в глаза. Ещё шаг — медленно расцепила переплетённые пальцы, поправила юбку так, чтобы молния была на месте. Третий шаг — я ей подмигнул. Надо же, какая вольность. Она приподняла бровь, и я заметил на ней аккуратный шрам-полумесяц, улыбнулась, снова прищурившись. Моя дочь улыбается так же. Четвёртый, пятый. Аня не произнесла «Стоп». Я коснулся вытянутой рукой её плеча. Прозвенел таймер — время вышло. Она сказала:
— Я живу недалеко. По пути зайдём в аптеку, выпишите мне рецепт.
***
Уволят с формулировкой «за нарушение этического кодекса» — это как пить дать. Ну и что? Он поставил печать на рецептурном бланке, со счастливой беспечностью подал ей лёгкое не по погоде пальто, жестом отказался от денег и отпер дверь кабинета. Вышли вместе, избегая вопросительного взгляда администратора. Снежинки мерцали в свете кованых фонарей, медленно опускались на белый хрусткий ковёр, застеливший набережную Карповки, и сверкали так, что с непривычки болели глаза. Она разрумянилась и надела колючие варежки, от холода волосы покрылись инеем. Посмеялись над тем, как вмиг побелела его борода. Перешли на «ты».
Три года назад в последнем сообщении жена написала ему: «Сегодня мне приснилось, что одним морозным днём ты встретил чудесную маму для нашей дочери. Ты знаешь: мне снятся вещие сны».
Рецензии мастеров Creative Writing School
Дмитрий Данилов, писатель, поэт, драматург:
«Потрясающий, душераздирающий рассказ. Он переполнен человеческими страданиями, но автору удивительным образом удалось нигде этот страдательный модус не пережать, не «закричать» слишком громко, чтобы пропал эмоциональный эффект. Автор не переходит грань, за которой повествование о человеческих страданиях становится выспренним и искусственным. Это редкая удача.
Очень хорош образ героини — женщины загнанной, затравленной тяжёлым материнством и унылым бедным бытом. Как она разделяет салфетки на слои, как она сидит, какие позы принимает, что и как она говорит — в каждой чёрточке скрыты огромные массивы мук. Этот образ нарисован с максимальной психологической достоверностью, веришь буквально каждому слову героини и о героине.
Образ психотерапевта тоже удался. Это человек, которому его собственный невыносимый опыт подарил проницательность и высочайший уровень эмпатии. Прекрасно передана «драма в драме» — момент, когда герой решает переступить через профессиональные этические нормы, и делает он это именно в тот самый момент, когда сама жизнь даёт ему и его собеседнице новый шанс в жизни.
Весь текст написан с деликатностью, с чувством меры. Это работа, которая меня сильно впечатлила».
Валерия Пустовая, литературный критик, писатель:
«Очень неожиданный финал. Необъяснимый логически, я бы даже сказала, возмутительно необъяснимый. Но именно это удачно срабатывает: рассказ словно отбрасывает все читательские «почему», уходит из сетей логики. Мы оказываемся в пространстве человеческой иррациональности. Финал бросает новый свет на рассказ: весь рассказ — о непонятном в человеке, а вот этих темных глубинах, которые нельзя просветить терапией, тем более если на терапию всего лишь час.
Образных деталей немного, рассказ написан сдержанно, словно немного из транса, из отвлеченного созерцания. Удачно срабатывает фильтр восприятия терапевта, у которого своя боль. Приглушенный тон, которым особенно хорошо рассказывать страшные или чувствительные истории. Если такие истории кричать, будет перебор, читатель зажмет уши. А спокойным регистрирующим, описывающим тоном читательское внимание к сильным моментам ловится прочно.
Эффектна связка сцены родов и терапии: от обмороков новой роженицы автор перекидывает ассоциативный мостик к терапии, получается прыжок из прошлого в настоящее, это убедительно сделано. Понравился жест героини: как она прикрывает глаза ребенку, убегая от безобразия в доме матери. В целом рассказ ловко подцепляет одни детали к другим, одни воспоминания к другим, наращивая напряжение, чтобы в кульминационный момент одна боль встретила другую боль., после чего наступает тишина и надежда. Рассказ открывается разом в будущее и прошлое, где это будущее было предопределено. И это усиливает иррациональность: получается, что две трагических истории вели к вот этой новой надежде. Это завораживает тем, что не понятно.
В то же время есть у меня к рассказу одно принципиальное замечание. На мой вкус, автор пережимает с черными красками, пригоняя одну мерзостную или больную деталь к другой, не давая читателю продыху, создавая удушливую атмосферу абсолютного несчастья. Такая атака боли может вызвать защитные механизмы здравого смысла в читателе. Рассказ показывает жизнь на условно выделенном, крохотном, можно сказать, отрезке текста, говорения о жизни. Сама ситуация отображения жизни в тексте искусственна. Когда мы переносим вроде бы жизненные подробности в текст, они лишаются жизненного объема, просторного и многообразного жизненного контекста. И создают ощущение искусственной концентрации.
Идет терапия, женщина вспоминает. Вспоминает только плохое. И это плохое нагнетается с каждым воспоминанием. В какой-то момент к цепочке несчастий теряется доверие, потому что в рассказе — искусственном пространстве — даже вроде бы жизнеподобные несчастья, поставленные в такой ряд, начинают смотреться карикатурно. Рассказ не может строиться на одной ноте. В рассказе, как в жизни, вдох и выдох. Было бы как раз жизнеподобнее и пронзительнее, если бы героиня вспомнила и что-то хорошее, как-то плотно связанное с ее плохим. Амбивалентность трогает. Неоднозначность. Потому что они опять же иррациональны.
В целом же, повторюсь, рассказ затянул, финал удивил. Текст вполне состоялся».
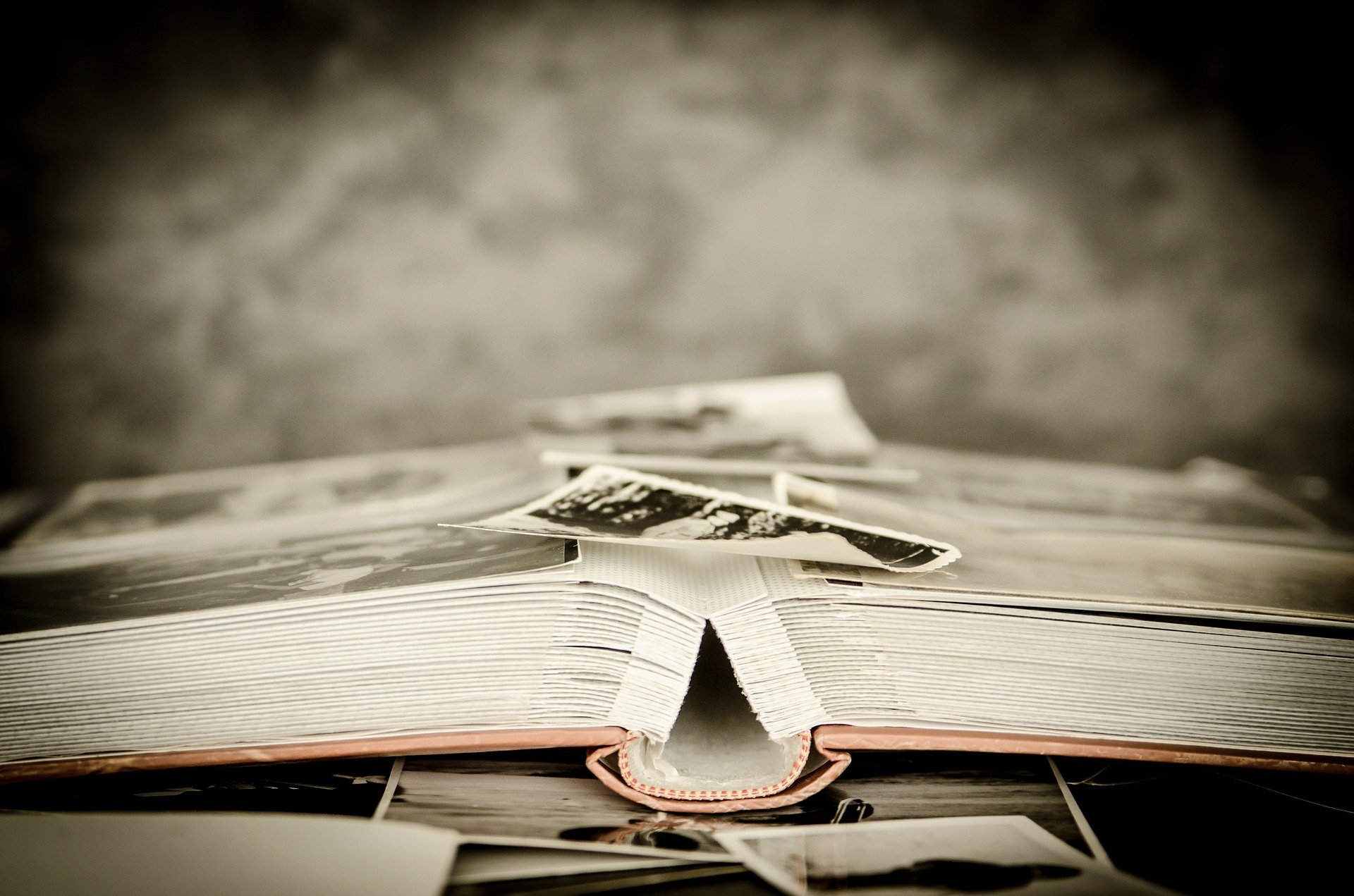
Воспоминания
Знаешь, бывает иногда небезопасно предаваться воспоминаниям. Хорошим, плохим ли — неважно.
Да, эти воспоминания могут быть ценны, но нельзя к ним привязываться. К хорошим — потому что, когда все время плаваешь в блаженной прострации, нирване, ты выпадаешь из реальности, и твое критическое восприятие притупляется. Привязываться к плохим еще хуже — ты начинаешь воображать и мечтать, как бы мог сделать все по-другому, изменить ход вещей, стать победителем! Но, попадая из мира грез в свою комнату, осознаешь, что весь твой кураж бессмысленен — ты уже ничего не можешь исправить.
Но это все предисловие, давай перейдем к рассказу. Скорее всего, этот рассказ выдуманный. Причем главные слова тут «скорее всего», возможно, где-то и была такая история в нашей стране.
* * *
Кажется мне, что жил (а может, и сейчас живет) то ли под Тюменью, то ли под Пензой один человек, ничем особо не примечательный. Двадцати шести, а то и двадцати семи лет от роду, высок, худощав, голубоглаз, в свои годы уже лысоват, хотя на затылке еще вьется русый пушок.
Работал он в детсаду воспитателем — это, наверное, единственная особенная черта нашего героя. Право же, мало кто из мужчин идет в воспитатели, это считается женской должностью. Добавлю также, что он был добродушен, веселого нрава, любил кошек, жил на съемной квартире, служил примером для своих соседей во многом. Многие люди, прочитав это, изумятся и воскликнут: «Не может быть такого добродушного человека в нашем техногенном мире! Это абсурд!»
Да, конечно, прогресс меняет людей в худшую сторону, но даже и сейчас еще возможно встретить таких чистых, непорочных людей. Литературные критики, конечно, заявят в один голос: «У героя в произведении должен быть конфликт. Без этого нет действия, нет сюжета! У такого человека обязательно должна быть какая-нибудь страшная тайна, которую он скрывает!»
И я отвечу — да! У него есть одна маленькая тайна, но она совершенно безобидна, это совсем не то, о чем вы подумали! Каждый вечер, перед тем как ложиться спать, наш герой — назовем его, скажем, Саша, — пересматривает семейный фотоальбом, предаваясь воспоминаниям: это помогает ему крепко заснуть.
В фотоальбоме четыре больших блока: первый посвящен Саше в младенчестве, второй — его школьным годам, третий — фотографиям с матерью, бабушками, тетками, а четвертый — фотографиям с отцом. В последнем блоке очень мало снимков: когда родители разводились, мать, будучи в истерике, часть фотографий изрезала, а часть выбросила. Мать с отцом развелись, когда ему было семь лет. Саша так и не понял, почему они это сделали. Он только помнил, как сидел на кухне, напротив сидела мама, а над ней возвышался отец. Оба они тогда очень громко кричали. Саша до сих пор мысленно прокручивает момент, когда он, закрыв глаза и уши, понесся с кухни в свою комнату и захлопнул дверь.
Потом, в один день (ни я, ни Саша не помним, когда это было, возможно, осенью) папа ушел. Он просто ушел. Мать, суетливо провожавшая Сашу в школу, все приговаривала, что надо еще немного потерпеть, и тогда жизнь пойдет в гору, все станет лучше и все наладится. А Саша недоумевал — как это без папы может быть лучше?
Квартира тогда сильно опустела. Исчезли отцовские вещи: сапоги, офицерские ботинки, одежда и его книги. Естественно, перестали приходить папины друзья. Зато зачастили в гости мамины подруги. Когда ее компания собиралась на кухне, они пили вино, а Саша убегал в свою комнату и старался заснуть. Помнится еще, ему чудилось, будто во время этих посиделок мама плачет.
Впоследствии к ним стал приходить папа — забирать Сашу к себе. С папой они проводили время, как правило, молча. Если гуляли, то папа заранее продумывал весь план действий — куда и когда: привычка военного. Когда отец брал Сашу за руку, то держал нежно, но очень крепко. Перед тем как отвезти Сашу обратно к маме, отец всегда давал ему наставления, как быть настоящим человеком, сильным, честным и стойким. Как папа.
Когда же отец привозил Сашу к дому, Саша заходил в подъезд и ждал. Он не хотел идти к маме. Нет, он, конечно, любил ее, но не так, как папу. Это совершенно иная любовь. Саша стоял и смотрел сквозь оконное стекло, как папа разворачивается, идет к машине и уезжает. Саше хотелось выбежать и закричать: «Папа, останься, прошу тебя!» — но он просто стоял и смотрел. Все это было очень неправильно.
Потом, когда Саше уже исполнилось пятнадцать, папа уехал в командировку, потом его часть перевели куда-то в Среднюю Азию. Саша регулярно созванивался с отцом, но через два года рухнул Союз, и эта связь оборвалась.
* * *
И вот с добродушным, веселым человеком Саней, воспитателем детского сада, случилась беда. Он потерял фотоальбом. Он не помнил, когда это случилось — скорее всего, при переезде на очередную съемную квартиру. Когда он понял, что пропало самое дорогое, самое ценное, — он отчаялся. Обыскал сверху донизу свое немудреное жилье, даже ходил по своим старым квартирам, но так ничего и не нашел. Нет, и все. Тогда он поехал на озеро недалеко от города, он там часто рыбачил с отцом в детстве.
Добрался, нашел среди кустов и бурелома то самое место, где они с отцом раньше останавливались и разводили костер. Уселся на бревно и стал смотреть на озеро. Вечерело, сгущалась темнота, и уже не было видно, где заканчивается берег и начинается вода. Саня в каком-то непонятном трансе встал и широко раскрыл глаза. Ему почудилось, будто на поверхности озера колеблются образы утраченных снимков с отцом. Образы то тускнели, то проступали ярче в розовой закатной воде, будто плавали в ванночке с проявителем.
Саня шагнул в мелкую волну. Брючины сразу намокли. Он побрел по илистому дну, дошел до места, где было уже глубоко, набрал побольше воздуха и нырнул. Вокруг него клубилась муть, легкие резала боль, мозг паниковал. Но Саня упорно плыл туда, где тускло взблескивали рыбешки и сгущалась мгла.
И вдруг Сане показалось, что ему не двадцать семь, а семь. Сильные руки отца выхватили его из воды, подняли, мокрого, к слепящему солнцу. «Ну что же ты? Я никогда от тебя не уйду, сынок!»
***
Зачем же я, собственно, сочинил для тебя эту историю? А я откуда знаю, сам посуди! На то уж я и писатель, чтобы выдумывать!
Ольга Славникова:
«Рассказ Егора Свириденко — игра в литературную условность. Главный герой вроде современного князя Мышкина: добрый, хороший, да еще и работает в детском саду воспитателем. Только психика у него очень хрупкая. А может, хрупка сама конструкция идеального героя, как это было и во времена Достоевского?»

Гребибля и гребубля
С берега им кричали, и небо разом надвинулось, словно шапка, по самые брови, закрыло обзор, обложило промокшей ватой так, что сбивалось дыхание. Воздух дрожал и бил в перепонки все нарастающим гулом, вот показались пенные всплески, и горизонт рухнул. Галка жалобно всхлипнула. Не задался денек.
* * *
В том, что поход не сложится, Генка не сомневался. Еще когда Санька, друг и матрос, слился в больничку с гребаным переломом — на велике покатался, спортсмен! — и оставил его в одиночестве, все пошло через жопу.
На отпуск забить не удалось, да и кинуть ребят он не мог, они целый год вынашивали планы и настраивались на «четверку». В жизни всегда есть место для подвига, нужно только его отыскать. Можно было занять каяк и идти одиноким рейнджером, но каяк хорош на порогах, а на озере — это пытка и помеха для остальных. Оставалось искать матроса.
Выход предложила Тамара: у нее есть подруга, отличная девушка, так мечтает в поход!
Галку охарактеризовали как существо беззлобное и неконфликтное, с опытом рафтинга в знойной Турции. Тамара, Тамара, где рафт и где байда!
Впрочем, спорить не приходилось, да и не с кем, как оказалось: эта Галка была на пленэре, как несколько высокопарно сообщила ему Тамара, подтвердив тем высокий статус подруги. Творческой тонкой души Генке как раз не хватало!
Он один готовил лодку и бегал по магазинам, закупая долю продуктов из общей командной раскладки, сушил сухари, утрамбовывал вещи. В совокупности шмоток случилось так много, что впервые в жизни он вызвал такси, чтобы все отвезти на вокзал. Здоровенный рюкзак, байдарка, дополнительная сумка с продуктами, снаряжение — шлем, спасжилет и спальник — для новичка-матроса, и еще до хрена всякой мелочи.
Когда он впервые увидел Галину, на вокзале, у самого поезда, жизнь поделилась на «до» и «после». Он ведь раньше считал, что так в фильмах бывает: встретил девушку и застыл, как дурак, только рот раскрыл от избытка чувств. Избыток был настолько велик, что в первую ночь он нажрался, жадно мешая водку и пиво, а потом его кисло скрутило в тамбуре, куда ушел покурить. Но образ девушки был при нем. Легкомысленная ветровка, фирменная джинса, вся в лейблах, и кроссы на каблуках. Рюкзачок можно было принять за раздувшуюся косметичку, а в довесок рядом торчал этюдник. И вот с этим он должен идти по порожистой вредной речке! Две недели чистого кайфа!
— Галя, чалку поправь!
— Сам поправляй. Ты же ее так смотал!
— Ген, мы ведь все начинали, как чайники! — уговаривал его Царь Леонид, их адмирал и завхоз. — Вспомни наш первый поход! Ты же миску дома забыл и хлебал после всех, что осталось. А как Тамара приперлась на половодье в сапожках от Гуччи? Пара дней у нас есть, по озерам пойдем, пообвыкнетесь, а, братан?
Нет, к такому привыкнуть нельзя, на такое он не подписывался.
Еще в поезде им — предсказуемо — дали прозвища Крокодила (чего Генка терпеть не мог!) и Чебурашки (это в самую точку: неизвестный науке зверь). Но в конце ходового дня все они, даже подруга Тамара, вспомнили анекдот про Гребиблю с Гребублей.
Галка гребла неохотно, для виду куная весло, ни замаха, ни силы. Зато часто хваталась за фотик: ой, какая красивая птица! ой, там лилии! ой, хочу! — и Генка терпеливо направлялся к птицам и к лилиям, чтоб им сгинуть совсем, расплодились!
Ладно, силой не обделили, грести Генка умел, даже со всеми зигзагами они не теряли эскадру. Только проку от чертовой Галки не сыскалось и на берегу. Она ничего не умела. Ни палатку поставить, ни костер запалить, ни сготовить суп из пакетиков. А едва они чалились к берегу, Галка срывалась в полет: посмотреть, что там на поляне, грибы поискать, окопаться в черничнике, а еще — расчехлить этюдник, чтобы поймать нужный свет. Генка, как был, в неопрене, шел с пацанами пилить дрова, потом занимался костром, в одиночестве ставил палатку, а «нужный свет» все не кончался, только под тентом теснились этюды из торопливых мазков с прилипшими к ним комарами.
— Чалку смотай, говорю!
— Да как я ее смотаю? Мне нужно юбку снимать, а ее потом фиг натянешь. И вообще, что пристал! Чем она тебе помешала?
Чалка выбилась из упора и теперь плюхала в правый борт, все время цепляя воду. Если оставить как есть, она свалится за борт, и байдарка совсем потеряет ход, Галке-то что, она не гребет, глазеет по сторонам, ищет удачные кадры…
Жарче всего припекло, когда начались пороги. Не то чтобы Галка боялась — как все новички, она рвалась в бой, — только вдруг перетрусил Генка. Он настолько был не уверен в матросе, что вместо лихого спуска в одиночестве вел свою байду тихими «канализациями». Если Галка не выгребала на озере, что говорить про пороги? А когда река поднабрала воды, сделалась жестче и злее, когда сузились берега, из болотистых став каменистыми, вот тогда замаячило перед Генкой позорное слово «обнос». И пока он таскал их вещи, Галка смотрела пороги, снимала на фотик проходы эскадры и вопила своим детским голосом, радуясь успехам Тамары.
— Так, Галина, бери весло. Видишь, ребята чалятся?
— Ген, ты что, опять обносить? Дай мне хоть раз попробовать!
— Не сейчас!
— Ты достал осторожничать! Я в поход пошла что, гулять? Я хочу драйва! Хочу в порог! Ну тебя на фиг, Гребибля!
Галкин гребок от берега был хорош и безумен: всю душу вложила, весь нерастраченный пыл, всю сбереженную силу матросскую. От нежданчика Генка чуть за борт не рухнул, как раз привстал на корме, высматривая, как получше причалить, и пока валандался, цепляясь за борта, и старался поймать весло, Галка гребла как проклятая туда, в стремнину, в порог.
— Куда тебя, твою мать?!
— Ой, да ладно, я помню по карте: здесь легкий порожек…
— …мы легкий прошли! Дура, ты правишь в Падун!
Злющий Падун, опасный, зубастый, плюнул им в лица моросью из котла беспощадной бочки, той, на которой ломались байдарки и росло кладбище по берегам, сплошь шкуры и ломаные шпангоуты. Галка в ужасе опустила весло и оглянулась на Генку.
С берега им кричали, и небо разом, надвинувшись, словно шапка, по самые брови, закрыло обзор, обложило промокшей ватой так, что сбивалось дыхание.
— Генка, гребем обратно?
— Поздно метаться, подруга. К берегу я не смогу, слишком сильный поток.
Скорость воды все нарастала, вот показались пенные всплески, и горизонт рухнул, как чахлая елка под ветром.
— В бочку по центру, в язык. На выходе ближе к правому, дальше будут косые валы, только не боком, ты слышишь? Жмемся совсем близко к берегу, там камни и нужен маневр. Но главное — первая бочка. Разгоняемся, Галка! Гребибля!
— Гребубля! — откликнулась Галка, но в шуме воды растворились все слоги, и Генка впитал лишь последний, как молитву, как заклинание, а потом спина девушки напряглась, и Галку откинуло валом, ударило и проглотило, спрятало в пенной завесе, Генка сделал рывок веслом и упал в водный хаос, и захлебнулся, и вынырнул, заполошно дыша.
Они рухнули в бочку и взлетели над нею — на два вздоха, на два гребка, а потом наступило затишье, словно кто-то поставил время на паузу.
— Генка, мы же висим! — прошептала изумленная Галка, а быть может, она кричала, только он, оглушенный ревом воды, воспринимал ее крик, как шепот.
Нет, они не парили над бочкой, они просто не двигались в ней, растеряв сумасшедшую скорость, сбитую противотоком, и теперь хищная тварь держала их за корму, прикусывая и затягивая, точно были они, как в кино про Стартрек, космолетом рядом с черной дырой, в самом горизонте событий, на границе между прошлым и будущим. Под ними была пустота, воздушная бездна, они висели в пенном котле, тщетно работая веслами — никакого сопротивления, только мерзкая дрожь байдарки и оглушающая тишина посреди какофонии звуков.
— Ген, подо мной нет воды, одна пена!
— Галка, держи равновесие!
Только бы не кильнуться!
Наконец-то он проморгался, и в глазах засверкали радуги, а сквозь эту завесу, как в кривом зеркале, проступили река и берег, елки какие-то черные, и оранжевый спасжилет с кармашком, в котором был спрятан фотик. «Застегнула спасжилет или нет?» — билась шальная мысль, а они продолжали висеть, как бессмысленная лаврушка, брошенная в кипящий бульон и болтавшаяся на поверхности. Река ворочалась, словно медведь, норовя встать на задние лапы и вцепиться когтями в зеленый борт, не кильнуться, не кильнуться, не надо! Опусти нас, хозяйка-река!
Под ними, под самым дном, больно отдав по ногам, что-то вздрогнуло и разошлось, точно лопнул могучий пузырь, байдарку качнуло. И уронило. И в тот же миг время стронулось, легонько, мелким шажочком, Галка сумела нащупать воду, пять миллиметров воды, не больше, но за них зацепилась лопасть, и еще раз, плюх — и толчок. Тонкие Галкины руки вытаскивали их из котла и разгоняли время, застывшее, как желе, плюх — и вот уже Генка дотягивается до воды, пара гребков — и проклятая бочка с чавканьем выпускает добычу, и байдарка срывается с привязи.
Сколько они висели? Секунду? Две?
Целую жизнь прожили! Невразумительный пафос, и все же… Целая жизнь на ладони у Бога в боязливой борьбе за равновесие.
А потом время с грохотом взорвалось и понеслось без дороги, ополоумевшим табуном. Выход из бочки и снова слив, и кто-то скачет по берегу, кажется, это ребята, вон вроде Царь Леонид, орет: вы прошли, стервецы, прошли! А Галка орет в ответ: да пошел ты, не до тебя! Они прут сквозь косые валы, нарываясь на оверкиль, по касательной, но упорно цепляясь за воду.
Занятная штука — порог. Чтобы пройти сквозь бочку, нужно грести, как галерный раб, скорость нужна, максимальная, а затем резко — «шахматы», и вот тут потихонечку, вдумчиво и с холодной башкой, только где ж ее взять в таком месиве? Он табанил, они замедляли ход, лавируя между камнями, целовали обливняки, раз и еще, и снова, сели жопой в плиту у берега, слезли, и вот — выходная шивера, а там по стремнинке в озеро. Прошли!
Тонкие Галкины руки разом упали, и она опрокинулась навзничь, спиной прямо в лужу на сбившемся фартуке, и посмотрела в смурное небо, вдумчиво, не мигая, как заводная кукла на последнем повороте ключа.
— Галка, ты как?
— Нужны килевые.
— Мы ж не кильнулись!
— А, все равно. Выпить хочется! — Она засмеялась с ноткой запоздалой истерики. — Отпадно мы прокатились! Ну, круто же, Ген, ну, признай!
Генка смотрел на нее и лыбился, стараясь унять дрожь в руках. Но видел лишь хрупкую Галку, с головой уходящую в пенный вал, а еще ее руки, ленивые, слабые, тащившие их из котла.
Девушка сдвинула голову и посмотрела на Генку. На мокром лице расплывалось улыбкой усталое шалое счастье.
Генка чуть потянулся и постучал ей по шлему.
— Экстремалка! — хихикнул он. — Вот связался я, в самом деле. Чалку на место заправь!
— Сам заправь, — огрызнулась Галка, а по берегу к ним бежали и кричали от возбуждения, и размахивали руками остальные члены команды.
* * *
Под вечер Галка умчалась на берег, а Генка и Царь Леонид долго осматривали байдарку и дивились такой удаче. Ничего не сломали и не погнули, шкуру пробили на пару заплаток, но в целом-то чисто прошли! Молодцы!
— Ген! — пронеслось над рекой. — Ген, ты где?
— Слушаю, Галка, — привычно сказал он тихо, себе под нос, под насмешливым взглядом Леньки. И осмотрел топкий берег в поисках Галкиной куртки, а может, перчаток, а может, сапог, которые та позабыла. Ну, так и есть, этюдник. А наверху «нужный свет» пропадает.
Генка скинул с плеча гермомешок и, прихватив чертов ящик под мышку, полез по камням к стоянке.
— Ген! — снова крикнула Галка.
— Слушаю, — снова тихонько сказал он, карабкаясь по валунам.
— Что ты орешь? — выплыл голос Тамары, возмущенный и озадаченный. — Ешь сама уже голубику, он тебе даже не отвечает!
— Он отвечает, — вздохнула Галка уверенно и как-то ласково. — Он всегда отвечает, Тамар. Просто я его редко слышу.
Генка зажмурил глаза, разом представив Галину и горсть сизо-пепельной голубики в тонкой прозрачной ладошке. Улыбнулся. И снова полез наверх.
Жизнь, без сомнений, налаживалась.
Ольга Славникова:
Писательское преимущество Надежды Ожигиной — разнообразный личный опыт, в том числе в экстремальном спорте. А живопись словом, отличная языковая образность создают художественную картину, например, прохождения сложных порогов, как вот в этом рассказе.

Дым
Наконец-то лифт. Задачи, проекты, сроки всё ещё гнетут, но с каждым этажом стремительно удаляются из головы и ждут на скамейке у подъезда. Смотрю на кроссовки: белые и на удивление чистые «Ги Жан Фредерик» с грязеотталкивающим покрытием, в магазине не обманули — вон, даже на чёрных брюках заметны пятна. Мой этаж.
Фрамуга около мусоропровода приоткрыта, но привычный затхлый запашок неискореним. Мгновенная задержка дыхания, семь широких шагов, два поворота ключом, прошмыгиваю в прихожую, включаю свет, щеколда, фух. Пиджак на плечики и в шкаф. Распахиваю окна, квартирную духоту освежает сквозной ветерок. Наушники, запускаю сериал. Детектив Миллер разыскивает пропавшую гонщицу Жюли.
Вонь сигаретного дыма вызывает жжение в ноздрях. Вскакиваю как на пожар, стремительно закрываю все доступные лазейки. Попутно вспоминаю про каплю никотина и лошадь. Жаль, что с людьми всё не так! Одна пачка, и на кладбище — благодать! Вместо этого чадят, гадят, на здоровых людей наплевать!
На кухне эркер. Прилипаю лбом к стеклу, выследить нарушителя не так уж просто — солнце слепит. Прищуриваюсь. Этажом ниже на балконе стоит мужик: квадратное лицо, квадратные очки, квадратное пузо. Стряхивает пепел и затягивается. Бычок выбрасывает вниз, паскуда, достаёт новую сигу: наследник фашистов с манией членососа. В такие моменты фантазия подсовывает самые изощрённые планы мести.
Выследить его автомобиль и проколоть ночью шины — опасно, попадусь ещё. Можно высыпать семечки на капот, а голуби покоцают и обосрут. Достаточно ли велик их клюв для серьёзных повреждений? Старый добрый гвоздь?! Не, скрежет… Ещё одну в рот тянет, сволочь. Три зараз — там капля будет?! Разнервничался, голова разболелась. Кипяченая вода, две таблетки успокоительного. Присаживаюсь на край табуретки.
Разглядываю пылинки на кафеле. Хлебные крошки от утренних бутербродов на столе. Кофейный след чашки. Лимонное дерево в кадке с засохшей и потрескавшейся землей. Ребёнком достал косточку из чая и ткнул в пустой горшок на подоконнике в кухне. Вишня из компота и абрикос с рынка ростков не дали, но лимон прижился. Пластиковой линейкой измерял высоту, наблюдал за появлением первого, второго, третьего листочков. А потом отец вместо пепельницы стал использовать горшок — говорил, что так удобряет почву. Когда он уходил в родительскую спальню, я брал чайную ложку и выскребал всё лишнее. Ежедневная порча куревом продолжалась, пока мама не заметила мои тщетные усилия и не переставила лимон в гостиную за занавеску.
Но отвращение к сигаретному дыму появилось позже. После восьмого класса перешел в физмат-школу в часе езды от дома. Иногда отец предлагал подвезти. Машина не автобус с пересадкой на трамвай, но единственным спасением от ядовитой струйки, что так и норовила подползти и ущипнуть за нос, была оконная щель. С окончанием осени и первыми заморозками приоткрывать окно мне запретили — печка должна греть салон, а не улицу. Месяц пыток в газовой камере. Однажды вечером, когда мы смотрели всей семьёй «Крепкий орешек», отцу позвонили, он ушёл в кухню, закрылся и долго курил. С тех пор до школы я добирался самостоятельно и наслаждался зимним воздухом.
Почему не курил? Возможно, из-за деда-андеда, нашего учителя по обществознанию. Внешнее сходство с ожившим мертвецом и популярная компьютерная стратежка поспособствовали прозвищу. С ростом познаний в английском надпись «Dead Undead» стала появляться на стульях и партах. Дедушка любил рассказывать истории из жизни вместо изложения нудного предмета, однажды речь зашла о наркотиках. Один старшеклассник выдавал толченый мел за кокаин, сушёную газонную траву – за марихуану. Его взяли менты, а кроме предприимчивости и предъявить нечего, вызвали родаков к директору, припугнули. Потом горе-наркобарона подкараулила обманутая шпана, избили за гаражами. Слухи дошли до нас еще недели две назад, мы боролись с зевотой. И тут андед заявил: «Кокаин-героин, а главный наркотик — никотин!» Все гоготнули, а дед задирает кофту и шрам кошмарный показывает — лёгкое вырезали. До сих пор мурашки пробирают, как вспомню.
Пруд у монастыря. Она в чёрной кожаной куртке. Зачитывает рэп, сама писала. Мы познакомились, когда она собирала у прохожих деньги в шапку, её друг играл на гитаре и напевал «Наши юные смешные голоса». Я в антрацитовом плаще, пурпурный галстук, белая рубашка с аметистовыми запонками в манжетах, начищенные ботинки — казаться, чтобы быть. Умела ходить спиной вперед. Сбежала от мужа-неудачника. Делилась подробностями беспорядочной охоты на парней и бытовыми неурядицами. Признался в ответ во многом, будто не увидимся снова. Мы сразу поняли, что можем говорить правду. Достала сигарету, в шутку отобрал, гнев в глазах, улыбнулся, разорвал. Вытянула еще – вторая полетела в воду. Отвернулась, испугался, прикоснулся к плечу, резко поцеловала в губы и выдула затяжку. Закашлялся, наказала за наглость, осквернила, держит третью между указательным и средним. Неисправима.
Был день, когда жизнь потеряла смысл — умер близкий человек. По пути купил пачку сигарет с верблюдом и зажигалку. Присел на лавочку у подъезда, расколупал плёнку, зажёг сигарету, поднес ко рту. Представил, как надо затягиваться. Решил: если станет хуже — даже лучше. А что лучше? Нет человека — и никакое горе не вернёт! Представил наш смех, мы шутили и верили, что будем жить вечно или в худшем случае до ста лет. Наивные! Помотал головой, рука дрогнула. Крошка горящего табака упала на брюки, чтобы я запомнил этот момент.
Кухня, табуретка. Стемнело. Детектив Миллер нашел номер Жюли в отеле и готовится войти, ставлю на паузу сериал. Пора полить лимон.
Ольга Славникова:
«Андрей Косенок пишет про людей, у которых есть индивидуальная маленькая одержимость, «пунктик». Оптика персонажа смещена совсем немного, но угол зрения получается парадоксальный. Так сквозь норму проступает абсурд».

Живет вечно
Наконец-то все вещи были перевезены. Два переезда за каких-то четыре месяца оказались очень утомительными. И хотя большая часть работы осталась позади, впереди нас ждало еще несколько дней, посвященных разбору коробок и наведению порядка в квартире.
Но пока можно было немного отдохнуть. Хотелось чаю, да и пора было уже чем-нибудь перекусить. Чтобы выйти из комнаты, придется отодвинуть пару коробок. Стоило все же последовать совету опытного знакомого и складывать все перевезенное в одной комнате.
Потратив несколько минут на вскрытие коробок, я наконец добралась до кружек. Оставалось только вскипятить чайник и разогреть сэндвичи. Слишком тихо, не хватало музыки. Достав магнитолу, я включила любимый диск японской группы SPITZ. СD-диски теперь такая редкость, да и магнитолу хорошую найти непросто. За желанной моделью мы охотились очень долго, а еще пришлось заплатить втридорога. Но мне нравится звучание. Словно музыка, воспроизводимая этой магнитолой, значит для меня больше, чем доносящаяся из наушников или колонок. Заиграла “Kimi ga omoide ni naru mae ni” — “Пока ты не станешь воспоминанием”. Мне по душе эта песня: каждое мгновение — это шанс, затем оно становится лишь воспоминанием.
Интересно, как выглядит память? Может, она похожа на банковские сейфы, и чтобы открыть каждый, нужны специальные коды? А может, она напоминает конвейерный суси-ресторан — сидишь за стойкой, а мимо тебя проезжают тарелки с разными воспоминаниями? Или, может, это система хранения, в которой огромное количество ящиков и отсеков? До чего-то можно добраться в два счета, но, чтобы открыть заброшенные под потолок коробки, потребуются время и силы.
В новой квартире была гардеробная. Зайдя в нее, я подумала: вот оно как, должно быть, здесь можно и воспоминания хранить. Кто знает, ведь сюда попадает не только одежда, но и вещи, которые непонятно, куда положить. Часто закидываем их на свободные полки или запихиваем в первый попавшийся угол. Время идет, и вот мы снова заходим в гардеробную, держа в руках очередную «не-знаю-куда-же-деть». Оглядев все, мы решаем переложить повыше вещи, которыми давно не пользовались, и освободить место для новоприбывших. Но со временем все верхние полки оказываются завалены. И тогда уже сложно понять, в какой коробке затаились воспоминания о первой любви, а в какой боль и горе потерь.
* * *
Новая квартира была гораздо просторнее и светлее предыдущей. Пространство казалось больше из-за минимального набора мебели. В спальне, помимо кровати и дивана, стояла неожиданно появившаяся тумбочка. Когда мы подписывали договор, хозяин сказал, что диван и тумбочка остались от предыдущего жильца, но я так и не смогла вспомнить, видела ли их при просмотре.
Тумбочка была самой обычной – в IKEA такую можно купить по цене ужина в хорошем ресторане. До этого дня у меня не было собственной тумбочки. Но эта принадлежность спальни помнится мне с самого детства.
Она была так мне дорога, а я совершенно о ней забыла. Бабушкина тумбочка была совершенно обычной, сейчас я и не вспомню, что в ней лежало. А вот дедушкина казалась настоящей сокровищницей. В ней хранилось столько всего — горы часов, странных инструментов, открыток, фотографий, необычных безделушек. Стоило мне остаться в комнате одной, как я сразу же забиралась туда в поисках неведомых чудес. Дедушка хоть и не разрешал мне этого делать, но застукав меня, лишь приговаривал: «Эх ты, ворона!».
Иногда у нас оставалась на несколько дней моя младшая двоюродная сестра. Она тоже пыталась залезть в тумбочку, но дедушка строго-настрого ей это запрещал. Пару лет назад дедушки не стало. Но тем летом сестра сдавала выпускные экзамены и не смогла быть на похоронах. После поступления в вуз она приехала, чтобы навестить могилу. Сестра остановилась у бабушки, и я решила повидаться с ней и заодно забрать некоторые дорогие мне вещи из дедушкиной тумбочки. Сестра долго смотрела на сокровищницу, а потом сказала: «Мне дедушка никогда не разрешал открывать ящики, а я так хотела подержать в руках ту самую африканскую трубку. А теперь его нет. Но знаешь, я и сейчас не посмею залезть, куда запрещено. Пусть все будет, как было всегда. Нельзя — значит, нельзя. Как будто дедушка все еще грозит мне пальцем из соседней комнаты».
* * *
В нижнем ящике дедушкиной тумбочки лежали блоки сигарет. Как и большинство людей того поколения, он любил подымить.
Каждую зиму бабушка и дедушка праздновали Св. Николая. В ночь на Николая дети должны лечь спать пораньше, чтобы наутро под подушкой найти подарок.
— Бабуль, а что, только детям приносят подарки? — решила спросить я.
— Только хорошим детям, если дети плохо вели себя в течение года, то подарка не будет.
Я нахмурилась. Как же так, это же несправедливо, а кто принесет подарок деду?
— Бабуль, а что, Николай совсем-совсем никогда не приносит подарки взрослым, даже если они лучше всех себя ведут?
— Взрослые сами могут себе купить что хотят, а дети — нет, а почему ты спрашиваешь?
— Неужели дед останется без подарка? Он же хорошо себя вёл, он мне разрешает все, даже смешивать гречку и макароны для кукол.
Бабушка улыбнулась.
— Давай тогда купим ему подарок и положим под подушку? Как будто это сделал cвятой Николай.
В ночь на Николая я долго не засыпала, мне хотелось узнать — кто же принесет мне подарок? Я ждала, когда часы пробьют двенадцать. Часы были в форме Африки, днем мне просто нравилось смотреть на них и представлять невиданных животных, а ночью они меня даже пугали — в узоре проступали образы львов, смертоносных цветков и глубоких песков.
В детстве про Африку я слышала много волнующих историй — как бабушка там переела манго и заснула на полгода, словно спящая красавица; как дедушка курил в окошко автобуса, но автобус перевернулся на повороте и упал ему на руку, а бабушка так испугалась за дедушку, что вместе с водителем смогла поднять автобус и спасти его руку; как дедушка со своими друзьями обучил обезьянку курить сигареты, а потом эта нахальная мартышка стреляла у них без спросу. Помню, бабушка еще рассказывала, что, когда они служили в Алжире, то, улетая домой в отпуск, всегда хотели привезти нитки. Но в Союз нельзя было ввозить много ниток. Тогда дедушка мастерил раму из дерева и плел на ней платки и шали, которые по приезде распускались и сматывались в клубки.
Быть может, я так же смотала свои воспоминания о том времени в клубки. Но как понять, готова ли я размотать их снова?
А святого Николая, тихо положившего мне подарок, я в ту праздничную ночь так и не подкараулила. Зато дедушка утром нашел у себя под подушкой пачку красивых сигарет.
* * *
В спальне бабушки и дедушки был еще шкаф, в верхнем отсеке которого лежали воздушные пуховые одеяла и стопки нардов. В детстве, чтобы туда забраться, приходилось вставать на самый высокий стул и долго тянуться вглубь шкафа — достать эти резные доски было совсем непростым заданием.
«Ну что, пойдём кинем?» — все еще слышится дедушкин голос.
В Африке дедушка научился играть в нарды. А затем научил меня. Это произошло даже раньше, чем я узнала алфавит.
Нарды можно было разложить где удобно — на балконе, где взрослым не возбранялось курить, или же в зале, где чаще всего транслировались новости. Как до обеда, так и после, между десертом и перекуром — нарды были неотъемлемой частью семейного распорядка.
Правила известны почти всем, но неужели есть более жизненная игра? Вечный вопрос, преследующий человека: что же важнее – наши собственные решения или воля судьбы? Ответа нет. Кидая кости, шепчешь им, чтобы выпал «дупель», как говорил мой дедушка. «Дупеля» так не хватает для мнимой победы, но кости сами решают, каким боком к тебе повернуться. Поняв, какие цифры тебе выпали, ты выбираешь наилучший для ситуации вариант ходов, но никто не гарантирует, что твой противник не перекроет тебе ближайшие выходы и ты не будешь заблокирован, ожидая удачного момента, чтобы улизнуть. Чтобы победить, нужно побыстрее вывести все свои фишки, опередив противника. Но стоит ли так спешить выигрывать? Ребенку кажется, что все самое важное заложено в этой победе. Ведь это так здорово — обыгрывать взрослых. Они тебя учили, показывали секретные приемы, даже немного посмеивались над твоим детским переживаниям. Но игра окончена, больше не будет никаких «дупелей», никаких ходов и волнений, неважно — победил ты или проиграл.
* * *
«Милая, ты долго там еще? — донеслось из дальней комнаты. — Нам скоро выходить».
Я завороженно сидела в гардеробной, потеряв счёт времени. Конечно, я же должна была одеваться, но совершенно забыла об этом. Выбирая платье, я неожиданно заметила коробки с елочными игрушками, которые должны были стоять на верхних полках, но кто-то спустил их вниз. В последнее время происходит слишком много необычного. С переездом все так сильно изменилось, словно сама жизнь говорила мне: «Пришло время, ты должна жить и помнить».
Если подумать, то я стала бы искать детские воспоминания именно среди елочных игрушек. Каких-нибудь пять стеклянных шаров кладут в прочную коробку, аккуратно заполняя пустоты мишурой и искусственным снегом, сделанным из ваты и блесток, чтобы ни один шар не разбился. Но эти коробки переживают переезд за переездом, и с каждым разом шаров остается все меньше, все больше осколков. Каждый фрагмент памяти больше никак не соединен с другими. Эти коробки достаются лишь по праздникам, а чаще — когда их нужно собрать в новый путь. Осторожно приоткрывая каждую, мы проверяем, стоит ли брать это с собой или же для старых воспоминаний нет места в нашей новой взрослой жизни?
Мое детство можно свести к трем образам — прикроватная тумбочка, часы-Африка и нарды. Пожалуй, это была моя личная Нарния: пробираясь сквозь пыльный шкаф, уворачиваясь не только от бабушкиных шуб, но и от военной формы дедушки, проползая все дальше и дальше, я оказываюсь там. Проходя по коридору, я сажусь за стол в давно не существующей кухне, она и правда была такой маленькой? Но там было достаточно места для троих, а четвертым стоял табурет. Лишь присев однажды, я почувствовала, какой же он неудобный, наверное, поэтому на нем не хотелось сидеть даже коту.
Мы собираем пазл, маленькая, я всегда складываю только лица, но рядом бабушка, она хорошо чувствует, где один угол должен соединяться с другим. Так всегда и выходило — на столе после вскрытия новой пачки оказывались рамка и лица героев, но середина находилась сама. И вот, картинка собрана. Но табурет и правда очень неудобный, здесь нет места четвертому человеку, его и поставили тут лишь для непрошеных гостей. Здесь счастливы могут быть только трое, не знаю, может ли быть счастлив кот? Счастливым он мне никогда не казался, просто потому, что имел дурной характер, но даже такой он любил дедушку. Дедушку нельзя было не любить.
«Лер, ты там уже полчаса, мы и правда опоздаем!» — донёсся голос, словно из другого мира.
Вечер кончается, и мне пора. Иначе можно остаться тут навсегда. Счастье взрослого так мимолетно, а детское счастье живет вечно. Часто кажется, будто мы теряем эти детские воспоминания. Но стоит однажды вспомнить — никогда уже не забудешь.
«Бегу, тридцать секунд, и я буду готова!» — крикнула я.
Ольга Славникова:
«Детская память дискретна. Импрессионистическая манера письма Валерии Игнатовой как нельзя лучше соответствует этому деликатному материалу. Каждое воспоминание — вспышка, которая многое освещает и во взрослой жизни героини рассказа».

Защита
— Товарищи, давайте поблагодарим диссертанта за выступление, — покашливая, объявил председатель совета, ненадолго прерванный вялыми, протокольными аплодисментами. — Ну а теперь можем приступить к вопросам и непосредственному обсуждению…
Мужчина, председательствовавший на заседании, сидел во главе вытянутого эллипсовидного стола. Он старался не поднимать глаз, пряча взгляд в автореферате, и лишь украдкой, будто из кроличьей норы, поглядывая на коллег. Брошюрка из хрупкой газетной бумаги, которую председатель держал в руках, тряслась так сильно, будто на ветру, и было непонятно, то ли он обмахивается от духоты, то ли нервничает.
В те дни на дворе стоял крепкий, ядреный январский мороз, перед которым оказались совершенно беспомощными батареи, окоченевшие еще в конце прошлого месяца. В самом начале войны, больше четырех лет назад, в городскую котельную угодил снаряд. Война закончилась, а неурядицы с отоплением остались. Поэтому никто из членов совета не то что не стал бы жаловаться на духоту, но даже не решался сбросить с себя пальто и развязать шарф.
Правда, с каждой минутой в аудитории становилось жарче и жарче. Главная зала старой дворянской усадьбы, в которой после революции разместился институт языкознания при теперь уже реорганизованной Коммунистической академии, была полна маститыми учеными, литераторами и критиками. Зала все сильнее нагревалась от стариковского бурчания, ворчания и пересудов.
Раньше про академию шутили, что ничего коммунистического в ней нет. Все ее члены пришли в большую науку с университетской скамьи, а не с фабрик и заводов. Их головы начали седеть и лысеть незадолго до того, как «Аврора» слепым ударом наотмашь пробила крышу Зимнего.
Но с каждым днем коммунизм подкрадывался все ближе и ближе… «Уильям Шекспир как предтеча Карла Маркса (большевистский взгляд на английскую классическую литературу)». Так называлась диссертация, вынесенная сегодня на обсуждение. Лет сорок назад за такие темы прописали бы десять капель успокоительного и послали на юга лечить нервы.
И надо признать, большинство членов совета, про которых говорили, что они старой закалки и цвет русской филологии, до сих пор относились к работам подобного рода несерьезно, между собой снисходительно ехидничая над их авторами. Но вот впервые им приходилось самолично и вживую слушать такое, решать вопрос о присуждении ученой степени за это…
Кажется, один лишь председатель смотрел на ситуацию политически (за это умение, в общем, его и посадили на шаткое председательское место): диссертацию, написанную с классовых позиций, нельзя провалить — тотчас разойдутся слухи, что в академии засели вредители, буржуазные интеллигентики. И никто не будет нянчиться, прописывать капли и отправлять на юга — тут же пропишут десять лет лагерей где-нибудь на севере.
Но и утвердить диссертацию нельзя: заговорят, что ужé и академики, хранители последнего бастиона русского языкознания, сокрушены и раздавлены.
Забаррикадировавшегося от коллег председателя выдавал венчик поредевших волос, топорщившихся за книжицей, которую он продолжал держать в руках на уровне лица. Другие ученые мужи тоже неторопливо перелистывали страницы автореферата, то и дело потирая руки, чтобы согреться.
— Значит, вопросов нет? — переходя на более высокие частоты и немного заикаясь, спросил председатель. — Тогда можем переходить к голосованию.
— У меня есть вопрос, — послышался голос одного из коллег.
Потом прозвучал еще один вопрос. И еще один. И так продолжалось несколько часов. Особенно неистовствовал профессор Эрлих, авторитетный шекспировед и не менее авторитетный острослов.
В результате совет отказал незадачливому диссертанту в ходатайстве о присуждении ему степени кандидата филологических наук за его революционный трактат о старом большевике Шекспире.
Об этом курьезе вскоре забыли, но только суеверного председателя не покидало странное предчувствие, что настанет час, и о защите вспомнят…
И впрямь, тот случай всплыл через полгода, ближе к концу лета, вслед за тем, как разгромили журнал «Ленинград», в котором, по трагическому совпадению, одним из внештатных редакторов подрабатывал профессор Эрлих.
* * *
«ЦК отмечает, что особенно плохо ведется журнал “Ленинград”, который постоянно предоставлял свои страницы для пошлых и клеветнических выступлений Зощенко, для пустых и аполитичных стихотворений Ахматовой. Как и редакция “Звезды”, редакция журнала “Ленинград” допустила крупные ошибки, опубликовав ряд произведений, проникнутых духом низкопоклонства по отношению ко всему иностранному. Журнал напечатал ряд ошибочных произведений (“Случай над Берлином” Варшавского и Реста, “На заставе” Слонимского). В стихах Хазина “Возвращение Онегина” под видом литературной пародии дана клевета на современный Ленинград. В журнале “Ленинград” помещаются преимущественно бессодержательные низкопробные литературные материалы».
Руки и ноги Эрлиха стали ватными, в глазах потемнело — не было никаких сил дочитывать партийное постановление, слова которого звучали не то как расстрельный приговор, не то как история болезни со смертельным диагнозом. Причем не только родному журналу, но и самому Эрлиху.
Профессор отложил «Правду» в сторону и уставился в открытое окно, за которым в августовской суете кончающегося, задыхающегося лета барахталась столица.
За четыре месяца до этого, ранней весной сорок шестого года, Эрлиха перевели в Москву, его семье выделили просторную трехкомнатную квартиру на улице Горького, в доме напротив «Елисеевского». Казалось, жизнь начала налаживаться.
Но сейчас Эрлиху вспомнились слова бабушки, родившейся на берегу Балтийского моря и любившей повторять: «Перед приливом всегда бывает отлив».
Квартира в Москве, прибавка к окладу, хорошая работа… Значит, то был лишь отлив перед настоящим приливом.
* * *
Первым арестовали бывшего завотделом Фишбейна. К тому времени тот тоже ушел из «Ленинграда», вместе с Эрлихом был переведен по службе в Москву и читал лекции на филфаке Московского университета.
Оба литератора жили в одном доме, том самом, напротив «Елисеевского», только на разных этажах.
В ночь ареста Фишбейна Эрлихи еще не спали, только вернулись из театра, ругали Кедрова и ностальгировали по Немировичу-Данченко.
— На молодежь без слез не посмотришь… Ползают по сцене как сонные мухи, — возмущался профессор.
— С таким репертуаром они всех своих зрителей растеряют, — поддержала жена и настежь открыла окно во двор.
Через какое-то время с улицы донеслось рычание автомобиля, визг колес от резкого торможения. Захлопали жестяные крылья.
Эрлихи, не сговариваясь, погасили свет во всех комнатах. Медленно они промаршировали по коридору и в полном оцепенении встали перед входной дверью.
В подъезде послышались шаги. Незваные гости не стали пользоваться лифтом и пошли пешком. Шаги становились все громче и отчетливее. Каждый шорох отзывался в висках, звучал словно стук часов, отсчитывающих время до апокалипсиса.
Дойдя до лестничной площадки, где за своей дверью замерли Эрлихи, всадники смерти остановились то ли перевести дыхание, то ли перепроверить номер квартиры.
Шли самые долгие секунды в жизни Эрлиха.
* * *
— Следующим буду я, — уверенно сказал Эрлих на семейном совете после того, как наутро весь дом погрузился в немое, бессловесное переживание ареста Фишбейна.
— Хватит загонять себя в могилу раньше времени, — попыталась успокоить жена, но, кажется, даже сама не верила в свои слова.
В «Ленинграде» Эрлих был правой рукой Фишбейна, не только рецензировал самотек, но и сотрудничал с состоявшимися авторами. Даже переписку с поруганной Ахматовой от имени редакции чаще всего вел Эрлих единолично.
По мнению Фишбейна, которого Эрлих в своем литературном иконостасе ставил на почетное место, литература не должна давать прямых ответов на вопросы читателя, но лишь намекать, указывать в сторону истины. Именно поэтому Эрлих нещадно браковал стихи известного детского писателя и сталинского выкормыша Михайленкова, талант которого сводился к эффектному рифмоплетству, вязнущему во рту, но не дарил своим маленьким и оттого особо требовательным читателям ничего мало-мальски стоящего.
— Я даже представляю самодовольную физиономию Михайленкова, — заныл Эрлих, — как он будет в цветах и красках рассказывать о моем аресте, будто сам надевал на меня наручники.
И тут в голове у эрлиховской жены родилась простая идея по спасению мужа.
— Если за тобой и придут, то наверняка заявятся поздней ночью, как вчера за Семеном Моисеевичем. Поэтому каждый вечер ты уходи из дому, броди по городу, а под утро звони. Если я подниму трубку и скажу «Да», то все в порядке, ты можешь возвращаться. Если первым моим словом будет «Алло», то за тобой пришли и тебе нельзя и на пушечный выстрел подходить к дому, понял?
— Но спать-то когда я буду? — растерянно ответил вопросом на вопрос Эрлих.
— Спать будешь днем, на службе возьми больничный. Нам нужно выждать пару недель, а там видно будет.
Кажется, Эрлих впервые испытывал чувство даже не любви, а чего-то большего, гордости за свою жену.
«Голова!» — подумал он о ней и быстро согласился с планом.
* * *
Сентябрьские вечера выдались в Москве теплыми. Видимо, август решил ненадолго задержаться в городе, словно балуя москвичей перед короткометражной осенью, переходящей в черно-белый зимний фильм.
К концу третьего вечера, проведенного в скитаниях по Москве, Эрлих заметно сдал. Сердце, однажды сжавшееся, никак не отпускало… Болело, шумело, трещало в голове. Притупилось сознание, а вместе с ним и восприятие времени, места… И так изо дня в день.
Как и велела жена, после ночных блужданий Эрлих отлеживался дома, но все равно не мог сомкнуть глаз. Гудение лифта, шаги на лестничной площадке, грохот машин на улице — в этих звуках он пытался расслышать предсказание своего скорого конца.
Последние дни Эрлих не появлялся на службе: сообщил на кафедре, что его скосила хандра. Сказать по правде, профессор был абсолютно честен. Он чувствовал себя все хуже. У него уже возникло желание самому прийти на площадь Дзержинского и сознаться во всех грехах, к которым он мог быть причастен, сам того не зная.
Двадцать девятое сентября выпало на воскресенье. После ужина, к которому Эрлих толком и не притронулся, по вновь заведенному обычаю следовало собраться и отправиться в путешествие по Москве. Заперев за собой дверь и выскользнув из подворотни, профессор побрел вниз по течению улицы, по направлению к Кремлю.
По сторонам бежали витрины магазинов, горели огоньки в окнах величественных новостроек с массивными колоннами, лепниной и карнизами.
От великолепия улицы Горького Эрлиху становилось тошно. На самой веселой и счастливой улице страны жили несчастные люди с некрасивыми, изуродованными душами. Одним из таких был и сам старый профессор Эрлих.
Дойдя до площади Охотного Ряда, профессор остановился. Бросил тяжелый взгляд на кремлевскую башню, на которую, как на копье, была насажена алеющая звезда. В ночной мгле рубиновый свет выглядел устрашающе: он расплывался, растекался кровавым пятном на чернеющем небосводе.
Эрлих скучал по прошлой жизни, по научным семинарам и диспутам.
«Завтра же пойду на службу, и будь что будет. Не могу больше скрываться», — сказал он себе.
От этой мысли он повеселел и опьянел, начал напевать задорные песенки.
С трудом дождавшись рассвета и к тому времени обойдя, наверное, все московские набережные, переулки и улочки, Эрлих засобирался домой.
На площади Свердлова профессор заметил телефонную будку. Недолго постояв на месте, Эрлих двинулся дальше.
«Только моя жена могла придумать эту нелепую игру, а я согласился!» — разозлился он на себя.
Но через минуту, когда Эрлих успел уже пройти несколько десятков метров, что-то дрогнуло в нем, он вернулся и набрал домашний номер.
В увесистой трубке послышался свист, сменяемый глухим воем метели.
«Неужели она там уснула? Хороша жена, ничего не скажешь! Может, она там с любовником… Кот из дома, мыши в пляс!» — готовился пошутить Эрлих, захмелевший от своих мыслей.
Как вдруг раздался голос жены, взволнованный, разбуженный:
— Алло, я вас слушаю…
— Ну слава богу, — обрадовался Эрлих, — зря мы переживали.
— Алло, — повторила жена, — не могу расслышать, что вы говорите.
Но Эрлих уже повесил трубку на крючок и, счастливый, поспешил домой.
Ольга Славникова:
«Алим Ульбашев по-писательски вдумчиво интересуется советской историей. Казалось бы, постперестроечная литература уже исчерпала этот период. Но всякий раз живой персонаж заставляет остро пережить всем известные коллизии. Живые персонажи Алиму Ульбашеву, несомненно, удаются».

Карта Родины
Илья Ильич жил один, друзей не имел, родители давно ушли друг за другом. Каждое утро по будням, а иногда прихватывая и выходные, после пробежки, чистки зубов, каши на завтрак (по четным овсяная, по нечетным пшенная) ехал на службу. Работал Илья Ильич в уникальном объекте — здании, которое служило постаментом грандиозной статуе Вождя. Будучи мальчишкой, Илюша видел, как расчищалось под него место, сносилось все старое, отжившее, бабка, правда, тогда причитала, что упаси господи нехристям снести главный Храм столицы.
Илья с бабушкой любили гулять в этих краях, ходили на Москва-реку кормить лебедей. Скользившие по реке белые пары подплывали к берегу в надежде на кусочки хлеба, которые Илья собирал для похода, пряча от родителей. Закончилось, правда, все позорным поражением. Илья как-то слишком близко подобрался к вожаку, лебедь, почувствовав мнимую опасность, распустил крылья, расправил перья и белой тучей загородил солнце. Илюша присел, закрыв голову руками. По счастью, бабушка, подхватив неведомо откуда взявшуюся хворостину, зашипела в ответ и отогнала взбесившуюся птицу.
Время шло, Храм разрушили, а после войны возвели громадину постамента, и рука Вождя, обращенная на запад, приглашала народы в крепкую советскую семью. Отец Илюшиного товарища Вовки работал в «Институте руки» и вел секретные разработки, чтобы конечность не сломалась от перенапряжения.
Каждый день Илья Ильич приветствовал охрану, по широкой лестнице поднимался к лифтам и попадал в святая святых — отдел картографии. Здесь всегда было тихо, окна закрывались стальными ставнями, свет регулировался. В середине помещения, на зеленом ковре, стоял крепкий стол, а на противоположной от окна стене располагалась карта нашей Родины.
Илья Ильич усаживался на стул, открывал верхний ящик стола, доставал карандаши, канцелярский нож и отламывал кончик лезвия. Благодаря освеженному ножу, достигалась необходимая техника заточки. При использовании точилки грифель трескался внутри карандаша, лишь малая его часть освобождалась, что требовало его постоянной подточки, поэтому Илья Ильич не терпел новомодных приспособлений, а имел запас канцелярских ножей, соблюдая соответствие цвета карандаша и рукояти ножа.
Карандаши затачивались, укладывались в держатель-патронташ, и Илья Ильич приступал к обводу границ. Начинал с востока по солнцу, Владивосток, Находка, Сахалин, закрепиться на Курилах, далее крайняя материковая точка — мыс Дежнева, через Берингов пролив Америка, надо быть настороже. Карандаш ползет, шелестит, будто змейка в траве, графитовые чешуйки плотным слоем укрывают границу. Давить сильно, торопиться нельзя, но нельзя и задерживаться, время ограничено, круг надо замкнуть. Главное, не сломать карандаш, был случай, после которого Илья Ильич долго не мог восстановиться, ходил к мозгоправу, укреплял душевный покой и твердость рук.
А дело было так. Прислали к нему ученика на практику откуда-то сверху, нормальный вроде парень, но хлипковат. Принес с собой электрическую точилку и карандаши неизвестные, нет, чтобы наши, марки «Искусство», фабрики «УКРМУЗПРОМ», г. Славянск Донецкой области. Илья Ильич терпение проявил, нововведения запрещать не стал, неизвестно, кто у практиканта за спиной. И все вроде неплохо шло, но недоглядел Ильич, раздался страшный звук ломающегося грифеля, а за ним — неизбежный разрыв границы. Беда не заставила себя долго ждать: крейсер Incitement и эсминец Frisky ВМС США прошли через Босфор, взяв курс в направлении советского берега. Им наперерез вышли два наших сторожевых корабля: «Беззаветный» и СКР-10. Несмотря на неоднократные предупреждения, через два часа американцы оказались в территориальных водах СССР. Черноморские корабли пошли на сближение, потом на таран, вцепились намертво в нарушителей, и лишь после этого американская эскадра сбавила ход, развернулась и ушла, потрепанная, в сторону Турции. И только Ильич и еще несколько посвященных товарищей знали, с какой скоростью работала команда, как снималась карта со стены, шприцем с суперклеем обмазывались края, накладывалась заплатка с грунтом, затем заливалась «жидкими гвоздями», и пока клей не схватился, прикатывали и придавливали.
Даже в отпуске Ильич не уходил мыслями от работы. Сидит, бывало, с удочкой, а в голове образы. Границу Ильич представлял себе как группу парней и девчат, которые стоят в круге, крепко взявшись за руки. Все красавцы, улыбаются, восточные братья и сестры в национальных костюмах, тут тебе и тюбетейка, вышитая золотом, и колпак из белого войлока, у девушек косы ниже талии, расписные рубашки, шаровары, грузины поют, армяне анекдоты рассказывают, москвички все норовят юбки укротить, а парни их штаны сузить.
А потом началось. Илья Ильич ночевал на работе, тут прочертит, там закрасит, а все равно посыпалось, страну трясло, граница сдвигалась. Сначала прибалты собрались в кучку и перебежали в другой круг, а за ними потянулись остальные. Ильич сначала к начальству, потом опять к мозгоправу, мол, виноват, но сделал все, что мог. Пообвык со временем, но другая напасть подобралась — старость, руки стали подрагивать. То там границу сместит, то тут, контроль ослаб, а один раз вообще сознание потерял, очнулся на полу, покряхтел, поднялся, смотрит на карту, а Крым наш. Наградили Ильича орденом, но отправили на пенсию.
Скучно Ильичу, привык к ответственной работе. Поднял старые связи и устроился охранником на прежнее место. Работа теперь ночная у него. Пристрастился Ильич к кофе, кофеварку себе купил — чудо, компактная, никакой грязи, закинул капсулу и получаешь напиток. Американо вот стал пить, а иногда и эспрессо, и двойной можно. Взбодрился кофейком и на работу пешком пошел, для здоровья полезней.
И однажды на подступах к мосту со стороны реки вдруг появляется лебедь, и не белый, а черный. Солнце заслонил, настиг и застучал красным клювом прямо в грудную клетку. Бабки уж нет давно, некому спасти.
Ильич упал. Пока лежал обездвиженный, часть его отделилась и поплыла вверх, загребая прозрачными руками. Он обогнул вождя и завис. Что-то мигнуло, и внизу нарисовался водяной круг огромного диаметра, от которого валил пар. Человечки в разноцветных плавательных шапках офисными булавками заполнили пространство бассейна. Коротнуло опять, и Ильич с удивлением смотрел, как вода исчезла, площадку огородили, появились краны, и как в мультике стали воздвигаться стены, поднялись леса, засияла позолота куполов и кровли, и вот уже набережная и мосты запружены людьми, верующие выстроились в огромную очередь, чтобы приложиться к мощам.
Ильич повисел, поразмышлял о судьбах Родины и медленно растворился облаках.
Ольга Славникова:
«В параллельной реальности построен Дворец Советов с Лениным наверху. Ответственный работник, тоже Ильич, защищает границы СССР, причем оружие его — карандаш. Отличный, на мой взгляд, рассказ, представляющий собой одну большую метафору».

Король и Кот
В далекой-далекой стране Гдетоландии жил да был король. Звали его Ктототам. Его жена, королева Красовала, уже давно умерла, оставив ему на попечение двух сыновей-погодков: одного звали Доброум, другого — Яснолик. Оба принца росли смышлеными и бойкими мальчишками. Но получилось так, что отец души не чаял в младшем сыне, а старшего недолюбливал. Почему так происходило, король не мог бы себе ответить, да и не признавал этого факта, хотя многим это было вполне очевидно.
Старший, Доброум, был не слишком красив, несколько простодушен и мягок, что отец считал не лучшими качествами для наследника престола. Младший же, Яснолик, взял красоту матери и упрямство отца. Король принимал его упрямство за твердость характера и именно в младшем сыне видел настоящего принца, достойного в будущем заменить его на троне.
Но пока это были просто дети, любившие носиться наперегонки по галереям дворца и аллеям парка, играть в прятки и даже немного хулиганить. Застрельщиком в проказах обычно оказывался Яснолик. Он подговаривал старшего брата составить ему компанию, тот поначалу отказывался, боясь гнева отца, но потом, не в силах сопротивляться, уступал. Надо сказать, что и доставалось больше всех Доброуму — он не мог вовремя скрыться, Яснолик был всегда шустрее.
Старший принц считался любимцем королевы. Поэтому после ее смерти он остро ощутил одиночество. К отцу относился с нежностью, хотя и понимал, что часто его разочаровывает. Дети это всегда чувствуют. Так и младший, Яснолик, замечал, что отец ему благоволит, и — более того — этим пользовался.
И был у Ктототама Кот, который жил во дворце уже много-много лет. Никто и не помнил, откуда он взялся, но, когда Кот появился в королевских покоях, Красовала объявила всем, что он будет жить при дворе. Никто не возражал, тем более — король. Ведь он так любил свою королеву.
Кот понимал, кому он обязан, и с королевой был особенно обходителен и вежлив. Кроме того, со временем Кот приобрел вполне королевский вид. Его облик всегда внушал уважение — он был большой и пушистый, благородного серого окраса с неярко проступающими чепрачными полосами, с крупной головой и толстыми лапами. Постепенно его богатая шерсть как будто увеличилась в объеме, и от этого его солидность просто бросалась в глаза.
Шли годы, королева уже давно покинула этот мир, а принцы превратились в самостоятельных юношей, хотя в чем-то так и остались детьми. В королевстве становилось неспокойно, недовольство народа своим правителем росло — поборы увеличились, не давали людям вздохнуть, и население все быстрее нищало.
За пределами Гдетоландии соседские королевства вынашивали коварные планы по захвату земель и так и норовили устроить провокацию, а иногда присылали с гонцами и угрозы. Ктототам тосковал по усопшей жене, был растерян и не знал, как справиться со всеми неурядицами. Он становился все более суровым правителем, а многие придворные считали его упрямцем и самодуром. Чем больше он любил младшего сына, тем большую неприязнь испытывал к старшему. К подданным был все более требователен и несправедлив и все чаще проявлял даже жестокость.
Кота он терпел, поскольку тот ему напоминал о покойной королеве.
Но однажды, когда Ктототам остался в своих покоях один, из-за шторы вышел Кот и заговорил, вышагивая степенно между окном и камином:
— Ваше Величество, я долго наблюдал за тем, что происходит во дворце и в королевстве, и понял, что не могу больше молчать.
Кот приостановился и вопросительно посмотрел на Ктототама.
Король поначалу опешил, но понял, что ждал этого давно. Всем своим видом Кот уже много лет давал знать, что хорошо понимает происходящее и даже может дать дельный совет. Тем не менее Ктототам недовольно рявкнул на кота, как рычал на своих подданных в последнее время:
— Что? Это ты, кот, решил со мной поговорить? Со мной — великим правителем великой Гдетоландии?
Но Кот подчеркнуто вежливо продолжил:
— И все же я позволю себе… Ваше Величество очень изменились. Среди придворных не осталось людей, которые бы вас уважали, как раньше, когда была жива королева. А народ за стенами дворца и того пуще, считает все ваши последние приказы глупостью бездарного правителя, а ваших министров — тупыми ловкачами.
— Да как ты смеешь, несносное животное!?
— Ваше Величество, это же не я, а они так считают. Но вы и вправду перестали понимать, что такое интересы королевства, и не чувствуете нужды своих подданных!
— Где ты научился так рассуждать, глупый и ленивый кот?
— Во-первых, я не глупый и не ленивый. А во-вторых, вы опять проявляете нечуткость ко всему, что вас окружает. Я, в конце концов, не первый десяток лет живу во дворце и знаю, о чем говорю. Наслушался ваших министров, бездарей. Вот уж кто глуп и ленив…
Ктототам все больше изумлялся. Как может простой кот так судить о порядках в королевстве!
— Может, — будто прочитав мысли короля, ответил Кот. — И мы, хвостатые, не так просты, как некоторые думают. Но я хотел бы сказать о главном. Во-первых, если Ваше Величество продолжит в том же духе править королевством, доверяя своим никчемным министрам и заставляя страдать население, начнутся бунты. Вашему Величеству придется бежать из дворца и спасаться. А во-вторых, если вы так и будете выказывать свою неприязнь старшему принцу, который чтит вас гораздо больше, чем младший, и только вы этого не видите, то вас в скором времени ждут беды и печальная судьба.
— Так, хватит с меня! — вспылил король. — Все сказал? А теперь оставь меня в покое.
Кот развернулся, его пушистый хвост нервно дернулся. Он размеренно подошел к тяжелой двери, слегка толкнул ее передними лапами и вышел из королевской спальни.
На следующее утро Ктототам распорядился созвать всех министров и доложить обстановку в королевстве.
Министры и король собрались в тронном зале. Главный министр первым взял слово и долго и витиевато объяснял Ктототаму, что хотя кое-где в королевстве наблюдаются волнения, а король соседней Здесьнеландии уже не в первый раз грозится отобрать часть территорий, не следует особенно беспокоиться.
— Все под контролем, Ваше Величество, и вам не о чем волноваться.
Тут откуда ни возьмись появился Кот и стал расхаживать перед троном. Все ждали, что ответит Ктототам. Повисла пауза. А Кот вальяжно расположился у ног короля, стал обмахивать себя хвостом и приговаривать, чтобы его слышал только Ктототам:
— Вот же врет, шельма, лишь бы шкуру свою спасти да при должности остаться. Не верьте ему, Ваше Величество…
Король и виду не подал, что прислушивается к своему питомцу.
— Так… Подать сюда карту королевства! И срочно покажите мне очаги народного недовольства и земли, который хочет захватить наш сосед.
— Ваше Величество, на северо-востоке страны сгорели два поместья, замок барона Пофигальского был разграблен, сам барон скрылся в своем дальнем имении. Король Здесьнеландии хочет вернуть землю на юго-западе страны, которую ваш батюшка отвоевал у их прежнего короля в нашу последнюю войну.
— Враг всегда чует правильный момент, Ваше Величество, когда противник не слишком силен, — зевая, тихо промурлыкал Кот.
Король раздраженно вскочил и стал нервно шагать из стороны в сторону.
— Все уйдите! Я буду сам решать, что делать.
Министры попятились на выход. Кот продолжал жмуриться на солнце и разнеженно обмахивать себя хвостом. Ктототам стоял у окна и размышлял, не зная, с чего начать. Вдруг дверь распахнулась, и с низким поклоном появился придворный воспитатель:
— Ваше Величество, прошу простить великодушно, но с младшим принцем случилась беда, Их Высочества были на чердаке, Яснолик решил забраться на дальнюю башню, но старая лестница обрушилась, и он упал.
— Где он? Что с ним? — бегом устремившись из зала, взволнованно бросил король.
Воспитатель семенил за ним и со страхом отвечал:
— Он в своей спальне, без сознания, к счастью, ушибов почти нет. С ним сейчас доктор. Слава богу, Доброум был рядом и позвал на помощь.
— Как? Доброум был рядом и позволил брату упасть? Не защитил, не помог?
В спальне Яснолика уже собрались доктор, старший принц и несколько слуг, суетившихся у постели больного. Кота никто не заметил, но он пробрался к принцу с другой стороны постели и стал прислушиваться к его дыханию. Младший лежал с закрытыми глазами, с влажным полотенцем на голове, но Кот знал, что он в сознании и просто наблюдает за происходящим из-под опущенных ресниц.
— Как ты допустил, что твой брат чуть не погиб? — начал король распекать Доброума. — Почему опять эти глупые шалости? Вы уже не маленькие дети. А ты старший, и должен отвечать за брата!
— Отец, прости, я не хотел лезть на башню. Но Яснолик меня не слушал.
— Молчи! Видеть тебя не хочу. От тебя одни несчастья. Сегодня же отправлю тебя к своему кузену в имение, ему помощники нужны, заодно и перевоспитаешься. Вон отсюда!
Напрасно Кот нашептывал Яснолику, чтобы тот защитил брата, поскольку он ни в чем не виноват. Принц и виду не подал, что слышит его.
В тот же день Доброум сел на коня и со своим верным слугой покинул дворец. Долго они ехали по дороге, которая должна была привести их к кузену Ктототама, но, когда стало темнеть, поняли, что сбились с пути. Долго плутали они по лесам и полям. Но даже яркая луна не могла им помочь.
И вот когда они уже выбились из сил, Доброум заметил вдали, на открытом косогоре, костры с шатрами. Не успели они задать себе вопрос, кто эти люди, как их окружили вооруженные стражники, взяли коней под уздцы и повели к лагерю.
— Кто вы такие? — начал допрос начальник лагеря. — Вижу по платью, что один из вас знатная особа.
— Я старший принц Гдетоландии, сын досточтимого короля Ктототама, Доброум. Мы едем с моим слугой к кузену отца, но заблудились.
— Ты сын Ктототама? Значит, верно говорят, что он с остатками волос и ум потерял, раз отправляет наследника в дальний путь, когда король соседних земель уже объявил войну и направил свое войско на спорную территорию.
— Войну? Но отец ничего об этом не знает.
— Тем хуже для него. До нас доходили слухи, что у вас там не все ладно и главный министр вводит своего монарха в заблуждение. Но, видно, дело обстоит еще серьезнее. Я отправлю вас под стражей к нашему королю, его лагерь расположен у границы. Пусть он решает, что с вами делать.
Так продолжилось странствие Доброума.
А во дворце Ктототама тем временем развертывались не менее любопытные события. Как только Яснолик очнулся, король вызвал его к себе и торжественно объявил:
— Отныне, дорогой мой сын, ты становишься единственным законным наследником престола. Со мной может случиться любое несчастье — я могу погибнуть в битве, чума может прийти в наши земли, или пройдет много лет, и я покину этот мир, чтобы соединиться с моей возлюбленной королевой. Но ты должен знать — отец тебя всегда любил всем сердцем и завещал корону только тебе. Сегодня я подписал об этом указ и передал главному хранителю королевской канцелярии.
Яснолик упал на колени перед отцом:
— Отец, можешь во мне не сомневаться. Я всегда буду действовать в интересах королевства. Как я могу тебя отблагодарить за такое доверие?
— Лучшей благодарностью мне будет твоя отвага и мужество, если придется нашему войску сразиться с неприятелем. Хочу, чтобы ты принял командование, уже не мальчик.
— Но, отец…
— Ступай!
Кот, крутившийся здесь же, всем своим видом показывал, что происходящее его не интересует. Он купался в теплых солнечных лучах и жмурился от яркого света. Но как только принц вышел из кабинета, он незаметно последовал за ним.
Кот видел, как Яснолик направился по лестнице в крыло дворца, где размещалась стража, и решительно вошел в комнату начальника дворцовой охраны. Он не слышал, о чем там шел разговор, но было ясно, что затевается что-то незаконное. Надо было предупредить короля, но прежде постараться выяснить у воспитателя, что за коварный план вынашивает Яснолик. У воспитателя всегда была отличная репутация, и Кот мог ему доверять, да и Яснолик вряд ли будет таиться от этого пожилого человека — он всегда был на стороне принцев и их защищал.
Доброум в это время был доставлен со своим слугой в главный шатер короля Неноля — правителя Здесьнеландии. Вскрыв конверт от начальника военного лагеря, он был немало удивлен, узнав, что перед ним старший сын его давнишнего врага.
— Видать, ты хорошо насолил своему отцу, если он в такое время, по сути, выгнал тебя из дворца. И что мне с тобой теперь прикажешь делать?
Вдруг за пологом шатра раздались звуки подъезжающей кареты, ржанье лошадей и девичий смех. В ту же минуту на пороге показалась совсем юная девушка, а за ней — строгая дама. Девушка бросилась к Ненолю и буквально повисла на нем:
— Отец, как же я соскучилась по тебе! Я еле уговорила мадам Фэт´ю приехать сюда.
— Ну-ну, полно тебе, — обнимая дочь, отвечал Неноль, вмиг превратившийся из сурового воина в растаявшего от любви родителя.
Доброум не мог поверить — принцессе дозволено вот так просто повиснуть на шее отца-короля на глазах окружающих и даже строгой воспитательницы! Он вдруг остро ощутил какую-то смутную неловкость, зависть и что-то еще, вовсе необъяснимое. Именно в этот момент девушка обернулась и внимательно окинула его взглядом. Может быть, Доброуму показалось, но что-то ее смутило, она слегка покраснела и опустила глаза.
— Вот, Нинý, хочу тебе представить старшего принца соседней Гдетоландии, Доброума. Как, ты думаешь, он к нам попал? Заблудился, видите ли! Если б не мое доброе сердце, а ты меня знаешь, его бы давно судили как шпиона…
— Но, позвольте, я не шпион, я могу доказать, что…
— Доказать ты ничего не сможешь. Но, похоже, ты честный малый. Тебе предоставят еду и постель, отдохнешь, а там мы решим, что делать.
Уже несколько дней жил Доброум в лагере на границе Здесьнеландии и всему удивлялся. Относились к нему со слугой не как к пленникам, а скорее, как к гостям. Принц мог свободно гулять между шатрами и даже скакать на своем коне по окрестностям. Коня у него не отобрали, просили только поостеречься и далеко не отлучаться — в округе появились бандиты и грабители. Ему и самому не хотелось отъезжать далеко: образ юной принцессы не шел из головы, что-то подсказывало, что и он ей небезразличен, а атмосфера любви между отцом и дочерью была просто заразительной. Доброум мечтал, чтобы у него в жизни было так же, и почему-то очень беспокоился о своем отце.
Однажды в лагерь прискакал гонец. Когда он сообщил страже, что его прислал личный Кот короля Ктототама, на него посмотрели с недоверием, но отвели в главный шатер. Доброума разыскали и попросили объяснить, что за порядки в его Гдетоландии, если Кот короля отправляет гонцов в соседние государства.
Король Неноль стоял у стола и дочитывал большой свиток.
— Весьма странные вещи творятся в твоей стране, Доброум, — озадаченно начал Неноль. — Гонец рассказал, что это послание писал ваш придворный воспитатель под диктовку какого-то там Кота. И вот, изволь послушать, что нам пишут. «Обращаемся к Вам, Ваше Величество, как к мудрому и справедливому правителю уважаемой Здесьнеландии, с величайшей просьбой отнестись к нашему старшему принцу, Его Высочеству Доброуму, с подобающим вниманием и почтением. По некоторым сведениям, он не смог доехать до владений своего дяди, как было велено его отцом, Его Величеством Ктототамом, королем Гдетоландии, а, заблудившись, по велению свыше оказался на Вашей территории. Мы все крайне обеспокоены тем фактом, что в отсутствие принца Доброума его младший брат, принц Яснолик, убедил начальника стражи и других изменников, что якобы король Ктототам готовится казнить всех, кто ему неугоден. Они связали ночью беззащитного короля и отвезли тайно в дальнюю крепость у моря. Принц Яснолик захватил власть и уже начал расправляться с теми, кто считает его правление незаконным. Просим великодушно помочь нашему королю Ктототаму, а также всей Гдетоландии, и освободить невинного пленника. Да восторжествуют в наших землях Закон и Справедливость!»
Доброум был растерян, он не верил своим ушам — нет, не мог его брат так вероломно поступить!
— Что скажешь, принц?
— Вы должны отпустить меня немедленно, я освобожу отца, я должен встретиться с Ясноликом, этого не может быть…
— Один ты не справишься, но и задерживать я тебя не стану. Возьмешь часть моего войска и поскачешь вперед. А мы вас поддержим следом. Ступай!
Не успел Доброум выйти из шатра, как столкнулся с юной принцессой.
— Я все слышала, береги себя, — тихо и торопливо заговорила она, — знай, я буду тебя ждать, а ты мне обещай, что вернешься…
Она подняла на него свои синие глаза, и ему показалось, что силы его утроились, а за спиной выросли крылья.
— Обещаю.
Его конь уже бил от нетерпения копытом. Еще несколько военных ожидали приказа — решено было добраться сначала до боевого лагеря, а уже оттуда, с основным войском, отправляться в Гдетоландию.
Когда Доброум во главе армии короля Неноля подходил к родным местам, его сопровождали не только военные. Мирное население, вооружившись всем, чем придется, тоже решило присоединиться, поскольку пошли слухи, что младший принц пуще прежнего увеличил налоги и еще хуже обращается с подданными, чем его отец. Никто не хотел, чтобы Яснолик сидел на троне, а законный король оставался пленником.
Но во дворце тоже знали, какая сила надвигается, и что противостоять ей Яснолик не сможет. Поэтому как только стало известно, что огромное войско неумолимо приближается к столице, младший принц и горстка его приспешников в страхе бежали. Остальные стали ждать Доброума как освободителя.
Кот в последние дни не уходил с крыши и все высматривал, не появится ли на горизонте тот, на кого он больше всех надеялся. Время от времени он что-то нашептывал придворному воспитателю, и тот передавал сведения дальше. Наконец, Кот увидел, как на дороге со стороны юго-запада, из-за дальней рощи появился небольшой конный отряд со знаменами, а за ним показалось и огромное войско.
Он ринулся вниз по внутрибашенным лестницам, нашел по пути воспитателя, сообщил ему, что приближается не только войско, но и толпа ополченцев. Было решено открыть ворота парка и дворца и устроить подобающий прием. К Доброуму же полетели два гонца, чтобы тотчас отправиться к крепости у моря и освободить короля. Кот был уверен, что старший принц захочет сам участвовать в этой операции.
Через несколько часов все счастливо завершилось. Король Ктототам, старший принц, начальник охраны Неноля, придворный воспитатель и другие собрались в главном зале дворца. Ктототам сидел, подавленный и обессиленный, на троне и плакал:
— Сын мой, прости меня! Прошу перед всеми присутствующими уважаемыми людьми — прости, что вел себя как олух, что был слеп и глуп, что не понимал, не различал, кто есть кто. Господь меня наказал за мои выходки и недостойное поведение. Но он даровал и милость, если позволил дождаться освобождения, да еще и от тебя. Знай, мое время истекло, я хочу, чтобы ты правил Гдетоландией. А я буду смиренно наблюдать за тобой и радоваться.
— Нет, отец, — ответил Доброум. — Я хочу просить о другом. Надеюсь, что я тебя не разочарую в будущем. Ты должен вернуться на трон как законный король. А мне разреши поселиться на той спорной территории, из-за которой мы чуть не начали войну с Здесьнеландией. Я влюблен в их принцессу и буду просить у короля Неноля ее руки…
Тут внезапно появившийся Кот стал вертеться у ног короля и что-то ему нашептывать. Ктототам отвечал, и вид у него был самый счастливый. Никто не мог расслышать, о чем они беседовали. Но все понимали, что теперь король и принц могут вот так, мирно, договориться обо всем, а это значит, что для Гдетоландии, как и для ее соседей, настали лучшие времена.
Ольга Славникова:
«Сказка Ольги Нижельской вроде бы вполне традиционная: тут и принцы, и принцессы, и мудрый деятельный Кот, и добрый, счастливый финал. Но, видимо, время такое: сквозь слой для детей проступает слой для взрослых, и оттуда тянет Салтыковым-Щедриным. Впрочем, волшебная сказка эзоповым языком нимало не повреждена».
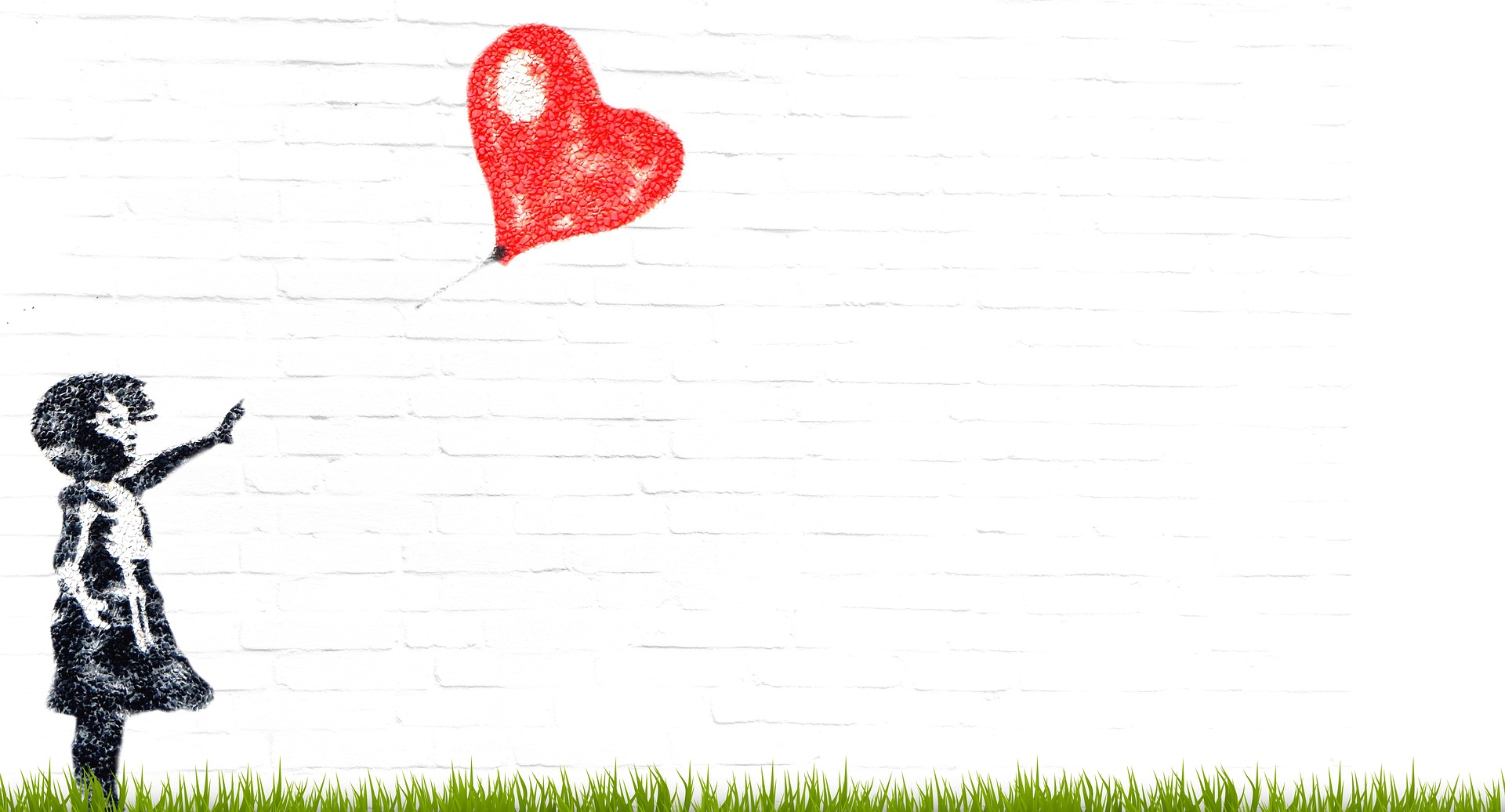
Никогда не быть такой, как мама
Мама стоит перед зеркалом. Ее лицо превратилось в распухшее месиво. Она стоит и давит прыщи. С каждым днем их все больше и больше. Ее кожа стала напоминать кратерную поверхность Марса, такую же огненную. Даже утром, после ночи спокойного сна. Она не может остановиться. Бабушка пытается связать ей руки, чтобы она не прикасалась к своему лицу, но мама вырывается, прячется в ванной, и там все начинается заново.
Я дотрагиваюсь до своего лица и замираю. Мне хочется повторить то, что я наблюдала сотни раз. Пальцы сдавливают кожу, и на поверхность выходит белая жидкость. Жжение захватывает все большие участки лица. Кому-то может показаться, что я долго гуляла на морозе — красные распухшие щеки, нос как неспелая слива. Но нет тебе черных точек, нет тебе прыщей, да и нетронутого участка лица тоже нет.
Набираю лосьон на ватный диск. Прикасаюсь к лицу и ощущаю, как по нему проходят электрические разряды: от носа к скулам, по лбу, подбородку. Останавливаюсь. Пытаюсь осмыслить, что я сделала. Прошедшие минуты кто-то другой управлял моим сознанием, мои руки были мне неподвластны.
Никогда не быть такой, как мама.
Мама боится воды, но любит море. Она делает два шага от берега и останавливается. Вода достает ей до колен. Она стоит и смотрит вдаль. Наклоняется, набирает воды в ладони и умывает лицо, потом льет воду на плечи, размазывает, словно это целебный раствор, по рукам и бедрам. Пытается достать до спины и натирает участки, до которых добралась ее нетренированная рука.
Когда ей предлагают научиться плавать, она говорит, что слишком стара для этого. Она стоит и с вожделением смотрит на воду.
Я плыву. Папины руки крепко держат меня под животом.
— Ты видела, как лягушка плавает?
Мы ловим лягушку, от которой потом появляется бородавка на руке, и запускаем ее в озеро. Лягушка лежит неподвижно, делает вид, что умерла. Но чувствуя, что опасность миновала, она начинает усиленно работать лапками и быстро уходит в мутную воду. Я больше ее не вижу. Но я поняла принцип.
Я снова на животе. Папа делает вид, что держит меня. Собрать, развести, собрать, развести. Я концентрируюсь на движениях рук, я чувствую, как они напряжены. Я могу плыть только на них. Папа впервые отпускает меня. Я плыву, плыву.
Я с разбегу прыгаю животом на воду и начинаю работать руками. Я прокручиваюсь в воде, как дельфин, я показываю друзьям, как плывет собака за мячиком, я делаю кувырок и, держась руками за дно, машу ногами, передавая приветы всем, кто на берегу. Я лежу на спине. Щурюсь. Солнце.
Никогда не быть такой, как мама.
Мама возвращается с работы. У нее три пакета со сладостями: вафли с шоколадной прослойкой, что хрустят и тают, напитавшись моей слюной, зефир в шоколаде, исчезающий в тот же вечер, «Осенний вальс» — конфеты, напоминающие гору, на вершине которой зарыт клад — целый лесной орех. Завтра же конфеты будут развернуты и лишены орехов.
Мама садится пить чай. Она не любит ужинать. Она пьет только черный чай или кофе с молоком. Она никогда не говорит «латте» или «капучино», говорит именно «кофе с молоком». В трех красивых плетеных корзинках лежат сладости. Мама кладет конфету в рот и закрывает глаза. Свет на кухне выключен, и никто не решается туда войти. Это мамина тайная вечеря.
Я завершаю ужин. Мой организм настроен на медово-ванильный вкус. Ему всегда хочется завершить принятие пищи куском торта. Я открываю коробку с тортом «Наполеон», достаю суповую ложку и врезаюсь ей в нежные слои, пропитанные масляным кремом. Я блюю в туалете наполеоном, который съела целиком.
Проходя мимо кондитерских, я отвожу глаза — меня все еще мутит при виде тортов. Я больше не ем сладкого. Совсем.
Никогда не быть такой, как мама.
Мама разговаривает с мужчинами тоненьким голосом маленькой девочки. Она хихикает, надувает губки, смущенно опускает глаза. Она резко отстраняется, когда мужчина обнимает ее в публичных местах. Слегка касается пальцами его руки и объясняет, что здесь люди. Она проявляет нежность и ласку только под покровом ночи и только в комнате. Тогда ничто не стесняет ее. Она превращается в податливую гибкую кошечку.
Она хрупкая и тонкая, и мужчины носят ее на руках. Она подстригла свои длинные смоляные волосы и с короткой стрижкой стала похожа на озорного мальчишку.
Вагон метро набит замученными работой людьми. Мы стоим близко, соприкасаясь телами, — так, что я чувствую его дыхание, — мы дышим в такт. Я провожу рукой по спине любимого, обнимаю его за талию и кладу голову ему на плечо. Он гладит меня по волосам, целует глаза, щеки, нос, добирается до губ и, проводя по ним языком, кусает за верхнюю. Я смотрю на него, не отводя взгляда: изучаю, любуюсь.
Мы занимаемся любовью на кухонном столе, на комнатном ковре, на лестничной площадке в подъезде. Он наматывает себе на палец мои длинные кудрявые волосы, вдыхает их аромат. Моя тяжелая грудь едва помещается в его руке. Он хватает меня, поднимает на руки, но пройдя пару шагов, ставит на пол.
Никогда не быть такой, как мама.
Мама ходит на работу, чтобы пообщаться. Она уходит рано утром, еще до того, как я встаю в школу, и приходит поздним вечером, когда я уже легла спать. Денег у нее никогда нет. Как-то из школы я иду туда, где она работает. Я заглядываю в витрину салона красоты и вижу ее: она стоит с чашкой чая у стойки и разговаривает с какой-то женщиной, волосы которой похожи на инопланетные — куски фольги из ее головы торчат в разные стороны. Мама смеется. Не слышно, о чем она говорит, но видно, как быстро двигаются ее губы. Она хохочет, запрокинув назад голову. А потом ее губы начинают двигаться быстро, как у рыбы, выкинутой на берег. Словно ей не хватает времени надышаться.
Я хожу на работу, потому что люблю быть важной. Я руковожу людьми и зарабатываю много денег. Я не люблю тратить время на пустые разговоры. Если только утром, когда наливаю кофе и слушаю рассказы своих сотрудников. Это тоже задача руководителя — так формируется открытость и доверие в коллективе. Мне нравятся люди, с которыми я работаю, — нравятся до тех пор, пока они эффективно выполняют поставленные им задачи. Мне жаль расставаться с сотрудницей, которая проработала в компании пять лет, но хороший человек — это не профессия. Когда заработаю достаточно авторитета и денег, я не буду так много работать. В мире есть много вещей, которые хочется успеть. Будь у меня возможность прожить несколько жизней одновременно, я бы много путешествовала, писала рассказы, продолжила руководить отделом, стала актрисой и уехала в Голливуд.
Никогда не быть такой, как мама.
Мама любит ходить в театры. Она предпочитает классику — все больше балеты и оперы. Невозможно представить ее в театре без торчащей из сумочки шоколадки «Вдохновение», удобно порезанной на дольки кем-то заботливым на фабрике, и бутерброда с колбасой. Мама настоялась в очередях в своем советском детстве, потому в антракте предпочитает тихо сидеть на месте, высвобождая из фольги кусочек шоколада. Она кусает шоколадку, а потом соединяет ее с остро-соленой сырокопченой колбасой и тщательно пережевывает.
Я не люблю театры. Мне кажется глупым изображать что-то, совсем непохожее на реальную жизнь. Если хочется хороших историй, сейчас достаточно выйти на улицу или сходить в документальный театр. «Театр.doc» я люблю. Я вбегаю в зал в последние несколько минут до спектакля. Еще ни разу не опоздала. Если бы был предусмотрен антракт, я бы обязательно пила шампанское и закусывала бутербродом с икрой. Порой то, что рассказывается на сцене, хочется компенсировать блюдами из другой жизни. Снова немного оптимистичнее посмотреть на мир.
Никогда не быть такой, как мама.
Мама не любит спорт. Единственный спорт на протяжении всей ее жизни — ходьба до работы и обратно. Она никогда не покупает абонементы в фитнес-клуб, не бегает по утрам, не качает пресс дома на коврике… Список «никогда» можно продолжать вечно. Мама боится кататься на велосипеде. Она садится на велосипед и не может удержать равновесие. Я хочу ей помочь, подойти и поправить сиденье — я же вижу, что оно слишком высокое для ее роста, но она смеется и отдает велосипед. Опять сваливает на возраст. Не могу представить маму с этими дамами-кузнечиками, любителями финской ходьбы. Куда-то бесцельно идти, да еще и быстро — так, что ветер в лицо и не слышно разговоров, — ну нет, это не про маму.
Я люблю спорт. Спорт для меня — энергия, сила жизни. Я осознаю это, только если усилием воли тащу себя в фитнес-клуб в течение месяца. А потом стоит раз пропустить — и снова включается капризный ребенок, который сидит внутри и просит посмотреть хороший фильм или сериал вместо того, чтобы потеть на дорожке. Зато велосипед для меня — повод похвастаться. Вот я лечу по парку, убрав руки с руля, удерживая равновесие лишь мягкими покачиваниями корпуса. Мальчишки смотрят мне вслед с восхищением.
Никогда не быть такой, как мама.
Мама не знает, как воспитывать дочь. Никаких подсказок, никаких советов. Когда я падаю на раму велосипеда и вижу на трусах кровь, я думаю, что умираю. Мне некому рассказать о своей приближающейся смерти, я просто лежу на диване и жду. Сердце тревожно бьется, но, когда смерть все не приходит, я засыпаю. Только потом я узнаю, что так глупо потеряла девственность.
Когда у меня вырастает грудь, я каждый день ее трогаю — боюсь, что сразу разовьется рак груди, так много о нем говорят. А когда меня в драке толкает в грудь мальчик, и грудь становится тверже, я абсолютно убеждена в своей правоте — жить осталось недолго.
Десять лет я боюсь пойти к врачу и узнать горькую правду. Я держу ее в себе, и мне не с кем поделиться.
Но теперь, когда я по-настоящему взрослая, я регулярно хожу к врачам. И я знаю, что текстура груди может быть разной, что регулярность месячных может меняться, что каждый год надо обязательно проверяться у гинеколога и маммолога. Я много чего еще знаю и делаю. Без твоих подсказок и советов, мама.
Никогда не быть такой, как мама.
Мне никогда не быть такой, как ты, мама.
Мама, которой у меня никогда не было.

НоРене
— Скажи что-нибудь, — просит Рене.
Я кручу обручальное кольцо. Символ единства — спасательный круг. За него можно ухватиться, когда надоест беседа.
Рене закусывает губу, безымянным пальцем касается уголка глаз и, накинув пальто, идет к выходу. Если я хочу, чтобы она осталась, мне стоит что-то сказать. Что говорить, я не знаю.
* * *
— Если бы вы могли выбрать любого человека на этой планете, кого бы вы пригласили на ужин?
Это первый из тридцати шести вопросов, вписанных в небольшую карточку. Их раздавали на входе. После двенадцатого и двадцать четвертого — римские II и III. В левом верхнем углу — надпись: «Не нарушайте порядок вопросов. После звонка переходите к следующей секции». В правом нижнем углу — тайминг: на каждую секцию дается пятнадцать минут, а после третьей нас попросят без слов посмотреть друг другу в глаза.
— Папа Римский — отвечаю я.
Моя собеседница — невысокая девушка с бледным лицом, тонкими губами и пальцами. Темные волосы собраны на затылке, поэтому она напоминает мне маску Коомотэ из театра Но. Услышав ответ, она слегка приподнимает уголки губ:
— Я бы пригласила Марию Тюдор.
— Кровавая Мария, — киваю я. — Интересный выбор. Любите старую Англию?
Маска снова приподнимает уголки губ и поднимает карточку:
— Давайте придерживаться списка.
* * *
Когда Рене злится, она говорит быстро и коротко, будто выстреливает из винтовки. Вот и сейчас стреляет:
— Есть будешь?
Я мотаю головой. Ужинать в таком настроении не хочется, но Рене все равно ставит передо мной тарелку супа. Слишком резко: теперь капли на столе. Я беру салфетку. Рене отворачивается к раковине и начинает греметь посудой. Плечи подрагивают. Я встаю из-за стола и подхожу к ней. Она трет тарелку так, будто пытается смыть с нее свою злость.
— Поешь, — стреляет снова.
Злости у нее меньше, поэтому пуля пролетает мимо. Отскочив от стены, падает на пол. Я обнимаю Рене за плечи. Она снова вздрагивает и замирает.
* * *
— Если бы вы могли проснуться завтра, получив какое-то одно качество или способность, что это было бы?
Маска отводит взгляд и сводит брови. Между ними появляется несколько тонких полосок. Я вспоминаю, что для любви достаточно мелкой детали. Хрупкие пальцы, острые плечи, ломаный взгляд — все это собирается в большое чувство, которое мы носим у себя в груди. Маска переведет взгляд на меня, и полоски исчезнут.
— Телепортироваться, — отвечает она и щурится, радуясь собственной мысли. — Сначала я хотела летать, но затем подумала, что телепортироваться гораздо удобнее. Ну а вы?
Ее звонкое «вы» пролетает по воздуху и растворяется среди шума голосов и звона бокалов. Пока я думаю над ответом, раздается звонок.
— Раунд два? — спрашивает маска.
* * *
Мы сидим на кровати. Рене смотрит, как декабрь наступает снежинками на окно. Я смотрю на ползущие по стене трещины. Стена старая, морщинистая. Жду, когда на кухне чихнет недовернутый кран и Рене выдохнет:
— Уедем к морю?
C приходом холодов Рене движется к морю.
«Там нет оцепенения», — утверждает она, наблюдая за волнами, чайками и людьми, шатающимся вдоль кромки. Она снимает с антресоли пакет с летними вещами, достает из-под кровати чемодан и толкает его в прихожую. Он едет по паркету и врезается в ботинок. Рене обувает шлепанцы на босу ногу и забирается на кровать.
— А-у-у-у-у! — воет мне в ухо.
— Сними, пожалуйста, шлепки, — говорю я.
— А-у-у-у-у-у.
— Ре-не, — сквозь зубы цежу я.
Рене вздыхает, слезает с кровати и шлепает в прихожую. По паркету вновь едет чемодан.
— Ну прости! — кричу я из спальни.
На кухне хлопает форточка, в спальню врывается ветер. Качнутся занавески, вздрогнет покрывало, и холод мурашками пробежит по рукам.
— К морю, так к морю, — проговариваю я про себя. Кран на секунду замолкнет и снова чихнет.
* * *
Маска говорит о соснах, подпирающих небо, о доме, спрятанном в объятиях гор, и о дожде, бьющем по крыше.
— Вот что такое счастье, — заканчивает она. — Ну а для вас?
— Подождите, подождите. — Я беру карточку. — Здесь еще вопрос про семью. Насколько вы близки с родными?
Маска пробежится по поверхности стола пальцами и снова соберет меж бровей полоски.
— Если говорить буду только я, то для ваших ответов времени не останется.
— Отыграюсь в следующей секции, — отшучиваюсь я.
— Не отыграетесь, — тут же парирует она.
Перед началом третьего раунда мы разбежимся. Маска — в дамскую комнату, я — на улицу. Вдохнуть свежего воздуха и табака. У входной двери столкнусь с молодым человеком.
— Тоже свидание? — спрашивает он, протягивая сигаретную пачку.
— Угу — киваю, беру сигарету, затягиваюсь и кашляю.
Молодой человек смеется и хлопает меня по спине.
— И как? Получается? — спрашивает он в такт похлопываниям.
— Сложно сказать. — Я поднимаю руку. Больше не надо.
Он хлопнет меня еще раз, сложит руки в карманы и обопрется о стену. Признается:
— А у меня — нет. Кажется, все это обман.
— Обмана тут нет. Может, вы что-то не так делаете?
— Ну я же не идиот! — смеется он. — Что тут можно сделать не так? Все просто, как в инструкции по сборке шкафа из Икеи.
— Ну тогда надо просто дойти до конца. Как со шкафом.
— А вдруг не получится?
— Придете еще раз. — Я тушу сигарету. — Это же просто свидание. Но, думаю, не придется.
* * *
У моря Рене садится на камень, упирается в него руками, выкручивает вперед плечи, слегка опускает голову и замирает. Так она сидит неподвижно почти час, иногда пробуждаясь:
«Волны перебирают гальку».
«Море уходит в небо».
«Ветер соленый на вкус»
И я отвечаю: «Да, волны», «Да, море», «И правда, соленый».
Рене, удовлетворенная, что я рядом, вновь заворачивается в свою неподвижность.
«Ты любишь море?» — спросит Рене.
И я вдруг пойму, что мы только и делаем, что тыкаем друг в друга очевидное: «Вот небо», «Вот море», «Вот счет за квартплату», «Вот книга», «Вот, убери со стола». Что мы совершенно забыли друг о друге. Я упрусь руками в скамейку, опущу немного лицо, выкручу плечи и произнесу: «Я ненавижу море».
* * *
— Это абсолютно нечестно! — смеюсь я, когда маска зачитывает вопрос, что мне в ней нравится.
Она тоже смеется:
— Соберитесь, соберитесь. Я в вас верю.
— Ну хорошо. Сдаюсь! — Я поднимаю руки. — Мне нравится… Мне нравится все!
— Так не бывает! — хмурится маска. — Отвечайте серьезно.
— Но я серьезно. Я, быть может, никогда в жизни не был настолько серьезен.
— Я вам не верю. — Маска все еще пытается быть суровой, но улыбку выдают появившиеся возле глаз морщинки. — Вы лжец. Но мы это поправим.
Впервые за вечер она произносит «мы».
* * *
— Ты был там? — спрашивает Рене. Она стоит, опершись руками о раковину. Я убираю руки с ее плеч. Вода с шумом прыгает с тарелки на тарелку, Рене выключает кран. Становится тихо, сердце начинает биться где-то в голове.
— Ты был там, — констатирует она.
Поворачивается и смотрит сквозь меня.
— Не смей отпираться. Я нашла карточку. Ты был там вчера.
Я мог бы соврать. Сказать, что карточку нашел. Или что не знаю, откуда она. Но лгать близкому человеку сложнее, чем говорить правду. Даже если ты его уже давно не любишь.
— И как? — спрашивает, не дождавшись ответа.
Лучше бы она кричала и била посуду. Лучше бы материлась, ругалась, дралась. Но Рене никогда не делает то, что делают все остальные.
— Надеюсь, все получилось. — Снимает с крючка полотенце и вытирает руки.
Я все стою у стены. Кран не кашляет и не чихает. Ветер бьется о стекло и снова куда-то бежит.
Звенит звонок.
Рене хлопает крышкой чемодана.
* * *
— И все? — спрашивает маска.
— У нас еще две минуты.
— Две минуты молчания, — уточняет она. — Звучит, как за упокой.
— И не говорите. Приступим?
Маска кивает, откладывает карточку, выпрямляет спину и переводит взгляд на меня. Голоса и звон бокалов стихают, зал погружается в тишину.
Я смотрю на маску, которая давно перестала быть маской. Краем глаза ловлю лица людей, неподвижно смотрящих друг на друга. Смотрю, пока вдруг мелькнувший в ее глазах огонек (наверное, всего лишь отражение лампы) не привлечет мое внимание и я не пойму, что это не отражение света.
А я и она.
* * *
По паркету ритмично стучат каблуки туфель или ботинок. Перемещаясь из спальни в коридор и обратно, человек иногда останавливается. Подошвы трутся о паркет. Затем на несколько секунд — тишина.
Каблуки снова стучат.
К одному звуку присоединяются другие: хлопают двери, визжат застежки и молнии, звенят ключи, шуршит одежда. Чемодан с привычным шумом катится в прихожую. Охает, врезавшись в стенку пластмассовым боком.
Когда щелкнет входной замок и все вдруг умолкнет, я выйду в прихожую.
Рене вглядывается в мое лицо. Я не выдерживаю: смотрю на чемодан, на брелок от ключей, на опустевшую вешалку.
— Я думала, что знаю тебя, — говорит Рене. Уже не стреляет. Просто голос. — Но, видимо, я ошибалась.
Пятна от ботинок, щетка для одежды, перегоревшая лампа, полуоткрытая в спальню дверь.
— Будешь молчать?
Ржавчина дверного проема, рваный листок, хрупкие пальцы.
— Кто ты? Скажи что-нибудь.
Кольцо.
Рене собирает на затылке темные волосы, и ее светлое лицо становится белым.
* * *
У гардероба заметил парня, угостившего меня сигаретой. По его довольному лицу, по тому, с какой заботой и нетерпеливостью он подал своей спутнице куртку, я понял: все получилось.
— Знакомый? — спросила маска.
— Как бы, — ответил я. — Познакомились в перерыве. Говорили про шкаф.
— Шкаф, — улыбнулась она. — Интересные беседы. Ну что, идем?
Мы вышли на улицу. Было не холодно, но маска все равно взяла меня под руку.
— Кстати, — спохватился я. — Я ведь даже не знаю, как тебя зовут.
Маска рассмеялась, потянулась ко мне и прошептала:
— Рене.

По справедливости
Сидя в своей кухне, Аня опять почувствовала запах сигаретного дыма. Как же ей все это надоело! Почему в собственной квартире она не может найти спасение от этих вездесущих курильщиков! Она быстро нацепила свои старые растоптанные кроссовки, выскочила на лестничную клетку и метнулась на пожарную лестницу. Как обычно, там уже никого не было. Запах табака медленно поднимался с нижних этажей, и когда он проникал на Анину кухню, курильщик уже благополучно оказывался у себя дома. Застукать нарушителя на месте преступления и от души поругаться Ане удавалось редко.
Аня жила в этом совсем недавно построенном доме третий год, и столько же она неустанно боролась со своими соседями. Боролась за чистоту подъезда, гоняя подростков и подъездных кошек, подкармливаемых сердобольной старушкой со второго этажа. Ссылаясь на правила пожарной безопасности, убеждала молодых мамочек убирать детские коляски, самокаты и велосипеды в квартиры, а не оставлять их на первом этаже или около входных дверей. Ругалась с вдруг собравшимися делать ремонт в выходной день жильцами. Ей до всего было дело, и трудно было сказать, с чем связана эта ее по большей части пустая активность. Подростки продолжали собираться в подъезде, кошки продолжали питаться, а соседи продолжали курить.
Небольшую двухкомнатную квартиру ей купили родители в надежде, что это поможет великовозрастной дочери наконец выйти замуж. Ее отец был профессором университета, а мама трудилась там же преподавателем философии. Аню воспитали в духе московской интеллигенции, однако провинциальное прошлое мамы проявлялось в напористом характере дочери, в ее постоянной борьбе за справедливость и свои права. Сама Аня, закончив лингвистический факультет университета, грезила о важной и интересной работе, необычном, увлекательном будущем, полном путешествий, приятных знакомств. Но внезапно, сама не понимая, как, обнаружила себя преподавателем английского языка в обычной школе, параллельно подрабатывая репетиторством. И ей все казалось, что лучшее еще впереди, что она только ждет своего шанса и работа в школе — просто временное недоразумение. Но иногда где-то по краю иллюзий, которыми она жила, пробегала легкая тень подозрения, что такова ее реальная жизнь, и годы проходят мимо, и это потерянное время уже никогда не наверстать.
По правде говоря, Аню раздражало многое в окружающей ее действительности — сморкающиеся и плюющие на землю мужики, собаки, гадящие везде, толстые неухоженные тетки с растрепанными, непременно короткими волосами, что всегда смотрят исподлобья, орущие в кафе дети, приведенные туда зачем-то своими замученными матерями, как будто это могло как-то облегчить их существование. В школе Аня даже не пыталась заинтересовать своих учеников, отрабатывая предложенную инстанциями школьную программу. Педагогическим коллективом она не особо интересовалась, как, впрочем, и коллектив не особо интересовался ею, стараясь не задевать высокомерную, молчаливую учительницу английского языка.
Открыв окно на лестничной клетке, чтобы проветрилось, Аня вернулась на свою кухню и продолжила просматривать страницы отелей и апартаментов на сайте бронирования, ища себе подходящий вариант на лето. Она уже привыкла путешествовать одна. Все ее подруги давно уже обзавелись мужьями и детьми, и планировать с ними отдых стало невозможно, да и в принципе неинтересно. Ну зачем ей, активной, молодой женщине все эти пляжно-лежательные курорты, обязательно с песочком, чтобы дети ее подруг могли носиться по пляжу, поднимая своими крохотными ножками самые настоящие песчаные бури и швыряя горсти песка прямо в глаза несчастных отдыхающих, которым не повезло оказаться на их пути? Аня предпочитала более активный отдых. В прошлом году она выбрала Шри-Ланку. Из четырнадцати дней семь она провела на пляже и еще семь путешествовала по острову на экскурсионном автобусе, наполненном ее соотечественниками и оттого постоянно задерживающемся, опаздывающем к ужину. Соотечественники вели себя возбужденно и шумно, они постоянно требовали сделать остановку, чтобы сходить в туалет, или пропадали с концами в магазинах, и запыхавшийся, потеющий экскурсовод с трудом отдирал их от прилавков.
Воспоминания прервал звонок в дверь. Когда Аня открыла, на нее сразу обрушилась волна чужого возмущения.
— Кто опять открыл окно в коридоре?! Это вы сделали? — истерически вопила худощавая женщина неопределенного возраста.
Аня узнала соседку по этажу из соседнего крыла и вспомнила, что той лет под пятьдесят. У нее был взрослый сын и ужасно выглядевший муж. Муж, правда, недавно скончался — как она слышала от консьержки, от сердечного приступа. Что было неудивительно, учитывая, сколько он пил. Аня долго боролась и ругалась с ним, потому что он еще и дымил как паровоз какими-то жутко вонючими сигаретами на этаже, наверное, каждый час. Мужчина не сдавался и стал прятаться от Ани. А потом он умер, и она мимоходом отметила, что одним неудобным жильцом стало меньше.
— Мне консьержка сказала, что это вы вечно открываете окна и двери в коридоре! А мне дует! И из-за ваших сквозняков вчера стекло в двери выбило! — продолжала вопить женщина. Аня уже открыла рот, чтобы ответить, но не успела произнести и слова. — Не трогайте больше окна, иначе я все ручки повыворачиваю! — И женщина, не дав Ане опомниться, внезапно развернулась, видимо, посчитав необходимое высказанным, и стремительно зашагала к двери своей квартиры.
— Какое стекло? — только и успела крикнуть ей вдогонку Аня.
— В двери! — бросила на ходу женщина. — Около мусоропровода.
Аня вышла вслед за соседкой. Действительно, стеклянная вставка в двери, отделявшей клетку с лифтами от пожарной лестницы, была разбита, осколки стояли, прислоненные к стене. Но при чем здесь она? Разве она виновата, что несознательные соседи используют лестничную клетку и пожарную лестницу в качестве курительной комнаты? Она не собирается этим дышать, и точка. И окна она будет открывать столько, сколько потребуется!
Аня вернулась в квартиру. Настроение испортилось. Ей все казалось, что она повела себя недостаточно твердо, не сумела правильно ответить. Какое-то неприятное чувство просочилось темным ручейком в непоколебимую уверенность, что она всегда права. Это чувство оставалось с нею до конца дня, и она старалась больше не обращать внимания на запахи, вползавшие в квартиру из коридора.
На следующий день, как обычно по субботам, Аня собиралась на прогулку в парк. Начиналась весна, все больше становилось ярких теплых дней, и Аня, посмотрев на телефоне прогноз погоды, достала из шкафа узкие джинсы, любимые испанские сапоги, на легкую блузку накинула тонкое шерстяное пальто и распустила длинные каштановые волосы. Гулять в выходные она любила в образе элегантной молодой женщины, надеясь, в чем она вряд ли открыто призналась бы себе, на неожиданную встречу, счастливый случай, который изменил бы ее жизнь. Спускаться со своего десятого этажа она предпочитала пешком, чтобы проследить, не осмелился ли кто-то из соседей выйти покурить или выставить из квартир транспортные средства. По пути она выкидывала пепельницы в мусоропровод и открывала окна на этажах, где, как ей казалось, витал запах сигаретного дыма. После прогулки в парке она собиралась пойти в киноцентр, расположенный всего в паре станций метро от ее дома, и настолько погрузилась в свои мысли, выбирая между романтической комедией, которую хотела посмотреть сама, и модным фэнтези, на котором есть вероятность присутствия молодых мужчин, что не сразу заметила сидящего на ступеньках парня. Внезапно наткнувшись на него взглядом, она отметила, что видит его в первый раз, и уже хотела пройти мимо, но ее остановил какой-то неясный внутренний импульс.
— Вы из какой квартиры? — даже не поздоровавшись, строго спросила она парня. — Вы здесь живете?
— Да, живу, — несколько удивившись, ответил парень. Он заправил густые, торчавшие в разные стороны волосы за ухо и улыбнулся Ане. — Здесь, на девятом этаже.
Парень стал вставать, и Аня отступила на шаг, разглядывая его. Яркие солнечные лучи проникали через стеклянные балконные двери в лестничное пространство, высвечивая облупившуюся штукатурку, какие-то черные подтеки в углу на стене и пыль, кружившуюся в воздухе. В этом же ярком свете Аня заметила прозрачные голубые глаза нового соседа и мелкие морщинки. Он был старше, чем показался ей вначале. Аня уже хотела улыбнуться ему в ответ, но тут ее взгляд скользнул вниз, и она увидела бутылку пива, стоявшую возле его ноги. И мгновенно чувство приятной теплоты смыло волной нарастающего раздражения.
— Вы снимаете здесь? — не глядя молодому человеку в глаза, с напором спросила она. — Вы ведь не постоянный жилец, правильно я понимаю? У нас здесь приличный дом. На лестничных клетках, в коридорах и на пожарной лестнице нельзя курить, пить и раскладывать всякий хлам. И не мусорьте. Консьержка не обязана за вами убирать.
Новый сосед немного помялся, посмотрел с недоумением на бутылку, будто пытаясь что-то сообразить.
— Я и не собирался ее здесь оставлять. Я въехал в квартиру только вчера вечером. У вас хороший дом и действительно очень чистый подъезд, — примирительно проговорил он. Еще немного помявшись, продолжил: — Но я профессионально занимаюсь велоспортом. Мой велосипед не поместится ни в квартиру, ни на балкон. Балконы здесь у вас очень маленькие. Да и в квартиру к тому же велосипед не разрешит хозяин жилья занести. Все-таки от него грязь может быть. Честно говоря, я ваш дом и выбрал потому, что лестничные клетки у вас просторные. Знаете, как в некоторых домах бывает, что из квартиры можно сразу в лифт шагнуть, — попытался пошутить молодой человек. — Вы не беспокойтесь, я велосипед в чехол буду убирать, — тут же добавил он, увидав, что Аня на шутку даже не улыбнулась.
Аня нервничала и раздражалась все сильнее. Мало того, что ей не нравилась эта ситуация с велосипедом, а сам молодой человек нравился, так она еще и выбивалась из графика. Если она задержится здесь подольше, размеренной прогулки в парке может уже не получиться. Придется менять планы, а этого она жутко не любила, как и всего нового, что могло изменить привычное течение жизни.
— Вы даже не хозяин квартиры и не успели сюда въехать, как уже устанавливаете свои порядки! Если вы поставите велосипед в тамбуре, то все остальные жильцы подумают, что так можно делать. — Чем больше Аня говорила, тем больше распалялась. — Почему вам можно, а им нельзя?! И не пройдет и недели, как в коридорах будут стоять старые тумбочки, горшки с цветами, велосипеды, коляски и обувь на коврике! Мы не в деревне! Убирайте свой велосипед куда хотите, это не наша проблема.
Аня развернулась и устремилась по ступеням вниз. Солнце зашло за тучу, и на пожарной лестнице стало как-то темно и тоскливо. День был испорчен, и Аня не могла понять, почему так злится на себя, хотя все сделала правильно, по справедливости.
В воскресенье Аня проснулась от какого-то шума, который проник в ее сон и сначала мучал там, а затем, подцепив ее, словно Аня была какой-то глупой рыбой, попавшейся на крючок, вытянул в сумрак спальни. По серому тусклому свету, проникающему из-за штор, было понятно, что еще достаточно рано, особенно для подъема в воскресный день. Аня нашарила на тумбочке телефон и посмотрела время. Почти полвосьмого. «С ума они там посходили все, что ли», — безадресно и сонно подумала она. Аня попыталась задремать снова, но ритмичный густой шум не давал ей погрузиться в мягкую пустоту сна. Внезапно она поняла, что это музыка. По всей вероятности, сосед снизу, с которым Аня уже не раз ругалась по поводу шумных посиделок с друзьями, врубил какой-то хард-рок. С этим соседом вообще было много проблем в виде периодических запоев, нескончаемого ремонта и веселых гулянок. Кроме того, взрослый мужчина за пятьдесят по каким-то своим принципиальным соображениям не желал оплачивать счета за квартиру. У него то отключали свет, то перекрывали канализацию, но он как-то выкручивался и продолжал копить долги за коммунальные услуги.
«Но почему же утром?» — удивленно размышляла Аня. Злиться было еще очень лень, и она поплелась на кухню, немного пошатываясь со сна.
После пары чашек кофе и теплого душа Аня взбодрилась, прибрала на кухне и решила пораньше отправиться на еженедельные занятия йогой. В коридоре и на площадке возле лифтов музыка сотрясала стены басами, словно огромный зверь метался где-то внутри дома, пытаясь вырваться на свободу.
«Неужели никому этот шум не мешает?!» — недоумевала Аня, спускаясь на первый этаж. «Ну, пусть послушают в воскресенье утром», — с некоторой долей злорадства подумала она. Ей всегда было обидно, что только ее заботит благополучие их общего дома, только она старается, чтобы в подъезде и на этажах было чисто и опрятно, чтобы люди могли спокойно отдыхать в тишине в своих квартирах. А всем остальным будто ни до чего нет дела.
Времени у Ани было много, и она, вместо того чтобы сесть в автобус и проехать несколько остановок до фитнес-центра, свернула в березовую рощицу. Утренний воздух был влажным, очень свежим, и пахло будто чем-то сладким. Между деревьями повисла туманная дымка, сквозь которую тускло светило солнце. По пути Ане не встретилось ни единого человека, и ей стало казаться, что она случайно попала в какое-то загадочное место, где с ней обязательно должно случиться что-то хорошее и долгожданное. Но вскоре она вышла на широкую улицу, загудели и засигналили машины, появились ранние прохожие, и необычное для нее чувство умиротворения исчезло, словно никогда и не появлялось. Аня целенаправленно устремилась на занятие.
Когда, уставшая после тренировки, она вернулась домой, музыка у соседа продолжала грохотать и даже как будто стала громче. Еще не раздевшись, она остановилась на пороге и прислонилась спиной ко входной двери. Чувство какой-то пустоты затопило ее. Ей всегда было тяжело во второй половине воскресенья. Казалось, что еще один шанс упущен. В конце рабочей недели у нее обычно появлялась надежда, что в этот раз наконец что-то изменится. Суббота была лучшим днем, а в воскресенье надежда постепенно умирала, к вечеру полностью уступая место одиночеству. Аня со злостью бросила сумку с кроссовками и спортивным костюмом на пол, вылетела из квартиры и быстро спустилась по лестнице на один этаж.
«Ну, сам напросился! — направляясь к щитку со счетчиками электроэнергии, подумала она. — По-другому ты, видимо, не понимаешь!» Железная дверца щитка легко открылась. Аня бросила взгляд на провода и, как ей показалось, быстро определила автоматы и счетчик от квартиры шумного соседа. Секунду поколебавшись, она дернула провода, идущие к счетчику, и вырвала их. Музыка тотчас смолкла. Аня засуетилась, захлопнула дверцу и, не дожидаясь реакции соседа, быстро вернулась в свою квартиру. Сердце у нее сильно колотилось: это было, наверное, первое противоправное действие в ее жизни. Она всегда старалась жить по правилам, инструкциям, законам. Но тем не менее сейчас она была довольна собой, своей решимостью и смелостью.
Остаток дня пролетел незаметно за уборкой и подготовкой к новой рабочей неделе. Аня была в хорошем настроении, она считала, что воскресенье прошло не зря и она своим сегодняшним поступком сделала мир немножко лучше и справедливее. Время от времени Ане, занятой домашними делами, казалось, что из коридора доносятся голоса и вроде бы даже в какой-то момент началась суматоха, но быстро закончилась, так и не успев ее заинтересовать.
Она готовила рыбу на пару себе на ужин, когда раздался звонок в дверь. Звонок прозвучал резко и настойчиво, Аня вздрогнула и вдруг ощутила непонятную маетную тревогу, которая будто подстерегала ее весь день, пряталась за непривычной бодростью, дожидаясь своего часа.
— Кто там? — спросила Аня, не подходя близко к двери.
— Открывайте! Полиция! — раздался требовательный голос.
Словно завороженная, Аня медленно, даже не посмотрев в дверной глазок, открыла дверь. На пороге стояли трое мужчин. Одного она знала. Это был молодой человек, тот самый сосед с велосипедом, снимавший квартиру этажом ниже. Он почему-то выглядел грустным и даже пришибленным. Остальные двое Ане были незнакомы, выглядели совершенно непримечательно и одинаково. Один держал блокнот. Оттеснив Аню с порога, двое одинаковых уверенно зашли в квартиру, и девушка увидела позади них еще и участкового. Его она хорошо знала, часто обращалась к нему с разными жалобами на соседей.
При виде участкового у Ани появилась догадка. Неужели такая делегация из-за счетчика пришла? Только зачем они привели с собой еще и нового соседа? Или это он нажаловался? На угрозы или еще на что?
Аня пыталась вернуть себе свою обычную уверенность, ища опору в возмущении и гневе. Это ж надо, к ней из-за какой-то мелочи куча народу ввалилась, а когда она сама вызывала полицию, заявлялся один участковый, и то неохотно.
— Что вам надо? — с вызовом спросила она.
— Русакова Анна Вячеславовна? — спросил один из одинаковых.
— Да, это я, — подтвердила Аня.
Одинаковые по очереди представились, показали удостоверения. Их фамилии Аня сразу забыла, но поняла, что один — оперуполномоченный местного УВД, а другой — криминалист. Тревога снова вытеснила все остальные чувства, мысли закрутились мутным водоворотом. На мгновение Ане даже показалось, что у нее в действительности закружилась голова.
— Вам нужно проехать с нами в отделение, — проговорил тот, который представился оперуполномоченным.
— Зачем?
— Сегодня в вашем подъезде погибла девушка, — немного помедлив, произнес оперуполномоченный. — У нее в квартире выключился свет, и она пошла проверить счетчик. — Он ненадолго замолчал, внимательно глядя Ане в глаза. — Видимо, она взялась за оголенный провод, и ее ударило током.
— При чем тут я? — выдавила Аня. Во рту у нее пересохло, и язык не желал слушаться.
— А вот у нас свидетель есть, — кивнув в сторону соседа-велосипедиста, тихо ответил оперуполномоченный.
Аня со страхом посмотрела на парня. Она ничего не понимала, отказывалась понимать, но уже где-то зародилась, пыталась выплыть на поверхность ужасная мысль, осознание того, что произошло.
— Я как раз возвращался домой с покатушек, — вымученно проговорил сосед, — ну, то есть, катался на велосипеде. Снимал около лифтов крылья с колес, хотел помыть их дома и услышал шум в тамбуре около квартир. Выглянул и увидел вас. — Судорожным движением плеча сосед обозначил, что обращается к Ане. — Я не хотел попадаться вам на глаза. Вы ведь негативно отнеслись к велосипеду, и я просто тихо стоял и ждал, когда вы уйдете. Но я успел увидеть, что вы делаете.
— Свидетель был около лифтов в тринадцать сорок, — вдруг отчеканил криминалист. — Тело девушки, вашей соседки с девятого этажа, нашли ее родители, возвращаясь из магазина, в два часа дня.
У Ани потемнело в глазах. Ей казалось, что все это происходит не с ней. Она не могла так ошибиться. С теми, кто действует по правде и справедливости, такого не происходит.
— Но я хотела только, чтобы громкая музыка прекратилась у соседа подо мной, — пробормотала она. — Семья девушки живет в другом конце лестничной клетки.
— По всей видимости, вы что-то напутали в счетчике. Одевайтесь. Поехали. Будем разбираться в отделении, — скомандовал оперуполномоченный и, обернувшись к участковому, пояснил: — Здесь, скорее всего, причинение смерти по неосторожности.
Аня, пошатываясь, потянулась за курткой.
Ольга Славникова:
«Впечатляющая находка рассказа Катерины Андриановой — образ главной героини. Жажда справедливости плюс женское одиночество дают гремучую смесь, порождающую взрывной конфликт».
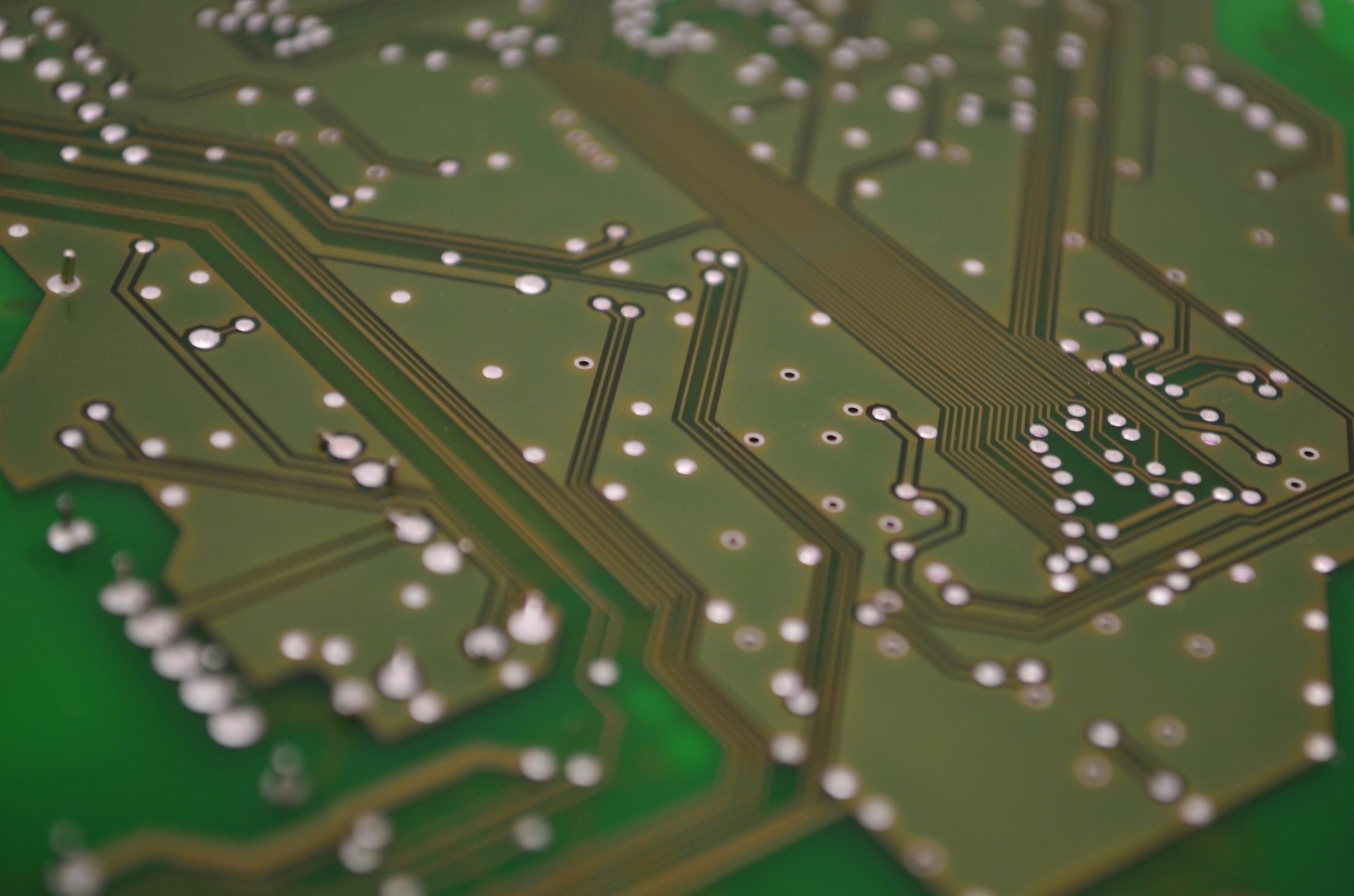
Сервисный центр
Датчик продолжал гореть красным.
Игорь медленно закрыл и открыл глаза, стараясь прогнать наваждение. Сердце колотилось, будто многотысячная толпа топала по хлипким трибунам, завидев любимого артиста. Адреналиновая волна шла примерно той же силы. Однако предвещала не удовольствие, а большие проблемы.
Утро начиналось как обычно. Не так давно Игорь устроился в новую компанию, словно сошедшую с рекламного буклета — социальный пакет, высокий доход, близость офиса к метро, а также престиж, стабильность и небольшое дополнение в виде бесконечного дня сурка.
Похоже, это стало материальным отображением того, что Игорь окончательно перестал мечтать о кругосветных путешествиях, волонтерской работе и просветительской деятельности. Он успокоил посторонние мысли, что иногда пробивались в стройный ряд планов, будто делали партизанские вылазки, и посвятил энергию действительно важным вещам — расчетам, в какие дни лучше взять отпуск, как вежливо отказаться замещать Валентина в период его отсутствия и как ставить еду в холодильник так, чтобы к ней вообще никто не прикасался. Это очень раздражает, знаете ли, когда кто-то трогает твою еду.
Жизнь шла как по маслу, и вдруг случилось это.
Игорь вышел из метро без пятнадцати девять. До офиса было около пяти минут прогулочным шагом. Летний день только разгорался и набирал тепло, так что можно было успеть выпить первую чашку кофе на легком ветерке. Оставалось только выбрать — недавно открывшаяся кофейня напротив метро или киоск на углу. Чип, вживленный в правую руку, показал, что в новой кофейне есть скидка, но на углу работает симпатичная девчонка.
Именно в тот момент, когда вселенная Игоря сконцентрировалась в точке этой развилки — скидка или симпатичное личико — датчик в чипе пискнул и загорелся красным.
Прошло около пяти лет с тех пор, как смертная казнь вновь стала самой жесткой мерой пресечения. Игорь, как и все, воспринял эту новость эмоционально. Не то, чтобы он предпринял какие-то действия, всем было ясно, что это бесполезно, но он провел много часов в дискуссиях о безнравственности этого решения с коллегами и домочадцами, и даже стоя в очередях подогревал окружающих едкими замечаниями о том, какое будущее нас теперь ждет.
Но потом все поутихло. Возмущения вновь вспыхнули уже в тестовом месяце. Пока алгоритм обкатывался, конечно же, случались сбои. Система путала людей, полных тезок в основном, но бывали и откровенно странные ошибки. Тем не менее, программу быстро доработали и запустили повсеместно.
Вынесенный приговор исполнялся немедленно. В целом автоматизация работы правоохранительных органов быстро помогла выйти на высокие показатели раскрываемости дел.
После всеобщего вживления чипов, заменивших паспорта, банковские карты и прочие документы, контролировать людей больше не составляло труда. Сбор улик и анализ места преступления, отслеживание подозреваемого через спутники, выбор меры пресечения и приведение ее в исполнение — все происходило почти одновременно.
Система сверяла данные и, следуя заданному алгоритму, выбирала меру наказания, спутник определял местоположение правонарушителя, и тут же за ним выезжала бригада. Поскольку система за многие годы ни разу не проиграла адвокату, то сторону защиты упразднили за ненадобностью. Да, ошибок и не могло быть, исключение человеческого фактора сделало работу правоохранительных органов безукоризненной. Удивительно, как у кого-то ещё хватало ума совершать преступления. Но, видимо, человеческая гордыня не знает пределов. По-прежнему выискивались глупцы, считавшие, что смогут обойти систему.
Наверное, именно для усмирения таких единиц и появилась смертная казнь. После вынесения приговора бригада выезжала к преступнику и убивала его прямо на месте. Человеку предлагалось самому выбрать способ. Правительство подчеркивало, что в этом и проявляется гуманность. Тщательно проверялось, чтобы в комнате не было посторонних, затем тело вывозили, а помещение обрабатывали. Пятнадцать минут на все. Идеально отлаженный механизм.
В новостях рассказывали, что все преступники неизменно выбирали инъекции. Они умирали часто в собственной постели, раскаявшись в содеянном и со спокойными лицами. Разве могла быть карательная система более гуманной?
Однако повстанцы, продолжавшие борьбу с чипами, называли эти выпуски новостей ложью. Они распространяли информацию о бесконечном насилии — о расстрелах, в лучшем случае, и грубой поножовщине во всех остальных. Безусловно, правосудие за закрытыми дверями оставляло массу вопросов. Люди, ушедшие в подполье и боровшиеся против власти, вживлявшей чипы своим гражданам, терпели потери из года в год, но явно не были намерены сдаваться.
Игорь избегал любых разговоров о повстанцах. Он теперь боялся, что даже слова, коснувшиеся его ушей, могут запятнать репутацию, а это было совсем ни к чему. Он рассчитывал на все положенные ему субсидии, а значит, следовало быть образцовым гражданином даже в помыслах.
Но, похоже, подсознание оказалось как всегда мудрее. В критический момент мысли выстроились в четкую последовательность. Инстинкт самосохранения активизировался и работал молниеносно.
Если датчик загорелся, значит, приговор уже вынесен, отряд выехал и скоро будет на месте. Несколько минут Игорь потратил на попытки прийти в себя. Произошел сбой — сомнения не было. Хотя такого не случалось со времени ввода системы, по крайней мере, так говорили по телевидению.
В одно мгновении им овладели чувства, которые он прятал ото всех, даже от самого себя: ненависть, возмущение и усталость от этой карательной машины. Оправдаться не выйдет — он понял это сразу. Никто не будет слушать его лепет. Необходимо действовать, и срочно.
В паре минут от метро работал центр по починке техники. Небольшой подвальчик, где ремонтировали телефоны и разную бытовую мелочевку. Правда, после введения чипов такие центры потеряли большую часть клиентов. Технику давно перестали чинить, а просто выкидывали и брали новую. Все функции мобильников перешли в чип. Однако оставались индивиды, которые предпочитали иметь телефоны или часы, или ещё какую-нибудь штуку просто так, из ностальгии или привязанности к стилю ретро, может быть.
Однако Игорь знал, что там сидят не просто ремонтники. Несомненно, в сервисном центре был кто-то из повстанцев, в курилке на работе это точно обсуждали. Поэтому выход намечался единственный — бежать туда. Преодолевая небольшое расстояние до мастерской, Игорь молился, чтобы слухи не оказались выдумкой, а ещё, чтобы сервис работал так рано.
Увидев знакомую дверь открытой, он побежал вниз по ступенькам, чувствуя прилив воодушевления. Он выберется, обязательно, сможет.
В подвале было сумрачно, слегка накурено и играло радио. Прямо перед собой Игорь увидел стойку для клиентов, здесь, видимо, принимали заказы, сбоку была дверь, ведущая за загородку. Игорь тихо приоткрыл её и нырнул внутрь.
Здесь он увидел длинный прямоугольный стол, вокруг которого были расставлены стулья. На одном спиной к Игорю, сгорбившись, сидел человек, однако силуэт намекал, что с ним шутки плохи. От него явно исходило ощущение опасности.
Игорь замер, совершенно не зная, что сказать. В голове будто наступило затмение. Мужчина обернулся и окинул его взглядом.
Игорь молча поднял руку и задрал рукав, в котором тщательно укрывал чип, пока бежал сюда.
— Убирайся, — медленно проговорил мужчина и отвернулся.
— Помогите мне! — выкрикнул Игорь срывающимся голосом. — Вы же один из них!
— Из кого? — ледяным голосом спросил мужчина.
— Из повстанцев, — выдохнул Игорь. — Вы принадлежите к ним.
— Я ни к кому не принадлежу, — буркнул мужчина и отшвырнул в сторону какую-то железку. — Я сам по себе.
— Хорошо-хорошо, — поспешно согласился Игорь. — Вы можете вырезать чип? Это просто ошибка.
Мужчина встал, подошел к нему и посмотрел так, что Игорь похолодел.
— С чего мне знать, что ты не преступник?
— Я… Я-а… Могу поклясться, — промямлил отчаявшийся.
— Убирайся, — рыкнул бугай и указал на дверь.
— У меня есть деньги, — спохватился Игорь. — Достаточно.
Мужчина медлил пару мгновений, а затем протянул руку со своим чипом, датчик на котором горел зеленым.
— Переводи.
— Отследят, — промямлил Игорь.
— Тебя да, а меня нет, — осклабился бугай.
Тогда Игорь протянул вперед свою дрожащую руку, предварительно нажав пару кнопок.
Системы синхронизировались, и раздался звуковой сигнал.
— Все, что есть, — прохрипел Игорь, облизывая губы.
Мужчина посмотрел на свой чип, хохотнул и покачал головой.
— Ну, запомни, сколько твоя жизнь стоит. — Затем он отошёл обратно к столу и начал там рыться. — Что будешь без чипа делать?
— Я … — замешкался Игорь. — Не знаю.
Мужчина взял плоскогубцы и бутылку водки.
— Пей, — протянул он. — Обезболивающего нет.
Игорь нехотя отвернул пробку, сделал несколько глотков, и его передернуло.
— Ты не выживешь без чипа, — констатировал бугай.
— Я … Я очень хочу жить, я смогу.
Мужчина только покачал головой, усадил Игоря на стул и сам сел рядом. Датчик продолжал гореть красным. Времени совсем не оставалось.
Он захватил плоскогубцами чип и рывком потащил на себя. Игорь заорал от боли и подался назад.
— Цыц! — прикрикнул мужчина и ткнул в смертника старой, пропитанной грязью тряпкой. — Заткни рот.
Попытался повторить операцию, но чип не сдвинулся ни на миллиметр. Пот катился по лицу Игоря, грязная тряпка так сильно контрастировала с белой красивой рубашкой, что жалость, по-видимому, тронула сердце его мучителя.
— Обожди, — сказал мужчина и начал рыться в ящике тумбочки. Наконец он извлек какой-то хитрый датчик и подключил его к чипу.
Прошло несколько минут.
— Мне жаль, ничего не выйдет, — сообщил мужчина почти в растерянности, откладывая датчик. Затем добавил: — Я не знал …
— Что? В чем дело?! — завопил Игорь.
— Я снимал чипы только с зеленым датчиком, это было болезненно, но терпимо. Чип закреплен в мышце. Мы разрывали волокна и извлекали его. Сейчас, когда чип перешел в красный статус, он выпустил дополнительные крепления — нити, которые впились в твою кость. Я не знал об этом. — Мужчина покачал головой. — Мне жаль, парень, ничего не выйдет. Чип не достать.
Где-то далеко послышался вой полицейской сирены.
Игорь вскочил, грязная тряпка упала на пол, руки дрожали, и он закричал:
— Руби!
Бугай вытаращил глаза в изумлении.
— Руби руку! — вопил Игорь.
— Нет, — жестко ответил мужчина. — Ты сдохнешь от потери крови, уймись.
— Руби, — хрипел Игорь, голос его срывался.
— Приди в себя, — ледяным тоном ответил мужчина. — Ну отрублю, а что дальше? Не пройдешь и пары шагов. Я не позволю тебе тут околеть. Будем говорить с ментами. Это твой единственный выход. Убеди, что приговор ошибка.
— Они не будут слушать, не будут, ты сам знаешь, — прошипел Игорь и кинулся к столу. Он начал в панике раскидывать предметы, бугай попытался остановить его, но тот отшвырнул мужика с силой, которой не знал в себе прежде.
В дверь заколотили. По улице забегали люди. Обезумев от страха, Игорь выхватил из-под хлама короткий, тронутый ржавчиной армейский нож. Попытка была абсурдной, но Игорь зажал рукоятку ножа в левом кулаке и застыл, набираясь мужества. И зашелся в диком крике, когда в дверь снова грохнули.
Бугай цапнул со стола увесистую книгу и ловко приложил Игоря по голове. Тот ойкнул и обмяк, оседая на пол, стараясь ухватиться за стол, как за последнюю надежду. Руки его раскинулись на дешевом линолеуме. Входная дверь не выдержала очередного удара и отлетела в сторону.
Датчик начал моргать красным, сначала медленно, а потом быстро. Затем раздался оглушительный писк, и цвет сменился на зеленый.
***
Этот день навсегда отпечатался черным в истории развития технологий. По невыясненным причинам в системе случился сбой, в результате которого чипы около пяти процентов населения перешли в красный режим. Пока ошибка не была выявлена, к полицейским поступали сигналы согласно стандартному протоколу. К счастью, сбой удалось быстро устранить. Ни один смертный приговор не был произведен в исполнение.
Однако по стране прокатилась волна безумия — люди выпрыгивали с балконов, кидались под машины, несколько человек действительно лишили себя рук. Большая часть пострадавших от трагической ошибки пережила мощный стресс и, по прогнозу врачей, вряд ли сумеет оправиться полностью.
Игорю повезло сохранить руку целой и здоровой, чего нельзя сказать о его психическом состоянии.
Сегодня настроение людей оценивается как протестное. Партизанское движение стало сильным, как никогда прежде. Граждане все активнее высказываются за отмену чипов и возвращение контроля в руки людей. Чем все закончится, предсказать сложно. Только время сможет рассудить нас.
Ольга Славникова:
«У Елены Кривоносовой богатое писательское воображение. Это позволяет построить личную машину времени и совершать вылазки в будущее. Футурологический рассказ «Сервисный центр» — про то, какова может быть цена сбоя компьютерной программы в «дивном новом мире».

Счастье внутренних дел
Иван Сергеевич всех людей делил на внутренних и внешних. К внутренним относился он сам и наверняка Стив Джобс. А вот мама, жена и дочь были явно внешними, их волновали неважные вещи.
Они могли каждый день обсуждать цены в магазинах, погоду, учителей в школе, одежду и косметику, ужасались новостям, подробно разбирали рецепты и маниакально пытались доказать, кто из них что правильнее делает.
Ожидаемая межвидовая борьба уже не расстраивала Ивана Сергеевича, ему даже нравилось наблюдать это тонкое искусство, но только до определенной грани. Гранью был покой Ивана Сергеевича. Он давно мечтал о покое. Но женщины звали его быть третейским судьей, точнее, предлагали ему выбрать, чьим инструментом он желает стать. Иван Сергеевич выбирал роль Понтия Пилата и уходил в ванную мыть руки, но женщины ярились пуще прежнего, и одна грозилась лишить материнского благословения, а вторая — теплого секса.
Хорошо, что у Ивана Сергеевича была серьезная и уважаемая работа, которую ценили все его домашние женщины. Вот и сегодня крики стихли, когда, внимательно глядя на маму и жену, Иван Сергеевич произнес:
— А мыши-то странно себя вели вчера. Всего пятый день эксперимента и такие изменения…
Мыши действительно вели себя странно.
Да уж, настоящий ученый бы так не сказал, подумал Иван Сергеевич. Но это было правдой. Казалось, у подопытных будто появился дополнительный иммунитет, хорошее самочувствие. Мыши перестали драться и впадать в депрессию, что было необычно для социальной группы в замкнутом пространстве.
Дело было так. Иван Сергеевич работал над сертификацией японского препарата в России и проводил стандартные процедуры по исследованию микробиоты кишечника. Изучал новый метабиотик, экстракт брожения кисломолочных бактерий. Японцы утверждали, что он не распадается в кишечнике и желудке, а распределяется по всему кишечнику и помогает растить полезные бактерии. После приема препарата в организмах мышей были заметны улучшения, но Ивану Сергеевичу для отчета было важно написать о восстановлении исключительно кишечной флоры, пострадавшей от приема антибиотиков.
Иван Сергеевич впервые попал в такую лабораторию. Здесь было все. Любые лабораторные комнаты, аппараты, тренировочные треки для грызунов. Можно было исследовать мышей вплоть до разложения на атомы.
И к Ивану Сергеевичу впервые относились так уважительно. Раньше, до японцев, его просто терпели. Сначала из-за отца, великого микробиолога со страниц учебников, или как тот сам себя называл: «ископаемое из прошлого столетия»; а потом из-за матери, которая умело пользовалась связями отца и договаривалась о хороших проектах для Ивана Сергеевича.
Вчера он зашел и лабораторию и привычно крикнул стажера Верочку, которая помогала ему надевать лабораторную одежду. Верочкино восхищение всем в мире, особенно голубым халатом и шапочкой, заражало Ивана Сергеевича каким-то особым типом любопытства, предчувствием исследователя, с которым он вглядывается в горизонт в поиске великих открытий. И однажды Иван Сергеевич как будто нащупал горизонт: а что, если мыши, рассуждал Иван Сергеевич, не просто способны восстанавливать микрофлору кишечника, но вообще увеличивают свой потенциал из-за этого волшебного препарата? Становятся сильнее или умнее или живут дольше?
Иван Сергеевич давно подозревал, что все проблемы человечества начинаются в кишечнике. Шутка ли, девяносто процентов бактерий в человеке нам до сих пор неизвестны. Кто знает, насколько сильно они влияют на весь организм? Есть же исследования, что токсоплазма толкает мышей на самоубийственную тягу к кошкам? Ивана Сергеевича передернуло. А что, если у каждого владельца кота просто токсоплазмоз, и именно поэтому он с маниакальной нежностью гладит и хвалит своего кота?
Фу.
Надо думать смелей. Вот если восстановить флору кишечника и снизить количество патогенных факторов, станет ли организм счастливее? Понятно, что счастье прячется в мозгу, гормонах, балансе веществ и вообще зависит от кучи параметров, но…
Но что, если счастье и впрямь спрятано в кишках?
Особенно если представить, что полезные микроорганизмы толкают на полезное питание, полезное питание поддерживает здоровую флору в желудочно-кишечном тракте, а здоровый ЖКТ доносит до всего организма, включая мозг, лучшие ингредиенты за счет улучшения всасываемости и оздоровления крови.
Иван Сергеевич встал и начал радостно прыгать. Со стороны это могло напомнить шаманский танец, он неловко и неритмично дергал ногами и пытался весело хлопать в ладоши над головой. Нет, это только американцы в фильмах красиво могут делать, но я же и в самом деле ге-ни-а-лен, думал Иван Сергеевич.
А если посмотреть еще дальше? На фиг всех психотерапевтов, не нужны будут больше психологи и психкабинеты с психлечебницами. Да что там психушки, люди перестанут совершать преступления, тюрьмы станут не нужны. Мыши даже перестали привычно нападать на сородичей!
Разве естественно здоровый и счастливый организм, которому не из-за чего страдать, пойдет убивать других? Нет, конечно же. Да, это Нобелевская премия, не меньше, спокойно рассуждал Иван Сергеевич.
Но как же этого не заметили японцы?
Ха, сам себе сказал Иван Сергеевич, они же зарегулированы донельзя. И в принципе питаются правильно, поэтому такой разницы не увидели. У них даже мышам хорошо в клетках, в отличие от наших. Надо еще раз все уточнить и перепроверить, но научное чутье не обмануть. Папа правильно говорил: встретишь открытие — не пропустишь, всем телом поведет в нужном направлении. Придется писать новые протоколы, конечно, но это не беда, он справится. Сумел же выдать работу отца после смерти за свою, да так, что на два диссера хватило.
Иван Сергеевич подправил записи и поставил лаборантов в известность о новых экспериментах на неделю вперед. Мышей вписали в новые протоколы и начали давать им препарат, а заодно прогонять по всем возможным лабиринтам. Единственная вещь неприятно удивила Ивана Сергеевича — когнитивные функции у мышей с препаратом оказались ниже. Незначительно, но ниже. Здоровье отличное, внутренний дзен на высоте, а глуповаты стали.
— Были бы людьми, Верочка, стали бы они верунами. Верили бы и молились мышиному богу, счастливые и здоровые!
— А вторая группа как, Иван Сергеевич?
— Вторая стандартно — все разные, но ума побольше. Правда, чувствуют себя хуже, хроников много, депрессивных много, агрессивных еще больше. Первые как выздоровели все сразу.
И действительно, опухоли уменьшились, состояние шерсти улучшилось, радости добавилось. И даже вонять в их клетках перестало. Нежный запах живого, и больше ничего лишнего.
* * *
Вечером Иван Сергеевич принял первую дозу препарата. Испытания на людях в Японии уже провели, поэтому он не боялся. Но они не учитывали психическое состояние, а Иван Сергеевич учтет только его.
Через неделю итоги поразили Ивана Сергеевича. Вроде ничего не поменялось, только внутри разливалось море покоя и здоровья. Метабиотик диктовал свою волю незаметно, но эффективно. Есть хотелось только полезное, алкоголь просто не хотелось, просыпалось легко, засыпалось тоже. До метро Иван Сергеевич бежал вприпрыжку, два километра, между прочим, и пятьдесят лет.
Иван Сергеевич после смерти отца ходил к психотерапевту по настоянию матери, состояние было схожее. Там ему становилось легче строго после сеансов два раза в неделю, он даже подозревал врача в специальных манипулятивных техниках подсадки на терапию. Но правда становилось легче, уходили стыд, панические атаки, не трогали домашние скандалы.
Склоки Светы и матери оставались в воздухе и не проникали в мозг и кровь, даже Оля, дочь жены, перестала бесить. Он стал больше понимать этих несчастных женщин.
Мама отказалась от собственной карьеры, посвятила себя отцу, великому ученому: каждое утро теплая после утюга рубашка, как любил папа, днем и вечером полная тишина, потому что папа работает, а все остальное время посвящалось Ванечке, его нужно было воспитать и выучить. Мама до сих пор звала его Ваечка, как он сам себя называл в детстве, и он так и не решался сказать, что ему уже пятьдесят и он вырос до Ивана Сергеевича. Два года назад Ваечка привел в дом женщину с ребенком. Мама не знала, что он встречался со Светой уже пять лет, и только когда у нее сгорел дом он был вынужден пригласить ее к себе. Воспитание не позволило пригласить просто так, поэтому одним днем Иван Сергеевич женился, удочерил Олю и привел их к маме. Мама совсем не обрадовалась, хотя до этого сочувствовала его одиночеству.
Свету было жаль, что ей приходится жить с внезапной свекровью в одном доме. С одной стороны, встретить одноклассника, который был в тебя влюблен, и выйти за него замуж в сорок восемь лет — это удача, а с другой стороны, мало приятного постоянно слышать от свекрови, что мальчик женился на Свете ради секса, и нечего тут командовать. Да и в историю со сгоревшим домом свекровь не верила, небось, Света сама спалила, чтобы в профессорскую квартиру заселиться с прицепом своим.
Оле приходилось труднее всех. В силу возраста ее бесила мать, бесил Иван Сергеевич, уважать в этих условиях можно было только бабку, вот та крутая, завернула всех вокруг себя!
Иван Сергеевич словно прозрел и обрел мудрость. Он здоровался с соседями в лифте, приносил домой продукты и каждый день не забывал выбросить мусор, два раза в неделю разбирал с Олей химию с биологией. Консьержка в подъезде нажимала на кнопку открытия двери в подъезд, как только видела его в окошко. Иван Сергеевич даже поставил таймер на телефон, чтобы пять раз в день обнять маму и Свету по очереди, чтобы всем досталось его благодати. Олю хвалил больше десяти раз.
Правда, когнитивные способности действительно снизились. Тесты он стал выполнять с трудом, это занимало все больше времени, и процент невыполненных заданий вырос. Но это его не расстраивало совершенно.
После отмены препарата Иван Сергеевич восстановил умственные способности и перестал любить весь мир, но продолжал наблюдать. Нужно было продолжать эксперимент, но на других людях.
* * *
Уже третью неделю каждое утро Иван Сергеевич заваривал и разливал всем чай. Добавлял туда собственноручно собранную мяту или мелиссу, ложечку меда и торжественно подавал домашним. Метабиотик нужно было принимать раз в день.
Дневник наблюдений за экспериментом
15 января
Объект 1 (Нелли Павловна, 80 лет, сокращенно НП, метабиотик)
У НП улучшения сна, прошла старческая бессонница, восстановился стул, произошли улучшения анализов (см. приложение), диабет вошел в ремиссию, питание стало разнообразным, и большую часть теперь составляют овощи и фрукты, появилось желание физической нагрузки, НП каждый день выполняет упражнения в технике пилатес в течение часа. Претензии к окружающим ушли, появился интерес к рисованию и лепке, может часами созерцать дерево в окне и потом рисовать деревья. Освоила «Инстаграм» и выкладывает там картины. Появилась цель в жизни — нести радость людям (пометки внизу страницы: «Просто и незатейливо»).
Объект 2 (Светлана Алексеевна, 50 лет, сокращенно СА, метабиотик)
СА потеряла лишний вес, запах от тела улучшился, признаки депрессии ушли, появились бодрость и желание секса, появилось желание готовить необычные блюда, перестала ходить в церковь на службы, начала медитировать. Поменялся стиль общения, СА начала мягко и ласково разговаривать с дочкой, мужем и свекровью. Постоянная улыбка на лице, бодрость духа и живость тела.
Объект 3 (Ольга Ивановна, 16 лет, сокращенно ОИ, метабиотик)
Прошли подростковые прыщи, улучшились волосы, ушла жирность (объект часто это упоминает при ИС, СА и НП). Стала хуже учиться, но теперь не переживает из-за этого. Появилось много друзей с разными интересами, увлеклась созданием зимнего сада в квартире, планирует вместо университета идти работать в компанию по ландшафтному дизайну.
Объект 3 (Иван Сергеевич, 50 лет, сокращенно ИС, контрольная группа, без приема препарата)
Психологическое состояние улучшилось благодаря изменениям поведения объектов НП, СА и ОИ.
Дома наступил долгожданный покой. Иван Сергеевич улыбнулся. Счастье, близкое к раю. Зачем ему научные открытия? Кто бы мог подумать, что достаточно дать препарат его дамам. За проверку метабиотика ему выплатили премию размером с годовой оклад. Он уже не дает препарат, но, похоже, изменения дошли до точки невозврата и стали необратимыми. Мама рисует его портреты, Оля благодарит за знания, Света любит в прямом и переносном смысле. Мама вчера переписала на него квартиру, дачу и почти все бывшие папины счета. Света всегда в хорошем настроении, дома благодать. И делиться этим знанием с другими он не будет. Иван Сергеевич чувствовал свое всемогущество, в его власти было даровать покой и счастье, он мог решать, делиться этим с человечеством или нет. Власти всех стран будут биться за его открытие, сейчас всем нужны спокойные, счастливые и недалекие люди. Важна среда, а в этой среде будут пестоваться истинные умы с божественными проблесками интуиции и понимания процессов.
Метабиотик поменял абсолютно все. Что же будет с миром, подумал Иван Сергеевич.
И что же будет со мной, побоялся он подумать.
Дневник наблюдений за экспериментом
(Изъят из квартиры потерпевшего)
1 марта
Объект 1. НП сошла с ума, когнитивные расстройства дошли до точки невозврата. Она купила билет на Гоа, тур по рисованию на три месяца. Взяла десятую часть всех денег, обняла ИС, перекрестила СА и ОИ и произнесла:
— Будьте здоровы и счастливы, мои дорогие, мне пора в новую жизнь. Наконец-то я поняла, что это значит — жить своей жизнью. Не хочу вас обременять. Спасибо, Ваня, мой дорогой Иван Сергеевич, ты умнейший человек и большой ученый, удачи тебе. Прости, что таскала тебя по врачам и не верила в твое великое ученое будущее. Прости меня, Светочка, зла желала тебе, неправа была, будь счастлива! Олечка, пусть твоя жизнь будет цветущим садом!
4 марта.
Объект 2. СА убедила дочь уехать вместе в Нидерланды. Устроилась тантрической секс-работницей с хорошим социальным пакетом, а Оля поступила в колледж на дизайнера ландшафтных работ. Оставила письмо ИС (см. ниже).
Дорогой Ваня! Я поняла свое призвание. Знаю, что тебе будет трудно первое время, но я знаю, мой хороший, что ты справишься. Мы с Олей желаем тебе только добра, мы знаем, что самое главное для тебя — это покой, чтобы ты мог проводить свои эксперименты и писать научные статьи.
Будь счастлив, ненаглядный Ваня.
С любовью, Света.
Эксперимент прекращен из-за полного отсутствия объектов.
* * *
— Колян, а потерпевший у нас кто, шишка какая-то?
— Да не, типа психолог, но биолог раньше был, изобрел новый психологический инструмент для оздоровления, Женька моя к нему ходила, говорит, работает.
— Ни фига себе он заработал, он даже не помнит, сколько денег в сейфе хранилось. Около тридцатки, говорит. А я только по описи понял, что он про лимоны. Твое бабло тоже тут где-то лежало, да, Колян?
— Ты что ржешь? Реально тебе говорю, Женька язву вылечила и заодно пилить меня перестала. Совсем, прикинь?
— Да ладно, это же не от потерпевшего? Это чтобы ты к Катьке не ушел, а?
— Да не, точно тебе говорю, лекарство помогло, я уже разводиться собирался, но ей как мозг вложили.
* * *
Слава богу, больше не надо было писать статьи и проводить эксперименты, размышлял Иван Сергеевич. Мама так и не вернулась из поездки в Индию, осталась там и преподавала живопись туристам при ашраме, учила их рисовать мандалы с мистическим компонентом.
Света вела онлайн-курсы для зрелых жриц тантрической любви, оказалось, очень востребованный формат. Оля выращивала голландские тюльпаны и была счастлива.
Иван Сергеевич положил телефон на тумбочку. Верочка еще спала. Вчера ей непросто пришлось, нужно было все распланировать на неделю. Одна из нянь заболела, двум другим пришлось в срочном порядке перестраивать занятия с детьми, все-таки трое детей требуют огромных усилий, да еще нужно уложить в расписание японский, хореографию, занятия с лошадьми. Опять же, лифт в доме сломался, Верочка полдня ждала техника, все это время ей пришлось бегать с первого на четвертый этаж и обратно, как в первый год после переезда в загородный поселок в свой четырехэтажный дом.
Но Иван Сергеевич улыбался. Просто улыбался, без метабиотика.
Пусть мама, Света и Оля были счастливы, но Иван Сергеевич хорошо помнил, как он сидел с письмом Светы в руках и думал упиться метабиотиком, чтобы стать непредсказуемо счастливым. Но что сделает меня счастливым? Метабиотик чувствует и реализует суть, он не прощает иллюзий, разрушает совесть, долг по отношению к близким. Но Иван Сергеевич знал свою суть, спасибо психотерапевту. Запуганная суть Ивана Сергеевича выражалась простым принципом: «Ничего не делать, жрать вкусно, спать сладко, все равно с кем, главное, регулярно».
Ладно, пора вставать, сегодня первый пациент на десять утра записан. Наконец-то Иван Сергеевич наладил процесс в соответствии со свои внутренним я.
Брал он пять клиентов в день. Каждый клиент в темной комнате с повязкой на глазах отвечал на вопросы. Вопросы звучали из компьютера, и время на ответ было ограничено. Потом клиентам нужно было идти по беговой дорожке тридцать минут, и после этого Иван Сергеевич подходил со стаканом метабиотика. Курс длился месяц. Сарафанное радио славило Ивана Сергеевича так, что к нему потянулись звезды «Инстаграма» и одна даже помогла с названием новой профессии. Тогда же и Верочка вновь появилась, увидела его рекламу в «Инстаграме».
Теперь у него на двери было написано: «Психобиолог внутренних дел Штурман Иван Сергеевич».

Съемная жизнь
Ваша история 8 ч.
— Всем приветик! Мы с Богданом решили сделать ремонт в гостиной! Сейчас покажу. Идем, идем, идем — вот! Смотрите, тут у нас будет большой камин, такой, знаете, как в американских фильмах про рождество. Кстати, я присмотрела один классный вариантик на сайте «каминов точка нет». Представьте себе, как уютно мы будем сидеть здесь по вечерам.
Просмотров: 745849
Ваша история 8 ч.
— Богдан говорит, что для установки камина придется разнести полдома, но чего не сделаешь для любимой? Да, Богданушка? А, коть? Не слышит… Кстати, дизайн-проект уже готов. Хотите, покажу в сториз? Плюсуйте в комментариях.
Просмотров: 289347
Ваша история 4 ч.
— Вы часто спрашиваете, как я делаю такой хвостик. Значит, смотрите. Поделила волосы на две части, а теперь их закручиваю. Кручу-кручу-верчу. Готово. Потом фиксирую все маленькой резинкой. Мне очень нравятся резинки от Гуминдиз. Как вам? Ставьте лайки.
Просмотров: 412953
Ваша история 1 ч.
— В последнее время получаю много комментариев, как мне удается быть такой стройной. Собственно, секрет прост. Как в том анекдоте про диетолога, просто «жрать надо меньше» ахаха. Итак, готовьтесь записывать продукты, идем на кухню. Богдан! это…
* * *
Зайдя на кухню, Мила обнаружила Богдана, увлеченно уткнувшегося в телефон, из которого доносился голос футбольного комментатора. На столе — развороченные упаковки чипсов и сушеных кальмаров. Под столом — рота пустых бутылок.
— Это что такое?! — спросила Мила еще по инерции жизнерадостным тоном, поспешно удаляя последнее видео.
Видео удалено
— Милаш, я тут просто дерби смотрю… Скоро закончат… Минут через сорок, — с виноватым видом пробормотал Богдан, поглядывая то на экран телефона, то на недовольное лицо Милы.
— Я сейчас начну нервничать.
Богдан, видя, что нервничать уже начали, быстро выглотал, что оставалось в бутылке, поставил ее к «сослуживцам» под стол, сбросил туда же чипсы с кальмарами и принял презентабельный вид.
Мила тем временем вышла и начала снимать видео заново: «Пора и покушать. Меня часто спрашивают, что кушать, чтобы быть… Чтобы оставаться такой же стройной. Ну, это как в анекдоте про диетолога «жрать нужно меньше», ахаха. Ладно, пойдемте на кухню — расскажу…»
— Что у тебя с лицом, твою мать! — гневно выпалила Мила.
Видео удалено
— Теперь-то что не так? На свое посмотри, — неожиданно для себя огрызнулся Богдан, прислушиваясь к шепоту из спрятанного в кармане телефона: «Выход три в одного…»
— Закрой свой клюв! Ты мне все сториз испоганишь! — вскипела Мила, яростно хлопая дверцами кухонных шкафов. Затем она достала упаковку мюсли и так резко поставила ее на стол, что несколько хлопьев вылетело. — Сейчас мы будем есть эти мюсли и улыбаться, понял? Куда пошел?
— В туалет. Можно? — с раздраженной иронией спросил Богдан.
— Ты пойдешь, когда я закончу снимать видео! А судя по твоей хмельной роже, дублей будет много.
— Да п… — начал было Богдан, но взял себя в руки и спокойно заявил: — Все. Достало. Дальше без меня!
— Что-о?! — Мила вспыхнула. — Значит, так. Для слепоглухонемых и укушенных в голову напоминаю: ты живешь в этом загородном доме, ездишь на дорогой тачке, носишь эти котлы только потому, кусок дебила, что я успешно веду свой блог. А если тебе что-то не нравится, до свиданья. Электрички еще ходят!
Последние слова ей пришлось выкрикивать в спину Богдану, который прорвался в прихожую, а затем с грохотом захлопнул за собой дверь.
* * *
— Да, — донесся низкий голос из трубки.
— Але, Казбек Эльбрусович? Удобно? Это Людмила… Вы… Я звоню по договору о сдаче дома… для ведения блога.
— Ну. Что такое? Только короче.
— От меня ушел жених, поэтому я не смогу больше делать посты о мужской пижаме и пене для бритья… Ну, пока не найду нового. Я хотела вас попросить… Может быть… Вы дадите мне что-нибудь другое для рекламы? — затараторила блогерша.
— Эй, ты ничего не перепутала? По договору с меня дом и тачка, а ты толкаешь рекламу, с которой еще и имеешь пять процентов. Я еще этот гребаный ремонт в гостиной оплачиваю. Короче. Если что-то не нравится, до свиданья. — Сказав это, Казбек Эльбрусович бросил трубку и, немного поразмыслив, попросил секретаршу соединить его с продюсером платного телеканала ПТВ.
* * *
В предыдущих сериях:
Мила поссорилась с Богданом: «…Что у тебя с лицом, твою мать!» «…Теперь-то что не так? На свое посмотри».
Богдан ушел, не прощаясь. «…А если тебе что-то не нравится, до свиданья. Электрички еще ходят».
На чьей стороне будете вы?
Смотрите гипер-реалити шоу, участники которого заселяются в роскошный дом, чтобы раскрутить свой блог о богатой жизни, даже не подозревая, что их снимает скрытая камера…
Прямо сейчас! Только на ПТВ.
Ольга Славникова:
«Внезапный поворот событий в финале этого рассказа поменяет представление читателя о том, что на самом деле происходит в начале. Вадим Тарасов умеет закладывать виртуозные сюжетные виражи как на малом пространстве новеллы, так и на больших романных трассах».

Три Владимира
В очередной раз Василий Саблин попал вторым помощником на танкер-химовоз «Chemistry Hawk». Это был 1999 год. Судно возило серную кислоту из Варны на Кипр, фосфорную кислоту из Израиля в Индию, патоку из Судана в Равенну и ещё много чего и куда за семь месяцев контракта.
Так получилось, что на судне было сразу три Владимира. Для экипажа в восемнадцать человек плотность Владимиров на один квадратный метр зашкаливала. Имя начинало терять смысл, и поэтому всем троим были даны новые прозвища. Старпом стал Вавуилом Карловичем. Третий механик — Вольдемаром. А пампик — просто Вовочкой. Все эти прозвища изобрёл «дедушка» — стармех Семён Давидович — и тщательно внедрил в обиход. Он частенько приходил на вахту к Саблину и травил всякие морские байки. В основном про советский флот, про то, как кто-то напился и что с ним потом из-за этого случилось.
Первый Владимир, Вавуил Карлович, был коренастый, круглоголовый и с кошачьими лермонтовскими усиками. Круглые глаза слегка навыкате. В разговоре картавил и сверкал золотым зубом. Вавуил Карлович очень любил офицерскую выправку. В Бомбее он заказал приходящему портному два рабочих комбинезона: бежевого цвета и цвета хаки с короткими рукавами, чтоб не потеть в тропиках. Вавуил Карлович делал свой первый рейс старпомом и держался прожженным морским волком. Если он не уходил в запой, его можно было встретить с чашечкой кофе и с сигаретой.
Второй из Владимиров, Вольдемар, был другом Саблина. Ну, каким другом? Они просто стояли одну и ту же вахту: с двенадцати до четырёх. Саблин на мостике, а Вольдемар в подвале, в машинном отделении. Вольдемар был из Риги. В общем, несуразная личность, похож на бледную поганку. Его даже в герои второго плана невозможно поставить, не потянет. Вольдемар часто начинает что-нибудь рассказывать, и это всегда чепуха. Например, вдруг сообщит, в каком году он впервые услышал какую-то певицу эстрадную, на самом деле никому не нужную и неизвестную, или что в Риге один мужик выиграл «жигулёнок» в лотерею позапрошлым летом.
Один только раз он удивил Саблина, когда купил в Пирее шубу из чёрного зайца своей бывшей жене. Саблин тогда спросил:
— Зачем? Вы же с ней уже давно не живете.
И получил загадочный ответ:
— А вдруг…
В этот магазин шуб их притащили бывшие соотечественники, а ныне проживающие в Греции пацаны Гоша и Арсен. Саблин купил там себе тяжёлую как доспех коричневую кожаную куртку. После покупок они с Вольдемаром здорово напились коньяка, закусывая горькими маслинами. Коньяк был такой дешёвый, что даже назывался не «метакса», а как-то по школьному — «чернила». И Саблину пришлось трезветь уже стоя на вахте, что было неимоверно тяжко.
Третий же Владимир – это Вовочка, пампик, специалист узкого профиля и сомнительных качеств. Слово «пампик» означает в переводе с английского — «человек-насос». Это такая должность на танкерах. Обычно это всегда человек с суперспособностями, но у всех пампиков эти способности разные. Вовочка своим мелочным энтузиазмом и необузданностью очень напоминал кустаря-одиночку слесаря Полесова из «Двенадцати стульев». Однажды он рассказал:
— Была у меня в Мурмагао одна девушка. Но она была влюблена в нашего старпома Колю.
— Это почему же? — удивился Саблин.
— А в меня тогда влюбиться было невозможно, у меня была борода…
А ещё у Вовочки имелись такие качества: пострадать своим телом за пароход; отдать зуб, руку, задницу… на отсечение. Один раз он работал в полностью индусском экипаже девять месяцев. И заработал язву желудка. Ведь индусскую еду «есть невозможно, перчёное всё, сука».
Однажды, по словам Вовочки, он накладывал марку на якорь-цепь, а капитан, гад, дал реверс двигателем, цепь пошла, и Вовочке чуть не оторвало руку. Он с такой любовью об этом рассказывал, как будто это был подвиг. И уже в нынешнем рейсе славный пампик-страдалец раскроил себе нижнюю губу ломом.
Вот как это произошло. Они с Вавуилом Карловичем мыли грузовые танки, а насос slop-танка сломался, и пампик полез его ремонтировать. Попробовал поднять корпус насоса. Корпус не шёл, тогда он использовал ломик как рычаг и даже сел на него для пущего веса. Ломик же выскользнул и прямо в «табло». К слову сказать, Вовочка был выпимши, может, поэтому ещё легко отделался — только нижняя губа разошлась на две части. Саблин и Вавуил Карлович по очереди пытались её зашить, но иголок нужного размера не нашлось, пациент испускал предсмертные вопли и брызгался слюной как верблюд. В итоге залепили пластырем, и через неделю всё само срослось. Драма заключалась ещё и в том, что Вавуил Карлович сначала не знал о губе и кричал по рации, чтоб Вовочка быстрее заканчивал возиться с насосом, а тот осерчал от боли и тоски, взял кувалду и начал гоняться за Вавуилом. «Я, — говорил потом Вовочка, — не хотел его убивать. Я хотел ему, например, ногу размозжить, чтоб он понял». Впрочем, никто на это не обиделся и вечером они опять продолжили пьянку.
* * *
Тутик. Так Саблин называл порт Тутикорин. Не путать с Тривандрамом — это другой порт, хотя и рядом. Давно ещё, будучи четвёртым помощником в славном Н-ском пароходстве, Саблин получил смешную корректуру для лоции, которая гласила: «А порт Тируванампапурам отныне называть Тривандрам». Эта фраза была аккуратно вырезана и вклеена в лоцию. Так раньше делалась корректура. Но неужели кто-то серьезно использовал старое название, недоумевал Саблин? Вроде:
— Алло, Ваня! Вы где сейчас?!
— Светочка, в Тируванампапурамапупивандраме!..
То ли дело — Тутик.
— Вася, до Тутика расстояние посчитал? Когда приходим? Семнадцатого?
— Сам же знаешь, зачем спрашиваешь? — ворчал Саблин.
— Ну, просто. Чтоб уточнить, — ухмылялся Вольдемар.
У них в машинном отделении висела старая замасленная карта, по которой механики отмеряли расстояние спичечным коробком: один коробок точно равнялся суточному переходу. Эти жуки всегда знали дату прихода лучше Саблина.
Швартовка прошла как обычно. И вот они уже стоят, выгружают фосфорную кислоту. Солнце в зените. Невозможно поднять глаза. Наверное, в небесах явился сам Вишну или, на худой конец, бог солнца Сурья и казнит белым огнём. А внизу всё фиолетовое и застывшее. Только медленно ползают по палубе фигурки филиппинцев. Даже на трапе вахта не стоит: Вавуил Карлович зарядил всех матросов красить грузовые трубы. Ромэл похож на Рубенса: шея обмотана красной портянкой и длинная кисточка в вытянутой руке. Фредди и Вальтер орудуют маленькими юркими валиками как заведённые. Кредо Вавуила Карловича: пока на судне есть ржавчина, матрос должен отбивать её и красить, все остальные дела неважны. «Я сделаю из этого гжавого когыта конфетку». А вон тот рыбак с удочкой — это Саблин, на самом деле он меряет груз в танках. У него в руках цепь из нержавейки, на конце которой деревянная хреновина с плоским дном. Цепь — потому что простая рулетка быстро сгорит в кислоте. А поплавок очень удобная вещь — можно, даже не глядя в танк, дергать вверх-вниз, и почувствуешь, когда он начинает прилипать к жидкости, он же плоский. И тогда засекаешь уровень: на цепи через каждый метр повязана ленточка. Но стоять надо как можно дальше от люка — пары кислоты щекочут горло.
В 14:20 по причалу прошествовала и поднялась по сходне на пароход некая персона. Это был человек в военной форме, в фуражке, с погонами и весь в значках и лычках.
— CCR — палуба. Власти на борту! — доложил по рации Ромэл.
«Что за …!» — подумал Вавуил Карлович, и по коленкам у него прошла предательская дрожь.
— Добрый день! Я заместитель капитана порта. Могу я говорить с капитаном судна? — холодно представилась персона.
— Его нет на богту. Я, стагпом, вместо него, — соврал Вавуил Карлович. Дело в том, что капитан просил не беспокоить его по мелочам и даже отдал ключи от артелки.
— Чиф, ваша команда красит судно. Это запрещено делать у причала. Штраф — пять тысяч долларов, — сразу приступил к делу индиец.
— Вы ошибаетесь. Никто не кгасит, — невозмутимо ответил Вавуил.
— Позовите сюда матроса, который был сейчас на палубе в желтой каске.
Пришёл Фредди. Вид у него был живописный: роба, выгоревшая на солнце до белизны, как будто ей тысяча лет, сильно порванные обе штанины и то же на заднице. Копна черных густых волос. Очень щекастая и бравая физиономия.
— Смотри, чиф, у него на рукавах пятна свежей краски. Даже на лице! — искренне возмутился индиец. И тут же обратился к Фредди: — Ты красил?
— Нет, сэр!
Они еще долго спорили. Фредди ушёл. Вавуил Карлович понимал, что полностью отболтаться не получится, и перевёл разговор в сторону торговли. В итоге сошлись на одной бутылке виски и трёх блоках сигарет. Получив компенсацию, довольный индиец заверил, что теперь они могут красить сколько хотят. Он лично разрешает им это делать. «Мы же все люди и понимаем друг друга…» — и т. д.
Старпом был почти что доволен. Да, пришлось понести некоторые расходы, но это ничего, спишется. Ещё легко отделались. Зато теперь уж можно красить сколько влезет, до самого отхода.
Прошла ещё пара часов. Приближался ужин. Саблин опять мерил груз в танках, художники на палубе накладывали последние завершающие мазки. Как вдруг Ромэл сообщил по рации:
— CCR — палуба. Власти на борту!
Вавуил Карлович подскочил и выглянул в иллюминатор. По переходному мостику к надстройке шёл такой же «генерал», как и в прошлый раз, но не тот же самый. Как говорят филиппинцы: “Same-same, but different”. А дальше — дежавю. Приветствие, нельзя красить, штраф.
Вавуилу Карловичу хотелось заплакать, зарычать и разбить об эту наглую морду стул. Человек в форме упорно гнул свою линию, а при сообщении о «подарке» его коллеге возмутился и заявил, что ничего об этом не знает. «Наверное, это был не настоящий офицер, а мои документы можете проверить. Вот». Впрочем, на размер компенсации — бутылка виски и три блока сигарет — он сразу же согласился. Уходя, он сказал:
— Вот теперь точно можете красить, что хотите. Больше вас никто не тронет. Я гарантирую.
Как только второй индиец вышел из CCR, Вавуил Карлович проревел в рацию:
— Фгедди и матгосы! Больше в этом погту никакой покгаски!..
И далее много недобрых высказываний про какую-то бабушку, конец света и плохое международное положение. Фредди хоть и разбирался уже в сильных русских выражениях, но в этот раз было много новых слов.
* * *
— А водку он хреначит как погружной насос, — сказал «дедушка» Семён Давидович.
Насчет насоса — это он имел в виду Вавуила Карловича, который последнее время всё чаще уходил в затяжное пике. Саблин уже и забыл, когда старпом последний раз появлялся на мостике. Приходилось стоять вахту шесть через шесть часов с третьим помощником Александром.
Судно, утробно ворча, ползло через Индийский океан опять в Средиземку. Уже начался летний муссон, было душно и пасмурно. Покачивало. Фредди со своими земляками таскали по палубе шланги, пампик Вовочка тоже суетился, крутил клапана, лазил зачем-то в помповое. Саблин лениво наблюдал за ними с мостика, зная, что идёт подготовка к мойке грузовых танков.
В какой-то момент пампик исчез, и его не было минут десять. И вот Саблин видит, что Вовочка выскакивает из шестого центрального танка и ведёт себя очень странно. Он… танцует. Да ещё как приплясывает. То ли комаринского, то ли чечётка безумно быстрая. И при этом начинает скидывать с себя одежду. Сначала размашисто отшвырнул резиновые сапоги, потом выскочил из кокона комбинезона, а дальше взялся стаскивать сине-серые семейки. Саблин уже всё понял, выскочил на крыло мостика и закричал матросам:
— Water! Water!
Фредди как раз был недалеко. Он схватил шланг и начал поливать крутящегося и дергающегося Вовочку водой. Да и как не дёргаться, кислота-то фосфорная, жжёт. Он ведь полез в танк сам, никому не сказав, резиновый химический костюм не надел, только в сапогах и обычном рабочем комбинезоне. Вовочка хотел там подвинуть переносной насос (emergency pump) поближе к колодцу. Да поскользнулся и хряпнулся спиной в остатки кислоты.
Фредди этот мужской стриптиз Вовочке не простил. Отныне он стал называть пампика Майкл Дуглас. Якобы этот американский актёр тоже в каком-то фильме голым всех соблазнял. Фредди всегда вспоминал этот случай, а под конец рассказа зло говорил: «М-а-айкл Д-у-углас. Г-ммм».
* * *
Ещё две недели пролетели незаметно. Хотя, как посмотреть. Если в каждый отдельный момент задумаешься, кажется, что время остановилось, а вот посмотришь назад — у-ух, вроде вчера только вышли из Тутика, а уже стоят в Хайфе. И Красное море прошли, и Суэцкий канал, и начали уже грузить параксилен, и пробы первого фута запороли. Вроде как танки плохо осушены были. Испорченный первый фут откачали в слоптанк. Вавуил Карлович со всеми спорил и, нетрезвый, бросался в истерики, за что был списан с парохода и уехал домой. Вовочка ходил смирный, умытый, причёсанный и задумчивый, даже на берег не просился. Саблин временно принял дела старпома, пока новый не приедет.
Вот уже и погрузка закончена. Осталось дождаться коносаменты и port clearance от агента. В CCR разорвал тишину телефон.
— Где этот козёл? — раздался как всегда недовольный голос «дедушки».
— Вам кого? — спросил Саблин.
— Третий механик. Ишак этот! Вольдемар! — почти заорал «дед».
Саблин сразу понял, что это всё неспроста. И правда, тут же выяснилось, что Вольдемар так и не вернулся еще из города, куда он отправился утром. Саблин вспомнил, что последние дни Вольдемар ходил какой-то странный. От пива отказывался, зачем-то рассказал историю, как у него дома жила собака, дворняжка по имени Боцман. Еще он вроде бы говорил, что был вчера в женском общежитии. Что он туда через окно залез, и там жили русскоязычные девушки, недавно приехавшие в Израиль. Но подробности Саблин не помнил, потому что лениво отмахнулся от Вольдемара, надо было заполнять грузовые документы.
Оставался только один час. Мастер сказал, что задерживать отход судна из-за одного человека не собирается, да и не имеет права. Придет — хорошо, а если нет, надо к этому подготовиться: собрать вещи третьего механика и отдать агенту. Тот разыщет «блудного сына», если надо, через полицию, и организует отправку Вольдемара домой. «Вот это да, — думал Саблин. — Как же быть? Бросаться на поиски человека в большом незнакомом городе — нереально. Если бы я вчера выслушал весь этот бред про общежитие, сейчас знал бы, что делать… Блин. Получается, мастер прав, как бы жестоко это ни звучало. Надеюсь, с Вольдемаром ничего страшного не случилось. Вот урод!»
В каюте Вольдемара Саблин никогда раньше не был. Обычно они пили пиво у Саблина. Дверь не заперта. Каюта как каюта. Умывальник, как в заброшенной психбольнице; на крючке висят две робы, такие грязные, будто в них кто-то купался в мазуте; неубранная кровать; на столе скорлупа от орехов и карамелизированные потёки.
Саблин нашёл в шкафу матерчатый чемодан и начал закидывать в него вещи. Пуловер, шорты, горсть носков. Почему нигде нет документов? Ну, паспорт-то, может, был с ним, а где рабочий диплом и все эти дурацкие сертификаты? Что-то многих вещей не видно. Нет рюкзака, куртки, никаких брюк и рубашек, и вообще всё как-то совсем уж безжизненно. Стоп. А где чёрная заячья шуба?.. А может, Вольдемар и не потерялся вовсе? Побег? Но зачем?
На отшвартовке Саблин был на корме. Отдали шпринги и начали их выбирать, судно отходило от стенки. Мокрая гаша залетела в клюз, чавкающе шмякнулась на палубу и поползла к лебёдке. Причал был пуст, как равнина на Марсе. «Эх, Владимир, Владимир. Удачи тебе», — подумал Саблин.
* * *
— Ну и р-р-рожа, — сказал «дедушка» Семён Давидович, разглядывая себя в зеркало на мостике и любовно поглаживая бородку-эспаньолку. — Как у обезьяны… жопа.
«А ведь и правда в нём есть что-то обезьянье, — подумал Саблин. — Просто я раньше не знал, что именно».
Ольга Славникова:
«У Александра Васько уникальный жизненный опыт: торговый флот. Увидеть будни танкера изнутри — само по себе интересно. А у Александра Васько еще и острый писательский взгляд: как на драматическое, так и на курьезное. И персонажи его всегда обладают живой характерностью: читать их диалоги — одно удовольствие».

Фанаты
Мой электрон! Руслан бежит в сторону восьмой платформы, на табло которой горит: «Александров, со всеми остановками, 15:55». Взгляд на часы — минута до отправления, быстрее! Он буквально вваливается в автоматические двери, которые слегка прижевывают рюкзак с ноутом. Успел. В тамбуре никого. Он двигается в середину состава, там выход на нужной платформе. Идет по электричке, особо не обращая внимания на малочисленных пассажиров. В наушниках играет «Продиджи», настроение отличное, сессию почти сдал, а завтра «Спартак» надерет задницу «Ростову» и возьмет Кубок России, очистив репутацию за десятое место в сезоне.
В одном из вагонов, примерно пятом по счету, глаз цепляется за группу из четырех «коней», фанатов ЦСКА. Они что-то орут друг другу и гогочут, на сиденье стоит открытый пузырь водки — отмечают победу в Чемпионате, видимо. Вагон вокруг пустой, и поэтому когда Руслан проходит мимо, «кони» резко замолкают и провожают его кровавыми взглядами. Аж мурашки по коже бегут. Он смотрит вперед, прямо перед собой, прекрасно представляя, что может последовать, перецепись он взглядом с этими локаторами «свой-чужой». Фух, вот следующий вагон. И еще один, и еще. Где-то ближе к голове поезда он успокаивается и садится на скамейку в вагоне, заполненном бабушками, судя по гомону, едущими вместе на какую-то дачную ярмарку. Безопасно и уютно.
«Продиджи» сменяется «Фэтбойслимом», и настроение вновь становится радужным. Мысли плавают вокруг Милы, ее округлых форм, сладких губ, задорной улыбки и таких нежных глаз. Объявляют следующей «Челюскинскую», а потом уже и нужная платформа. Руслан нежится на солнце у окна, и тут раздается грохот с криком:
— Эй! Спартач!
Оклик врывается в музыку и заставляет Руслана подскочить на месте. Спалился! Черт, да как же это… Точно, значок «Спартак» пришпилен к молнии рюкзака. Столь любимый, но так предательски засветивший… Реакция у Руслана всегда была на уровне, поэтому он не медля вскакивает и бежит по вагону прочь от фанатов, ловко забрасывая рюкзак на спину. Вперед, следующий вагон, еще один, не оборачиваться! И так слышно — они там, сзади, прут за ним с гомоном и матом. Электричка останавливается в тот момент, когда Руслан влетает в головной вагон, дальше бежать некуда, только на улицу, и он не задумываясь выпрыгивает на платформу. «Кони» тоже! Он несется по платформе вперед, спрыгивает на рельсы и устремляется к домам метрах в пятистах от путей.
Погоня не отстает и даже, судя по звукам, приближается. Криков уже не слышно, лишь дружный топот и напряженное сопение. Так борзые гонят зайца. Сравнение не радует. Руслан чувствует, что устает. Надо что-то срочно придумать. Но что? Завалиться в дом к местным? Какая-никакая защита, «кони» не тронут обычного человека. Или тронут?
Забор первого дома встречает яростным лаем собаки. Шанс! Руслан с разбега подпрыгивает и хватается руками за доски. Подтягивается — и вот он уже сидит на заборе. Внизу овчарка, уже не лает, притихла, но припадает к земле, рычит и скалит зубы. Сзади подбегают фанаты — лица красные, перекошены злобой, и кажется, будто в глазах у них зажегся огонек победы. Руслан не может заставить себя спрыгнуть. Страх перед псом побеждает страх перед фанатами.
Тут открывается дверь дома, и на пороге появляется небольшой мужичок, одетый в тельняшку. Он осматривает Руслана и коротко бросает:
— Место, Фред.
Собака в два прыжка перемещается к будке справа от хозяина и не сводит глаз с Руслана, в любой момент готовая ринуться и схватить!
Тот сбивчиво тараторит:
— Прошу, помогите, за мной гонятся «кони», то есть, фанаты футбольные…
Как бы в подтверждение его слов фанаты, уже подбежавшие к забору, заулюлюкали, и в доски ударились две брошенные палки.
— Прыгай, — командует мужичок и говорит уже собаке: — Фред, это свой.
Руслан прыгает во двор и осторожно идет к мужику. Двое фанатов уже сидят на заборе и рассматривают неожиданное препятствие. Их друганы, видимо, слишком толстые или пьяные, залезть не могут. Слышны голоса:
— Что там? Что? Где «мясной»?
Один, с бритым черепом и татуировкой ЦСКА на левом виске, с забора говорит:
— Дядя, чего ты лезешь? Это не твое дело, а наши разборки. Отдай пацана нам, и разойдемся мирно.
— А не то что? — спрашивает мужичок.
— Дядя, ну чего тебе непонятно? Нас четверо, мы добычу загнали, и теперь только твой пес на пути. Видно, что он здоровый, но со всеми не справится, ты же понимаешь сам. Отдай пацана, мы его сильно не тронем. Так, чисто фейс подрихтуем.
На этих словах фанат скалится, и его дружки довольно гогочут. Предвкушают сладкое насилие, суки.
Руслан молчит. Перед глазами проносятся тоскливые видения предстоящей больнички вместо пляжа с Милой рядом. Ну правда, что этот мужичок с псом смогут сделать фанатам? Только разозлят и сами огребут… Гогот стихает, и все ждут, что скажет хозяин дома, на невзрачном лице которого видна тяжелая работа мысли. Наконец, тот решается:
— Ладно, мальчики, уговорили. Слезайте с забора обратно и подходите все вчетвером к калитке. Я этого, — он кивает на Руслана, — выведу оттуда и вам отдам. Мне проблемы не нужны. Фред, ко мне, охранять.
Пес тут же оказывается у ног хозяина и скалит зубы на Руслана.
— Молодец, дядя, уважаю. — Главный фанат сверкает глазами и спрыгивает за забор.
— А щас еще больше зауважаешь, — зло, но тихо цедит мужичок. И уже Руслану: — Пойдем.
Участок большой и до калитки метров пятнадцать. Руслан еще подумывает, не попробовать ли смыться, но рычание Фреда сковывает волю. Он обреченно шагает к калитке, за ним Фред, и замыкает процессию хозяин, не ставший спасителем.
Подходят, фанаты на месте.
— Открывай. — В голосе мужичка откуда-то появились властные ноты, и Руслан не оборачиваясь распахивает калитку. Хочет сделать шаг навстречу горькой судьбе, как вдруг замечает побелевшие и вытянувшиеся лица всех четырех «коней».
— Эй, мужик, ты чего? — Голос обритого взволнован. «Кони» начинают медленно пятиться.
Руслан оборачивается — мужичок, этот невзрачный типчик, держит в руках двустволку, на прикладе которой… «Спартак»! Такого облегчения Руслан не испытывал в жизни больше ни разу, разве что когда на первом курсе выяснилось, что Нинка все-таки не беременна и врала ему, чтобы охомутать.
— Ну что, «конявые», как насчет «мясной» пули? А? — Мужик явно наслаждается ситуацией. — Наша «фирма» таких, как вы, пятнадцать лет назад штабелями валила, клоуны.
Фанаты молчат и потихоньку отходят.
— Куда же вы, гости дорогие, а как же чайку попить? — Голос мужика сочится ядом.
Руслану кажется, что мужик хочет выстрелить и попасть. Жутковато.
— Ладно, щенки, я сегодня добрый и отпущу вас. Валите. А чтобы не медлили, Фред, фас!
Пес и фанаты рвут с места одновременно, и, что удивительно, скорость людей оказывается выше. Они стремительно удаляются из виду, отрываясь от Фреда. Мужик хохочет и отзывает пса. Потом смотрит на Руслана и говорит:
— Ты тоже щенок, а туда же, фанат. Нет щас фанатов, слабаки одни, не то что раньше. Ладно, спартач, все-таки пойдем в дом, чаем угощу.
Ольга Славникова:
«Роман Яковенко написал динамичный, жесткий рассказ с хорошим концом. Казалось бы, какой хэппи-энд, если речь идет о столкновении футбольных фанатов? Но есть, оказывается, связь поколений, о которой мы, далекие от футбола, мало что знаем».

Вебинар с Майей Кучерской «Искусство перевоплощения»
В октябре 2018 Creative Writing School совместно с Ridero провели вебинар писателя, филолога и основателя Creative Writing School с Майей Кучерской «Искусство перевоплощения: как заговорить от лица своего персонажа?».
Поговорили о том, до какой степени автор должен превращаться в кота, когда сочиняет историю от его имени. Разобрали техники превращения неживых предметов в живого и говорящего героя.
Вебинар продолжает цикл онлайн-встреч «CWS Будильник» с мастерами Creative Writing School — писателями, филологами, журналистами. Онлайн-встречи пройдут в учебном году 2018-2019. Вебинары помогут слушателям разбудить в себе внутреннего автора и сделают занятия творчеством регулярными.
CWS Будильник: не проспи вдохновение!

Вебинар с Майей Кучерской «Как и где опубликовать свою прозу?»
В августе 2019 Майя Кучерская, писатель, филолог и руководитель CWS, провела вебинар на тему: «Как и где опубликовать свою прозу? И зачем?».
Поговорили о том:
- где лучше начинать: правильные места для дебюта
- как грамотно формировать свою литературную репутацию
- в каких изданиях не стоит появляться никогда
- первая публикация в кармане – что дальше?
Вебинар продолжает цикл онлайн-встреч «CWS Будильник» с мастерами Creative Writing School — писателями, филологами, журналистами. Онлайн-встречи пройдут в учебном году 2019-2020. Вебинары помогут слушателям разбудить в себе внутреннего автора и сделают занятия творчеством регулярными.
CWS Будильник: не проспи вдохновение!

Вебинар с Майей Кучерской «Как попасть в литературный мир»
Весной 2019 года Creative Writing School совместно с Ridero проведет бесплатный вебинар основателя CWS, писателя, литературоведа Майи Кучерской «Как попасть в литературный мир».
На встрече разобрали основные траектории новичка в литературном мире и узнали, как независимому автору привлечь внимание издателей и профессионального сообщества.
Поговорили о том:
- Куда посылать свою первую рукопись?
- Какие ошибки делают авторы при отправке рукописи и как их избежать?
- Что лучше: победа в конкурсе или публикация в журнале?
- Что такое «литературная тусовка» и имеет ли она значение для продвижения авторов?
Вебинар продолжает цикл онлайн-встреч «CWS Будильник» с мастерами Creative Writing School – писателями, филологами, журналистами. Онлайн-встречи пройдут в учебном году 2018-2019. Вебинары помогут слушателям разбудить в себе внутреннего автора и сделают занятия творчеством регулярными.
CWS Будильник: не проспи вдохновение!

Вебинар с Майей Кучерской «Писатель в изоляции»
Весной 2020 года Creative Writing School совместно с Ridero провели вебинар с писателем и руководителем CWS Майей Кучерской «Писатель в изоляции».
Мы поговорили о том, как свободному художнику пережить строгий карантинный режим. Обсудили, какие возможности предоставляет писателю изоляция и можно ли ей все равно не пользоваться. Вспомнили классиков, кто все-таки сумел что-то написать, когда его заперли, и слова Тютчева: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые».
Вебинар продолжает цикл онлайн-встреч «CWS Будильник» с мастерами Creative Writing School — писателями, филологами, журналистами. Онлайн-встречи помогут слушателям разбудить в себе внутреннего автора и сделают занятия творчеством регулярными.
CWS Будильник: не проспи вдохновение!

Вебинар с Майей Кучерской «Тайны платяного шкафа»
В декабре 2019 Creative Writing School совместно с Ridero провели вебинар с Майей Кучерской «Тайны платяного шкафа: как написать мистическую историю о современном мире».
Каждый год под конец декабря мы собираемся, чтобы поговорить о волшебстве в литературном тексте. В этот раз мы обсудили, как соединить мистику и реальность, жизнеспособен ли сегодня магический реализм, разобрали лучшие образцы жанра и сделали творческое задание, которое приблизило нас к созданию таинственной истории.
Задание к вебинару — прочитать рассказ Трумана Капоте «Мириэм».
Вебинар продолжает цикл онлайн-встреч «CWS Будильник» с мастерами Creative Writing School — писателями, филологами, журналистами. Онлайн-встречи помогут слушателям разбудить в себе внутреннего автора и сделают занятия творчеством регулярными.
CWS Будильник: не проспи вдохновение!

