Июнь 2020
Мастерская «Young adult»
Мастерская «Как писать в Сети»
Мастерская «Как сочинить повесть»
Мастерская «Литмастерство: базовый курс»
Мастерская «Пишем автофикшн»
Мастерская Дмитрия Данилова «Первые шаги в драматургии»
Мастерская Елены Холмогоровой «Лучшие слова в лучшем порядке»
Поэтическая мастерская CWS
В поисках места для искусства. Расследование
Поэтический марафон CWS
Угол зрения
35 рублей, Иваныч
Без пяти двенадцать
Бейгале
Бог всё видит, бог всё знает
Бублики с маком
Бумеранг
В такси
Воровка
Восьмой этаж
Грех
Димин остров
Дядь Паша
Конец года
Невидимка
Нырок
Он хорошо стрелялся косточками
Папина дочка
У реки не пахло рекой
Женщина-единорог. Пьеса для театра Но
Как покорить гипотетический гроб
Сны и что-то большее
Алфавит для друга
Ринг и где-то рядом

Всё о жанре автофикшн
Совсем скоро в прямой эфир выйдет новая мастерская-интенсив «Все события реальны, имена не изменены: пишем автофикшн». Мастерскую проведут молодые писатели Наталья Калинникова и Арина Бойко.
Наталья Калинникова — писательница, преподаватель creative writing, редактор, филолог, выпускница магистратуры «Литературное мастерство» (НИУ ВШЭ). Публиковалась в сборниках рассказов, журналах, онлайн-изданиях.
Арина Бойко — писательница и драматург. Окончила магистратуру «Литературное мастерство», училась по обмену в George Mason University (США). Рассказы публиковались в сборниках и журналах. Арина ведет телеграм-канал об автофикшн «Go fiction yourself».
В ожидании эфира филолог Марсель Хамитов расспросил мастеров о мире автофикшн и предстоящих занятиях.
Почему именно сейчас мы видим такой бум автофикшн? Как вы думаете, это временная мода или долгосрочный тренд в современной прозе?
На самом деле, бум случился на Западе ещё в 2010-е, теперь эта волна наконец докатилась и до нас — благодаря издательствам, которые заинтересовались зарубежными автофикшн-бестселлерами. Сейчас это, безусловно, тренд, но я бы не хотела рассуждать о нём в понятиях «временное»/«долгосрочное». Автофикшн — уже сложившийся жанр, у него есть свой канон и свой авангард, постоянно появляется что-то новое. Надеюсь, что и российских авторов, работающих в этом жанре, со временем станет больше.
Что необходимо начинающему автору, который хочет попробовать себя на этом поприще?

Читать автофикшн и вообще всё, что содержит эго-документы (автобиографии, дневники, переписку и др.), чтобы понимать, как это делали другие авторы. Рассказывать о себе, на самом деле, не так просто, как кажется. И записаться на наш курс, конечно же — формат интенсива отлично подходит для того, что попробовать, ваше это или нет.
Какую степень историчности/достоверности стоит соблюдать в тексте такого жанра? Или соотношение реального и вымысла не имеет значения?
Безусловно, имеет, но эта степень всегда остается на усмотрение автора. Это большой и спорный вопрос, которому мы посвящаем отдельную дискуссию на наших занятиях. На мой взгляд, главное тут — сюжет: если реальный случай, который вы хотите описать в своём тексте, самодостаточен, то можно обойтись и без вымысла. Известно, что жизнь иногда подкидывает нам сюжеты оригинальнее самого смелого авторского замысла. Но сможете ли вы подобрать такие слова, такие интонации, чтобы не задеть чувства других людей? Вот в чем вопрос.

Как будут устроены занятия в вашей мастерской в CWS?
Так как нам пришлось перенести курс в онлайн, мы полностью переформатировали наши занятия. Они по-прежнему будут состоять из теоретической и практической частей, но устроены так, чтобы участникам и участницам было максимально комфортно усваивать материал, а онлайн взаимодействие не сильно выматывало. Но работы будет много! Мы приготовили нескучные писательские упражнения, домашние задания, тренинги в группах и другие интерактивные форматы.
Автофикшн подразумевает, что в основе сюжета будет лежать реальный опыт. Не получится, что на занятиях вам придется косвенно обсуждать личную жизнь участников?
Все-таки обсуждать текст о событиях из жизни и обсуждать сами события – разные вещи. Последним мы не занимаемся. Конечно, если кто-то из участников или участниц хочет поделиться своей личной историей с группой — мы только за, но важно понимать, что это не групповая психотерапия.
Пять полезных советов для тех, кто хочет научиться писать автофикшн:
- Слушайте сердцем. В случае автофикшн как никогда актуален простой совет: пишите про то, что у вас отзывается. Этот жанр восприимчив к любым темам, кроме равнодушия (впрочем, и это, при желании, можно сделать авторским приемом).
- Помните не только про «авто», но и про «фикшн». Читатели вряд ли полезут в гугл-карты, чтобы проверить, правда ли ваша улица выглядит точно так же, как вы ее описали. Но если ваш текст будет недостоверным с художественной точки зрения (обилие штампов, слабые метафоры, канцелярский язык), они это сразу же заметят.
- Фантазируйте. Иногда события, описанные точь-в-точь как в жизни, как ни странно, выглядят нереальными, надуманными. Добавьте щепотку вымысла — и текст заиграет новыми красками!
- Не бойтесь нарушать правила. Повествование в автофикшн может быть каким угодно: от первого лица или от третьего, в настоящем времени или в прошедшем — а может вообще прекрасно обходиться без времени и лица. Это может поначалу сбивать с толку, если вы привыкли к более консервативному виду письма, а может, наоборот, вдохновлять на эксперименты.
- Имена и фамилии иногда лучше менять. Хотя Крис Краус бы поспорила.

Что почитать: пять лучших книг автофикшн
- Сильвия Плат «Под стеклянным колпаком». «Золотая классика» автофикшн. История начинается как типичный роман взросления: молодая девушка отправляется покорять Нью-Йорк. Она талантлива и умна, но увы — впереди её ждут отнюдь не успех и признание, а возвращение домой и… нечто страшное, удушающее, как стеклянный колпак, из-под которого почти невозможно выбраться. В основе романа — подлинная история Сильвии Плат: стремительная потеря собственной личности и медленное, болезненное возвращение к реальности.
- Айлин Майлз «Инферно». Наверняка вы слышали выражение «проза поэта». Обычно под этим подразумевается нечто милое, но витиеватое, ведь все поэты — мечтатели, и скупая проза не их стихия. Так вот: забудьте всё, что вы про это знали! Потому что Айлин Майлз — пожалуй, один из самых блестящих современных авторов.
- Джанет Уинтерсон «Не только апельсины». Джанет Уинтерсон — пионерка английской квир- и лгбт-прозы (сейчас уже, правда, бабушка — этот роман вышел в 1985 году, а у нас его перевели только в 2019). Страшно трогательная история про девочку, которая жила в страшных бытовых условиях у страшно правильных людей. Хэппи энд прилагается.
- Крис Краус I Love Dick Любить до безумия, яростно добиваться своего, забрасывая объект страсти откровенными посланиями — привилегия белых цисгендерных мужчин? «Как бы не так», — говорит Крис Краус и создаёт роман на основе своих писем к арт-критику Дику, интеллектуалу, в которого когда-то была влюблена без памяти. Выстоять под этим напором будет сложно даже читателю.
- Наталия Мещанинова «Рассказы». Современные российские авторы всё чаще высказываются на тему домашнего насилия. Наталия Мещанинова была одной из первых, кто посвятил этой важной теме целую книгу. Она совсем небольшая, 128 страниц, ее можно прочитать буквально за пару часов. Но эта пара часов подарит вам такой эмоциональный всплеск, что вы уже больше никогда не забудете ни главную героиню, ни её страшную тайну.
Больше интересных книг — в авторских подборках зарубежных автофикшн и российских изданий.

Диктат идеи, или Роман без идеи как лодка без весел
Представляем фрагмент книги «Как написать гениальный роман» Джеймса Н. Фрэя в переводе Н. А. Буля. Третья глава.
Что такое идея?
Идею художественного произведения можно сравнить:
- с любовью в браке,
- с чудом, благодаря которому фокусник извлекает из шляпы кролика,
- с арматурой в бетонном блоке,
- с формулой Е = mс2 в теории относительности.
Кроме того, идея — это:
- причина, по которой вы пишете,
- точка зрения, которую вам надо отстоять,
- смысл вашего романа,
- центр, ядро, сердце, душа произведения.
Все еще не поняли? Читайте дальше.
Способы достижения органического единства
Мэри Бэчард Орвис в работе «Искусство создания художественного произведения» (1948) утверждает следующее:
«Любой хороший роман имеет форму. Какую именно — нет абсолютно никакой разницы. Вне всякого сомнения, главная ценность художественного произведения — отобразить модель жизненных обстоятельств, внести в них смысл. Жизнь несет разочарования, она нелогична, безумна, чаще всего бессмысленна; она полна ненужных страданий, боли, трагедии. Вместе с тем человек, будучи созданием идеалистичным и рационалистичным, стремится к строгости, порядку и реализации своих потенциальных возможностей. В поисках ответов на загадки, которые задает ему жизнь, он может прибегнуть к философии, религии, поэзии или художественной литературе. Если он обращается к художественной литературе, ему требуется некая модель, система…».
Аристотель ясно видел необходимость создания системы в художественной литературе. В «Поэтике» он объясняет, что «единство действия» в произведении «должно объединять начало, середину и конец… в органическое единство с героем». Люди со времен Аристотеля ищут универсальный принцип, позволяющий реализовать подобное единство. Этот принцип можно использовать для того, чтобы определить, какие повествовательные элементы, события, персонажи, повороты сюжета являются частью органического единства произведения, а какие — нет.
В «Искусстве трагедии» Густав Фрейтаг пытается сформулировать принцип общего органического единства. После рассказа в напыщенном стиле о том, как элементы повествования «сочетаются в душе поэта», Фрейтаг объясняет, как эти элементы формируются и изменяются:
«Изменение происходит таким образом, что главный элемент, который, благодаря красоте, волнующему или пугающему содержанию, читатель принял близко к сердцу, отделяется от других элементов, случайно идущих с ним в связке. Главный элемент силами причины и действия объединяется с дополнительными, единичными элементами. В результате объединения формируется новый элемент — идея драмы. Она является тем центром, от которого, подобно лучам, расходятся вторичные, независимые элементы. Сила действия этого механизма сродни процессу кристаллизации…».
Взгляд Фрейтага на идею драмы — хорошая попытка описать принцип, охватывающий единство действия. Моисей Малевинский в «Науке о драматургии» возражает на спорное положение Фрейтага о том, что объединяющий принцип можно назвать «идеей». Малевинский пишет: «В основе пьесы лежат человеческие эмоции, именно они дают толчок действию…».
Уильям Фостер-Харрис в широко известной работе «Основные формулы художественного произведения» (1944) высказывает еще одно мнение. Он полагает, что объединяющий принцип «выражается формулами из сферы духовного», т. е. например: Гордость + Любовь = Счастъе. Многим начинающим авторам такие формулы очень пригодились.
Возможно, наиболее четкое определение объединяющего принципа было впервые дано Прайсом в работе «Анализ структуры пьесы и драматического принципа» (1908). Он предложил назвать объединяющий принцип «суждением», которое определил как «короткое логичное утверждение (силлогизм), доказываемое на протяжении всего действия пьесы».
Лайос Эгри называет силлогизм «посылкой» или «замыслом». Он утверждает, что силлогизм в художественном произведении — то же самое, что «тема, ключевая идея, центральная идея, цель, движущая сила, план или сюжет». Эгри предпочитает термин «идея», поскольку он «включает в себя значение всех остальных слов, а возможности его неправильного толкования сведены к минимуму».
Эгри писал о пьесе, но его концепция не менее справедлива, если вы хотите написать потрясающий роман.
Охарактеризуем идею
Допустим, вы сказали: «Собаки лучше кошек». Как вы это собираетесь доказать? Вы можете привести следующие аргументы: собаки привязчивей, добрее, милее, легче поддаются дрессировке и т. д. Вы расскажете все хорошее, что знаете про собак, и все плохое, что знаете про кошек. Если вспомните что- нибудь хорошее про кошек, вы этого не скажете, поскольку не хотите противоречить сами себе. Также и с идеей, требующей доказательства. Идея — это вывод, путь к которому прокладывается с помощью доводов. Каждый стоящий, хороший довод оказывает значительное влияние на убедительность вывода.
Если вы пишете документальную книгу, посвященную некоему спорному вопросу, вы формируете обычную цепочку доводов. По сути дела, вся ваша книга будет состоять из доводов. Вам придется доказать некую идею, эта идея и будет выводом. Допустим, вы пишете документальную книгу, в которой проводите мысль, что сливки общества всегда уходят от правосудия. Естественно, вы не станете приводить список богачей, оказавшихся за решет кой, поскольку это будет противоречить идее книги. Вместо этого вы поведаете читателям о сотнях богачей, которые, бежав от правосудия в Бразилию, швыряют направо и налево деньгами, нажитыми нечестным путем.
Как правило, достаточно одного взгляда на документальную книгу, чтобы понять, о чем она, ухватить ее основную идею. Книга, озаглавленная «Роберт Ли, герой Конфедерации», повествует о генерале Ли и гражданской войне. В ней вы не найдете ни слова о цветах, растущих на горных склонах Тибета. В книге о защите живой природы не будет приложения с правилами игры в покер. Идея вынуждает строго придерживаться темы.
В документальной литературе идея является «универсальной» истиной: «война — это плохо», «использование пестицидов оправдано», «Миллард Филлмор был отличным президентом». Истина «универсальна», потому что всегда и везде ее можно доказать так, как сделал это автор книги. Если доводы звучат убедительно, читатель начинает верить им. Он будет считать, что обрел истину, даже если кто-то другой попытается доказать обратное. В качестве доводов автор приводит факты и доказательства, которые можно проверить или оспорить в «реальном» мире. Идею в художественном произведении невозможно проверить или оспорить в «реальном мире». Причина в том, что данная идея — плод фантазии, а не универсальная истина. В романе идея справедлива применительно только к конкретной ситуации.
Например, вы хотите доказать в романе, что «добрачный секс приводит к беде». У вас два персонажа, Сэм и Мэри. Они занимались сексом до брака. В результате на них обрушиваются несчастья. Сэм, угнетенный чувством вины, начинает пить. Его выгоняют с работы, он становится бродягой. Семья считает, что Мэри утратила целомудрие, и отворачивается от нее. Ее бросает Сэм. В итоге она кончает жизнь самоубийством. Вы отстояли идею своего романа. Однако это произошло не в «реальном» мире, а в вымышленном. «Добрачный секс приводит к беде». Эта истина не является абсолютной: для других она ложная, но только не для Сэма и Мэри.
Допустим, идея вашего следующего романа: «добрачный секс ведет к счастью». Тракторист Гарри и доярка Бетти порезвились за сараем. Их скучная жизнь чудесным образом преображается. Связь дает им силы уехать с фермы и начать новую жизнь в городе. Утверждение «добрачный секс ведет к счастью» справедливо не для каждой пары, оно не является универсальной истиной, но оно справедливо для Гарри и Бетти, живущих в мире, созданном вами.
Идея произведения — это констатация того, что произойдет с героями в результате ключевого конфликта.
Подумайте над следующими примерами.
- В «Крестном отце» главный герой любит и уважает семью и поневоле становится мафиозным доном. «Верность семье приводит к преступлениям» — идея романа, блестяще доказанная Пьюзо.
- В повести «Старик и море» Хемингуэй доказывает идею: «мужество приносит спасение». В случае со старым рыбаком это справедливо.
- Диккенс в «Рождественской песне в прозе» показывает, как старый скряга, столкнувшись с духами Рождества и осознав свои грехи, превращается в добряка. Идея: «принудительный самоанализ ведет к щедрости».
- Ле Карре в романе «Шпион, который пришел с холода» показывает, как может пасть духом даже лучший из разведчиков, осознав двуличность правительства, на которое работает. Идея: «осознание ведет к самоубийству».
- Идея Кизи в романе «Пролетая над гнездом кукушки» заключается в том, что «даже самая мощная и безжалостная машина психиатрической лечебницы не в силах сломить человеческий дух».
- «Лолита» Набокова доказывает, что «великая любовь приводит к смерти». Справедливо в случае с Гумбертом Гумбертом.
И что, в каждом драматическом произведении есть идея? Да. Одна- единственная? Да. Ехать на двух велосипедах сразу невозможно. Так же невозможно отстаивать в романе две идеи одновременно. Что бы получилось, если Диккенс в «Рождественской песне в прозе» помимо идеи «принудительный самоанализ ведет к щедрости» стал бы доказывать, что «за преступлением следует воздаяние»? Ему бы пришлось сделать Скруджа плутом и обманщиком, а потом по сюжету наказать его. Вряд ли у Диккенса получилось бы что-нибудь стоящее. Представим, что Кизи вдруг решил доказать, что «любовь побеждает все», помимо того что «даже самая мощная и безжалостная машина психиатрической лечебницы не в силах сломить человеческий дух». Во что бы тогда превратился роман? Правильно, в дурдом. Совершенно очевидно, нельзя вводить в художественное произведение две идеи сразу.
Как только вы осознаете сущность идеи, сразу станет ясно, почему в художественном произведении она может быть только одна. Идея — это вывод из довода. И в документальной, и в художественной литературе закон один: из одного довода может последовать только один вывод. Допустим, погибает персонаж. Как он погиб? Убит при попытке ограбления банка. Банк он грабил, потому что были нужны деньги. А деньги были нужны, чтобы уехать с девушкой, в которую он до безумия влюблен. Итак, из-за своей любви он принимает смерть. Вот вам идея романа: «безумная любовь ведет к смерти».
Если начало и конец произведения не имеют между собой причинно- следственной связи, значит, произведение не является драматическим. Аристотель говорил: «Побочные сюжеты и эпизоды — самые сложные. Побочный сюжет — это несущественный или маловероятный тип сюжета». Иначе говоря, это сюжет, выпадающий из цепочки причинно-следственной связи. Без этой связи последовательность событий в произведении никогда не приведет к кульминации. Таким образом, по определению, в произведении возможна только одна идея, поскольку возможна только одна кульминация. В кульминационный момент разрешается ключевой конфликт произведения. Другими словами — выводится окончательное доказательство идеи произведения.
Без всякого сомнения, в произведении может быть несколько сюжетов.
«Старик и море» — повесть с одной сюжетной линией. То же самое можно сказать и про «Госпожу Бовари». К этому же типу относится и роман «Пролетая над гнездом кукушки». А в романе Ирвина Шоу «Богач, бедняк» мы наблюдаем много сюжетных линий. Но эти сюжетные линии замыкаются друг на друге, поскольку в них описываются события, происходящие с членами семьи Джордах. Роман структурирован, но сам по себе идеи не имеет. Зато она присутствует в каждой сюжетной линии. Роман состоит из отдельных рассказов, побочных сюжетных линий, которые вплетены в основную канву произведения. Каждый из рассказов несет в себе отдельную идею.
Какие идеи сработают?
В первой главе мы обсуждали детективный роман. Его главный герой — Бойер Беннингтон Митчел, который решил доказать себе, что ничем не хуже отца. Бойер расследует преступление. Жена убила мужа. Мужа она убила за то, что он торговал наркотиками. Она не хотела, чтобы правда вышла наружу и ее семья была опозорена. В чем идея романа? Может быть, «тайное всегда становится явным»?
Ну, как? Убийца в итоге попадает в руки правосудия, так? Значит, тайное становится явным. Удачная у нас идея? Не особенно. Все слишком просто. Такая идея подойдет к любому детективному роману. Идея не только должна быть неразрывно связана с произведением, ей еще требуется своеобразие. В нашем случае женщина совершает преступление, чтобы спастись от позора. Однако она попадает в руки правосудия. Она опозорена. Отсюда идея: «желание избежать позора навлекает беду и позор на человека и тех, кого он пытается уберечь».
В нашем романе стремление женщины сохранить положение в обществе принимает форму страстного желания. Оно приводит к убийству. Итак, идею можно выразить более сжато: «страстное желание сохранить положение в обществе ведет к позору».
Взгляните на список нескольких идей. Они сформулированы в чрезмерно общем виде, поэтому бесполезны.
- Незнакомцам лучше не доверять.
- Бедность — это плохо.
- На войне убивают.
- Жить хорошо.
- Жизнь заканчивается смертью.
- Жизнь коротка.
- А вот как можно вдохнуть жизнь в идеи, приведенные выше:
- Доверие (к незнакомцам) приводит к разочарованию.
- Чрезмерная жадность (истоки которой кроются в детстве, проведенном в бедности) приводит к отчуждению.
- Война ожесточает даже благородных людей.
- Любовь приносит счастье.
- В идею «жизнь заканчивается смертью» жизнь не вдохнешь. Это просто констатация факта, что все живое смертно.
- Идею «жизнь коротка» тоже не удастся оживить. Подобное утверждение может послужить моралью произведения, но никак не идеей.
Рождение идеи
Прообраз идеи может быть любым. Чувство. Образ. Смутные воспоминания о том, как у вас билось сердце, когда вы танцевали на выпускном балу в школе. Человек, которого вы мельком видели в автобусе. Ваш старый дядя Вильмонт, который любил закладывать за воротник. Можно задаться вопросом: «А что, если вдруг?..» А что, если вдруг президентом станет марсианин? Что будет, если вдруг нищенка найдет миллион долларов? Что, если вдруг знаменитого пловца разобьет паралич? Прообраз идеи — расплывчатое чувство. Вам начинает казаться, что та или иная концепция, образ или персонаж может стать основой будущего сюжета. Хотите написать роман? Возьмите тот прообраз идеи, что вам больше по сердцу. Скажем, дядя Вильмонт. Первый шаг сделан. Теперь вы берете ручку и бумагу и пускаетесь на поиски сюжета.
Уильям Нотт в «Искусстве беллетристики» советует начинать не с идеи (которую он называет темой), а с персонажей, «которые так и просятся на лист бумаги. Эти персонажи должны волновать вас, умолять поведать читателям их историю».
Итак, вы начинаете с дяди Вильмонта, хотя еще толком и не знаете, что вы хотите о нем рассказать. Вы понятия не имеете, как он поведет себя в произведении. Вы уверены в одном: дядя Вильмонт — человек интересный. Он коллекционирует жуков. Он курит пахучий табак. Травит смешные анекдоты. Громко ругается с женой. Он старый социалист, и его убеждения непоколебимы. Как вам использовать этот персонаж в романе? У вас уже сформировался яркий образ дяди Вильмонта, но как вы ни стараетесь — сюжета все нет. Вы застряли. Ну где же сюжет? С дядей Вильмонтом должно что-нибудь приключиться. Вы ищете дилемму. Чтобы поджечь лес — нужна спичка. Чтобы оживить персонаж — нужен конфликт.
В дяде Вильмонте вас всегда особенно поражала одна черта — жадность. Может, к нему зайдет жулик и предложит купить болото во Флориде? Что н это скажет дядя? Наверно, согласится. Дядя Вильмонт жадный. Вы решаете набросать в общих чертах, что может случиться с дядей Вильмонтом. Целиком идеи пока нет, есть только ее начало: «жадность приводит к…».
Следующий шаг: прикиньте, что произойдет в конце. Вам хочется, чтобы дядя Вильмонт получил урок, но будет ли тогда рассказ выглядеть правдиво?
Дядя Вильмонт всегда был жадным. Он никогда не платит. Значит, дяде Вильмонту каким-то образом удастся найти преимущества в сложившейся ситуации. В конце концов он победит. Что он обретает? Богатство? Духовные качества? Любовь? В рассказе должна быть изюминка. Допустим, его все-таки обманули. Он устраивает шумиху. Его фотографию публикуют в газете. Журнал
«Тайм» пишет о нем статью. Дядя потрясающе дает интервью. Донахью приглашает его в прямой эфир. На дядю смотрит вся страна. Жадность толкала его вперед, он обрел славу. Идея готова: «жадность приводит к славе».
Не существует специальной формулы, используя которую можно создать идею произведения. Вам просто сначала нужно придумать персонаж или ситуацию, потом поставить персонаж перед дилеммой и представить, что может произойти дальше. Дайте волю воображению. Количество вариантов бесконечно.
Ладно, один рассказ закончен, возьмемся за другой. Допустим, вам нравится сюжет о выпускном бале и девушке, которую вы едва не пригласили на танец.
Что можно сделать с этим сюжетом? Представим, что персонаж произведения — умный, но очень застенчивый парень, который влюбился в девушку, не перемолвившись с ней ни единым словом. Его дилемма — безответная любовь. Его зовут Отто, ее Шейла. Ему известно одно: она только что переехала к ним в город, и ее отец — миллионер. Когда Отто видит Шейлу, его парализует страх. Он не смеет подойти к ней. Идея готова? Еще нет. Воз можно, она будет звучать так: «великая любовь ведет к…». Впрочем, мы еще не уверены.
Вы дали волю своему воображению, и вот что получилось: летом Отто проходит мимо дома Шейлы и видит, как она загорает, купается в бассейне и т. д. У него перехватывает дыхание, запотевают очки. Он хочет подойти к ограде, чтобы поближе взглянуть на нее, но ноги вдруг становятся ватными. Наконец, он набирается мужества и звонит ей по телефону. Да, она его вроде помнит. Да, она согласна прийти на свидание. Они начинают встречаться. Он так в нее влюблен, что, когда они вместе, заикается. Поначалу он ей интересен, ее привлекает его ум, но вскоре Отто становится ей скучен. Он не прикольный, а Шейла прикольная. Она увиливает от свиданий. Он впадает в отчаяние, замыкается в себе, думает о самоубийстве.
Если Отто сведет счеты с жизнью, то идея рассказа: «великая любовь ведет к самоубийству».
Если он обретет счастье с другой девушкой: «безответная любовь приводит к другой любви».
Если он с головой погрузится в работу: «безответная любовь превращает в трудоголика».
Три столпа идеи
Специальной формулы, позволяющей создать идею произведения, не существует. Однако, по Эгри, каждая идея должна включать в себя персонаж, который через конфликт приходит к результату. Трус отправляется на войну и становится героем. Герой вступает в бой и оказывается трусом. У Самсона отрезают волосы, и он утрачивает силу, но потом вновь ее обретает. Формулируя идею, помните о трех ее столпах: персонаже, конфликте и результате. Драматическое произведение рассказывает о том, как меняется герой, переживая кризис. В идее сжато изложена суть подобной трансформации.
«Можно ли брать идею, которой кто-нибудь уже воспользовался?» — спросите вы. Конечно, делайте это с чистой совестью. В романах Флобера «Госпожа Бовари» и Льва Толстого «Анна Каренина» идея одна: «запретная любовь ведет к смерти». То же самое с менее известными романами, имевшими спрос на рынке. Сколько раз уже обращались к сюжету Самсона и Далилы? Десятки. А сколько раз писали про простую, но достойную девушку, которая в итоге выходит замуж за прекрасного принца? Таких произведений уже миллион и еще миллион напишут. Поэтому, если надо — воруйте идеи. Любой американский писатель может написать роман с идеей: «страсть к деньгам приводит к богатству», но каждый будет отстаивать эту идею по-своему.
Идея и селекция
Селекция — отбор того, что войдет в роман, а что нет — важная часть работы писателя. Если автор выкинул из романа все персонажи, сцены и диалоги, без которых роман может обойтись, значит, он провел хорошую селекцию. Если автор провел хорошую селекцию, его роман назовут «сжатым», если плохую — «раздутым». Помочь вам сможет идея. Чтобы показать, как в селекции может помочь идея, возьмем для начала документальную книгу. Допустим, вы хотите написать книгу о Гарри Трумэне и назвать ее «Времена Трумэна». В произведении вы собираетесь осветить следующие темы:
- Как Трумэн ухаживал за Бесс, своей будущей женой.
- Как Трумэн делал карьеру галантерейщика.
- Любимые рецепты Бесс Трумэн.
- Критика доктрины Трумэна.
- Ретроспективный рассказ о годах, проведенных Трумэном в отставке.
Итак, что из вышеперечисленного нужно включить в документальное произведение? Ответить вы пока не можете, ведь книга, озаглавленная «Времена Трумэна», может как включать все пункты, так и не включать ни одного из них. От чего зависит выбор? От идеи, которую вы хотите высказать или доказать. Если хотите написать биографию, сделав упор на личности Трумэна, было бы логичным включить в книгу любимые рецепты Бесс. Если ваша книга посвящена анализу политики Трумэна, то о рецептах лучше не упоминать. Критика доктрины Трумэна смотрится уместно, если вы пишете о его политической карьере, но не о личной жизни. Селекция, отбор необходимого определяется идеей произведения.
В художественном произведении автор точно так же проводит селекцию исходя из идеи. Допустим, вы хотите написать рассказ, отстаивающий идею:
«любовь ведет к одиночеству».
Вашего героя зовут Генри Песибль. Он работает в одиночестве на маяке, установленном на одной из скал Фараллоновых островов, в двадцати милях от Сан- Франциско. Он любит мир и покой, кормит золотую рыбку, в свободное время гуляет по острову.
Он берет двухнедельный отпуск и едет в Северную Калифорнию полюбоваться на деревья. Там он знакомится с Джулией, героиней вашего рассказа. Они влюбляются друг в друга. После головокружительного романа они играют свадьбу и переезжают к Генри на остров.
Генри всегда был доволен жизнью, теперь же он просто счастлив. Джулии нравится на острове, она сажает цветы, обустраивает маленький домик, в котором они живут, гуляет с Генри по острову, помогает ему протирать фонарь маяка.
Неожиданно Генри получает страшную новость. Его старая мама тяжело больна. Он мчится во Флориду, а за маяком оставляет присматривать Джулию. Мать умирает, и через пару дней Генри возвращается на остров. Прошло несколько недель, Генри справился с горем, и они живут с Джулией так же счастливо, как и раньше.
Приходит ноябрь, время штормов и туманов. Дождь льет каждый день. Джулия становится раздражительной. Она начинает ненавидеть остров. Град уничтожает садик. Ей холодно в домике, она хочет поехать туда, где тепло и много солнца. Она умоляет Генри переехать. Он соглашается, они переезжают в Аризону.
В Аризоне Генри становится водителем автобуса, но недоволен новой работой. Вообще ему кажется, что в Аризоне слишком жарко, сухо, солнечно. Несмотря на то что они живут в маленьком городишке, Гарри считает, что он слишком многолюден. Он хочет вернуться на остров и жить в одиночестве. Он звонят прежнему начальнику и узнает, что должность смотрителя маяка все еще вакантна.
Теперь уже Генри умоляет Джулию вернуться на остров. Он тоскует по старому маяку, запаху моря, шуму волн. Может, Джулия попробует обосноваться на острове еще раз? Он утеплит домик, купит видеомагнитофон, они заведут кошку, чтобы Джулии было не так скучно и т. д.
Они возвращаются, и Джулия вскоре понимает, что на острове жить не может. Она ненавидит остров пуще прежнего и однажды ночью уезжает с острова на катере, оставив Генри запуску с просьбой не пытаться ее найти.
Генри и не пытается. Он знает, что никогда не уедет с острова и что Джулия никогда не сможет полюбить остров так сильно, как он.
Он остается на острове, но уединение, о котором он так мечтал, обращается муками одиночества. Идея доказана: «любовь ведет к одиночеству».
Допустим, вы удовлетворены — в вашем рассказе есть идея. Но просто доказать идею недостаточно. Ее нужно доказать экономно.
Аристотель пишет:
«Части событий должны быть соединены таким образом, чтобы при перестановке или пропуске какой-нибудь части изменялось и потрясалось целое. Ведь то, что своим присутствием или отсутствием ничего не объясняет, не составляет ни какой части целого».
Другими словами, если некая часть повествования не играет роли в доказательстве идеи, эту часть можно спокойно выкинуть. В изложенном выше сюжете поездка Генри во Флориду не влияет на дальнейшее развитие сюжета. Идею «любовь ведет к одиночеству» можно легко доказать, даже исключив из сюжета поездку Генри. Сцена, когда Генри стоит у постели умирающей матери, может стать самой сильной в произведении. Однако эта сцена не имеет никакого отношения к доказательству идеи. Значит, ее надо выкинуть. Даже не пытайтесь спорить.
Эгри называет идею произведения «тираном». Как только сформулирована идея, каждая сцена, реплика, предложение, слово должны вносить вклад в ее доказательство. «А исключения есть?» — спросите вы. Правила создания драматического произведения уместнее назвать принципами. Принципы можно нарушить, если это под силу автору. Так поступил Мелвилл, создав «Моби Дика» — роман, повествующий отнюдь не только о китобойном промысле. Хотите нарушить правила — попробуйте, но помните, вы действуете на свой страх и риск.
На каждую удачу в этом деле приходится тысяча провалов.
Какая идея в этой главе? «В каждом драматическом произведении есть только одна-единственная идея».
Творчество на уровне подсознания
Вы не поверите, но некоторые литературоведы не признают концепции идеи. Так, Кеннет Макгован в работе «Драматургия для начинающих» (1951) излагает теорию Эгри об идее, при этом добавляя: «Я полагаю, что этот поиск [идеи] — всего лишь маленькое упражнение, итогом которого станет банальность весь смысл заключается в том, что хорошая пьеса должна иметь мораль». Макгован пришел к такому выводу, основываясь на произведениях многих авторов, написавших вагоны романов, не зная о необходимости наличия в произведении идеи. Такие авторы пишут романы, опираясь на интуицию. У большинства из них она очень хорошо развита.
Джина Оуэн в работе «Профессиональный подход к созданию художественного произведения» (1974) рассказывает о том, как писала, основываясь на интуиции. Она, как и многие писатели, парящие на крыльях вдохновения, «почтительно выслушивала любого, кто рассуждал о персонажах, диалогах или точках зрения, высказанных в художественных произведениях, мысленно преклоняясь перед одним только упоминанием о том, как строить сюжет». Однако когда речь заходила об идее (которую она называет «темой»), она «тут же меняла разговор, т. к. считала, что речь идет о чем-то несущественном».
Однажды Оуэн собиралась писать роман и пришла в издательство с четким планом, продуманным сюжетом и «впечатляющим досье» на главных персонажей.
Издатель вдруг спросил об идее. Она была озадачена вопросом и призналась, что об идее романа не задумывалась.
Тогда издатель заявил, что ему не о чем с ней говорить. Оуэн вернулась домой потрясенной и долго думала над состоявшимся разговором. Она внимательно изучила каждый из своих романов, пытаясь найти в них идеи, и пришла к потрясающему выводу. Подавляющее большинство романов, которые не удалось продать издательствам, не имели идеи. Зато во всех романах, имевших успех, идея присутствовала!
«С той поры, — пишет Оуэн, — я получила море чеков за рассказы, повести и романы. Не извлеки я тогда урок, все эти произведения никогда не увидели бы свет».
Как же Оуэн, сама того не ведая, писала рассказы и романы, содержащие идеи? Она талантлива и творила интуитивно. Интуитивно она создавала правильные персонажи, между которыми вспыхивали правильные конфликты, приводившие к правильной кульминации.
Оуэн утверждает, что очень многие писатели не видят никакого смысла в поиске идеи произведения. Авторы спрашивают: «Если можно написать потрясающий рассказ, не зная его идею, то зачем вообще о ней задумываться?» Некоторые даже считают работу над идеей не только пустой тратой времени, но и вредной для произведения. Один человек сказал мне: «Слушай, а что, если автор, не прибегая к понятию идеи, может создать яркие персонажи, конфликт и все остальные элементы хорошего романа? Я уверяю, — высокопарно заявил он, — все твои наставления о необходимости идеи такому автору только навредят. Он начнет думать, что раз в романе нет четкой идеи, он упустил что- то крайне важное. В итоге он начнет кромсать и править и без того хороший роман!»
Вот ответ на это обвинение: если персонажи вступают в конфликт, ведущий к кульминации, значит, в романе есть идея. Ее наличие неизбежно, даже если автор не отдает себе отчета в ее существовании.
Если вы знаете идею своего произведения, вы просто еще раз убеждаетесь, что интуиция вас не подвела. Слово «идея», по мысли Эгри, воплощает сентенцию: «персонажи вступают в конфликт, ведущий к кульминации». Все драматические произведения были написаны по схеме: персонажи вступают в конфликт, ведущий к кульминации. Исключений нет.
Если сравнить произведение с домом, то персонажи — это кирпичи, конфликт — строительный раствор, идея — форма. За всем этим следует каркас дома — сюжет.
Перевод Н. А. Буля
Издательский дом «Амфора», СПб, 2005

На основе реальных событий: почему романисты перестали сочинять?
Карл Уве Кнаусгор, Рейчел Каск, Шейла Хети, Эдвард Сент-Обин — все эти авторы используют в своих произведениях истории из собственной жизни. Газета The Guardian задается вопросом: означает ли всплеск популярности жанра автофикшн то, что традиционному роману пришел конец. Представляем перевод статьи Алекс Кларк.
«Тем утром до белого населения страны наконец-то дошло, что их президент — сторонник теории превосходства белой расы, хотя он и прежде неоднократно высказывался в подобном ключе. В The Guardian опубликовали коллаж с изображением Белого дома с колпаком ку-клукс-клана на крыше. Почему люди так удивились именно сейчас? Разве раньше никто не слушал?.. Пускай люди были не совсем в себе, это не значит, что они ошибались. Странным образом разрушилась связь между поступком и следствиями. Вещи по-прежнему происходили, однако в столь бессмысленном и хаотичном порядке, что восстановить истину представлялось невозможным, — частности прятались из виду, будь они причиной или результатом, а пробелы заполнялись недостоверными сведениями, вздором и ложью».
Так рассуждает Кэти, героиня романа Оливии Лэнг «Крудо». Да, именно романа, а не публицистического эссе или статьи, как можно было бы заключить из отрывка. Кто такая Кэти? Отчасти сама Оливия Лэнг, автор документальных книг «Одинокий город: упражнения в искусстве одиночества» и «Путешествие в Эхо-Спринг: о писателях и пьянстве», которая летом 2017 года наблюдает за окружающим миром и одновременно готовится к свадьбе. И в то же время это Кэти Акер, ныне покойная американская романистка, нахальным образом подмешанная Оливией Лэнг к собственному прототипу из современности. В героине романа «Крудо» объединены черты домиллениаловской иконы американской контркультуры и женщины из XXI века, стоящей на пороге серьезных жизненных изменений. Действие романа разыгрывается то в Италии во время роскошного отпуска, то переносится в Корею; перескакивает с пожара в Гренфелльской башне на уход в отставку Стива Бэннона, старшего советника президента Трампа, и затем переходит к священнику, читающему проповедь на итальянском, «в которой часто упоминается WhatsApp».
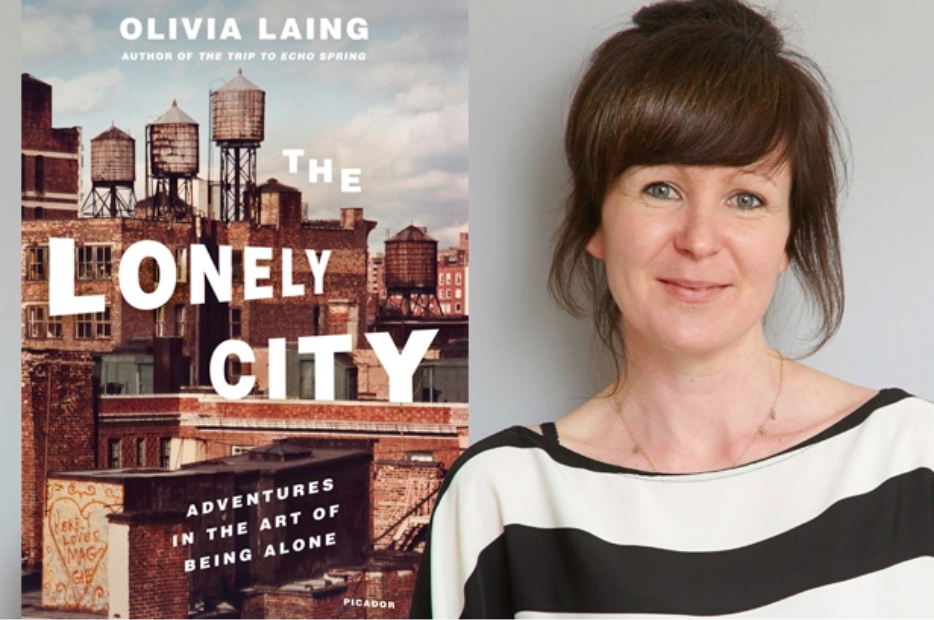
Неожиданно подобный «автофикшн» — фикционализированная биография, избавленная от элементов вроде сюжета и развития персонажа, присущих традиционному роману, — распространяется повсеместно. С тяжелым стуком обрушивается на письменный стол вместе с увесистым томом Карла Уве Кнаусгора под названием «Моя борьба»; укладывается рядом вместе с томами полегче, когда Рейчел Каск заканчивает элегантную трилогию «Почет», в которой романистка по имени Фэй путешествует по Европе, впитывая истории знакомых и незнакомцев; продолжается в «Материнстве» канадской писательницы Шейлы Хети, задающейся вопросами, что означает тот или иной выбор: иметь детей или нет. «История насилия» Эдуарда Луи, «Основано на реальных событиях» Дельфин де Виган, «Break.up» Джоанны Уолш, «I love Dick» Крис Краус, серия книг о Патрике Мелроузе Эдуарда Сент-Обина — в этих книгах факты авторской биографии не просто используются в качестве вдохновения, они усложняют наш опыт истории и субъективности, отыскивая новый способ описания реальности во времена, когда, по словам Кэти из романа «Крудо», «тяжело говорить о правде», и, возможно, еще тяжелее о ней писать.
При постоянном присутствии в социальных медиа, когда самопрезентация в Фейсбуке, Инстаграм и Твиттере значит так много, автофикшн предлагает альтернативный экспериментальный нарратив о самом себе. Жанр является попыткой изменить и переориентировать литературную форму, его популярность говорит в пользу идеи о том, что писатель обязан разрушить границы между фикшном, мемуарами, историей, поэзией, визуальным искусством и перформансом, дабы уловить опыт XXI века. Так, в «Почете» покупка краски для стен в сетевом магазине сопоставляется с нацистским маршем в Шарлотсвилле, пулеметным обстрелом кораблей с беженцами в Средиземном море и Хиросимой; повседневность смешивается с насилием, сопутствующим ей повсюду, а также с травматичной «большой историей».
«L’autofiction, c’est comme le rêve; un rêve n’est pas la vie, un livre n’est pas la vie» («Автофикшн похож на сон; сон не является жизнью, книга не является жизнью», фр.). Серж Дубровский, французский писатель и теоретик, чей роман «Сын», написанный в 1977-м, получил широкое признание как первый роман в жанре автофикшн, предлагает не определение, но уточнение: автофикшн похож на сон; сон не является жизнью, книга не является жизнью. Однако какого рода этот сон?
Эдмунд Уайт, написавший и автобиографию, и романы на основе реальных событий, проводит черту между двумя формами. «Я вижу четкое различие между автофикшном и автобиографией, — говорил он в интервью журналу Asymptote. — Я только что закончил третью автобиографию, первые две книги которой называются «Мои жизни» и «Городской мальчик». Я стараюсь быть правдивым и точным. Я верю в истину и считаю полным бредом утверждать, что все на свете есть фикшн или выдумка. Все это глупости. Большинство людей понимают, что правда — нечто вроде горизонта, к которому нужно стремиться. Возможно, ты никогда не доберешься до назначения, но, по крайней мере, двигаешься в нужном направлении».
Напротив, свобода переставлять и выпускать из повествования события, создавать героев из набора черт, предоставляемая писателям в жанре фикшн, парадоксальным образом помогает освободиться от необходимости привирать, сочиняя вещи. Многие авторы занимают подобную позицию, она ни в коей мере не противоречит анализу, рассматривающему вопрос под несколько другим углом. Так, автор коротких рассказов Лусия Берлин рассказывала в интервью The New Yorker: «Должен произойти сдвиг реальности. Я говорю о трансформации, а не об искажении. Тогда история станет правдивой не только для автора, но и для читателя. В любом стоящем произведении не отождествление с ситуацией, но именно признание истинности, — вот что захватывает больше всего».

Идея подобной трансформации, возможно, неприятно потрясет знакомых с увесистой «Моей борьбой», где ни одна деталь не признана слишком мелкой, чтобы ею пренебречь («Я пошел в кухню, вынул из холодильника пластиковый контейнер с мясным соусом, затем спагетти, разделил по двум тарелкам и поставил первую разогреваться в микроволновку»…). И все же в данном случае обыденность — это манифест. Кнаусгор словно спрашивает: заскучали? А каково мне приходится? Я живу этой жизнью и пишу о ней.
Где теперь место вымысла? Похоже, раздумья о его значении и ценности занимают многих авторов из легиона пишущих в жанре автофикшн и стремящихся выявить иерархию и лицемерие, навязываемые писателям. Начинающим авторам сперва долго рассказывали о том, что писать следует только о том, что знаешь, а затем критиковали за недостаток воображения. Другими словами, дай голос собственному я, однако не скатывайся в нарциссизм; сочиняй, а то мы решим, что ты не умеешь, и говори правду, а то мы скажем, что ты лжешь.
Многие формы письма сочетают скрытность с откровением. В общественном дискурсе взращивается предпочтение к перформативности — в политике, социальной жизни, даже в дружбе идея о важности того, что именно человек утаивает, а что показывает, становится все более актуальной и убедительной. Однако эффект получается разный. К примеру, пишущие женщины или темнокожие авторы часто изумляются тому, что публика и критики уверены, будто их творчество должно быть непременно основано на реальности, на собственной жизни. Это приводит к поиску «правды» в воображаемом мире их произведений и тем самым к преуменьшению их значения.
Истории о жизни и о семьях становятся «местными». Аминатта Форма пишет роман, действие которого разворачивается в Хорватии, и обнаруживает его в «Африканском отделе» книжного. Букеровский лауреат Марлон Джеймс говорит об ограничениях, которые подобное отношение накладывает на фантазию, отчасти поэтому свой собственный новый проект — фэнтезийный эпос под названием «Темная звезда» — сам автор определил как «африканскую «Игру престолов»».

Писательница Крис Краус, в своем романе «I love Dick» исследовавшая такие темы как измена, желание и ревность с помощью столь невероятного наслоения различных техник и точек зрения, что у читателя начинается головокружение, отвергает понятие автофикшн: «Я бы избегала использовать этот странный термин. Он применим к моим работам, а также работам многих других писателей, но я бы никогда не стала его употреблять. В истории литературы огромное количество примеров, когда автор-мужчина ведет повествование от первого лица, причем фигура рассказчика очень близка к автору, но мы не называем их произведения автофикшном. Банальный пример, скажем, Джек Керуак. Мы не зовем его произведения автофикшном. Или произведения того же Германа Мелвилла. Так же, как и все американские реалистические романы, написанные от первого лица».
Вспомните, сколько раз серию автобиографических романов Кнаусгора и «Неаполитанский квартет» Элены Ферранте пытались втиснуть в тесные, упрощающие рамки, сводя все к различиям мужской-тире-женской прозы. Кнаусгор: наращение мельчайших подробностей, словно с целью загипнотизировать или ошеломить читателя, воспроизводя бессчетные психологические сдвиги на пути к становлению мужчиной. Ферранте: загадки женской дружбы, изложенные с помощью приемов мыльной оперы или семейной саги.
Однако на самом деле мощь произведений Ферранте заключается не в убежденности в силе динамичного сюжета и персонажей, но из глубокой амбивалентности по отношению к ним. Ключевая цель описания, Лила, ускользает от пишущей о ней Лену; то есть, Лила буквально исчезает в самом начале повествования и определяется отсутствием в той же степени, что и присутствием, нагоняемая чувством стирания границ между собой и миром, постоянно репрезентируемая как женщина-вамп, любовница бандита, деловая женщина, мать, контролирующая и контролируемая. В одной из сюжетных линий она предстает Золушкой наоборот, создающей туфельку, которая ее освободит, однако обретенная независимость все равно оказывается похищена окружающими мужчинами.
Роман Ферранте — сказка, выявляющая общественное устройство, так же, как книги Анджелы Картер. События вне текста, — а именно отказ Ферранте раскрыть свою личность, — становятся частью этой сказки. Писательница не подчиняется желанию публики разузнать хотя бы основные факты ее биографии, потому что прекрасно понимает, — на этом дело не остановится. Отсутствие — единственный способ сохранить себя, однако и на этом пути можно потерпеть неудачу перед яростным и отчаянным желанием раскрыть реальность.
Каким образом реальность встраивается в писательство? Как наблюдаемый факт, преходящее чувство или рассуждение перекладываются на слова? Дебора Леви в мемуарах-эссе-манифесте «Стоимость жизни» вспоминает наспех набросанное предисловие к машинописному дневнику, который вела несколько десятилетий назад, где похожее «определяется словом «это»».
«Это начинается со знания и неведения, стакана молока, дождя, упрека, захлопнувшейся двери, резкого замечания матери, улитки, желания, обгрызенных ногтей, открытого окна. Порой это легко, порой невыносимо».
Леви задается вопросом, что же представляет собой «это». Упоминание о стакане молока приводит к написанию романа «Горячее молоко», а вышеприведенная цитата — возможно, некое смутное предвидение. Одно только слово, чувство неопределенности и невероятно символичные объекты — дверь, улитка, окно — в конечном итоге сливаются в нарратив. «В писательстве в моем понимании больше всего меня привлекает возможность проникнуть в видимую реальность вещей, — пишет Леви, — увидеть не только дерево, но и насекомых в его инфраструктуре, открыть, что все взаимосвязано в экологии языка и жизни».
Однажды, не без юмора пишет Леви, ею пренебрегли как объектом интереса. Люди на улице остановили ее, чтобы расспросить, как устроен ее электрический велосипед. Покорно разъясняя устройство мотора, Леви с сожалением поняла, что превратилась во второстепенного персонажа в собственной жизни.
Чтобы писать автофикшн, нужно относится к себе, словно к центральному персонажу и всемирной знаменитости
Для того, чтобы писать автофикшн, нужно относится к себе, словно к центральному персонажу и всемирной знаменитости, именно это, вероятно, и вызывает сопротивление. От писателя требуются эгоцентризм и непреклонная решимость оставить свой след. Рейчел Каск, описавшая опыт материнства и развода в книгах «Работа длиною в жизнь» и «Последствия», столкнулась с осуждением, произносимым якобы от лица тех, чья жизнь оказалась выставленной напоказ, — детей и мужа — из ее истории. Похоже, весьма удобный момент для возникновения сомнений в культуре, где привыкли радостно и без тени сомнения вмешиваться в жизнь других людей. Вспоминается Вирджиния Вульф и ее эссе «Три гинеи» с вымышленными возражениями противников развития женщинами творческого начала в самих себе.
«Продавать мозги гораздо хуже, чем продавать тело. Продавая тело вместе с краткосрочным наслаждением, женщина сама хорошенько заботится о том, чтобы на этом все сразу же и завершилось. Продавая анемичные, порочные и больные измышления собственного разума, она распространяет их по миру и сеет семена болезни в других. Поэтому мы просим вас, мадам, взять на себя обязательство воздерживаться от прелюбодействия мозгами, поскольку подобное преступление является гораздо более тяжким, чем первое».
Так или иначе, чувствовалось, что Каск обвиняли в торговле телом и мозгом, потому следующая трилогия, в которой писательница вычеркивает себя и дает слово другим, может служить ответом на эти обвинения.
Как утверждает Краус, при чтении приобретает все большее значение выбор: кто именно говорит и что произносится. Именно этот выбор часто подвергается нападкам. Высказывания в трилогии Каск — подсудное дело, представленное различными способами: мысли рассказчицы передаются в основном косвенной речью, высказывания собеседников заключены в кавычки. В начале романа «Почет» Каск сочиняет диалог между Фэй и ее зарубежным издателем, который объясняет, как издательство снова начало получать прибыль благодаря решению печатать судоку и смещению «художественных» романов в конец списка приоритетов. Размышляя об онлайн-комментаторах, выставляющих Данте всего одну звездочку из рейтинга, издатель утверждает, что Данте в состоянии сам за себя постоять. «Издатель считал проявлением слабости рассматривать литературу как нечто хрупкое, требующее защиты».
Фэй возражает, что подобное отношение кажется ей циничным и что за Данте следует вставать горой «при любой возможности», нуждается он в этом или нет. Ответ издателя будет знаком всякому, кто пытался поспорить с авторитетным мнением:
«Пока я говорила, издатель украдкой поглядывал за мое плечо. Я обернулась. У входа в бар стояла женщина, которая в замешательстве оглядывала помещение, приставив ко лбу руку козырьком, словно путешественник, вглядывающийся в неведомую даль. «А вот и Линда», — сказал издатель».

Писателям необходима стратегия, чтобы предстать перед острым взглядом тех, кто слишком могущественен или же слишком занят, чтобы их выслушать. При нынешнем расцвете автофикшна примечательно, как много женщин выходит на передний план, однако некоторые из них — в основном белые, образованные и зачастую влиятельные в других сферах творческой деятельности — уже успели занять привилегированные места.
Темнокожие писатели, писатели из рабочего класса и представители сексуальных меньшинств также нуждались в способе освободиться от ограничений реалистического романа. Клаудия Ренкин проводит различие между «я» настоящим и историческим, она намерена разрушить американскую лирическую традицию, чтобы описать то, что происходит в зазоре между этими двумя «я». В качестве других примеров можно привести Адель Стайл и ее вымышленное воссоздание жизни драматургессы Андреа Данбар под названием «Черные зубы и широкая улыбка», роман мемуаристки Мишель Ти «Черная волна» и других. Обе книги были бы невозможны без свободы нарушить традиционную форму, что Эдуард Луи определял как способ противостояния буржуазной попытке сдержать насилие и угрозу в безопасных рамках.
Однако не стоит создавать искусственное противостояние между различными типами романов или же делать вывод, будто реализм не представляет угрозы для социального, политического или эстетического статус-кво. Критик Джонатан Гибб не так давно писал о своих наблюдениях по отношению к автофикшну, воспринимаемому теперь как новая форма, призванная заменить собой старые и отправить нас в «место, где написать старый добрый роман с цельными персонажами, реалистичными описаниями и искусно выстроенным сюжетом, — признак дурного вкуса. Словно написание традиционного романа заключается в штамповке персонажей, которые должны понравиться читателю».
Гибб задается вопросом, неужели авторы автофикшна попросту желают отойти от этого несколько утонченного стиля и «подтолкнуть роман к спекулятивности, философичности, случайности: к роману в виде разрозненных заметок, эдакому Витгенштейну с персонажами». Гибб утверждает, что ему по душе оба, и не хотелось бы выбирать между ними. И в самом деле, нам вовсе не нужно этого делать. По крайней мере, пока мы можем убедить издателей оставить местечко для литературы посреди сборников судоку.
Заглавие романа Рейчел Каск «Почет» отсылает также к награде для способных студентов, которую вручают в вымышленном колледже. Роман населен персонажами, пытающимися определить и измерить успех, — практически недостижимая задача, если дело касается искусства. Один из самых неприятных моментов в истории наступает, когда Фэй сталкивается с Райаном, которого читатели уже знают как пылкого ирландского писателя. Сначала, наблюдая за его сухопарой фигурой, за тем, как он опирается при ходьбе на трость, Фэй думает, что Райана постигла тяжелая болезнь, хотя привыкла думать, что подобные люди «проживают свою жизнь безнаказанно». Однако никакой болезни в помине не было. Райан просто сбросил вес, приобрел соавтора и заокеанский акцент и заделался сочинителем популярных бестселлеров, а трость с ним ненадолго — споткнулся, выбираясь из такси.
В беседе с Фэй Райан рассказывает, что редактирует благотворительную антологию, написанную знаменитостями, и упоминает, что за права на съемки сериала разразилась «нереальная» битва. «К сожалению, — заявил он, — экономическая составляющая не предполагала, что мы включим в сборник кого-то вроде тебя, потому что вся затея была в том, чтобы заработать, а для этого нужны раскрученные имена». Вот такой почет.

Семь полезных приложений для писателя
Почти любой писатель, у которого журналисты интересуются, на чем он пишет, отвечает: писать можно на чем угодно, главное – делать это каждый день.
Встречаются экзотические способы письма: автор «Игры престолов» Джордж Мартин пишет новый том саги в «древнем» текстовом редакторе WordStar (и продолжает работать в нем даже после того, как старый компьютер Мартина сломался и пришлось покупать новый), а молодой писатель Вячеслав Ставецкий пишет по странице в день от руки. Про Джоан Роулинг говорили, что она начала работу над черновиком «Гарри Поттера» на салфетках привокзального кафе. Впрочем, впоследствии сама писательница эту байку опровергла, но все равно — часть черновых набросков Роулинг писала от руки в блокнотах и лишь спустя время переносила в электронный формат.
Большинство же авторов не заморачиваются и работают с помощью знакомого инструментария Microsoft Word или Google Doc. Но и у этих знакомых программ есть минусы: Google Doc может испытывать трудности с обработкой текстов большого объема, а Word, по мнению многих пользователей, перегружен «лишним» функциями.
К счастью, прогресс не стоит на месте, и для взыскательных авторов разработчики предлагают ряд полезных и эффективных решений, чтобы сделать писательский труд чуть приятнее. Представляем обзор программ для писателей, который сделал портал «Многобукв».
ZenWriter. Текстовый редактор со своей атмосферой

Текстовых редакторов в интернет-пространстве водится множество, поэтому у всех, кому надоела бело-синяя гамма Word-а, есть куча альтернатив. ZenWriter – один из вариантов, наиболее подходящий для ценителей красивого интерфейса.
Плюсы: Это современный текстовый редактор, ключевая особенность которого — простота. У пользователей есть возможность выбрать фоновое изображение для полноэкранного режима, а также при необходимости переключаться с дневного на ночное оформление. Кто-то любит писать в тишине, а некоторым комфортно работать под музыку: для таких авторов в приложении предусмотрен выбор аудиодорожки или звуковые эффекты, например, при наборе текста ваш компьютер будет звучать как печатная машинка. Идеальное решение для тех, кому для повышения продуктивности требуется максимально комфортная обстановка и ощущение, будто в руках у него – не ноутбук, а настоящий «Ундервуд».
Минусы: ZenWriter не может похвастаться богатством функций форматирования текста. Он подходит для спокойной работы над первым драфтом, но для редактуры нужны инструменты посерьезнее. Кроме того, в ZenWriter не встроена функция сохранения файлов в формате .doc автоматически, а значит, при конвертации файла могут возникнуть проблемы с редактурой текста.
Цена: 1020 рублей
Feedly. Структурирование рабочего процесса
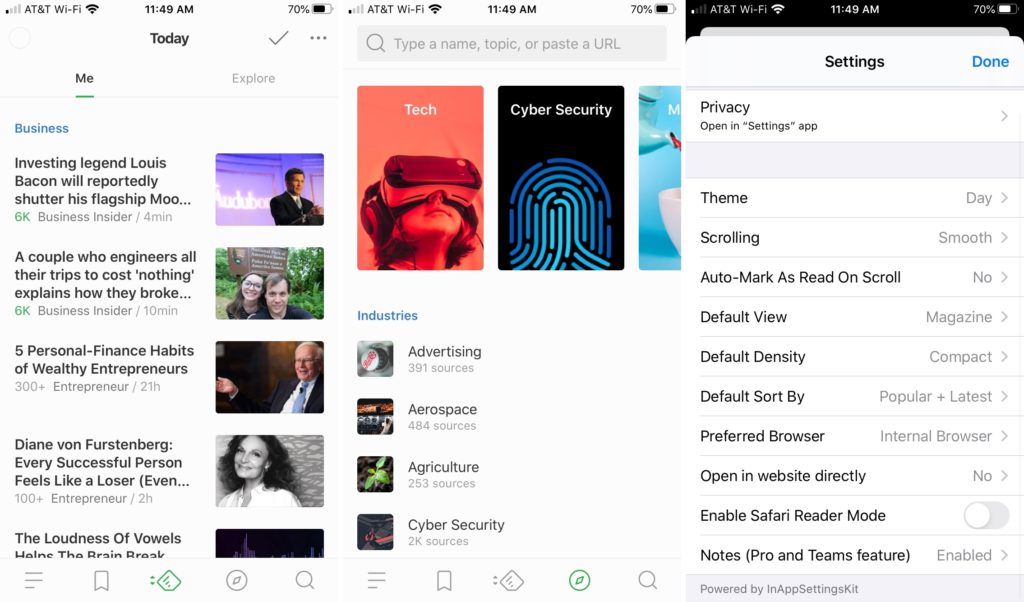
Приложение Feedly подойдет не только для писателей, но и для читателей. Постоянно находите интересные тексты, но нет времени прочесть все сразу, а потом находки безнадежно теряются среди множества вкладок? Feedly – это ваша библиотека, где у вас есть возможность собирать разные тексты, ссылки на статьи или сайты, вести учет прочитанных материалов. Вы также можете оставлять под файлами теги, выделять ключевые слова, что в дальнейшем, безусловно, облегчит вам поиски нужных файлов.
Плюсы: Для писателей это приложение особенно полезно на начальных этапах работы над текстом, когда проводятся подготовительные исследования. В Feedly вы можете хранить исторические и научные материалы, на которых будет базироваться ваше произведение, или же подборки идей для вдохновения, перекликающихся с вашим текстом.
Минусы: Все-таки Feedly — приложение прежде всего для чтения новостей в формате RSS-рассылки, и для структурированного хранения материалов исследований оно подходит плохо. Кроме того, в дизайне оно уступает конкурентам вроде расширения Pocket для Safari Google Chrome, Mozilla Firefox и других браузеров. При этом большинству пользователей функции Feedly, заточенные под профессионалов, не понадобятся.
Цена: Бесплатно.
Keybr.com. Быстрее, круче, эффективней
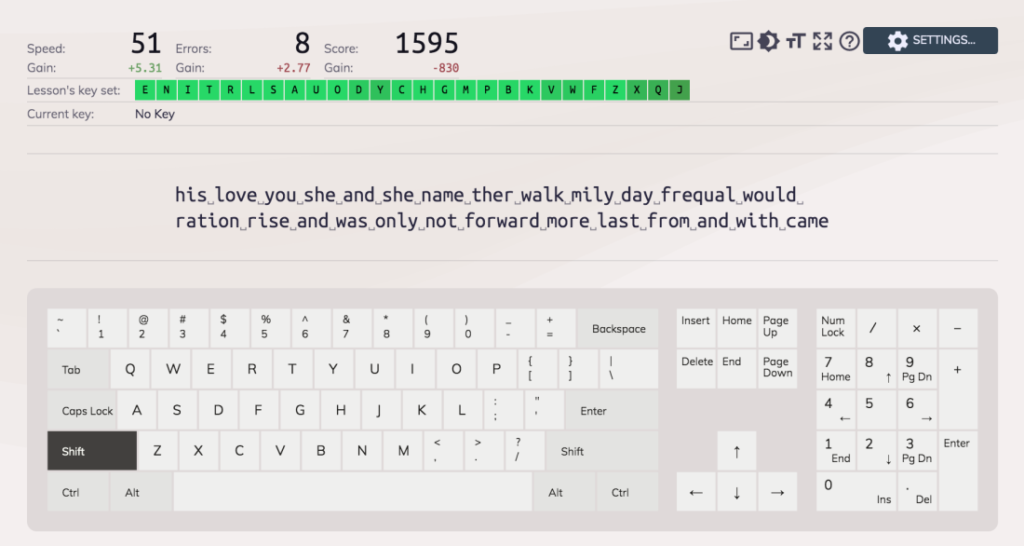
Этот портал – отличная тренировочная площадка для всех, кто не очень уверенно печатает. Конечно, высокая скорость набора текста не только повышает общую продуктивность, экономит время, но и бережет ваши нервы. Все, кто пишет, знают, как сильно раздражает непослушная техника в самый ответственный момент рабочего процесса.
Плюсы: Принцип «тренировок» достаточно прост: вы видите на экране текст на латинице, который должны продублировать, при этом каждый раз, когда вы нажимаете не на ту клавишу, ошибка выделяется красным цветом. Затем отображается средняя скорость, с которой вы печатаете, сколько промахов допустили. При этом программа подбирает разные сочетания клавиш для каждого упражнения – непременно те, что при наборе вызывают наибольшие затруднения у пользователей.
Минусы: Их, в общем-то, нет — если вы хотите обучиться печатать вслепую, то приложение вам прекрасно подойдет. Но не ждите, что при слепом методе печати муза придет сама собой — скорость письма не обязательно коррелирует с качеством написанного.
Цена: бесплатно
750 words. Работа с текстом – полезная привычка

Еще одна онлайн-платформа, с помощью которой вы можете выработать привычку писать каждый день. Особенно полезным сервис покажется начинающим писателям, потому что прокрастинация – один из всадников апокалипсиса для всех причастных.
Плюсы: Сервис основывается на положительном подкреплении, что является прекрасной альтернативой тем приложениям, которые за нулевую продуктивность только наказывают автора-бездельника. На 750 words есть хронологическая линейка, где видно, сколько дней в течение месяца вы посвящали письму и сколько вы написали. Стартовая цена – 750 слов в день. Если вы напишете половину, заработаете один балл, если больше – все два. На сайте также есть рейтинговая таблица, где вы можете наблюдать за своим прогрессом и успехами других людей, и такой соревновательный элемент может стать неплохим стимулом.
Минусы: Все-таки не стоит забывать, что работа над текстом — это не гонка с препятствиями. У каждого своя скорость письма, и необязательно у одного и того же человека она будет одинаковой: сегодня слова льются из вас потоком, а завтра работа над рукописью напоминает строительство забора жарким летним днем: каждое написанное слово дается с трудом. Это — часть писательского пакта с текстом, и гонка за количеством слов в какой-то момент может подменить главное — процесс интеллектуальной работы над произведением.
Цена: бесплатно.
Scrivener. Все перипетии вашего романа – на одном экране
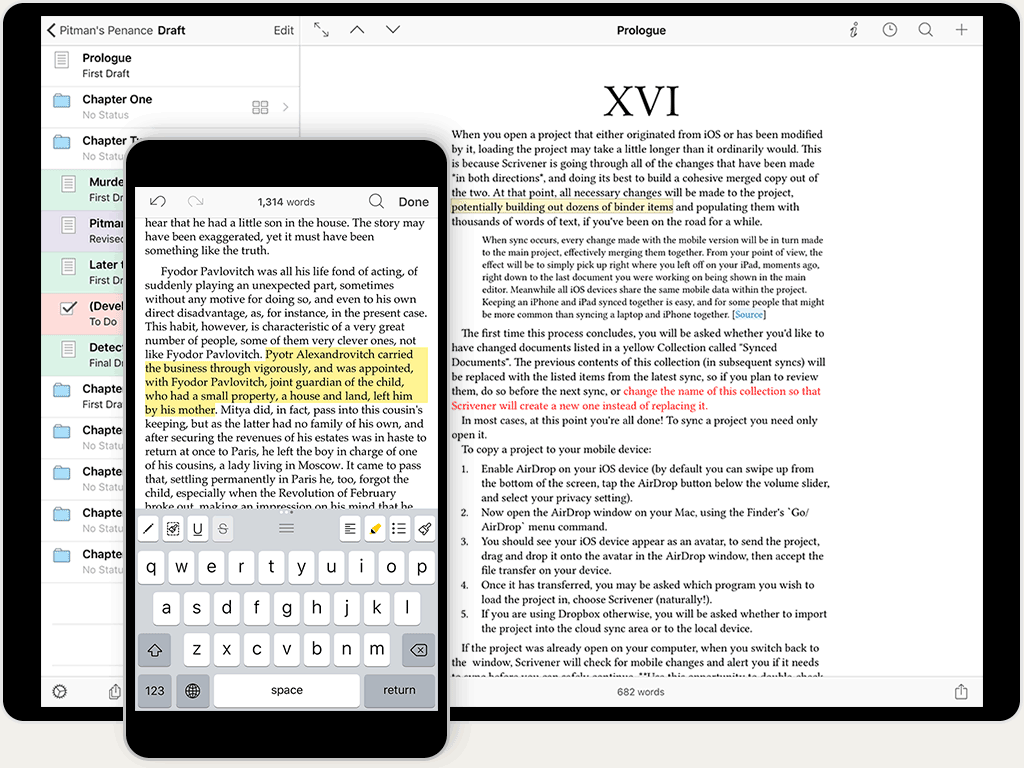
От других приложений в нашей подборке Scrivener отличается количеством доступных писателю функций. Здесь есть все: от планировщика романа и возможности создавать профили героев до текстового редактора и функции автозагрузки текста в облака с последующим сохранением в любом из предпочитаемых форматов файла.
Плюсы: Scrivener позволяет вести заметки, создавать оглавление для будущего романа и прикреплять к нему тексты из черновиков, добавлять сторонние ссылки, картинки, видео и даже музыку, хранить необходимые для исследований книги в отдельной библиотеке и даже создавать виртуальную пробковую доску с картинками, пометками и списком задач – как в ваших любимых детективах. А сохраненные на ноутбук с Mac OS данные автоматически перенесутся в ваш профиль на Windows.
Минусы: Во-первых, Scrivener может быть трудно освоить, особенно для тех пользователей, которые привыкли к сравнительной простоте Google Doc или Word. Во-вторых, большое количество функций означает и довольно высокую цену – за полноформатную версию программы разработчики просят 45 долларов. Но если стоимость вас не пугает, а программу для написания романа «под ключ» иметь хочется – Scrivener станет надежным компаньоном.
Цена: около 3 300 рублей
КИТ–Сценарист: Простой отечественный редактор для ваших сценариев
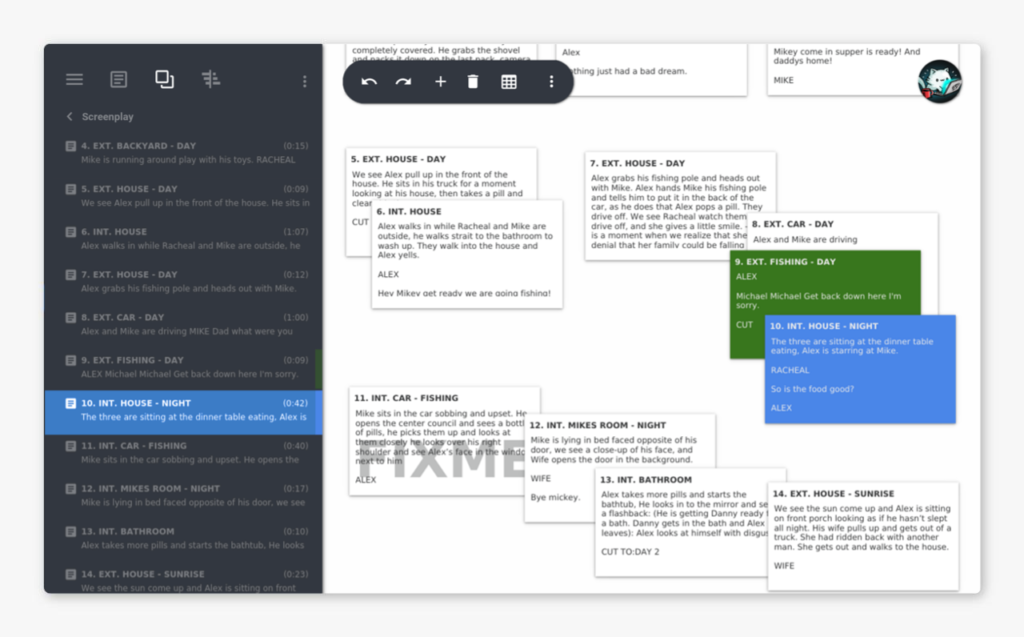
Бесплатный аналог Scrivener для тех, кому надоело слышать, что «русское кино – в ж*пе», как говорил герой комедии «Изображая жертву». КИТ-Сценарист разработал отечественный программист Дмитрий Новиков с целью облегчить задачу творческим людям в работе над сценариями мечты. И надо признать, замысел удался: богатство функций приложение сочетает с простотой и минимализмом интерфейса.
Плюсы: Программа позволяет одновременно работать над сценарием, заводить профили героев и – пожалуй, главная «фишка» программы – возможность распланировать сценарий в виде карточек, как это советуют в своих классических учебниках по сценарному мастерству Блейк Снайдер и Джон Труби. Впрочем, такая возможность будет полезна не только сценаристам: на библиотечных карточках романы писал Владимир Набоков, а Умберто Эко вел с помощью них заметки.
Минусы: Пожалуй, единственным минусом программы является некоторое количество ошибок, на которые жалуются пользователи в соцсетях. Впрочем, разработчики активно ведут группу ВКонтакте и оперативно отвечают на возникающие вопросы – с техподдержкой у приложения проблем нет.
Цена: бесплатно
Ulysses. Писать не отвлекаясь
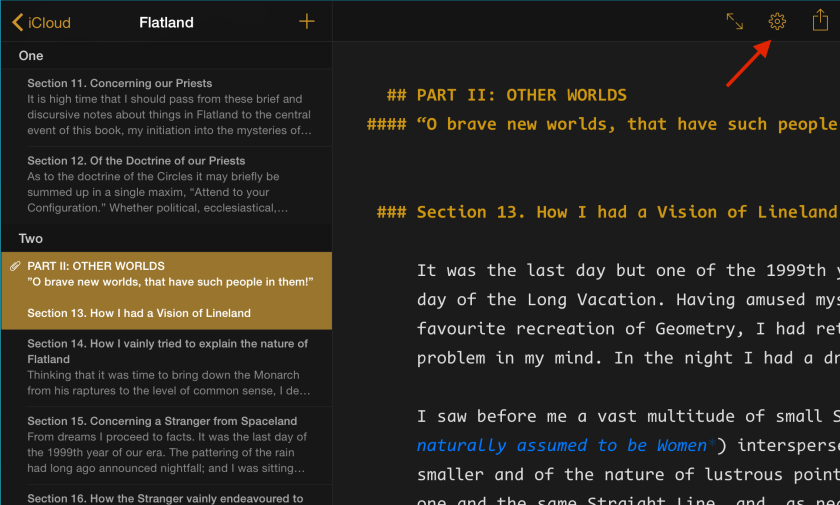
Пользователи описывают Ulysses как не просто приложение, но скорее как «среду для письма». И совершенно правы: Ulysses позволяет в полноэкранном режиме вести все заметки, писать черновики и синопсисы, доступные из одного облака.
Плюсы: Благодаря языку программирования Markdown Ulysses обладает минималистичным количество редакторских опций, однако достаточным для писателя, редактора и даже дизайнера. Отдельной полезной функцией является функция «Целей»: автор может в автоматическом режиме отслеживать свой прогресс в написании черновика и то, удалось ли ему достичь ежедневной нормы написанных слов. Кроме того, Ulysses позволяет синхронизировать файлы в облачных сервисах Dropbox, Google Drive и One Drive и автоматически публиковать тексты на блог-платформах WordPad и Medium.
Минусы: Из недостатков можно выделить лишь то, что Ulysses работает лишь в программной среде Mac OS и iOS, и тоже стоит сравнительно дорого: подписка обойдется примерно в 800 рублей в месяц. Не самое выгодное предложение в нынешних экономических условиях.
Цена: 800 рублей в месяц.
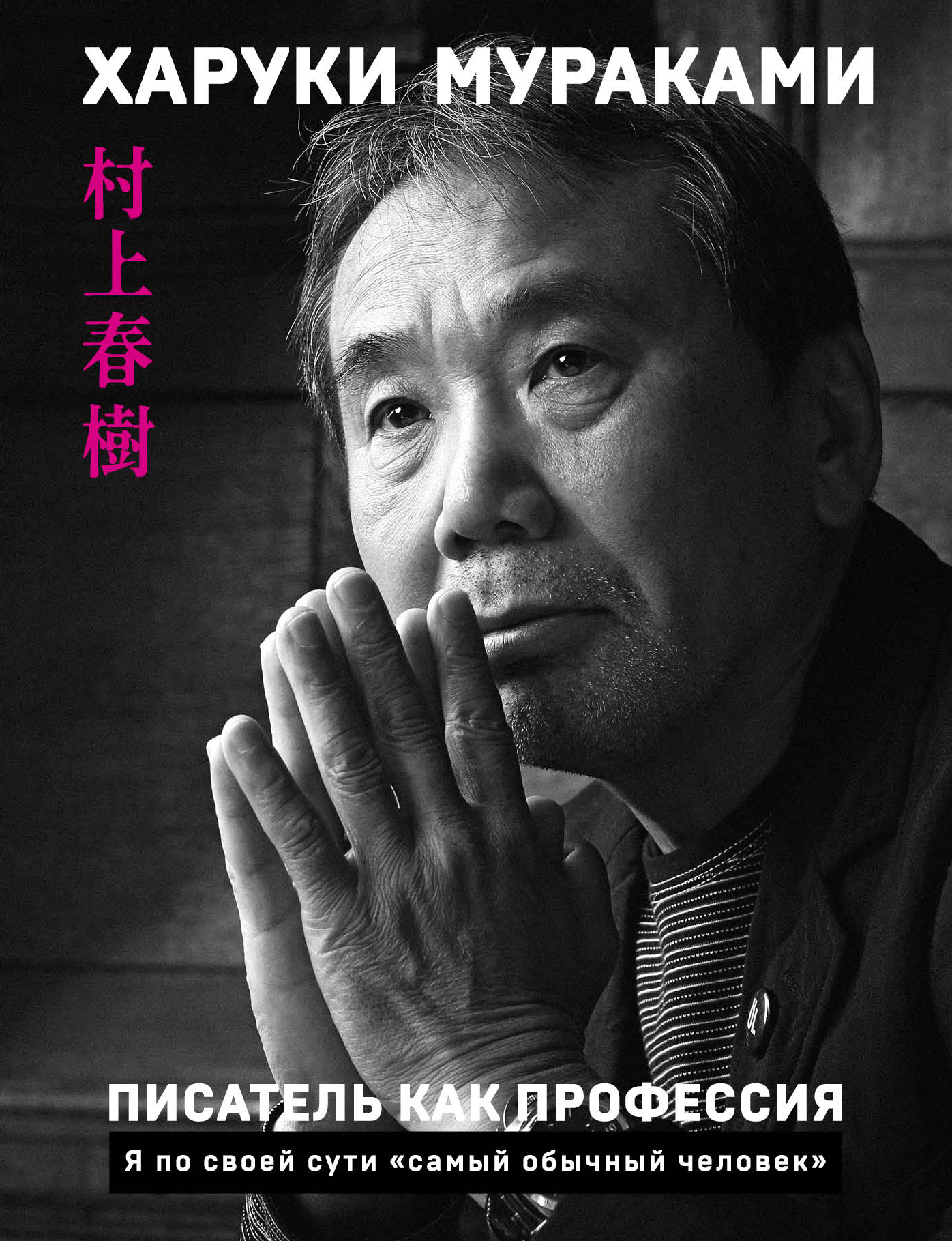
Харуки Мураками. Писатель как профессия
В издательстве «Эксмо» вышла книга Харуки Мураками «Писатель как профессия». Это книга-интервью, книга-исповедь человека, влюбленного в свое дело. Повествование построено в форме бесед так, как если бы читатели присутствовали на встрече с любимым автором и задавали ему самые важные вопросы — о писательской философии и творческом методе, о создании романов и поиске своего стиля, о литературной среде и значении премий.
Сегодня мы предлагаем вам почитать отрывок из Беседы пятой «Ну так о чем же стоит писать».
О внутреннем хранилище
Если вы хотите стать прозаиком, то, как я уже сказал, ваша задача заключается не в вынесении суждений, а в накоплении как можно большего объема «натурального» материала в его исходной форме. Для этого нужно особое пространство, своего рода ваше внутреннее хранилище, воображаемая комната-шкаф. Разумеется, уместить в нее все невозможно. Объем человеческой памяти ограничен. Поэтому нам необходима минимизирующая система обработки данных, которая позволит ужать нужную информацию.
Скажем, я в большинстве случаев пытаюсь зафиксировать в памяти несколько подробностей, наиболее красноречиво повествующих о событии, персоне или ситуации. Так как всю картину сохранить в памяти непросто (или, иными словами, ее легко забыть и трудно вспомнить), самое разумное — сосредоточиться на характеристиках, которые обладают наибольшим потенциалом для запоминания. Именно это я и называю минимизирующей системой.
Что же это за характеристики? Это те самые мелочи и детали, которые вызывают у вас «ого!»-реакцию — именно они лучше всего фиксируются в памяти. В идеале ими станут необъяснимые вещи, нелогичные или противоречащие основному ходу событий, вызывающие у вас вопросы, таинственные, намекающие на какую-то загадку. Вы собираете такие фрагменты, навешиваете на них опознавательную бирку (время, место, событие) и храните у себя в голове, в своем внутреннем хранилище. Конечно, всю эту информацию можно записать, например, в специальный блокнот, но я все-таки предпочитаю полагаться на собственную память. Во-первых, потому что таскаться повсюду с блокнотом — то еще удовольствие, а во-вторых, потому что я обнаружил, что, как только что-то записываю — сразу расслабляюсь и забываю вообще все. По методу «внутреннего хранилища» забывается только то, что и без того должно забыться, а то, что важно помнить, остается в голове. Мне очень нравится этот процесс естественного отбора.
Кстати, есть одна байка, которую я очень люблю. Говорят, что как-то раз Поль Валери брал интервью у Альберта Эйнштейна и, в частности, спросил у гениального физика, носит ли тот с собой блокнот для записи новых идей. Эйнштейн вообще был человеком невозмутимым, но тут заметно удивился. «Это лишнее, — ответил он. — Новые идеи, знаете, приходят редко, я их все помню».
Я навскидку и не скажу, когда мне в последний раз хоте- лось, чтобы у меня с собой оказался блокнот. По-настоящему важные вещи, будучи доверены памяти, не так-то просто забываются.
Внутреннее хранилище — незаменимая вещь, когда вы пишете роман. Точные, выверенные аргументы и оценочные суждения не очень-то помогают нам создавать художественную прозу. Более того, они зачастую препятствуют естественно- му потоку повествования. Но даже если ваша умозрительная комната-шкаф полна самых разных, никак не связанных вещей и деталей, вы будете удивлены, когда заметите, насколько замечательно они складываются в единую картину по мере необходимости.
О каких деталях идет речь?
Но о каких вещах, о каких деталях идет речь?
Ну… Возьмем, к примеру, человека, который сразу начинает чихать не- понятно почему, если рассердится. При этом, раз начав, он никак уже не может остановиться.
Честно говоря, среди моих знакомых такого человека нет, но давайте предположим, что среди ваших — есть. И вот вы пытаетесь объяснить, чем вы- зван такой феномен.
Вы придумываете гипотезу — из области физиологии или психологии — и опираетесь на нее, анализируя это странное поведение. А моя голова работает по-другому. Я просто думаю: «На- до же, каких только людей на свете не бывает», и все. Я не пытаюсь делать далеко идущие выводы, просто фиксирую курьезный факт как еще один пример существующего в мире разнообразия и отправляю его в ментальное хранилище. У меня там ящики уже доверху набиты фрагментами реальности и обрывками воспоминаний, которые я собираю и бережно храню.
Джеймс Джойс сказал об этом лаконично: «Воображение — это память». И я с ним скорее согласен. Даже не скорее, а просто согласен — очень уж точно он это сказал. Мы называем воображением разрозненные, никак не связанные фрагменты нашей памяти. Звучит несколько несогласованно, но это кажущееся противоречие. Когда мы начинаем собирать отрывки, в нас просыпается интуиция и мы прозреваем возможное будущее. Сила прозы зарождается именно в таком взаимодействии фрагментов.
У каждого из нас — по крайней мере у меня — есть такое внутреннее хранилище. В нем собрано много-много ящиков, где хранятся знания и воспоминания. Есть большие ящики, а есть маленькие, есть ящички с двойным дном и другими секретными приспособлениями. В процессе работы я могу извлечь запрятанную в них информацию, если она нужна для моей истории. Ящиков этих — не счесть, но когда я сосредоточен на работе, то точно знаю, где находится место, в котором лежит нужная мне деталь, и сразу же безошибочно его нахожу. Не существующие для меня в обычное время воспоминания сами приходят в мою память. Я погружаюсь в состояние гибкой безудержности, когда мое воображение будто бы существует вне моего сознания, превращается в отдельную сущность и живет само по себе. Невероятное ощущение. Излишне говорить, что для такого писателя, как я, это внутреннее хранилище — ничем не заменимый, практически неисчерпаемый ресурс. В фильме Стивена Содерберга «Кафка» исполнитель главной роли Джереми Айронс проникает в жуткий замок (позаимствованный, разумеется, из одноименого романа Кафки) через комнату-шкаф, по всему периметру которой от пола до потолка тянутся ряды ящиков. Когда я увидел эту сцену, то внезапно понял, что это почти точная визуализация моего сознания. «Кафка» — очень интересный фильм, так что посмотрите его целиком или хотя бы эту сцену. Хочется думать, что мое сознание все-таки не такое жуткое, но, как мне кажется, устроено оно очень похоже.
Хотя я пишу не только художественную прозу, но и нон-фикшн, однако, когда у меня в работе роман, я стараюсь ни- чем другим не заниматься, за исключением особых, из ряда вон случаев. Ведь если я создаю цикл эссе, то могу, сам того не осознав, взять из какого-нибудь ящика деталь, которая мне понадобится потом для романа. То есть впоследствии я могу оказаться в ситуации, когда открою ящик в полной уверенности, что там лежит нужный мне образ, но обнаружу, что там ничего нет, потому что я уже использовал это в другом месте. Скажем, если я захочу вставить в какое-то из своих произведений историю про человека, который безостановочно чихал, когда сердился, но при этом окажется, что она уже была опубликована в одном из эссе, то это, конечно, будет плохо. Разумеется, нет такого правила, которое бы запрещало писателю использовать в романе фрагмент, который он уже упоминал в эссе. Но я обнаружил, что это дурно влияет на мою прозу, ослабляет эффект. Могу вам посоветовать в процессе работы вешать на некоторые воображаемые ящики бирку «только для романов» или «для нон-фикшна не брать». Однако почти не- возможно узнать заранее, что вам понадобится, так что идея с бирками — не самая удачная. За последние тридцать пять лет я имел возможность убедиться в этом на собственном опыте.
Когда вы вынырнули на поверхность, закончив работу над романом, можно, передохнув, снова нырнуть, чтобы заняться неоткрытыми ящиками и использовать материал из них (своего рода «товарные излишки»), например, в эссе. Но в моем случае нон-фикшн — это второстепенный, сопутствующий продукт вроде холодного улуна в жестянках, который делает на продажу какой-нибудь крупный производитель пива. Наиболее аппетитные фрагменты я оставляю для моей основной продукции — следующего романа. Когда в ящиках хранилища накапливается критическая масса, я чувствую, что хочу начать писать новую книгу. Вот поэтому я так и оберегаю свою комнату-шкаф.
Помните сцену в фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин», в которой И-Ти собирает передатчик для связи с домом из хлама, вытащенного из кладовки? Там был зонт, лампа, какие-то кастрюльки и сковородки, кажется, проигрыватель для пластинок. Я смотрел этот фильм давно и уже точно не помню, что еще там было, но в любом случае инопланетянин умудряется приспособить все эти вещи одну к другой таким образом, что хитроумное устройство срабатывает, и ему удается связаться с родной планетой, находящейся на расстоянии тысячи световых лет от Земли. Мне ужасно понравилась эта сцена, когда я смотрел фильм в кино, но сейчас она еще больше поражает меня тем, насколько по сути это напоминает процесс создания хорошей прозы. Самое важное здесь не качество материала, а волшебство. Если оно присутствует, то даже самые обыденные детали сюжета и простейший язык могут послужить отличной формой для неожиданно глубокого философского содержания.
Но все-таки волшебство нужно к чему-то приложить, а это «что-то» должно было найтись в твоей кладовке. Если хранилище пусто, никакая магия не поможет. Так что нужно позаботиться, чтобы там всегда была куча хлама на тот случай, если рядом будет пробегать И-Ти.
Роман — это средство межпланетной связи
Когда первый раз в жизни я сел за роман, мне ничего не приходило в голову. Я был в совершеннейшем ступоре. В отличие от моих родителей я не пережил войну, не испытал на себе хаос и голод послевоенных лет, чего сполна хлебнуло старшее поколение. Я не был свидетелем революций и пере- воротов (хотя и был, считай, участником своего рода эрзац-революции, но писать об этом мне как-то не хотелось). Я не сталкивался ни с дискриминацией, ни с издевательствами. Напротив, я рос в довольно благополучной обстановке: в обыкновенной семье среднего достатка, живущей в тихом, спокойном пригороде. У меня не было каких-то особых желаний, и, хотя моя молодость была далеко не идеальной, нельзя сказать, что мне в жизни не везло. Честно говоря, в чем-то я все же чувствовал себя достаточно везучим. Другими словами, мои детские и юношеские годы казались скучными и ничем не примечательными. У меня были не лучшие оценки, но и не худшие. Короче, в моей жизни не было ничего, о чем бы хотелось во что бы то ни стало написать. Я до некоторой степени чувствовал в себе тягу к самовыражению, но при этом у меня не было ни каких-либо идей, ни темы. В результате я дожил до двадцати девяти лет, ни разу даже не задумавшись о том, чтобы начать писать прозу. Мне не хватало материала и таланта сотворить нечто из ничего. Я умел только читать. И я читал, читал, читал — книгу за книгой, роман за романом, ни на секунду не предполагая, что когда-нибудь тоже смогу написать прозу.
Подозреваю, что сегодяшние юноши и девушки находятся примерно в такой же ситуации. Возможно, по сравнению с моим поколением у них даже еще меньше поводов браться за перо, чтобы поведать о себе миру языком художественной прозы. Так что же в таком случае делать?
Как мне кажется, «метод И-Ти» — это единственная их надежда. Им остается только распахнуть настежь двери кладовки и извлечь на свет все, что копилось там сих пор — это их главный ресурс, даже если он выглядит как гора бесполезного хлама. Вытащить все и начать с этим работать, впахивать по полной до того момента, пока не сработает волшебство. Никакой другой метод не поможет нам связаться с далекими планетами. Мы можем лишь стараться использовать по максимуму то, что у нас есть. Если работать на полную мощность, то старания могут оказаться не напрасными, и тогда придет успех. Но еще прекраснее этого — восхитительное чувство, что ты творишь волшебство. Потому что в конечном итоге роман — это средство межпланетной связи. Это и правда так!
Творить из подручного материала
Когда я начал писать свою первую вещь «Слушай песню ветра», я знал, что выбора у меня нет — я должен рассказать о том, что мне не о чем писать. Если я хочу двигаться вперед к тому, чтобы стать романистом, я должен каким-то образом превратить этот факт в действенный инструмент. Иначе я окажусь безоружным перед лицом всех предыдущих писательских поколений. Мне кажется, это довольно красноречивый пример того, что называется «творить из подручного материала».
Такой подход требует нового языка и нового стиля. Ты должен сконструировать транспортное средство, которого отродясь не было и никто еще на таких не ездил. Так как тяжелые темы (война, революция, голод) ты не будешь поднимать (вернее, поначалу не сможешь), значит, нужно ориентироваться на более легковесные предметы, а следовательно, и транспорт тебе понадобится более маневренный, подвижный.
Методом проб и ошибок (процесс, о котором я подробно рассказал во второй беседе) я сумел кое-как сформировать свой собственный стиль. Роман получился далеким от совершенства, тут и там в нем видны были дырки, местами он провисал, но это было мое первое произведение, и я принял его таким, какое оно есть. Работу над ошибками можно было отложить до следующего раза — если таковой вообще когда-нибудь будет.
Я руководствовался двумя принципами. Первый — убрать из текста все пояснения. Вместо этого я ввел в повествование множество разрозненных фрагментов — какие-то эпизоды, образы, сцены, фразы — и попытался увязать их в один трехмерный узел. Второй принцип — я пытался выстраивать связи между фрагментами в неконвенциональном логическом пространстве, где не было места литературным клише. Такая вот схема.

Что такое литература young adult
В Creative Writing School постоянно проходит мастерская «Young adult». Ее мастера — четыре молодые писательницы и авторы книг для подростков Александра Степанова, Ольга Птицева, Марина Козинаки и Евгения Спащенко.
Young adult — одно из самых популярных направлений литературы. Запрос на качественные подростковые книги на отечественном рынке с каждым годом становится все выше. Попробуем разобраться в этим жанром вместе.
Что такое литература young adult?
Проблемы с книгами категории young adult начинаются уже с порога. Русского термина, который бы охватил все характерные черты книг этого жанра, не существует. Путем проб и ошибок сошлись на термине «книги для молодых взрослых». Эти самые молодые взрослые — люди от 16 до 30 (а то и дальше) — перестают стесняться всего, что раньше клеймилось «инфантилизмом». Больше не стыдно любить мультфильмы, играть в стрелялки, разбираться в сложностях судьбы супер-героев и читать книги для подростков и о подростках. «Гарри Поттер», икона young adult, так и вовсе стал уже классикой.
Конечно, такое расширение границ дозволенного много говорит о мире в целом. Продолжительность и качество жизни растет, у нас появляется больше времени на процесс взросления — сепарации и осознания себя. Это странное состояние, когда уже не дети, но еще не совсем взрослые переживают характерный набор проблем и эмоций, был вынесен в отдельный этап жизни человека — young adult. Разумеется, к этому этапу подтянулась и культура — кино, музыка и литература. Young adult — период, когда человек со всем сталкивается впервые. Он влюбляется, ищет себя, свою роль в социуме, свои принципы и ценности. Отсюда такая оголенность чувств.
Главные черты young adult в культуре — проблемы выбора, идентификация и высшая степень эмоциональности. Звучит вовлекающе, правда?
Важно помнить, что young adult — это не определенный жанр, а их совокупность. В тысячах книг центром повествования становится молодой взрослый с его бедами и тревогами. Социальные драмы, любовные романы, научная фантастика и самое неожиданное фэнтези. На young adult обычно ставят штамп развлекательного чтива, где обязательно есть бунтующий подросток и жаркий любовный треугольник. Как и любой культурный сегмент, young adult подвержен сюжетным штампам, но это не жанровое правило.


Жанровых правил и не может быть в young adult, ведь этот сегмент литераткры объединяет множество жанров на любой запрос и вкус. Часто на читающую аудиторию смотрят, исходя из стереотипов: домохозяйки читают любовные романы, суровые мужчины — боевую фантастику, подростки — истории про очередную избранную спасать мир. Но смешение жанров, бережный подход к читателю и разговор на понятном языке привлекает аудиторию из совершенно разных сегментов. И вот домохозяйки и суровые мужчины читают «Голодные игры» (ставшую бестселлером трилогию американской писательницы Сьюзен Коллинз), получая одинаковое удовольствие от книг.
Внешний мир сейчас очень похож на антиутопию, и люди ищут в литературе что-то более стабильное, мечту о хорошем, эмоциональную яркость, которые помогают отрешиться от дистопической реальности. Чтение о герое, который переживает сходные проблемы и справляется с ними, действительно может поддержать, особенно тех, кто оказался в социальной изоляции. Книги young adult обладают мощным терапевтическим эффектом. И это не может не привлекать к ним все новых читателей.
Почему жанр young adult сейчас на пике популярности?
Итак, можно выделить как минимум три главные причины:
- Десять лет назад активно читающими были две только группы — женщины и дети. Теперь к ним подключается новое и жадное до книг коммьюнити — подростки. Они не хотят читать «Тимура и его команду», им нужны свежие, яркие и актуальные тексты про них самих и про сегодняшний мир, в котором они живут. Групп в соцсетях и фанфиков не хватает. Подросткам нужны книги, не только переводные, но и написанные близкими и понятными авторами, которые говорят с ними на одном языке. Во всех смыслах.
- Young adult больше не guilty pleasure. И пользуется популярностью у людей самых разных возрастов. Строгие рамки жанровости размываются. Чем свободнее мы становимся, чем больше прислушиваемся к себе, тем меньше мы задумываемся о том, что нам «не положено». Конечно, огромную роль в исчезновении стигмы на young adult сыграл «Гарри Поттер». Люди перестали стыдиться читать юношескую прозу, начали любить ее и обсуждать.
- Young adult как терапия. Перед взрослеющим человеком стоят серьезные задачи: самоидентификация, построение отношений, поиск места в жизни. Читая young adult, мы разрешаем себе ошибаться, учиться и искать новые смыслы там, где старые больше не работают. В этом young adult полезен всем возрастам, ведь человек растет и меняется всю жизнь. Работая над книгами young adult как писатели, мы позволяем себе не ограничивать текст жанровым снобизмом, а говорить открыто и честно с теми, кто готов принять тотальное несовершенство всего — мира, событий и самих себя.

Что обязательно должно быть в хорошем сюжете young adult-книги?
- Социальная проблема, которая является основной метафорой, объединяющей все слои текста.
- Оглянитесь вокруг — мы живем в мире полном противоречий. Пусть герои книги столкнутся лицом к лицу с самыми актуальными из них. Важно, чтобы автор не отворачивался от актуальной повестки. Читайте новостные сводки на порталах, которым доверяете, уделяйте время современной документалистике и платформам, которые освещают социальную ситуацию в стране и мире. Нужно знать, чем дышит современный молодой взрослый, что у него болит и о чем он мечтает. Только тогда социальный смысловой слой станет важной частью сюжета, а не данью моде.
- Сложные вопросы
- Пусть читатель примерит на себя неожиданные роли, поменяет точку зрения и найдет самые небанальные выходы из сложных ситуаций. Жизнь редко дает нам однозначные ответы, мы ищем их, но сталкиваемся с противоречиями, страхами и непринятием. В такой обстановке должны находиться и ваши герои, даже если они живут в эльфийском королевстве. В реальности мы очень не любим конфликты и стараемся скорее из них выйти. Но читать про безвыходные ситуации, находясь в безопасности, настоящее удовольствие. Особенно если герой в конце концов находит выход из тупика, радуя читателя своей удачливостью и смелостью.
- Неоднозначный герой
- В жизни не бывает тотально плохих и абсолютно хороших людей, поэтому ваши герои должны быть многогранными и продуманными. Проблемы самоидентификации, принятия себя и своего тела, осознание мира, который невозможно разделить только на белое и черное, актуальны в этом возрасте. Они дают авторам плодотворную почву для разработки живых и сложных персонажей, как главных, так и второстепенных.
- Разговор на равных
- Помните, что молодой читатель не означает глупый. Если вы пишете для подростков, то будьте в этот момент подростком, с его проблемами и желаниями. От книги young adult сильней всего отвращает налет морализаторства. Не нужно пытаться навязать читателю свое мнение или настойчиво вкладывать его в речь героев, подчеркивая, что лишь оно является единственно верным. Оставляйте героям место для диалога, а читателю — воздух. Пусть каждый сам выберет свою точку зрения. Авторская задача рассказать историю, интерпретировать ее будут читатели.
- Логичный сюжет
- Увлекшись перипетиями жизни молодых взрослых, легко потерять нить сюжета. Как бы ни была важна эмоциональная составляющая, логику никто не отменял. Помните про композиционные правила построения сюжета: происшествие (событие, спусковой крючок, которое приводит сюжет в действие) плюс фон (привычный уклад жизни героев, который изменило происшествие) плюс развитие (нарастание конфликтов и противоречий) плюс кульминация (разрешение главного конфликта, который меняет жизнь героев) плюс итог (то, к чему герои пришли). Все эти части сюжета должны быть выстроены на причинно-следственных связях. Никаких роялей из кустов. Только стреляющие ружья.
- Пища для ума
- От вашей книги у читателей должно остаться послевкусие авторского взгляда на проблему, которая раскрылась в истории. Читателя нельзя оставить без открытия — нового знания, неожиданного изменения смыслов, новой грани уже известной темы. Сюжеты забываются, из памяти стираются имена героев и название локаций, но смысловое ядро истории должно остаться у читателей надолго. Тогда вашу книгу не забудут, ее захотят перечитывать и делиться с друзьями.

Пять вредных советов по young adult
А напоследок дадим пять шутливых вредных советов о том, как (не) надо писать книги young adult:
- Помните: самое главное в подростковых книгах — незыблемая мораль, бьющая читателя прямо по носу. Представьте, что вы стоите посреди площади в белом пальто, а вокруг бродит туповатый и грязный люд. Вот с таким настроением и беритесь писать книгу. Несите светлое и вечное, делите мир на плохих и хороших, почаще цитируйте прописные истины. И не дай боженька, чтобы кто-нибудь из ваших героев курил или матерился. Нет и нет.
- Используйте зарубежный сеттинг. Нет ничего лучше, чем маленький городок в штате Мэн. Никогда не бывали в таком? Посмотрите пару сериалов! Не бойтесь заполнять бытовые пробелы отечественными аналогами. Никто не заметит разницы. Главное, чтобы героев звали позаковыристее. Сложно выдумать? Но вы же смотрели сериалы, смело берите имена оттуда. И персонажам, и себе на псевдоним.
- С персонажами все тоже элементарно. Если главный герой — мальчик, то пусть он будет незаметным неудачником, влюблённым в самую популярную красотку школы. Если девочка, то быть ей замухрышкой, влюблённой в главного хулигана. Отходить от этой формулы опасно, можно ненароком наделить героев характерными чертами и особенностями, так они перестанут быть картонными, а подросток такого не читает, ему сложно.
- Помните, что ваши читатели — глупые и незрелые детёныши человека. Их не интересует глубина, они не поймут актуальности и философии. Они вообще плохо читают. Поэтому пишите проще, понятнее и буквальнее. Написали? Уберите все метафоры. Убрали? Супер, но лучше переписать еще чуть попроще.
- Редактура вам больше не нужна. Зачем? Вы и так замечательно справились! Сюжет опробован сотней авторов до вас, герои прописаны идеально плоско, а хайповый конфликт завершается извечной истиной, что драться нехорошо. Осталось отправить рукопись в издательство, забыв проверить ее на опечатки.

Мастерская «Young adult»
В апреле 2020 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую «Young adult: от школьной любви до спасения человечества» в рамках Летнего интенсива 2020. Представляем работы стипендиатов.
Конкурсное задание
Написать мини-рассказ любого жанра объемом до 5 000 знаков с пробелами, ориентированный на аудиторию молодых взрослых (young-adult).
***
Александра Яковлева
Сплошная экономия
Августовский день конца девяностых. Мы с бабушкой вот уже тысячу лет как едем домой. Все едем и едем — никак приехать не можем.
В трамвае настоящая душегубка. Мы сидим на самом пекле в этой консервной банке, и солнце через стекло едва ли не дырку во мне протапливает. Голова парится под кепкой, футболка липнет к спине. Щека изгваздана в смородиновом соке, пальцы тоже, от сока они фиолетовые. Под ногти забилась земля — прячу руки в карманы шорт. Шорты на мне голубые с белыми щеночками. У моей подруги такие же, нас одевают на одной оптовке. Только ей они идут, а на мне — не так чтобы очень. Шорты тоже в земле, и ноги из них торчат грязные, и вообще я как чучело еду.
Между ног, зажатое коленками, стоит ведро на семь литров. Смородины в нем аж с горкой. Бабушка накрыла ягоду белым платком, и теперь он весь в фиолетовый горошек. Зачем накрывать ягоду платком? Чтобы не растерять? Чтобы не запылилась? Чтобы не сглазили цыгане на вокзале? Загадочный ритуал.
Трамвай звенит и качается, почти добрались. За плечами — дачная каторга и бесконечная смородина, ненавистная до глубины души. Целый день собираешь эту кислятину, потом тащишь ведро лесом-полем да на станцию. Час электрички, еще полчаса городского трамвая… Но все это не страшно, все можно вытерпеть. Кроме одного — того, что ждет впереди. Самый хвостик пути, буквально пять минут от остановки до дома, до второго подъезда.
С отчаянием и страхом думаю о том, как пойду через весь двор с бабушкой. И — что хуже всего — с ведром. Летним вечером, когда все дворовые ребята играют в футбол, в вышибалы, катаются на роликах, велосипедах, просто наслаждаются своим детством, я тащу семь литров дурацкой смородины в сером пластмассовом ведре. И эту смородину даже не увидит никто, потому что она накрыта бабкиным платком.
Трамвай сбавляет ход, плавно причаливает к остановке. Лязгает на прощание дверьми. Бабушка подталкивает меня к выходу, сама груженая больше моего.
Вот еще один странный ритуал. Называется «экономия». Целый год оплачивать проезд на дачу, счета за воду и свет, покупать удобрение, семена, саженцы, тратить свое время и здоровье, чтобы вырастить, собрать, переработать, закатать в банки — и выбросить по весне больше половины заготовок, кочаны гнилой капусты, сморщенную картошку и морковь. Сплошная экономия, неужели не видно?
И вот выходим мы с бабушкой из трамвая. Как в кошмарном сне, я иду через кисель: ноги ватные, голова гудит, грязные коленки подгибаются. В левой руке — семь литров ягоды. Я как скривилась тогда с этими семью литрами, так до сих пор кривая и хожу. Ведро оттягивает плечо, спину, всю меня целиком. Ноги не слушаются, заплетаются…
И вместо платформы я вдруг ступаю в пустоту.
Лечу кубарем, через голову! Ведро — в одну сторону, я — в другую, смородина — в третью. Народ на остановке ахает. Глазеет. Смартфоны еще не придумали, поэтому глазеет жадно. Запоминает, чтобы потом в красках рассказать домашним, как девчонка из трамвая выпала да как ревела потом в три ручья, сидя в куче давленой смородины.
— Ты что! — вскрикивает бабушка. Подхватить меня она не смогла: не было свободных рук. Зато теперь ставит сумки, освобождает руки и от души прописывает мне по затылку. Я рыдаю еще горше.
— Угробила!.. Целый день под кустом!.. Матери везли!.. Ну, что там? Что?!
— Раз… раз… разби-и-ила!
— Чего разбила? Колени?
— Да-а-а!
— Не реви. Вставай.
Бабушка поднимает с земли белый в фиолетовый горошек платок и дает ему новое назначение. Теперь он антисептик. Бабушка плюет в него и яростно стирает кровь и грязь с моих коленок. Как будто хочет отомстить за смородину. Как будто одного подзатыльника недостаточно.
— Так, все, — говорит она, наконец. — Иди домой. Ключ есть? Иди.
Я не то что иду — бегу. Колени болят, я то и дело припадаю на левую ногу, но все равно улепетываю. Боюсь: вдруг бабушка передумает, окликнет, заставит собирать смородину? Только на повороте на миг оглядываюсь.
Бабушка ждет на остановке следующего трамвая: ей к Парку культуры ехать. Серое ведро подняла и поставила рядом. Какой рукой она его возьмет, если обе заняты сумками?.. Смородина, рассыпанная по асфальту, блестит на солнце, истекая розовым соком. Прохожие огибают ягоду, грустно смотрят. Наверное, жалеют продукт.
Но я уже нырнула за угол и бегу дальше, во двор. По коленке стекает кровь — моя ли, смородиновая, неважно. Никогда больше, ни до, ни после не радовалась так разбитым коленям. На полном ходу я ввинчиваюсь в стайку ребят. Приветствия, смех, крики — и до сизых сумерек мы качаемся на качелях, прыгаем через резиночки, болтаем, смеемся, одуревшие от лета и свободы, по-детски беззаботно счастливые.
Где-то там, на трамвайной остановке, клюют мою смородину голуби да воробьи, а я даже не вспоминаю ни о ягоде, ни о своем ранении.
Темнеет. Уже всех позвали домой, и я на площадке одна. Встречаю маму с работы. Мама рассказывает о смородине на остановке. Я рассказываю о смородине на остановке. Мы смотрим друг на друга внимательно.
— И бог с ней, — говорит она с каким-то облегчением даже. — Все равно сахар подорожал.
***
Вероника Токарева
Супергерой
Мимо нас проносились дома, заборы, сараи, кусты, старый колодец и чьи-то собаки с дачи, а мы два часа проносились по улице, играя в односторонние догонялки. Односторонние — потому что Матвей никогда не мог меня догнать. Да и нас устраивал сам процесс бега, как из-под ног выскакивала серо-черная пыль, как можно было дурачиться и кривляться друг для друга. Но особенно мне нравилось снимать с себя мокрую футболку, завязывать рукава вокруг шеи и чувствовать себя супергероем с летящим на ветру плащом. В наших с братом играх я был Суперменом, а он — Сорвиголовой, потому что имя Мэтт Мердок очень похоже на Матвей. И хоть мы были из разных вселенных, это не мешало нам вместе сражаться против злодеев, сорняков, ну или лягушек на худой конец.
Запыхавшиеся и смеющиеся, мы уже подходили к дому, когда заметили это. Отцовская машина стояла в гараже. Мы поникли. Молча поправили одежду, осмотрели друг друга в поисках пятен, тут же оттерли их слюной, пальцами расчесали волосы и медленно пошли к дому.
— Тоже боишься? — тихо спросил Матвей.
— Не знаю.
— Я очень, очень боюсь. — Он сжал мою руку и придвинулся ближе.
Отец сидел на веранде с бутылкой пива. На нем были те же штаны и расстегнутая рубашка, что и неделю назад. Я заметил на его покрасневшем левом плече новую татуировку — дева Мария с ребенком.
— За руки держитесь? Гомики теперь? Пидоры? Или так ведут себя ваши супергерои? — с насмешкой, но без видимой злобы крикнул он.
Мы расцепили руки. Глаза в пол, не сутулиться, дышать тихо, дышать носом. Матвей быстро прошел мимо него, но меня он схватил за руку и повернул к себе.
— Это че? — указал он на мой живот.
Я инстинктивно опустил взгляд и тут же получил щелчок по носу вместе с порцией смеющегося перегара в лицо. Выдернул руку и тяжело дыша протиснулся мимо.
— Повезло, что он веселый, да? — облегченно спросил Матвей.
— Еще как.
Обычно по вечерам, когда мама уходила спать, мы с Матвеем забирались под большой стол в нашей комнате, накрывали его покрывалом и с фонариком рассказывали истории о своих геройских приключениях. Мы устраивали друг другу спектакли, рассказывали пугающие истории или вслух читали комиксы (я очень старался, чтобы он не слышал мамины ночные рыдания). Но не в этот вечер.
Сначала был грохот, потом отрывистый прокуренный мат, разбившееся стекло, женский вскрик-всхлип и звук тупого удара. Наступила тишина, и мы знали, что это самое страшное. Матвей крепко держал меня за руку.
— Не бойся и помни: ты супергерой. Сорвиголова сам кому хочешь голову оторвет, окей? — сам не веря в свои слова, проговорил я.
Дверь скакнула в нашу сторону: вошел отец. Не сразу нашел нас взглядом под столом, крепко обхватил нас за плечи и с криками потащил на кухню. У плиты стояла мама и плакала в жарящуюся картошку. Дверь на улицу была открыта.
— Кто из вас, щенков, украл мои сигареты? А?
Мы с Матвеем переглянулись и одномоментно поняли, что будем наказаны, какой бы ответ ни дали.
— Не хотите, да, признаваться? Значит, по заслугам оба получите, ясно вам? — прокричал он в лицо Матвея, разбрызгивая повсюду слюну. Он указал на Матвея: — Ты, первый снимай футболку, гаденыш.
Я чувствовал, как испуган мой младший брат. Либо сейчас, либо мы оба пропали. Я резко схватил его за руку, потянул за собой, попутно ногой пиная стул в сторону отца, и мы выбежали из дома. Ночной воздух придал мне уверенности. Было ясно, что отец бежит за нами, было ясно, что нам самим некуда бежать, кроме как вокруг дома — ворота были закрыты на ночь — и все равно это было лучше, чем ремень и тяжелые кулаки. Под ногами проносились кирпичи, трава, ветки, старые угли, осколки стекла, улитка, старая игрушка Матвея, бумага и снова кирпичи, снова трава, ветки, сигаретная пачка, угли, стекло.
Мы пробежали почти два круга, когда я почувствовал, что Матвей отпускает мою руку. Я оглянулся. Отец прижал его за шею к стене правой рукой, а левой показывал на меня. Мной начали двигать чьи-то чужие инстинкты, я взбежал по лестнице в дом, оттолкнул маму от плиты, взял сковородку и так же стремительно спустился вниз. Отец, когда увидел меня, расхохотался. Матвей покраснел и издавал какое-то хрипение, совсем не похожее на дыхание человека.
— Че, пожрать мне принес?
Я ускорил шаг, взял двумя руками сковородку, присел, уклонившись от его левой руки, и ударил его прямо в лицо девы Марии. Он закричал, с испугом посмотрел на красное пятно в том месте, где я его ударил, и отошел на два шага назад.
Матвей начал жадно дышать. Я взял его за руку и потащил за собой.
— Мы спрячемся сейчас, все будет хорошо. Мы переживем ночь, а потом все как-то наладится, ну, как обычно, знаешь?
Я завел его в старый туалет на улице, которым мы давно уже не пользовались.
— Посидишь здесь? Я сейчас вернусь. Помнишь, что мы супергерои? Помнишь?
Матвей молча кивнул, снял с себя ночную рубашку и протянул ее мне.
— Плащ.
Я улыбнулся и повязал рубашку вокруг своей шеи. Открыл дверь, вышел и расправил плащ. Отец с яростной улыбкой медленно двигался в мою сторону.
— Бог накажет. И я накажу.
***
Вера Русских
Рейтузы
— Аня, Аня! Ты рейтузы надела?
Щеки моментально потеплели от стыда: надо ведь сказануть такое при всем классе продленки. Продленку эту Анька не любила — дети тут были какие-то неопрятные, вялые, дышали все почему-то через рот. Лица их обычно оживлялись лишь в двух случаях: при виде столовской еды (и даже паровых стоячих омлетов, больше напоминавших блевотину) или когда кто-то затевал игру бросания друг в друга козявок.
— Чего глаза вылупила? Опять потеряла? Ну сколько можно, мы же на анализы с банками твоими уже как на работу ходим, опять отморозишь себе все! — Мать наклонилась к ней, едва переросшей сто двадцать пять сантиметров, и Анька машинально отпрянула. То был рефлекс, выработанный годами: от матери можно было ожидать чего угодно — и внезапной оплеухи, и обидного тычка. В нос моментально дало примесью хорошо знакомых запахов — густого Chanel №5 и алкоголя. Лет Аньке было немного, всего двенадцать, но знала и понимала она куда больше положенного. Как, например, то, что духи, в коих мать не знала меры, ей подарил любовник — низенький мужичонка с проплешиной. Или как, например, то, что вино было красным, из пакета, и прятала его мать ото всех под раковиной на кухне. Прятала безуспешно.
Анька покорно отправилась надевать на себя пять слоев одежды и искать треклятые рейтузы: она догадывалась, что пропадали они с завидной регулярностью не просто так. Штаны под юбку поверх теплых серых колгот, майка, ярлык которой всегда цеплялся за крест на веревке, водолазка, школьный пиджак с эмблемой «Гимназия 8». Пиджак был, надо сказать, само унижение: коричневого оттенка, бесформенный и почему-то с кричаще-золотыми пуговками. На каждой открыла клюв маленькая птичка. Один, два, три, четыре. Пятой не было: потерялась. А пришить новую — некому. Анька уже заметила краем глаза, как мать истерически листает журнал, пьяно щурясь.
— Это что? Опять двойка за дроби? У тебя мозги есть? Мы же это все до утра зазубривали!
— Ну. Зазубрить-то зазубрили. Но я не поняла, почему, а меня спросили, и вот…
— Дура, это числитель!
Мать внезапно осеклась. Она долго смотрела на Аньку, потом размякла будто и начала гладить по щеке. А потом сказала внезапно, так тепло и по-доброму:
— Какой же ты банальный ребенок.
Взгляд вперед, слезы уже начали жечь глаза.
— С такими способностями максимум, который тебя ждет — это работа маникюршей и какой-нибудь Валера из ПТУ.
Этого Валеру мать частенько припоминала. Интересно, конечно, что за Валера, вообще, такой? И почему он сразу плохой человек?
Пока воняющий бензином автобус медленно полз по дороге, Анька разглядывала выученный наизусть сероватый пейзаж. Стоял холодный март, который даже и не пытался изобразить смену сезона. Анька, любившая стихи, вычитала где-то фразу «звонкая весна» и теперь мучилась вопросом: что же это такое — «звонкая весна»? Вот эти вот черные скелетики деревьев и уставшие, облупившиеся фасады — они к ней явно не имели отношения.
Оказавшись дома, она юркнула в свою комнату и сразу же почувствовала, как тревога отступает. Зеркало здесь обычно стояло повернутым к стене. Говорящий интерьерный штрих, ни разу не бывший замеченным родителями.
Анька села за уроки: сначала — нелюбимое и сложное, потом — любимое и легкое. Математику можно списать из интернета, дел минут на пятнадцать, географию отдаем папе. Русский, французский, английский — другое дело. Все упражнения укрощаются играючи, сидишь себе, выводишь плотное кружево букв: Mistigri court partout et casse tout…
Спустя несколько часов раздался спасительный звонок — это пришел домой отец. Анька уже без страха побежала в коридор, бросилась отцу на шею и уткнулась в плечо, зная, что у нее есть всего пара мгновений, чтобы послушать запах, который она будет вспоминать всю жизнь. Запах холодной щеки вернувшегося с мороза уставшего родителя. Анька любила отца особенным чувством. И не в том было дело, что он частенько, жалея ее, сонную, тратил «обеденные» деньги, чтобы отправить дочь в школу на такси. Просто они были друзьями. И дружбе этой не мешала даже огромная возрастная пропасть.
На ужин их, как и всегда, ждало что-то скучное и малопривлекательное. Сегодня пережаренные замороженные котлеты, разваренные макароны и почему-то селедка. Они молча ковырялись в тарелках, слушая бормотание телека в углу. Шел какой-то веселый сериал, который, казалось, случись даже апокалипсис, все равно начался бы в 19:00. Ну хоть кто-то же должен был отвечать за смех в этом доме?
— За квартиру когда платить будем? — Мать уже несколько лет обращалась к отцу обезличенно, по-армейски.
Отец тихо ответил:
— Не могу сказать, там опять задерживают.
— Ты прямо как кость в горле: ни проглотить, ни выплюнуть.
Анька опустила взгляд в тарелку. Долго глядела на вонючую тряпку, неизменно лежавшую на столе. Думала всякое. А потом дотронулась легонько до руки отца под столом и ушла на кухню, забрав свою и его посуду. Вымыла тщательно, нарисовала сердечко на запотевшем стекле и долго смотрела сквозь него. Она знала, что уже через пять часов они сядут с отцом в старенькую «Хонду» и будут ехать по пустым дорогам под Blondie, пока на небе занимается рассвет. Доедут до базы, поставят палатку, разведут костер, будут кидать палку собаке и удить рыбу, никому, в общем-то, и не нужную. И это будет чистое маленькое счастье. Без вина из пакета, вонючей тряпки и бубнящего телека. И главное — без ненавистных рейтуз.
***
Наталья Костина
Чиж стоял на краю и смотрел в серую бездну под ногами. Тяжелые тучи почти касались крыш старых высоток, в такое небо горлицы обычно не поднимаются, но вдруг? Братья много раз приносили по три-четыре хвоста в самую грозу. Что он, всего один не достанет, пока еще даже не гремит?
Ветер сегодня был в настроении: швырял в лицо клочки мокрого тумана, трепал отросшие волосы, забирался под полы куртки, подталкивал, будто зазывая поиграть. Игра с ветром — опасная игра, но разве это сравнится с просиживанием штанов за машинкой или грязью по колено на рыбной ферме?
Хоть бы раз поддаться этому зову, свалять дурака, принять игру и обыграть. Тем, кто оседлает ветер, даже в тумане не осталось бы тайн. Правда, мало из тех, кто решился, возвращался к своим в коробки из бетона и железа. И в каменные джунгли спускаться их искать никто не смел: безопаснее просто забыть человека, словно его никогда и не было.
За спиной с гулким лязгом грохнула жестяная дверь.
— Так и знал, что ты здесь, — сказал Сыч, становясь рядом на самый край. — Тебя ищут внизу.
— Я уже сказал, что без добычи не вернусь.
— Может, хоть не сегодня? Неважно выглядишь.
— Тебе что, доплачивают, чтобы со мной нянчиться?
Сыч дернул плечами, как будто усмехнулся.
— Если бы мне за это платили, я бы тебя отправил мелких у бассейна пасти, а не по крышам прыгать.
Он сплюнул под ноги, как после затяжки. Чиж сглотнул, поморщился, но все-таки спросил:
— У тебя заначки, случайно, не осталось?..
— Ты бросаешь, — напомнил Сыч таким тоном, что стало понятно: не дал бы, даже если бы мог. — Иначе в следующий раз не перепрыгнешь даже тротуар. И с таблетками этими дурными тоже завязывай, ни хрена они не помогают. И никто тебе не поможет взлететь, кроме собственных ног.
Он вытащил руку из кармана, разжал кулак. Чиж едва успел подставить под зерно ладони, чтоб не рассыпалось, а сам зацепился взглядом за синюю полоску на чужом рукаве. Сыч давно по крышам охотился, знал, чем лучше горлиц прикормить, как подманить. Эх, к нему бы в напарники — столькому бы научился…
Вдалеке вдруг сверкнуло рыжим, следом ветер донес хлесткий взрыв, и в небо поднялась огромная сизая туча. Целая стая горлиц! Вот это удача! Хотя как посмотреть, если где-то там, на дальних крышах, их спугнули специально, значит, кто-то еще охотится, и вряд ли они захотят делить добычу.
Чиж подобрался, примерился к ближайшему карнизу и уже почти было бросился бежать, когда Сыч дотронулся до его плеча и кивнул вправо. В воздухе торчали два темных металлических прута: старая лестница вела на ярус ниже. Там и площадка для разбега больше, и выступ шире — лететь до соседней высотки будет ближе.
Еще раз сверкнув синей полоской на рукаве, Сыч первым спрыгнул на зазвеневшую ступеньку. Чиж тихо усмехнулся и сам взялся за холодную ребристую перекладину. Обшарпанная краска пополам со ржавчиной тут же неприятно врезались в ладони, но, не обращая на это внимания, он ловко приземлился рядом с Сычом, который уже вертел в руках пращу.
— Можно дождаться их здесь, — сказал он. — Прыгать опасно, туман поднимается.
— А если стая повернет?
— Останемся без ужина.
— Нет, так не пойдет.
— Там могут быть эти. Кто-то же их спугнул с дальних крыш.
— Так нас ведь двое.
Сыч смерил его взглядом с головы до ног и промолчал.
— Чего? — вспыхнул Чиж. — Думаешь, не вытяну?! Смотри!
Сжался пружиной и выпрыгнул вверх чуть не на собственный рост, хлопнул по шершавому кирпичу стены, оттолкнулся, через кувырок снова оказался на ногах. Отряхнул ладони от мокрых катышков извести и снова сорвался с места. Перекатился по бугристому битуму, тормознул у самого края крыши, балансируя, почти свесился в серую бездну.
— Прекрати сейчас же, — донеслось сзади.
Взвывший в ушах ветер подхватил полы куртки, пробрался под футболку, подтолкнул в спину. Будто зазывал, раззадоривая. И Чиж осмелел. Сделал по карнизу кувырок, за ним другой. Подпрыгнул, крутанул сальто боком, приземлился и тут же взмахнул руками, на мгновение потеряв опору.
— Что, все еще думаешь, что не гожусь? — крикнул Чиж сквозь ветер.
— Ну хватит, слышишь? Эй!
Порядком сердитый Сыч шагнул ему наперерез, а Чиж обернулся к соседней высотке, прикинул дистанцию и бросил через плечо:
— Оставайся, если хочешь…
И рванул к обрыву так быстро, как только мог. Внутри все натянулось струной, серый бетонный мир вокруг плясал и дрожал, или это дрожали собственные пальцы. Чиж не давал себе времени усомниться или испугаться. Охотники ничего не боятся, они играючи летят вместе с ветром. Туда, вверх, к добыче. К небу.
Под подошвой хрустнуло, осыпалось каменной крошкой. Слишком поздно, чтобы затормозить или развернуться — оставалось только прыгать. Ботинок проехался по предательски мокрому кирпичу карниза, толчка не вышло, Чиж еще раз взмахнул руками, будто крыльями, и против воли глянул вниз.
— Стой!
Под ногами уже расстилалась густая, серая, манящая бездна. Она смотрела в душу и звала. Медленно приближалась. И Чиж летел, в холодном ужасе подчиняясь правилам игры, в которую его втянул ветер. В которую можно играть, но выиграть, кажется, все-таки нельзя.

Мастерская «Как писать в Сети»
В апреле 2020 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую Марты Кетро «Как писать в Сети: правила ведения блога» в рамках Летнего интенсива 2020. Представляем работы стипендиатов.
Конкурсное задание
Напишите пост об одном вашем дне. Объем 3 000 знаков.
Дополнительное условие — ни слова о коронавирусе.
***
Петр Крючков
10:00 — подвиг обыкновенный. Вытащил себя за волосы из перламутрового сна, в котором меня добивались прекраснейшие Инстаграм-пери. Слаймом соскользнул с кровати на пол и притаился: «Отжиматься или пресс? Или планку сделать?» Пока думал, чуть опять не уснул. Уже потянулись ко мне из радужной трясины подсознания лакированные ноготочки, пахнуло ванильным фитнесом… Спас сквозняк по полу и мерзкий солнечный свет в окне. Скривился вампиром, зашипел. Пшел умываться. Зарядка профукана, подвиг засчитан.
Очень-очень хочется сказать, что мой день мало того, что распланирован, так я еще и следую этому распорядку. Врать нехорошо даже в личном блоге, буду «начистоту откровенным»: план есть, сил следовать нет. Поэтому завтрак не полезный, а быстрый; зарядка — не бодрящая, а скорее расслабляющая; рабочий график — вообще, мать его, не график.
Так что через каждый brand new day я продираюсь, как через заросли терна, иногда голым, но всегда матерясь и оставляя кусочки себя на колючках маленьких цепких форс-мажорчиков и на рыболовных крючках прокрастинации. Из сутулого, но еще могучего горба торчат гарпуны дедлайнов, мысли мои опутаны прочными и депрессивными сетями волнений о будущем вообще и профессиональных перспективах — в частности… Так, стоп! Хватит ныть. Пока что.
Рабочее время просто взяло и — пуф! — пролетело за малоосмысленной отрывистой перепиской с sosслуживцами. Но раз уж занялся эпистолярщиной, то решил и успел еще написать двум бывшим и переделать поздравительную открытку для клиентов компании, продающей мусоровозы. Неплохо, неплохо. Эффективность нечеловеческая. Можно поесть в четвертый раз.
Здесь хочу извиниться: возможно, я немного перескакиваю в моем повествовании, но иначе мы до утра к вечеру предыдущего дня не доберемся.
Восемь вечера. Позвонить Василию — старый алкаш нашел в балконных запасах две бутылки порто — или позаниматься английским, посмотреть фильм, написать пару экспромтов, распланировать следующую неделю и лечь спать в приличное время? Тут даже и выбирать нечего. Алло, Уася!
Шесть часов спустя
Иногда мне кажется, что я как Сталин. В том смысле, что у меня гипнофобия. Это когда боишься спать, потому что боишься умереть во сне. И до последнего оттягиваешь момент отключения сознания. Никакая логика не помогает, это иррациональный страх. Да, я ложился спать уже десятки тысяч раз (кстати, надо подсчитать, сколько именно, пока не заснул), и каждый раз просыпался живым, а большую часть раз — еще и здоровым. Но этот день уходит навсегда, навсегда! Я еще увижу море, а он уже — никогда!
И черт подери, как это недостойно — оставлять позади прошедший день с переломанными ногами, а самому продолжать скакать вперед — навстречу восходящему солнцу. И так еще вполоборота, не глядя: «Мне очень жаль, Вторник, что твоя гнедая… ну, этсамое». И засыпаешь. Ага, щаз.
Поэтому каждые сутки я совершаю подвиг минимум дважды: просыпаясь и падая в сон. И только сейчас, расписав эти два главных события почти каждого дня моей жизни, я, кажется, начинаю понимать. Увага, катарсис!
Я боюсь не того, что усну и умру. Я боюсь — и, по-моему, абсолютно правильно делаю, — что умрет мой день. И он умирает. А я остаюсь. Очень хочется процитировать: «…Я остаюсь, чтобы жить». Но если это — жизнь, то кто будет ныть?!
***
Дмитрий Лукьянов
Ночью за окном дрались мигранты. Хорошо дрались. Есть неспешный поединок русских мужиков, когда бьют друг друга по тяжелым от сивухи головам, не уклоняясь и не блокируя удары, и есть хорошая, кинематографичная драка. Руки, ноги, прыжки, боевые крики и броски на припаркованные машины. Каждый удар — с коротким барабанным грохотом.
Наверное, это были таджики. Негрубый язык со сложными, текучими звуками. Киргизский и узбекский проще — приставляешь к любому слову суффиксы вроде «караганда» или «терентий», получается что-то похожее. Последний слог следует произносить немного громче.
— Алтуфьево хуйтерентий пятьсот?
— Э, пиздакараганда! Ты думай хорошо!
Таджики бились руками и ногами, время от времени делали захваты и швыряли друг друга в борт микроавтобуса. Странный народ, столетиями строивший города и пришедший в новый век деревенщиной из кишлаков. Как все деревенские люди, в Москве они быстро ожесточились и потеряли в себе что-то еще.
Их города достались узбекам: Самарканд, Бухара, Коканд…
Громадный узбек днем сидел на кассе в «Пятерочке». Перед ним стоял тонкий русский алкоголик.
— Привет, ты опять ко мне? — сказал узбек.
— Я же специалист, — ответил тот.
Он положил на ленту бутылку водки, банку коктейля «Хуч», бумажную избушку под шапкой снега. Скоро, скоро Новый год. Одним днем меньше.
— Подожди-ка, — сказал алкоголик.
— Хорошо, — сказал узбек.
Вернулся с одним мандарином. Узбек пробил водку, коктейль, взвесил один мандарин. Потом попросил:
— Подари мне дом.
— Говно вопрос!
Мне показалось, что алкоголик даже обрадовался возможности подарить кому-нибудь новогоднюю избушку.
Мы встретились с ним у выхода из магазина. Он все же не отдал избушку, а уронил ее здесь в грязь. Коричневые следы только размазывались по бумаге рукавом. Ничего не выходило.
Вечером выпили и поссорились соседи снизу, судя по говору, откуда-то из Пензы, Мордовии или Тамбова. Я лежал и думал, что надо бы переехать из этой съемной квартиры. Вокруг плохие люди, да и кран течет. Тараканы хорошие. Молчаливые, как чиновники.
Потом начали драться таджики. Я постоял у окна и вернулся в кровать.
Москва. Легкий, удивительный город без корней, как рассыпанные по полу детские игрушки. Каждое поколение москвичей разбрасывает их заново и все шире. Шире, шире, шире. Московское проклятие.
— Господи, — сказал я в потолок. — Подари мне дом.
***
Елена Трубникова
Вообще я не очень везучий человек, но вот что-что, а с гинекологом мне повезло. Более чуткой и внимательной женщины и представить нельзя. Она настолько чуткая и внимательная, что за девять месяцев беременности аж шесть раз отправляла меня в стационар «на всякий случай». И этот раз не стал исключением.
На очередной прием я пришла с уже огромным животом, отличным настроением и биоматериалом, который предательски дал повод моему врачу произнести убийственную фразу: «Иди оформляйся».
Тут уж ничего не поделаешь. Быстро пишу мужу: «Кладут в больницу. Вези халат, тапочки, кружку, чашку, зубную щетку».
Иду в смотровой, где медлительная медсестра начала оформлять в стационар. И то ли она по жизни любознательная, то ли так совпали звезды, но ее очень заинтересовало, как я оказалась в Коломне, ведь в паспорте (выданном, на минуточку, десять лет назад) написан город Абакан, Хакасия.
Пока я ставлю подписи везде, где только можно, медсестра смотрит на меня поверх своих очков и спрашивает: «А как это вас, русскую девочку, в Абакан занесло?»
Я вообще не поняла вопроса. Что, пардон? Даже не знала, как ей на это ответить и просто промямлила что-то.
Ладно. Но медсестра продолжает:
— Чем болели в детстве?
— Краснухой, ветрянкой.
— А желтухой?
— Что желтухой?
— Желтухой, что ли, не болели? Все, кто от вас приезжают, болели желтухой! ⠀
Вот так новости! От кого от «вас»? Пока я пыталась додумать, что же она имеет в виду, в моей голове вырисовалась картина, как я, маленькая, русская и, по-видимому, очень желтенькая девочка катаюсь верхом на ишаке по дорогам своего пыльного аула, доедая урюк.
Рассказывать про то, что Абакан — это та же Россия и от Коломны мало чем отличается, я не стала, подутомил меня весь этот странный диалог. Хотелось только посоветовать в очередной отпуск взять билет на поезд Москва-Владивосток-Москва и проехать по Транссибу туда и обратно. Думаю, эту женщину ждало бы море восторга и удивления от того, что Россия не заканчивается Уралом и что очень много русских, не болеющих желтухой, можно встретить на своем пути.
Но, конечно, ничего этого говорить я не стала. Ведь на пороге кабинета уже стоял мой муж с грудой пакетов и безумными глазами смотрел на меня.
Женщины, мой вам совет! Если вы на последних месяцах беременности, пожалуйста, начинайте ваши сообщения мужу со слов «Я не рожаю». В тот день я этого не написала, и это была роковая ошибка! Ведь пока я беседовала с этой троечницей по географии, мой муж в панике собирал вещи с мыслью, что вот-вот его сын появится на свет, а плакат «Везу домой сыночка» так и не куплен.
Мужа я, конечно, успокоила, сказав, что время еще не пришло. Но весь масштаб мужских треволнений накануне отцовства поняла только поздно вечером, когда полезла доставать вещи из собранного им пакета. А там лежали две разные тапочки: моя розовая, тридцать восьмого размера, и его серая, сорок третьего. «Это совсем не беда», — расхохоталась я и решила их примерить. Беда оказалась в том, что обе из них — левые! По-петросяновски смешно и по-ахматовски дискомфортно: на правую ногу я надела тапку с левой ноги… мужа. Нарочно такого не придумаешь. Это надо быть обувным виртуозом вселенского масштаба, ну или мужчиной, который считает, что жена уже рожает.
Зато для меня получилась блестящая репетиция родов и знак того, что по возвращении домой первым делом нужно собрать сумку в роддом, иначе вероятность того, что при выписке малыш будет завернут не в нарядный конверт, а в игровой коврик, очень велика.
***
Юлия Комбарова
Сказать, что день не задался, будет не совсем правильно. Скажем так: ретроградный Меркурий, Марс и другие абьюзеры изгнали-таки из моего Рака несчастную Венеру. Хотя она и без них периодически собирала вещи и пыталась хлопнуть дверью того самого седьмого дома гороскопа.
Началось все с невинного субботнего завтрака. Выходные завтраки для нас с сестрой с детства — святое (здесь я особо избирательна, щепетильна и требовательна — гораздо больше, чем в выборе МВМЖ, мужчины всей моей жизни). Но, учитывая, что накануне меня черт дернул впервые начать поститься, завтрак и так был не фонтан.
Справедливости ради, дернул меня этот черт гораздо раньше.
Ну, значит, пока мы сидели с сестрой и уныло завтракали, пришел ответ на объявление с «Авито», где я уже пару месяцев как пыталась продать свое свадебное платье. Объявление гласило, что «ни разу не надетое свадебное платье достанется счастливице всего за 15 тысяч руб.», и висело безо всякой обратной связи, ибо копирайтер из меня так себе. Пока не прилетело: «За три тысячи отдадите?»
Я зло посмеялась над нахалкой и, захлебываясь от праведного гнева, полезла на «Фейсбук». Чтобы отвлечься. И тут же отвлеклась не на шутку, увидев на фото теперь уже бывшего друга, что моему избраннику свадебный костюм пригодился. Как раз с той, которая «ну че ты начинаешь». Очень захотелось добавить в кофе коньяку и покурить. Можно и без кофе, но покурить обязательно. Кое-как сдержалась (ни коньяка, ни сигарет дома не оказалось) и для приличия впала в прострацию.
Собственно, да. Когда-то я мучительно собиралась замуж — целых пять лет. С целью демонстрации всем серьезности своих намерений было решено купить свадебное платье.
Лететь к месту бракосочетания платью требовалось с несколькими стыковками в разных странах, а использовано по назначению оно должно было быть примерно при +35 градусов по Цельсию. И все вот эти вот рюши и пышные юбки не рассматривались по умолчанию. С такими вводными на покупку платья моей адаптированной под обстоятельства мечты ушел всего час.
В течение примерно года я его ежемесячно примеряла, чтобы удостовериться в возможности по прилету натянуть на себя без потери нервных клеток и распустившихся швов. Ну, или с минимальными потерями.
Через год-два поняла, что покупка была преждевременной, и решила частично вернуть деньги при помощи «Авито». А с таким количеством знаков понять можно было и раньше: в день нашего предполагаемого знакомства у МВМЖ умер отец, потом случились лихорадка Эбола, отказ в визе во Францию и истерика по телефону с консулом РФ, с которым мы уже перешли на «ты»: «Платье есть, любовь есть, виз никуда нет — че делать». Список неполный.
Отметила я свадьбу «лучшего друга» сообщением «фак ю» в личку и комментарием «хэппи веддинг» под постом, который демонстративно полайкали и прокляли мои терпеливо сочувствующие все эти годы подруги. Через два часа я комментарий удалила. Через три — боролась с желанием сходить-таки за коньяком и непременно ментоловыми «Вог», но здравый смысл подсказал, что измененное состояние сейчас мою Венеру не вернет.
Между всевозможными способами забыться я сделала единственно верный выбор и отправилась на концерт звездейших звезд отечественной эстрады, куда у нас почему-то оказались билеты. О, что вы знаете об измененном состоянии — после концерта захотелось водки. Лучше бы коньяк, чесслово. Вернулась домой и наконец поплакала.
Девушке с «Авито» платье в результате не подошло, и я отнесла его в церковь. Там меня когда-то не благословили на брак с «иноверцем». Ну вот, пусть тогда сами платье и пристраивают.

Мастерская «Как сочинить повесть»
В апреле 2020 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую Майи Кучерской «Как сочинить повесть» в рамках Летнего интенсива 2020. Представляем работы стипендиатов.
Конкурсное задание
Напишите, пожалуйста, начало повести, которую очень захочется прочитать. До 1 000 знаков.
***
Андрей Королёв
Деревня Этимген — мягкое, шершавое лицо, спрятавшееся в руке. Местные — потомки волков и пчел. У волчьих родственников большие опухшие щеки, ловкая щель вместо глаз. Пчелиные — любят катать во рту воздух и останавливать его зубами. Союз завязался, когда появился медведь — стопоходящий волк. Потом местность проткнули палками, на палки посадили шестеренки от часов, закрутили волчком. Возник жужжащий звук — по границе звука деревню и начертили.
«Здесь мы родились, здесь мы и хотели бы умереть», — говорила за коренных жителей моя бабушка, зная их поименно. Всех, кто уехал отсюда, она забывала. Коренные же, уходя, оглядывались на нее и — оставались, прорастая чудесами и страхом-вьюнком.
Когда от скачущей температуры сон не шел каплями у меня по лбу, бабушка снимала покрывало с тумбочки, по которой тянулись смуглые рисунки. Это ее календарь. И вот топчет тебя кровяная армия, а ты лежи да смотри на дважды полумертвые записи, спрашивай бабушку про время и деревянные пятна, бегущие прямо к тебе.
***
Ольга Харук
Возвращение
Одно слово — шок. Ладно, не одно: шок, ужас, надежда — вот что я испытал, когда дверь открылась, и на пороге оказалась она. Бесконечную секунду самолеты садились задом, поезда ехали вспять, я шел спиной вперед по школьному двору к грязно-зеленому зданию в форме буквы П. А ведь я точно знаю, что это невозможно. В смысле, она невозможна на этом пороге. Ни на одном из порогов, вообще-то. Но вот она: русая, шестнадцатилетняя. Застала меня тепленьким. Настала душным августовским вечером 1999-го на берегу мутноватой реки. И я стою перед ней абсолютно голый. Ну, может, в плавках. Хотя подождите, ведь это я к ней пришел. А она открыла.
Пока я справляюсь с оцепенением, послушайте. Две недели я в этом проклятом городе: задаю свои вопросы, а он молчит. Здесь есть река, по которой прогуливаются теплоходы, и набережная, по которой плывут парочки и мамы с колясками, бесконечно перетекая из одного в другое. Говорю вам, они те же, что и семнадцать лет назад, когда я был здесь в последний раз, когда пообещал себе никогда больше не возвращаться.
***
Ирина Федорова
Это начало биографического романа о жизни и творчестве художника Осипа Браза.
Телеги ехали, медленно переваливаясь на кочках и скатываясь с них колесами в жижу темно-охровых луж. Груз был велик — сотни архивных папок, перевязанных в стопки веревками, несмотря на которые эти кое-как собранные кучи норовили развалиться на каждом ухабе. Пятилетний Сема Луцик сидел в доме, как мать велела: нечего румынам глаза мозолить. Время опасное, а они хоть и не совсем звери, как немцы окаянные, да береженого Бог бережет. Подойдя к окну, Сема уперся грудью в широкий подоконник, на котором стояли три горшка с ярко-красной геранью. Через стекло было почти ничего не видно: дождь лил с утра и не собирался останавливаться. Так же долго и нудно тянулась по улице вереница телег — перевозили городской архив в Бродскую синагогу на углу Жуковского и Пушкинской. Сема видел это серое здание, когда ходил с мамой на Привоз, но внутри никогда не был. Мама сказала, там играет орган, а что это такое — он не очень понял.
Изнывая от скуки, Сема побрел на кухню, где мама развешивала только что постиранное в тазу белье. Закончив дело, она накинула на плечи старую тальму: за дровами во двор собралась. «Мам, я с тобой» — заканючил мальчик…
***
Елена Ермолович
Всё, что нужно одинокому сердцу
Половина оконной рамы закрыта, и в стекле отражаюсь я. Другая распахнута, и за нею — серебро и чернь, дно ночи, кровоточит вскрытая вена Кутузовского проспекта. Собака входит в комнату, цокая коготками по паркету. Этот робкий «цак-цак» за спиной, можно представить себе всё что угодно, например, что это шпоры кавалергарда. Или копытца Люцифера.
В льежской церкви стоял один Люцифер, столь самодовольный и прельстительный, что пастор потребовал вынести его из церкви вон — уж больно красив. Пробуждает трепетание умов.
Самолёт приземлился в час. Ночи.
Пограничник пролистнул мой паспорт, и попросил:
— Снимите маску.
Логично. То, что я взошла на борт в маске Зорро в аэропорту Йоже Пучника, Любляна, и словенский пограничник выпустил меня, даже толком не приглядевшись, — это ровно ничего не значило.
Я ослабила завязки и медленно, сохраняя интригу, отняла маску от лица — в зеркалах надо мною отразилась физиономия, противоречивая, как знак инь-ян. Правая половина — белая и целая, но левая — украшена отёком, царапиной и чернильной гематомой. Хорошо ещё, пять железных скобок остались скрыты под волосами.
Пограничник вгляделся в правое полулуние, сравнил с паспортом, сглотнул и выдавил:
— Проходите.

Мастерская «Литмастерство: базовый курс»
В апреле 2020 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую «Литмастерство: базовый курс» под руководством Дениса Банникова и Елены Тулушевой (в рамках Летнего интенсива 2020). Представляем работы стипендиатов.
Конкурсное задание
Есть такое поверье, что три самых сложных задачи, с которыми может столкнуться писатель: постельная сцена, эпизод из спортивного матча и прием пищи. Решите одну из них (до 2 000 знаков с пробелами).
***
Елизавета Давыдова
Анна Петровна выцепила ручкой персик с красно-бордовым махровым боком, который возглавлял фруктовую пирамиду на хрустальном постаменте. Пододвинув к себе десертную тарелочку с золотистым ободком, она переложила персик в левую руку, а правой, вооруженной маленьким, почти игрушечным ножиком, провела точный крестообразный надрез по всей окружности: один вдоль ложбинки, второй — поперек. Она отделяла кожуру с увлеченностью индейца, который снимает скальп любимого врага. Когда персик освободился от бархатной оболочки, которая превратилась в комок на краю тарелочки, Анна Петровна воткнула вилочку в блестящий бок и осторожно разрезала мякоть, стараясь не поцарапать укрытую внутри кость. Когда разрез замкнулся, она разделила половины с тихим хрустом, ножиком вынула багровую ноздреватую сердцевину и отправила ее к шкурке. Когда свежевание было закончено, Анна Петровна приступила к кушанью: вилочкой обозначала середину будущего кусочка, ножиком вырезала границы и отправляла его в рот, ярко очерченный красным. Расправившись с одной половиной, она приступила ко второй, уже слегка заветренной. Действия повторялись точно, с размеренностью механизма: вилочка, ножичек, рот с яркой каймой. Закончив с персиком, Анна Петровна приложила салфеточку к краешкам рта и стала выискивать глазами новую, несъедобную жертву.
***
Анастасия Павлова
Скорость. Боковым зрением улавливаю Тень. Он без промедления подстраивается под мой темп, неуловимо забирает мяч. Через удар сердца я снова веду. Бросок. Попадание. Сирена. Конец.
Вот и игра. Все вроде как хорошо. Первая четверть вничью. Играется легко. Низкий темп, точные броски. Вторая четверть — напряжение. Становится сложнее. Чувствуется, что все уже разыгрались, в том числе и соперники. Промахи, потери мяча. Тренер начинает нервничать. Частые замены. Тайм аут. Кажется, все даже хуже, чем в прошлый раз. Третья четверть. Проигрываем. Бешеная скорость. Мерзкие подколки и тычки от противников. Теряю всю концентрацию и собранность. Ребята выдыхаются. За всю игру видел Тень лишь пару раз. Во время перерыва он молча выслушивал Рико, а потом набрасывал на голову полотенце и отключался от внешнего мира. Сигнал к началу четвертой четверти. Если сейчас все не изменится, то мы проиграем. Счет не провальный, но отрыв в десять очков…
Это еще не безнадежно.
Ничего ему не сказал. Просто кивнул. Он немного разочарованно ушел. Наверное, у меня стало получаться. Потому что наши очки стремительно увеличивались. Но к концу последней четверти мы не успели вырвать победу. Овертайм.
Игра продолжается. Но мы все никак не можем отыграть это чертово очко! Десять секунд, пять. И вот Ханамия пытается вывести мяч из игры. Но если он это сделает, мы не успеем выйти из зоны и приблизиться к кольцу, а уж тем более сделать бросок. Слишком мало времени.
Тень замечает этот маневр. И понимает, что сам не успеет перехватить мяч. Смотрит на Свет. С невероятной скоростью он пробивается сквозь защиту и под немыслимым углом возвращает мяч на площадку. Я мгновенно оцениваю ситуацию и бросаюсь вперед. Пас мне. Я не должен его упустить. Только не сейчас.
Для меня уже нет преград. Не вижу никого, кроме своей цели. Полностью доверился инстинктам. Финальная сирена. И глухой стук мяча об пол… Победа…
***
Мария Шевцова
Ты говоришь: как бы мне добраться до твоей кожи? Я понимаю, что пора. До этого немного страшно, и сейчас страшно, на самом деле. Я могу раздеться очень быстро, хотя одета очень плотно и старательно. Только не лифчик. Я очень люблю, когда мне расстегивают лифчик. Вот этот момент, когда ты лезешь под футболку и пытаешься расстегнуть лифчик, а он заедает, кажется мне самым прекрасным. Это ритуальный момент, лифчик — страж у порога, ты должен расстегнуть его и пройти внутрь, и как положено стражу, лифчик так просто не сдается, и я не помогаю тебе, мне нравится ждать, я волнуюсь, и ты волнуешься. Знаешь, эти лифчики никогда не сдаются с первого раза. Мне нравится моя грудь. Она надежно защищена броней из лифчика. Но иногда она некрасиво трясется, не эстетично. Поэтому поначалу я не любила быть сверху. Кстати, мне не нравится, когда меня хлопают по попе, она трясется как желе. Но это сейчас пройдет. Лифчик повержен. Я чувствую щекотку твоих ресниц на моей груди, кожа покрывается мурашками. И тут происходит второй прекрасный момент: мне становится пофиг, что все сейчас затрясется и захлюпает, захлопает и запрыгает, и вот мне наплевать на эстетичность, меня накрывает волна, я хочу, чтобы это случилось, я утопаю куда-то вниз, под воду, где становлюсь зверем, нас два зверя: самец и самка, мы прыгаем и пляшем танец с мощным внутренним ритмом, ты выплясываешь этот танец на мне, я хватаю тебя за плечи и кусаю, мне хочется утопить свои пальцы в твоей коже, я сейчас распрыгаюсь окончательно и развинченно, я допрыгну до луны и улечу в космическое пространство, растворюсь среди звезд. Я превращаюсь в масло, которое течет и плавится, а голова летит по каким-то неведомым просторам млечного пути, сейчас я дойду до этой точки и закричу от чувства победы и полного исчезновения.
Конец, тяжелое дыхание и смех. Где я? Кто ты? С возвращением, милый, здравствуй.
***
Ирина Садовникова
А вы доили козу? Поначалу как будто чуть стыдно прикасаться к горячему голому вымени. Слегка обмываешь его — с непривычки неуклюже — а потом отставляешь ковшик с водой, берешь подойник, вполоборота усаживаешься рядом с козой и начинаешь тянуть за соски, неловко прицеливаясь тонкими белыми струйками во внезапно уменьшившуюся в размерах кастрюлю. Сначала надавливать на вымя страшно: все кажется, что вот-вот сделаешь животному больно. Но коза не обращает на тебя ровным счетом никакого внимания; вспоминаешь, что козлята дергают ее намного сильнее, а и вправду больно ей может стать как раз из-за недосцеженного и свернувшегося внутри молока — и движения постепенно становятся сильнее и увереннее. Упругие струйки начинают быстрее и звонче ударяться о стенки подойника, вымя под руками постепенно опадает и становится на ощупь чуть дряблым, как мякоть оставленной на столе и обветрившей за ночь яблочной дольки. Наконец, последние уверенные проглаживания дают понять, что молока в вымени уже точно не осталось, коза спокойно заходит в стойло, а в руках у тебя остается ведерко со свежим, утренним, вспененным парным молоком.

Мастерская «Пишем автофикшн»
В апреле 2020 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую «Все события реальны, имена не изменены: пишем автофикшн» под руководством Арины Бойко и Натальи Калинниковой (в рамках Летнего интенсива 2020). Представляем работы стипендиатов.
Конкурсное задание
«Капсула времени»
«В этот день N лет назад…» — то и дело напоминают нам соцсети, показывая старые фотографии и посты. Что мы при этом испытываем? Ностальгию или стыд? Желание снова поделиться незабываемым моментом или удалить навсегда?
Мы предлагаем вам раскопать одну из таких «капсул времени», чтобы узнать что-то новое про себя настоящих.
Выберите один пост, опубликованный год назад (или более), и напишите, что значимого — или незначительного — произошло в тот день, почему вы сделали эту публикацию, что чувствуете к ней сейчас. Формат — свободный: это может быть художественный текст, личное эссе, переписка, инструкция, твит — что угодно.
Объём — не более 800 знаков с пробелами.
***
Ульяна Киршина
21 октября 2018 года я опубликовала пост, который долго лежал в черновиках. О проблемах сына: в три года он говорил меньше десяти слов. По ночам я рыдала. Препарировала все: беременность, роды, прикорм… Думала — это моя вина.
Выносить в сеть было страшно. На нас и без этого сыпались комментарии. «А мои уже стихи в его годы читали!» «Мальчик явно отстаёт в развитии!» «А он у вас не глухой?» В какой-то момент это вышло из-под контроля, и родные отправили меня к психологу. Пост-откровение был частью моего принятия ситуации. Я ждала камней, но вместо них полетели нужные советы.
Сейчас сын прекрасно говорит. Педагоги считают развитым не по годам. Я всё ещё сижу на форумах мам с неречевыми детьми — пишу слова поддержки. И это не «Да заговорит», а «Ты не виновата». Я лично знаю, как это важно.
***
Ольга Власенко
Оля образца лета 2017 года сидит на грязно-желтых ступеньках «Республики» на Третьяковской и довольно жмурится на все 119 инстаграмных лайков — она только что научилась ездить на велосипеде. Небывалое достижение для двадцатилетней Оли необходимо зафиксировать в соцсети, сопроводив комментариями: «Страшновато, вел тяжелый, у меня проблемы с координацией и синяки, пока непонятно, как люди этим наслаждаются».
Оля образца весны 2020 года смотрит на этот пост с лицом лица — она знает об этом тексте то, о чем никто так и не догадался. Пост про первую поездку на велосипеде — гениальная маскировка кул стори про первый гетеро-секс с коллегой по летней работе.
***
Ольга Дмитриева
Это было начало учебного года, у меня было четыре пары подряд. К третьему семинару я всегда с трудом собираю слова в предложения. Даже в словосочетания.
На последнем занятии студенты молчали 90 процентов времени. И смотрели на меня как на странное и неприятное насекомое.
Я даже отпустила их пораньше, потому что просто больше не могла этого выносить.
Потом я позвонила подруге, и она утешала меня, что, мол, с этой группой у всех так, это главное испытание на третьем курсе.
Потом я пошла в «Хачапури и вино», чтобы в первый раз за день поесть.
И выпить.
А зарядка от макбука осталась в аудитории. Больше я её никогда не видела.
***
Нелли Нигматьянова
12 февраля 2019 года
Я: Кристина, привет! Я Нелли, спасибо тебе за подкаст с героиней с иммунным сбоем (знакомо очень). Плачу, а еще вдохновляюсь. Как тебе задонатить?
Кристина: спасибо, Нелли, за теплые слова 🙂 Ты вдохновила меня создать патреон.
Я все еще слушаю подкасты Кристины Вазовски и очень радуюсь, что со 150-ти слушателей тогда она стала главным подкастером страны. Это лучшее, что мы можем делать с помощью слов (ну и дЕла) — вдохновляться и вдохновлять других. Тогда я столкнулась с неизлечимым и привыкала с этим жить. Сейчас моя рутина — не только работа, хобби и разные «как у всех» дела, но и постоянный прием препаратов с быстрым вызовом врача на смартфоне на всякий случай — вдруг забуду номер.

Мастерская Дмитрия Данилова «Первые шаги в драматургии»
В апреле 2020 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую Дмитрия Данилова «Первые шаги в драматургии» в рамках Летнего интенсива 2020. Представляем работы стипендиатов.
Конкурсное задание
В связи с эпидемией коронавируса руководство компании отправило всех сотрудников на удалёнку. На следующий день трое сотрудников пришли, как обычно, на работу, игнорируя распоряжение начальства — очень хотят работать. Охранник (их может быть и двое) не пускает сотрудников-энтузиастов. Придумайте, чем всё закончилось, и напишите их разговор.
Объем — до 3 000 знаков.
***
Марина Крапивина
РАЗГОВОР У ПРОХОДНОЙ
ОХРАННИК: Куда?
ПАРЕНЬ 1: На работу.
О.: Домой иди.
П-1: Я ключ забыл.
О.: Отдел?
П-1: ОМДБ.
О.: Так, щас (смотрит в компьютер). Третий корпус. Какой офис?
П-1: Зачем?
О.: Схожу за ключом.
П-1: Нет, вы не найдете.
О.: Двадцать лет следователем. Трупы находил, не то что ключи.
П-1: Я бы не хотел, чтобы кто-то рылся в моих вещах.
Появляется ПАРЕНЬ 2.
П-2: Кхе-кхе… Ваша маска бесполезна! Это как если бы вы решили оградиться от пчел и намазали лицо медом.
О.: Я щас полицию вызываю.
П-1: Вы же сами полиция, Анатолий Петрович.
О. (достает из тумбочки противогаз): Не на того напали (и надевает).
П-1: У нас к вам предложение. Я расскажу вашу биографию и, если угадаю, вы нас пропустите.
О.: Бу-бу-бу-бу.
П-1: Итак, вы — бывший следователь. Вас выперли на пенсию. И вместо охоты, рыбалки и дачи вы торчите на проходной. Хорошо ведь на зорьке пострелять глухарей. Помните сериал такой — «Глухарь»?
Входит ПАРЕНЬ 3.
П-3: Мы так никогда не закончим.
П-1: Ты рано. Уйди.
П-3: Строишь тут из себя гребаного психолога!
П-1: Заткнись. Людей надо мотивировать.
П-3: Посмотри, в каком он состоянии!
О.: Бу-бу-бу-бу-буууу!
П-1: Видишь, что ты наделал? Гандон. (К парню 2). Багор, уведи этого идиота отсюда.
П-2: Дэн, зря ты так. Ты не прав сейчас.
П-1: ДАЙТЕ ПРОСТО МНЕ ЗАКОНЧИТЬ.
П-3: Да пошел ты! Пошли, Багор. Я вообще сейчас уйду на хуй.
Двое выходят.
П-1: Совершенно невозможно заниматься. (Кашляет). У них бессимптомно, а у меня бронхит. В детстве жил в Дзержинске, там химкомбинат.
О.: Бу-бу-бу-буу.
П-1: Значит, вместо заслуженного отдыха пришлось пойти в ЧОП. Охранников много у нас в стране. Как на зоне. И форма у вас, как робы у зэков, не замечали?
О.: Бу-бу-бу.
П-1: ЧОП держит бывший начальник, да? И он неплохо поднялся на взятках и сделал выгодное вложение в ЧОП.
О.: Бу-бу-бу!
П-1: И живешь ты в тесной квартире в Кузьминках или в Лобне. Жилье было когда-то ведомственным, но потом ты его приватизировал в равных долях. Это как у крестьян после реформы 1861 года. Ртов становилось больше, а земли все меньше.
О.: Бу-бу-буу!
П-1: У тебя есть шесть соток под Шатурой, где постоянно горят торфяники. У тебя дочь, уже родила. И зять тебе не нравится.
О.: Бу-бу-бу-бууууу (мотает отрицательно головой).
П-1: Переборщил? Ничего, всё впереди. Но тесть с тёщей еще живы?
ОХРАННИК мотает головой.
П-1: Тесть помер? Инсульт, инфаркт?
ОХРАННИК кивает.
П-1: И сейчас уже три месяца вы все находитесь в двухкомнатной квартире: ты, твоя жена — с ожирением и климаксом, теща — с диабетом и Альцгеймером, твоя дочь — ненавидит тебя за то, что ты ей репетитора по английскому не нанимал, айфона не было, как у Перевезенцевой, и тачка твоя отстой — списанная «Нива». За что еще можно ненавидеть? Что на брекеты ей не давал, и у нее зубы кривые. Да?
ОХРАННИК кивает.
П-1: Предлагаю выход. Заразиться и заразить всю семью. Это твой шанс свободиться минимум от тещи, а если повезет, то и от жены. Спорим, у тебя в СНТ есть зазноба?
ОХРАННИК кивает.
П-1: Давай, я пока тоже покурю.
ПАРЕНЬ 1 выходит. ОХРАННИК снимает противогаз, вдыхает воздух, трогает лицо, губы, трет глаза. Ждет.
***
Кристина Маиловская
Действующие лица:
Охранник Борис, 40 лет
Охранник Ильич, 60 лет
Работник Артём, в очках, ботаник, 25 лет
Работник Роберт, 35 лет, армянин, говорит с акцентом
Работник Виктор, 50 лет
Борис (своему напарнику Ильичу, всматриваясь в монитор компьютера): Кого это черти принесли? Сказано же — всем сидеть дома!
Ильич: А ты знаешь, я даже не сомневался, что кто-нибудь да припрется.
Борис: Тебе только в битве экстрасенсов участвовать.
Борис подходит к двери, открывает, там стоят трое мужчин. Ильич идет за ним.
Борис: Вы что — приказа вчерашнего не читали?
Виктор: Какого приказа?
Борис: Приехали!
Ильич: Ты спроси его, какой сегодня день. А то ты сразу со сложного начал.
Борис (смеется): Резонно.
Ильич: А ты не смейся! Мой шурин однажды ушел в запой. А это было лето, понимаешь. Белые ночи. Ну и что ты думаешь, проснулся он в четыре часа ночи, день с ночью попутал и пошел на работу. А работал он в МВД. Ну и прикинь, приходит он на работу пешком, все закрыто, а солнце уже вовсю светит. Город вымер. Ну и он решил, что тоже умер. Подошел к зданию МВД и молился там до открытия. Он думал, что это врата рая.
Борис: Ну и что? Пустили его?
Ильич: В рай?
Борис: В МВД!
Ильич: В ЛТП его пустили, на неделю. (Работникам). Вам чего дома не сидится, я спрашиваю?
Артем: Я не могу дома один находиться. Меня страхи мучают.
Ильич: Какие-такие страхи могут быть в твоем возрасте? Ну, если только: даст или не даст?
Артем: Кто даст?
Борис (Ильичу, указывая на Артема): Это уже диагноз… (Артему). Ты в отделе техподдержки работаешь?
Артём: А как вы догадались?
Борис: А мы с Ильичом в битве экстрасенсов натренировались. (Обращается к работнику Роберту). А ты чего приехал?
Роберт (с акцентом): Слушай, брат, ты меня пойми. К жене родня приехала. Не могу я дома находиться.
Борис: Что, «личный непрыязнь»?
Роберт: Понимаешь, её родня — это ереванские армяне, а я — бакинский армянин.
Борис: Ну и что? Есть большая разница?
Роберт: Огромная разница! Есть еще краснодарские армяне, ставропольские, калифорнийские…
Ильич: А магаданские есть?
Роберт (призадумавшись): Про магаданских я ничего не слышал, но я думаю, что есть. Потому что армяне есть везде…
Ильич (смеется): Как коронавирус?
Роберт (возмущенно): Какой коронавирус?
Ильич: Никакой! Так что не так с ереванскими армянами?
Роберт (оживляясь): Понимаешь, они совсем не уважают традиции. Они долму колбасками заворачивают, а мы — бакинские армяне — заворачивали, заворачиваем и будем заворачивать долму конвертиками! Так делали мои предки! А я чту традиции своего народа!
Виктор: Серьезный геополитический конфликт.
Ильич: И ты из-за этого ушел из дома?
Роберт: Да! Они как раз собрались всей семьей долму заворачивать. А я не могу на это варварство смотреть. Вот я и ушел.
Ильич (работнику Виктору): А тебе чего надо на работе? Или у тебя тоже геополитический конфликт дома?
Виктор: Да какой там конфликт… Просто моя баба всякий свободный день тащит меня на дачу. А я не дачный человек. Она там теплицы устроила, рассаду… А мне дача только для шашлыков нужна. Я эту возню на участке терпеть не могу. И если она узнает, что у меня удаленка, она как пить дать запряжет меня на месяц. Нет уж! Лучше в офисе сидеть.
Роберт: А пусть она рассадой занимается, а ты — шашлыками. Ты же мужик! Не мужское это дело — цветочки-хуёчки…
Виктор (с раздражением): Ага! А ты своим родным скажи, чтобы они долму конвертиками заворачивали! Мужик нашелся тут мне, понимаешь!
Борис: Ладно, ладно! Не кипишитесь!
Ильич: Понимаете, мужики, мы вас пустить не можем! У нас приказ — никого не пускать.
Артем: Что же мне делать? Мне одному дома реально плохо. У меня панические атаки. Мне среди людей надо быть.
Борис: А кто вас заставляет домой идти? Вы все втроем можете идти куда угодно. Прихватите с собой ноутбуки, телефоны и идите куда угодно.
Роберт (с энтузиазмом): А у меня идея! Поехали все ко мне на дачу. У меня обалденная дача рядом с лесом. Мне одному там скучно, а с вами мы хорошо время проведем. (Подмигивает работнику Виктору). Шашлыки сделаем! И без баб посидим. Что еще надо для счастья!
Артем: А что — мне идея нравится! Я — за!
Виктор: Я не против. Где, говоришь, у тебя дача?
Роберт: В Михнево. Дом шикарный. Лес рядом! Вай-фай есть, можно и поработать при большом желании. Хотя (подмигивает) работа не волк — в лес не убежит!
Борис (Ильичу): А у тебя какие планы на сегодня?
Ильич: Да какие у меня планы…
Борис: Ну, тогда заметано. Вы поезжайте, мужики, а мы к вам через три часа подтянемся. У нас короткий день сегодня. (Роберту). Ты только скинь мне адрес дачи. И вы там без нас не начинайте. Готовьтесь морально. Можете потренироваться долму конвертиками заворачивать.
Роберт: И долма будет, дорогой! Всё будет! Приезжай только!
Трое работников уходят. Охранники, удаляются в подсобку.
Виктор: Водяры надо взять, нарзану, ну и по мелочи там.
Ильич: Пивка с рыбкой не помешало бы…
***
Алексей Артемов
СОТР. 1: …Последний раз спрашиваем, пустите или нет?
ОХР.: Приказ есть приказ.
СОТР. 2: Хорошо.
СОТР. 1: То есть, ничего хорошего.
СОТР. 2: У вас будут проблемы.
СОТР. 1: Мы хотим сказать, что все равно пройдем, невзирая ни на что.
СОТР. 2: «Взирая» — давно забытое слово. Надо записать.
СОТР. 1: Заткнись уже!
СОТР. 2: Чего?
ОХР.: Клоуны, шагайте вон в том направлении (показывает направление).
СОТР. 2: Нетушки. Мы пойдем в противоположном направлении.
ОХР.: Идите куда хотите.
СОТР. 1: Пропускаете?
ОХР.: Нет. Но и задерживать не собираюсь. Хотите — идите. Я просто наряд вызову и все.
СОТР. 2: Смотри, заднюю включил. Понял, что не сдюжит. СДЮЖИТ. Хорошее слово. Запишу. Решил ментами прикрыться?
ОХР.: Мудак. Запиши. Вот такое слово (показывает большим пальцем, какое это слово).
СОТР. 1: Пришло время прибегнуть к нашему секрету. Знаешь, кто ты? Ты всего лишь персонаж. Эпизодический. А мы — литераторы. И автор на нашей стороне. Я могу его попросить, и он сделает с тобой что угодно: украдет твою бдительность, заронит тень сомнения, усыпит, уволит, вычеркнет…
СОТР. 2: Пусть поразит его коронав… Нет… Лучше дракункулезом.
СОТР. 1: Тихо! Ну, как перспектива?
ОХР. (раздумывает): Автор, говорите? Аргумент. Просите. Что я могу? Я выполняю долг. Если сочтет нужным уволить меня — пусть. Пусть заразит чем угодно. Пусть уничтожает. Но пусть помнит, что где-то там, в Бибирево, у меня есть два сыночка и дочурка ростом с полторы табуретки. Мила зовут. Она когда видит кого — знакомого, там, незнакомого, — подбегает и целует. Ей без разницы. Она всех любит. Короче, уважаемый автор, я в ваших руках. Делаю что должно и будь что будет.
СОТР. 2: Давай, автор. Расплющь его.
Пауза.
СОТР. 1: Уважаемый автор, позволь нам пройти. Устрани препятствие. Нам очень нужно.
Пауза.
АВТОР: Ребят, решайте сами. Вы персонажи и живете своей жизнью. Я лишь только наблюдаю за вами, направляю иногда. И с ним я ничего делать на собираюсь. Он вторую чеченскую прошел и человеком остался, как видите.
СОТР. 2: В отказ пошел. Я не я и пьеса не моя. Сначала делов наделают, а мы потом крутись как можешь.
ОХР.: Ну, ребят, се ля ви! а ревуар! шерше ля фам! э це тера.
СОТР. 2: Мож, действительно к Машке поедем?
СОТР. 1: Нет. Сказал, пройду, значит, пройду.
Перепрыгивает через турникет. ОХРАННИК пытается его остановить. СОТР. 1 пихает ОХРАННИКА. ОХРАННИК обороняется. Завязывается потасовка.
СОТР. 2: Бей. Правую сторону держи. Закрывайся. Работай, работай.
СОТР. 1 вырывается и убегает вверх по лестнице.
СОТР. 2: Выкуси, карась (убегает за СОТР. 1).
ОХРАННИК встает, отряхивается.
ОХР.: Что вы за люди такие, а? Что вы там забыли?
СОТР. 3: Действительно.
ОХР.: Что?
СОТР. 3: Не помню, зачем нам нужно было наверх. Помню, что хотели пройти. Тут не пускают. Ну, и понеслось. А зачем нам туда — не помню.
ОХР.: Сами виноваты, вызываю наряд. Иначе попросят отсюда.
СОТР. 3: Делайте что хотите. Меня волнует, что делать мне. И зачем я сюда пришел? Про меня ли эта пьеса? Пойду я, пожалуй, пока у автора не закончился лимит на количество знаков.
Уходит решать основополагающие вопросы.
***
Хелла Гуд
Приказ
— И да, сейчас надо сливать, Вань, я тебе говорю, и только доллары…
На этих словах охранник преградил путь Сергею Вадимовичу, его заместителю Ивану Андреевичу и личной помощнице первого — Марии Михайловне.
В недоумении Сергей, не зная имени сотрудника охраны, попытался убрать его руки и продолжить свой путь. На что Славик, будучи человеком ответственным заявил:
— Нельзя пройти! Указ генерального директора — никого в офис не пускать.
Сергей Вадимович показно рассмеялся, коллеги подхватили.
— Браво! Браво! Вы отлично выполняете свою работу! — Глядя на сопровождающих, Арутюнов зааплодировал. — Только я и есть генеральный директор! Арутюнов Сергей Вадимович, — довольно строго добавил он и попытался снова продолжить свой путь. Но Славик сурово его преградил.
— Я знаю, Сергей Вадимович! Но вы сами читали свое постановление? Вот, четко написано: «НИКОГО НЕ ПУСКАТЬ»! ПОДПИСЬ. ПЕЧАТЬ. Как я могу нарушить ваш приказ?
Арутюнов нервно рассмеялся.
— Похвально! Но давайте закончим этот цирк. Мне срочно нужно в МОЙ собственный офис.
Мария Михайловна уже набирала в службу охраны, чтобы найти управу на нерадивого сотрудника, но карантин… Трубку не брали.
Славик, поправив медицинскую маску на лице и глядя в глаза начальнику, невозмутимо ответил:
— Я работаю по совести. Есть приказ — надо выполнять. И взятки можете не предлагать — не возьму!
— Я вас умоляю, какие взятки! — Иван Андреевич решил взять ситуацию в свои руки и пойти напролом. Но гора по имени Славик остановила и замдиректора.
— Так, хорошо, что вам нужно? Новый приказ? Я сейчас же его напишу. Вань, ручку и лист. Ну, как нет? Найди! Купи! — нервничал начальник.
— Это здорово будет, но без печати — недействительно, — справедливо заметил Славик.
— Печать наверху, в сейфе. Вы издеваетесь, я не пойму? — Арутюнов уже орал. — Дайте пройти, и будет вам печать. Хоть на жопе!
— На жопе не надо! Надо на листике, где ваша подпись. А пропустить наверх не могу, — с сочувствием сказал Славик и шепотом добавил, пожимая плечами: — Приказ генерального.
— Дебилизм! Дурдом! — перекрикивали друг друга мужчины.
— А вы можете сами ее принести, уважаемый? — вдруг предложила Мария Михайловна.
Арутюнов с заместителем переглянулись и начали шептаться. Иван Андреевич тихо сказал девушке: «Там сейф же, деньги, много. Нельзя».
Мария, пристально глядя в глаза коллеги, спросила:
— И что вы предлагаете? Не отправлять договор? Терять сделку? И мне уже очень пора, Сергей Вадимович, — обратилась она к боссу, шепотом добавив: — Эпиляция! Я не думала, что мы так застрянем…
— Да, Машенька, идите, но постарайтесь дозвониться до руководителя этого самодура!
Невозмутимый Славик продолжал стоять на входе.
Пошептавшись ещё немного и решив, что времени на ожидание у них нет, мужчины передали Славику бумагу с паролем от сейфа и инструкцию. Охранник вошёл в здание, закрыв со собой дверь, чтобы ни один чужак не проник на охраняемую им территорию.
— Дурдом. На хрен разгоню. Ну надо таким тупым быть. Приказ у него. Сейчас выйдет — узнай фамилию. Все запиши. И уволить первым делом, — бубнил Арутюнов.
А мимо проезжал автомобиль Марии Михайловны, в который только что запрыгнул ее бойфренд Славик с большим черным дипломатом. Сняв с лица маску, Славик поцеловал любимую и сказал:
— Ну что, проведем карантин по-королевски?

Мастерская Елены Холмогоровой «Лучшие слова в лучшем порядке»
В апреле 2020 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую Елены Холмогоровой «Лучшие слова в лучшем порядке» в рамках Летнего интенсива 2020. Представляем работы стипендиатов.
Конкурсное задание
Написать двухчастный этюд (не более 3 000 знаков с пробелами), в котором будут два действующих лица и ситуация, круто изменившая их судьбы, сначала глазами одного, потом другого персонажа.
***
Вадим Герасименко
Часть 1
«Я сам-то человек простой. Сколько себя помню — всё будто в поле живу. Что выращу, что пожну, того и достаточно. Много мне и не надо. А как сыновья-то выросли, так и вообще заботы прошли. Жизни радуюсь, внуков балую. А по-другому-то как? После войны только радоваться — горя уже и достаточно повидал.
К ней, войне то бишь, совсем безучастен был. Призвали — пошел. Штудировка, полировка — и в бой. Толком и не ведал, с кем мы там воюем, для чего воюем? Надо оно нам или нет — оно все для меня так и остается в тумане и по сей день. Не поделили в верхах чего поди, вот и… чёрт их попутал. Ну а мы люди простые — ружо, направление дают — а мы и бежим вперед, будто ужаленные. Надо — значит, надо.
Боев много прошёл. Честно скажу — греха на душу не брал, всё старался то в небо, то под ноги стрелять. Как-то набожно мне было, а то ведь убийство — не по-христиански как-то оно! И ведь кто знает — авось от того-то и жив до сих пор, что заветам верен остался? В последнем бою своём только в плечо ранен был, с тем домой и отправили. Плечо-то оно вон, зажило, хоть и болит, бывает. Зато жив остался — с тем богу и спасибо.
Помнится, бой тот затяжной вышел, патронов ни у той, ни у другой стороны и не осталось совсем — всё отстреляли. Так и крикнули нам камрады, мол: «Вперед, штыками их!». Ну и побежали мы: не супротив приказа же переть! Там-то на середке мы и столкнулись — я и солдатик тот молодой.
Мальчик совсем — его лицо навеки запомню. Молодое, красивое. Помню, правда, глаза его усталые были — но на войне они у всякого такими станутся. Ни я, ни, думаю, он не знал, завалялся ли патрон лишний, приму ли тут я смерть свою иль с его встретиться придется… Так и стояли друг перед другом, шевельнуться не можем. Страшно было! Вот только задрожал он вдруг весь, и как-то жалко мне его стало — видно, что первый бой его, и смерть его куда пуще страшит. И уж хотел было ружо своё опустить да миром разойтись, как вдруг чу, бабахнуло… из ружья его то бишь. И сердце-то замерло, замерзло. И пошевелить-то ничем не могу. И только чувствую — теплом по руке левой обдало. Ни боли — ничего, только тепло в руке и холод в теле. С тем и упал, не выдержал, видать, страха того…
Очнулся в палатке уже — оттащили-таки. Медики говорили, что чудом выжил, что задели там чейт важное, но перевязали вовремя. Бой тот ничем и не окончился толком — это я после узнал. А как уволили, так и не интересовался даже — деревенька-то моя далеко, там других забот много. Но случай этот на всю свою жизнь упомню, и даже сейчас понимаю, что живу как-то по-иному — все будто красок больше! И прожил я счастливо — то знаю я. А потому и умирать не страшно — вот он, парёдёкс жизненный. Один раз о смерти познал — так уж и жить хочется так, чтобы к ней уже готовым оказаться!»
Часть 2
«В заветы верил. В направление наше я верил. И молод был, кровь кипела. Потому сам добровольцем пошел, даже ружье отцовское тайком взял, так как слыхал я, что орудий на полях и нет почти… В первом же бою его и оставил…
Да, в начале гордости много, запала. Ружье свое в чистоте всегда держал — важным чувствовал! Всё в битву рвался, да вот не пускали — сначала надо научить убивать, а лишь потом слать на поля боя. Я, конечно, негодовал, но если оно необходимо было, то, так и быть, думал, потерплю.
Убивать хотел, да… Думал, что просто оно. Во врагах и людей-то не видел — чужаки, другие, неправые… Будто бы смерть их как-то жизнь мою делала лучше, будто от их смерти мое счастье зависело. В общем, уверен был в себе, заносчив, и, помню, перед всеми выделывался, что на этой войне больше любого другого вражин уложу, и почитать меня как героя будут…
Однако первый же бой — как обухом по голове. Я столько крови еще никогда не видел; товарищей, что лежали то тут, то там… Да и сам я покрыт был то грязью, то кровью, то дерьмом… Как я ни пытался, все пули мои мимо летели — руки дрожали так, что не успокоить их было никак. Зубы стучали как от холода, хоть солнце и палило вовсю в тот день. Так почти всю обойму и прострелял, только пара патронов оставалась. С тем и побежал вперед по приказу — сам и не знаю, как ноги меня тогда понесли. Так и бежал, пока не оказался перед тем самым «чужаком» — бородатым, темным, высоким. Страшен он был, я так на месте и справился. Но ни он, ни я и шагу не делаем, только винтовки друг на друга наставили и ждем будто чего.
Я в то мгновение совсем переменился — так близко к смерти и не стоял я ни разу. И неожиданно многое я о жизни понял. Странно, что о жизни только в шаге от смерти и понимаешь. Тут меня затрясло, глаза влагой покрылись, хотелось убежать да спрятаться где. Руки мои будто закоротило, вот и вышло так, что на курок нажал я случайно. Следующее, что вижу — кровь. Из плеча его течет. А у него взгляд изумленный, будто бы и сам не понимает, что происходит. Посмотрел он на меня удивленно, да и упал навзничь.
Тут всю мою спесь, все мои предубеждения, всю мою честь и гордость как рукой сняло! Как подумалось мне, что жизнь я отнял, так и скрутило всего. Бросил от себя подальше винтовку отцовскую, подобрался к простреленному, нащупал пульс как учили — жив! Что мною вело — неведомо мне, но все, что для меня в тот момент важно было, это спасти его. Сорвал с себя лоскут с формы да перевязал его как мог. Вот оно как — никак не мог я из себя убийцу сделать! Как бы ни обманывал я себя…
Как перевязал, так уже и приказ к отступлению был. Я так там ружьё свое и оставил — совсем о нем позабыл, да и не вспоминал после. А как вернулся, так проситься стал в медицинскую роту, куда, пусть и не без труда, и направили. После войны уже на медицинское подал, где на хирурга и проучился. Вот и сейчас я жизни спасаю, и так до сих пор ни одной и не отобрал!»
***
Екатерина Задохина
1 часть. Илья
Через полчаса с работы должна была прийти мама, поэтому Илья спешно наводил порядок. Собрал старенькую софу, застелил её леопардовым пледом, выбросил коробку из-под пиццы и, пока Аня была в ванной, на пару минут распахнул окно, чтобы проветрить комнату.
Илье не нравилось, что свидания с Аней проходят на маминой софе. Было в этом что-то жалкое и неприличное. Но куда деться? Его кровать стояла в кухне и была слишком узкой для любви. Ему и спать на ней было неудобно. Несмотря на то что в начальной школе он был самым низким в классе, при вручении аттестата ему пришлось согнуться в три погибели, чтобы подставить щёку для поцелуя завуча. Только год назад Илья окончательно завязал с волейболом, потому что учёба в институте забирала всё время. Ну и с девушкой начал встречаться. Тоже время… Кажется, он наконец встретил настоящую любовь.
Аня вышла из ванной, достала расчёску и начала делать хвостик. После соприкосновения с пледом волосы электризовались.
— У твоей мамы, случайно, нет лака для волос? — спросила Аня.
— Давай это… — замялся Илья. — Не будем брать. От него запах долго не выветривается. Она догадается.
— Ругаться будет на маленького Илюшу? — ехидно спросила Аня, закрепляя резинку на хвосте.
— Можно без иронии? — напрягся Илья.
— Без лака и без иронии? Так и зачахнуть недолго.
— Ань, что-то не так?
— Всё так. Только волосы очень сухие. Противно.
Илья протянул руку, чтобы погладить Аню по голове и успокоить волосы, но тут же дёрнулся, получив разряд тока.
— Тебя что-то не устраивает? — Илья с тоской посмотрел на Анино лицо, невозмутимое и враждебное, как у дикого зверька. — Ну давай я брошу институт, пойду работать и сниму квартиру.
— Давай лучше кофе выпьем по-быстрому.
Они прошли в кухню и одновременно взглянули на часы. Илья напрягся.
— Ладно. Без кофе, — проявила милосердие Аня.
— Может, две мандаринки возьмёшь с собой? — спросил Илья, провожая её в коридор.
— Ну, давай.
— Я помою.
— Помой.
— В пакет положить?
— Положи.
— Ань, я так не могу, — взорвался Илья. — Я чувствую себя дерьмом, слабаком каким-то! Я ведь люблю тебя и всё готов делать ради нас. Но меня мать убьёт, если я на работу устроюсь. Она жизнь положила, чтобы меня в этот институт запихнуть.
Аня завязала шнурки на ботинках и сняла с вешалки пуховик.
— Ты обещал мне мандарины, — напомнила она.
— При чём тут мандарины? А… Сейчас принесу.
Илья ушёл в кухню, включил воду, чтобы помыть мандарины, и сквозь шум крана услышал, как хлопнула дверь. Он бросил фрукты и выбежал на лестничную клетку, но лифт уже двинулся вниз.
2 часть. Аня
Кажется, вот-вот с работы должна была прийти мама Ильи. А потому Илья суетился. Прибирал, проветривал, приглаживал. Через полуоткрытую дверь ванной Аня слышала, как он собрал видавшую виды софу, выбросил коробку из-под пиццы, распахнул окно, чтобы проветрить комнату.
Всё это было довольно унизительно. Унизительно приходить к Илье только в определённый час (когда мамы нет дома), унизительно заниматься любовью на маминой кровати (они не помещались вдвоём на детской кровати Ильи), унизительно заметать следы (чтобы мама не расстроилась).
Аня вышла из ванной, достала массажную расчёску и начала делать хвостик. После соприкосновения с леопардовым синтетическим пледом волосы неприятно электризовались и топорщились вверх.
— У твоей мамы, случайно, нет лака для волос? — спросила Аня.
— Давай это… — замялся Илья. — Не будем брать. От него запах долго не выветривается. Она догадается.
— Ругаться будет на маленького Илюшу? — ехидно спросила Аня, закрепляя резинку на хвосте.
— Можно без иронии? — напрягся Илья.
— Без лака и без иронии? Так и зачахнуть недолго.
— Ань, что-то не так?
— Всё так. Только волосы очень сухие. Противно.
Илья протянул руку, чтобы погладить Аню по голове и успокоить волосы, но тут же дёрнулся, получив разряд тока. «Так ему и надо, — подумала Аня. — И этого ещё мало! Пусть бы мама заявилась прямо сейчас. Посмотрела бы я, как он задёргается».
— Больно? — засмеялась Аня. — Так что насчёт лака? Он мне очень нужен.
— Тебя что-то не устраивает? — Илья с тоской посмотрел на Аню. — Ну давай я брошу институт, пойду работать и сниму квартиру.
— Давай лучше кофе выпьем по-быстрому.
Они прошли в кухню и одновременно взглянули на часы. Илья напрягся. По его лицу Аня поняла, что времени до прихода мамы осталось совсем немного.
— Ладно. Без кофе, — проявила милосердие Аня.
— Может, две мандаринки возьмёшь с собой? — спросил Илья, провожая её в коридор.
— Ну, давай.
— Я помою.
— Помой.
— В пакет положить?
— Положи.
Аня поймала себя на мысли, что наслаждается этим словесным пинг-понгом, но тут Илья угодил мячом в сетку, нарушил ритм и забормотал:
— Ань, я так не могу. Я чувствую себя дерьмом, слабаком каким-то! Я ведь люблю тебя и всё готов делать ради нас. Но, блин, меня мать убьёт, если я на работу устроюсь. Она жизнь положила, чтобы меня в этот институт запихнуть.
Аня крепче обычного завязала шнурки на ботинках и сняла с вешалки пуховик.
— Ты обещал мне мандарины, — напомнила она.
— При чём тут мандарины? А… Сейчас принесу.
Илья ушёл в кухню. Аня быстро надела пуховик и вышла из квартиры. Хотелось закрыть дверь бесшумно, но та предательски хлопнула. К счастью, лифт был на этаже.
***
Илья Смольняков
I
Каждый раз я вскакиваю с постели (нет, не с криком) с резким тяжелым вздохом, который мог бы перерасти в крик, если бы хоть крупица ушедшего кошмара запуталась в моих волосах. Но я ничего не помню, и поэтому тупо и долго смотрю на забитые тяжелые ставни, за которыми, наверное, утро. Наверное, солнце. Наверное, птицы. Может — небо.
Что произошло? От чего я прячусь? Я закрываю глаза.
Кто-то существовал. Кто-то важный. Кто-то важнее всех. Лес. Пустырь. Свалка. Что из этого? Всё вместе? Небо было самым синим из всех небес. Солнце зажигало глаза. Кратко: тихий смешок вполоборота. Взгляд украдкой. Долго: бегу и смотрю под ноги, перепрыгиваю выступавшие из земли корешки. Скорость нарастает, как смех.
«Кажется, мы виделись только в этом лесу». Эта мысль поднялась к поверхности сознания, как пузырёк воздуха. Неужели там, внизу, кто-то ещё дышит? «Кажется, мы виделись только…»
Я никогда не знал, где ты живёшь. «Может быть, прямо тут, в каком-нибудь дупле». Кратко: дырка на джинсах, запах сырой земли и тысячи трав. Долго: взгляд.
Горечь вырастает из сердца в рот, в глаза, плодоносит слезами: я не могу вспомнить твоего лица. Твоего имени. Тебя. Кратко: хруст веток, кашель, шепот матери в кухне, момент ужаса. Долго: ничего.
Всё пропадает. Я встаю и иду умываться. Может, приснилось?..
II
Я никогда не останавливался.
Я никогда не останавливаюсь.
Я никогда…
Я останавливаюсь, когда вижу одуванчики. Срываю. Оставляю на дороге — по две штуки, как хлебные крошки для кого-то, кто никогда не найдёт меня.
Кратко: перестук палок. Фехтование. Больно — под ребро. Но ничего, тебе можно всё. Долго: каждая травинка замерла под идеальным солнцем. Мы не дышим и смотрим в самую глубину неба. Тебе кажется, что там есть всё. Мне кажется, что мне в нос залез муравей.
Я никогда знал, где ты живёшь. Может быть, в каком-нибудь бело-выбеленном домике с маленьким садиком, с кукольными гортензиями и смешным заборчиком вокруг них. Будто бы смешные заборчики могут кому-то мешать.
Надеюсь — да.
А если нет… Он идёт за мной по дороге из желтых одуванчиков.
Я оборачиваюсь назад (как и всякий раз — со страхом увидеть его лицо) и в очередной раз вспоминаю тот день. Ты вылез в окно и прибежал ко мне в лес, в лес, куда запретили ходить после первого же исчезновения. Кратко: радостный вскрик на тарзанке, большой гриб под листом лопуха. Долго: горячий шепот в самый центр головы.
Как и любые дети, мы были уверены в своем бессмертии.
И мы ошиблись. Он вышел из темноты. Миф, убийца, маньяк, демон — что-то из этого или всё сразу. Матери перешептывались месяцами — исчезновение за исчезновением. Их шепот в тот момент проступал через шелест деревьев. Кратко: момент осознания своей глупости и ничтожности. Долго: то же. Мы побежали в разные стороны. Не знаю, обернулся ли ты, чтобы посмотреть на меня в последний раз, но надеюсь — нет. Это могло бы стоить пары драгоценных мгновений.
Я останавливаюсь, когда вижу одуванчики. Срываю два и кладу на дорогу. На пальцах остается горький сок, и я размазываю его о губы.
Я помню.
***
Дарина Стрельченко
* * *
Когда мы входим в «WakeUp», в ухе стреляет так, что я едва слышу, что говорит Паша. После уличной мороси тепло слегка утихомиривает боль, но от того, что я закапала в ухо нафтизин, всё жжёт, и я не могу думать ни о чём другом.
Наш столик занят; приходится сесть на скользкий диван в углу. Пока Пашка у стойки ждёт раф, я сижу, закрыв глаза и откинувшись на спинку. В ногах усталость, платье влажное от дождя, глаза колет мокрая чёлка. Я выгляжу ужасно, я знаю, но сил нет, даже чтобы дойти до туалета и причесаться. Я почти уверена, что будет дальше: давно запланированный выходной, пиджак, который Пашка надевает только на конференции и выступления, и это наше любимое кафе, где всё начиналось… Но сил всё равно нет.
Он садится рядом и начинает чертить по густой кофейной пене черенком ложки. Вымученно улыбаюсь. Он легонько толкает в бок, привлекая внимание. Скашиваю глаза.
Оказывается, он чертит не чёрт-те что: под ложкой одна за другой возникают буквы. Пышной сливочной шапки хватает как раз на четыре слова. У меня напрочь отключается слух и вообще почти все чувства; я только жду пятого слова, «замуж», но он вдруг прекращает писать, и я замираю в недоумении. Он тоже ждёт, сжав ложку и сцепив зубы. Уж не знаю, через сколько до меня доходит, что и без «замуж» эта фраза вполне закончена…
* * *
Когда мы едем в зоопарк, у Дашки что-то случается с ухом. Приходится зайти в больницу; она выползает из кабинета бледная, постоянно прыгает на одной ноге, склонив голову, как будто пытается вытрясти воду.
— Если ты сейчас скажешь, что хочешь домой в тёплую постельку, мы никуда с тобой не пойдём.
— Нет! Ты давно хотел погулять… Пойдём! Зоопарк! Панды!
Но в зоопарке нас накрывает такой дождь, что прячутся даже звери. К пандам мы не попадаем и подавно — оказывается, туда надо было записываться заранее. К середине дня, голодные, вымокшие, бродим среди вольеров в поисках выхода. Изначально я планировал как следует пообедать, а уже потом отправляться в кофейню, но Дашка со своим ухом выглядит такой измученной, что я вызываю такси до дома.
— Нет! Ты хотел в «WakeUp»! — упрямо заявляет она, и приходится изменить маршрут.
…Я приготовил речь, я надел пиджак, я проверил, легко ли достаётся кольцо… Но когда я сажусь рядом с ней — сморщившейся, с красным распухшим ухом, — вся моя подготовка идёт прахом. Решаю, что лучше напишу всё как следует, чем пробормочу невесть что и всё напутаю.
Беру ложку. Пишу на кофейной пене. Заканчиваю. А она смотрит и молчит. У меня душа успевает упасть в пятки, а потом вспорхнуть до горла, пока Даша наконец не кивает и не принимается опять за своё ухо…

Поэтическая мастерская CWS
В апреле 2020 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую «Поэзия» под руководством Евгении Коробковой и Михаила Эдельштейна (в рамках Летнего интенсива 2020). Представляем работы стипендиатов, а также авторов, попавших в шорт-лист.
Конкурсное задание
Выберите один из вариантов задания и напишите стихотворение. Объем — до 20 строк.
Стихотворение с эпиграфом или первыми строчками «Как я выжил — будем знать только мы с тобой». (Симонов)
Стихотворение с эпиграфом или строчками «Рыбы не живут без воды и не ищут почвы под плавниками». (Noize MC)
«Как бронзовой золой жаровень жуками сыплет сонный сад» (Пастернак). Написать стихотворение или рэп с этими строчками.
«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку» (Бродский). Напишите стихотворение, в котором попытайтесь призвать лирического героя не выходить из комнаты.
***
Анна Аксенова
Моему Одиссею
Чехов пишет в своем письме
От 16 числа:
Я не писатель,
Забудь про меня.
Читай газеты.
Пока не ушла холера,
Ты будешь знать,
Что я не писатель,
Пока.
Но сейчас,
Сейчас не холера,
Сегодня 3 апреля.
Тебя заберут у меня
На дни,
На дни и недели.
Пока ты лечишь
Этих скверных больных,
Этих чужих и заразных,
К кому я прижмусь,
Чтоб подслушивать сны?
То волны толкают в бока,
Шипят, пробегая меж ребер.
То накатит степная дорога,
И стучит, и стучит,
И стучит саранча,
Вминаясь в горячий капот.
Как я тебе расскажу
Твои сны?
Надо мною шесть этажей,
Подо мною десять еще,
Я слышу только возню
И хриплые песни сирен.
Я не поэт,
Я не поэт пока.
Я только женщина,
Ждущая дома.
***
Екатерина Белокрылова
Твой папа отрезал — «сиди один, три дня никаких конфет».
Ты бодрый и злой, и готов сбежать — но выслушай мой совет:
Плевать, что наказан в июльский день, и тлеет огонь в груди,
из тихой и скучной комнаты подольше не выходи.
Здесь время лежит на цветном ковре и гладит стрелки часов,
за дверью — несется фурой, орет сотнями голосов,
полощет в луже из скуки, вчерашней гречки, дрянных идей
И я бы, конечно, сказал тебе — не горбись и не седей
Большая взрослая жаба придет, и стены уже дрожат,
и скользким брюхом снесет портфель и плюшевых медвежат.
И вроде, ты все такой же — прозрачная капля и чистый лист,
но с галстуком и женой, без всяких кроликов и Алис
Застынешь неловко, войдя во двор — ребята, а скиньте мяч,
и окна раздуются, зашипят: «иди уже, не маячь»
Без папы в квартире жара, глазам грустно и горячо.
А ты притащил килограмм конфет. Беспомощный дурачок.
Зачем-то положишь в вазу. Хороший вкус и приятный вид!
Да только
сейчас стошнит.
***
Марина Вахрамеева
Не выходи из комнаты, не совершай ошибку,
Один на тебя начихает, другой — обдерёт как липку.
С наслаждением изолируйся, не трать понапрасну время,
Бери ручку, пиши слова. И дальше по этой схеме.
Без редактора и цензуры, не для славы и публикаций;
В компанию к дневнику, заскучавшему под матрацем.
Словесным веретеном нервы вплетай в косички,
Не оставляй открытыми форточки и кавычки.
Пора экономить на всём, кроме спичек и парафина.
Ты, скорее всего, не станешь даже наполовину
Тем, кем сча́стливо заблуждаясь, до сих пор тебя видит мама.
Подбери непослушной душе подходящий состав бальзама.
Выращивай стопки книг, пролистывай, соответствуй.
Книги — главные претенденты на роль твоего наследства.
Не выходи из комнаты, ты сделаешь только хуже.
Не выскочишь под колёса — окатит водой из лужи.
Тот, кого ты отчаянно ищешь по улицам незнакомым,
Приготовив тетрадь и ручку, ждёт с нетерпением дома.
***
Александр Иванков
рыбы не живут без воды
и не ищут почвы под плавниками
кролики не то чтобы на передок слабы
но не знают даже, что происходит у них за ушами
жабы не лягушки
но квакают или что-то такое
а мы не рыбы, не кролики и даже не лягушко-жабы
мы коты
с
обрубленными хвостами
с приподнятыми ушами
мы коты и кошки
от слова мур-мур
от слова мяу-мяу
от слова джиу-джитсу, йокараныйбабай,
выгибаем спину и воем на луну, будто выброшены на берег, скошены серпом по
завялены и в газетку «спидинфо» завернуты
мы коты от слова чеширский
и иногда мы
от слова гав!!!!
***
Анета Кремер
не выходи из комнаты
не совершай ошибку
подкроватный не так страшен
как тот за дверью
со скрипкой
пальцы вогнуты
смычок — лучевая кость
мамин голос ли это
скрипит
или послышалось
колыбельную напевает
не засыпай
не открывай
замок
прямоугольная тень
цилиндр снимает
крадется ближе к порогу
если услышишь
щелчок
не забудь помолиться Богу
***
Максим Оцупко
как я выжил —
будем знать только мы с тобой
как я жил —
знали все
в основном неправду
как я умер?
убит
тобой
подпись:
Ролан Барт —
автор
***
Евгения Сизова
Рыбы не живут без воды
и не ищут почвы под плавниками.
Рыбы знают, что верить — это о том, чтобы иметь опору внутри
и никакой опоры снаружи.
Снаружи — только пространство для вдоха и выдоха,
взмаха крылом, плавником, рукой,
Только немного воздуха, чтобы назваться собой.
Рыбы знают, как сохранить покой,
когда вокруг море волнуется, время (а время всегда волнуется);
Как обходиться без мишуры, не опираться
на новую мебель, одежду, еду, чьи-то мощи послаще,
умеют не заглушать тишину новостями, и больше —
молчать на любом языке, сбрасывать скорость на поворотах,
И даже на самом илистом дне
оставаться как дома. Только — в воде.
Рыбы не живут без воды. Остальное — не обязательно.
Достаточно одного платья
в цветок. Одной рубашки. Вдоха и выдоха.
Воды, тишины и воздуха хватает, пока ты жив.
Рыбы знают. Мы учимся жить у рыб.
***
Дарина Стрельченко
Я забытая. Я забытая в этом Подмосковье.
Телефон, в котором бьются написанные мне письма,
В котором живут мои фотографии и стихи,
Который нагревается так, что его больно держать, —
Он холодеет, он гаснет. Я теряю последний источник тепла.
Мне так холодно в этом Подмосковье.
Мне так хочется вырваться из метро в свою квартиру.
Мне так важно верить, что где-то есть солнечные комнаты,
Где-то есть апельсины и мальчики, которые улыбаются мне одной.
Телефон неумолимо выключается, а мысли только набирают скорость,
Ловят строчки сенсорного блокнота, запоминают спрятанные за паролями лица.
Не хочешь спать, серое Подмосковье?
А я хочу, в своей кровати, где тепло и светло,
Где пахнет грибным супом с нерасплавившимся сыром.
Где стоят мои розы, так и не пустившие корешки.
Экран почернел. Всё. Всё, это конец.
Можно не торопиться больше, не думать больше. Мысли, отключитесь, не мучайте меня.
Я хочу домой, мысли. Я хочу домой, Подмосковье. Я теряю последний источник тепла.
***
Юлия Фрумкина
Не выходи из матрицы,
Не становись собою.
Что может быть лучше
Розочек на обоях?
Шаг вправо, шаг влево — к пропасти.
Не допускай провала.
Пижама, газета, новости.
Ноги под одеяло.
Пускай мир тебя не трогает,
Тяни свою нить из шелка.
Сшивая обрывки вечности
Невидимою иголкой.
Не допускай слез радости,
Не замечай цветенья,
Пусть понедельник сразу же
Становится воскресеньем.
Пружину сильней закручивай
Танцуй, обняв табуретку.
Крутись меж столом и кучею
Неубранных с ночи объедков.
Забудь все, что было дорого,
Учись замыкать спирали
Невысказанного, забытого
Намечтанного в астрале.
Не выходи из матрицы,
Замкнись, не люби, не думай.
Не надо объятий, музыки,
Весны, тишины и шума.

В поисках места для искусства. Расследование
Этот фильм был снят в мастерской CWS «Автопортрет: I-movie на фоне города», которая проходит под руководством журналиста и драматурга Валерия Печейкина и режиссера Артема Фирсанова.
В видеомастерской собрались студенты, не имеющие опыта создания фильмов. Всего за девять занятий с нуля они создали короткометражные фильмы о самих себе. И попутно научились работать с программами для монтажа, писать закадровый текст, подбирать музыку, освоили другие навыки, необходимые для создания фильма.
В процессе обучения в Москве был введен режим самоизоляции, съемки в городе стали невозможны, но для настоящих документалистов сложные условия делают задачу только интереснее. Слушатели мастерской использовали домашние съемки, фрагменты видеоинтервью, записанные через Zoom, личные архивы и виды из Google Maps.
Одна из самых сложных форм — это лирика. В школе она используется как испанский сапог инквизиции. Ведь никто не объясняет, зачем нужны все эти «лирические отступления».
Артем Фирсанов:
«Ольга Мелехина выбрала для фильма одну из самых опасных тем. Это современное искусство. В сочетании с формой I-movie ее рассказ мог превратиться в «Мою жизнь в искусстве». Или обзор папки «Интересные картинки» на компьютере. Но, к счастью, фильм Ольги Мелехиной получился совсем другим: искренним, остроумным и лаконичным.
Часто именно любовь к чужому творчеству толкает нас к собственному. Так, влюбившись в чужой автопортрет, начинаешь рисовать свой. Портрет самого любимого человека на свете.
И вновь — приятного просмотра».

Поэтический марафон CWS
В Creative Writing School прошли открытые поэтические онлайн-чтения с поэтом и литературным критиком Евгенией Коробковой и литературоведом и литературным критиком Михаилом Эдельштейном.
На нашем «Поэтическом марафоне» можно было услышать голоса современной поэзии: выпускников поэтической мастерской CWS в Москве и стипендиатов мастерской поэзии летнего интенсива CWS.
Представляем запись марафона, а также тексты, прочитанные в его рамках. Стипендиаты летнего интенсива читали свои конкурсные работы, в которых по условиям задания нужно было использовать цитату из Бродского, Симонова или Noize MC. Пожалуйста, обратите внимание, что в двух стихотворениях использована ненормативная лексика — следите за пометкой 18+ рядом с фамилией автора. Спасибо всем участникам!
Участники в порядке выступления:
- 00:03:25 Платон Гурьянов
- 00:08:55 Максим Оцупко
- 00:12:17 Анна Воструева
- 00:17:22 Иван Барно
- 00:20:10 Анастасия Фатова
- 00:24:47 Анета Кремер
- 00:27:43 Марина Троцкая
- 00:31:48 Юлия Фрумкина
- 00:35:03 Александр Семёнов
- 00:39:50 Владимир Кочнев
- 00:45:41 Евгения Сизова
- 00:52:10 Вадим Крючков
- 00:57:54 Анна Аксенова
- 01:03:22 стихи Елены Куприяновой
- 01:08:50 Ирина Крупина
- 01:12:16 Ирина Костарева
- 01:16:20 Дарина Стрельченко
- 01:22:16 Софья Швец
- 01:30:21 Аркадий Тесленко
- 01:40:38 Татьяна Жданова
- 01:48:12 Александр Иванков
- 01:52:59 Натали Верна
- 01:57:14 Полина Репринцева
- 02:02:22 Мария Гацоева
- 02:11:55 Евгения Коробкова
Платон Гурьянов
Размышления на привале конного похода
Мы оба смотрели на мир, как на
луг в мае, как на луг, по которому
ходят женщины и кони.
И. Бабель
Идея слияния с природой проста — Забраться в места, где звеняще ясна подоплёка. До срока я думал, что куст — это ветви куста, Что править конём означает хлестать и лёлёкать. Но, бросившись в луг, осязая дыхание трав, Отринувши страх разбазарить частицу контроля, Почувствуешь волю коня и стремглав Несёшься галопом, сливаясь с конем, через поле. Коня усмирив, припадаешь плотнее к корням, Снимаешь узду, и кропит ваши схожие души Смех девушек, шеи обнявших коням И шепчущих что-то им в чуткие рыжие уши.
Закононепослушание (COVID-19)
Они забирают немножко там и немножко тут, Они говорят, можно тихо, без рук, в сети, Но я каждый вечер тревожно черчу маршрут Выскочкой из подъезда через пустырь. С тобой мы посажены смирно куда кто сел, Лишь скайпа позволено ватное бу-бу-бу, Но я стал машиной на полупустом шоссе, Стал лезвием, с шелестом режущим мглу. Они говорят… но лишь разевают рты, Как будто в их телике включен беззвучный скетч. От Марфино до Черёмушек тридцать минут езды, Я еду, чтоб слышать живую речь.
* * *
Не возвращайся в комнату, потому что в ней Только тусклый, на сорок ватт, Неритмичный танец теней, Даже не хоровод — «квадрат». Там с мерцанием трупного огонька Ждут фаланги стеклянных войск, Что просиженный трон обретёт царька, И пластмассовый скипетр ляжет в горсть. Там букварь для взрослых GQ Поучает — ты «да», твёрдо зная — ты «не». На немытой тарелке «Фейсбука» «люблю», Как стручок ванили в несвежем белье. На матрасе вмятины от идей, Намечталась пепельница сполна. Так что если в дом приводишь гостей, То не далее кухонного стола, Но не в комнату. Не давай щелчку Оживить то, что спрятано в полумгле, Придающей этому чердачку Очертанья пентхауса или шале. Пребывай снаружи, используй шанс, Растолкавшись дверьми, миновав подъезд, Углядеть, близоруко ломая глаз, В вечереющих лужах, какой ты есть.
Максим Оцупко
* * *
как я выжил — будем знать только мы с тобой как я жил — знали все в основном неправду как я умер? убит тобой подпись: Ролан Барт — автор
* * *
пейзаж обычно-советско-российской квартиры: улица за стеной стена за обоями обои за ковром ковёр за шкафом шкаф за стулом стул за одеждой одежда за одеждой одежда за одеждой одежда за одеждой [надежда на полотенце не велика, но есть как и шансы на скатерть тряпки] одежда за одеждой одежда за одеждой одежда перед миром человеком богом а вы перед кем? я за вами буду
Анна Воструева
Пандемия одиночества
Семь миллиардов лампочек горят, в надежде не попасть в компост. Сеть перегружена от напряжения. Кого-то вырубило, кто-то сохраняет ток и думает о самоулучшении. Светить способна каждая из них, но некоторые разучились греть. Так хочется, чтобы поток тепла мир обнял и не черствел он впредь. Пусть греют ярко, утоляя жажду. Даря и доверяя свет другим. Я верю, ты почувствуешь однажды тепло от миллиардов выживших светил.
Значимый взрослый
Мне четыре. Щётка пробирается среди кудрявых лиан. Утро вплетаешь в пшеничные косы. Бежим в детский сад. Крепко держишь за руку. Алый бант развевается лентой. Успела на завтрак, ты — на лекцию по химии. Мне четыре. Гладишь сарафан на кресле. Телефонный звонок прожег треугольник. Магнитофон крутит колеса паровоза под Высоцкого. Мне четыре. Берёзы сережками стучат в окно. Играем в прятки. Бегаю ищейкой по квартире. Заяц запутал следы. Мне четыре. На присяге передаешь пилотку. Самый маленький размер выменял за гостинцы из дома. Засыпаю, укладывая под подушку. Впереди год ночей про Афган. Колеса паровоза стопкой сложены в серванте. Магнитофон охраняет тишину. По воскресеньям смотрю «Служу Советскому Союзу». В ламповом Горизонте ищу тебя. Раз в месяц в дверь стучит конверт. Читаю твою жизнь по рисункам. Теперь знаю, как это долго, два года. Едем в машине, по радио поёт Высоцкий. Сегодня ты стал дедом, брат. А мне четыре. Девять раз по четыре.
Зрячесть
Во всех и каждом видит то, в чем сам заведомо уверен. Вместо лиц мелькают зеркала, в которые он тешит эго. Сиротством, провод оголенный прожег извилины дотла. Он народится на востоке, ключ ржавый повернув в замочной скважине души, раздвинет горизонты. Новорожденно засияет настоящей встрече, сжигая все черновики в рассвете ярко-желтом.
Иван Барно
Другу
на просмолённой крыше клонились и балдели сентябрём. розовеющей печалью, еле слышно, завис заброшенный хлебозавод. среди домов стремился церцис, утяжелённый головой иуды, краснеющей, как бычье сердце на рынках всевозможных будней.
ЦГБ
муха обрастала мускулами, стучалась в окно все сильнее, сильнее, сильнее. бил кулаком незнакомец у центральной городской библиотеки, пытаясь добраться до мозга и вычертить механизм глазами человека на него непохожим, стоявшим в религиозном экстазе под фонарным столбом; и молился, молился, молился на магазинную вывеску и на собачьи брыли. бились окном серьги женщины старой, билась муха и цокотом повторялась: сдай свои члены, оставь своё тело, назови своё имя, и небо вертело, ничего не меняя, без центра, основы; муха разбила свой звон колокольный — и вдруг так тихо-тихо стало, только биение усталое, только ночь, чуть лежали волосы в небе. и звёзды, и звёзды, и звёзды
О разговорах
сидеть и слушать как твои разгромыхаются глаза и скоротечно вдруг ручьи зальют моря и океаны и вдруг вдвоём мы местом стали и мы окажемся одним сегодня будет не до рыб а завтра и подавно сидеть и слушать как нога транссибирской магистралью огибает ножку стула предлагала еве завтрак принося адаму ужин как рука твоя изломом с тараканами и громким проверяет мост на прочность выбарабанивает грустно свою седьмую шостакович сидеть и слушать здесь тебя утомительно и душно пожалуйста забудь слова при разговоре снова
Анастасия Фатова
Индрик-зверь
Ты вышел на улицу поздно ночью, Тебе в магазин и обратно срочно, Все это до лета наверно точно, Но вдруг аскорбинка у них найдется. Ты чувствуешь пяткой всю эту круглость, Всю эту твердость и эту смуглость, Объемность, выпуклость и сутулость. Замри, услышишь как повернется. Подошвой, на ощупь все эти стены, Хрущевки, шпалы, пути, антенны, Там лепят пельмени и шерят мемы, Подпрыгнешь на месте, и все качнется.
Падеграс
Платье нарядное, розовый бант, вцепилась в отцовские пальцы. Мне говорят, я не слышу такт. Не забывать улыбаться. Шаг и приставка, шаг и носок. Начать, когда дернет руку. Ногу поставить наискосок. Шлепнуть об пол до звука. Шаг и приставка, шаг и присесть. Бант прицепили прочно. Щеки успела уже наесть, с ростом пока не очень.
Семнадцатилетие. Выпускной. Вальс под «Анастасию». Фатов ревет еще с проходной, держится через силу. Балы егэшные неплохи, Плеха, бюджетный, очный. После я буду читать стихи, все будут плакать точно. Гнуться с лопаток, держать каркас, шаг по ковру неслышен. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Тушь была явно лишней. Сцена пустынна.
Звучит фокстрот. Накопленный отпуск — месяц. Мне уже двадцать девятый год. Ночью в Москву экспрессом. Мощно, с разгона, издалека, схем уже нет, с простого. Ноги под корпусом, с каблука. Слоу энд квик, квик, слоу.
Прорывающимся
Чип сигналит, кстати очень кстати, Потираю красную черту, Как всегда уверен в результате — Подконтрольный выпад в пустоту. Древние вот так читали книги. Продышать глазок, наладить связь. Но при каждом атомарном сдвиге Важно в эту бездну не упасть. Не один иду я по маршруту, Персональный резонансный круг, Одинок, беспомощен, запутан, Сгоряча уходит в ультразвук. Под контролем мой карманный голем. Отхожу от полузабытья, Я на время за него спокоен. Ужас в том, что под контролем я.
Анета Кремер
* * *
не выходи из комнаты не совершай ошибку подкроватный не так страшен как тот за дверью со скрипкой пальцы вогнуты смычок — лучевая кость мамин голос ли это скрипит или послышалось колыбельную напевая не засыпай не открывай замок прямоугольная тень цилиндр снимает крадется ближе к порогу если услышишь щелчок не забудь помолиться Богу
* * *
возвращайся скорее как скорая помощь спасай возвращайся из ужаса возвращайся ВОЗ вещает: повсюду враг и повсюду врач планета вращается пусть Москва с тобою прощается ты ей не друг а так возвращайся тебе понравится
Марина Троцкая
А жизнь в этот раз пролетела мимо
Вызволи себя из объятий, выдохни, сдуйся, Забудь цвет кожи, длину волос, высоту голоса. Буквами даже не выходи вовне, ссутулься, Исчезни со всех радаров, значит - полностью. Останься, зашторь окно, вкрутись в стенку Молчаливым шурупом, дюбелем неприкаянным, Помнишь, хотелось побыть единым с чем-то? Самое время стать гладко-неосязаемым. Тогда все холеры, язвы, оспы, ковидовирусы Настигнут других — непослушных, неутомимых самых. А после маме расскажешь: «Я, мамочка, выжил, вырвался! А жизнь в этот раз пролетела мимо, мама».
Плоть, которой становятся все тела
На работы Aleah Chapin
Плоть, которой становятся все тела, Не равняется той, что мать родила. В 60, как бы ты ни была смела, Обнаженка, что в фас, что в профиль, Вдохновляет художников, но лишь тех, Кто не слишком рассчитывал на успех. Только жаждущий втайне дурных утех Рассмеется как Мефистофель. Остальные осклабятся — что за срам? Упакуйте в одежду отживший хлам! Все сложней разглядеть богозданный храм В том, что морщится, как картофель, Залежавшийся в погребе до весны. И бутылка гранатового «Апсны» Утешает — для времени все равны, Но мы пьем слишком горький кофе И трезвеем. И жить начинаем впрок — Мы уже заплатили за все оброк. Осязаемы контуры тех дорог, По которым мы все уходим. Обнажаемся — нам ни к чему парча, Как и то, чтобы каждый от нас кончал. Ожидание савана на плечах Неизбежно ведет к свободе.
Сирень непременно должна стоять в банке
Сирень непременно должна стоять в банке, В прозрачное дно утыкаясь тугой веткой, И пахнуть не приторно, а слегка сладко, Ее на прогулке Должны наломать детки. Она украшать непременно должна кухню, Стоять у окна или рядышком с самоваром, Быть густо-сиреневой, влажной, большой, пухлой, Добытой по случаю — тайно, во тьме, обманом. Пятилепестковых цветков в ней должно быть десять, Чтоб кто-то нашёл хоть один через двое суток И мог загадать про себя и тихонько съесть их, Чтоб мир навсегда изменился однажды утром.
Юлия Фрумкина
* * *
Не выходи из матрицы, Не становись собою. Что может быть лучше Розочек на обоях? Шаг вправо, шаг влево — к пропасти. Не допускай провала. Пижама, газета, новости. Ноги под одеяло. Пускай мир тебя не трогает, Тяни свою нить из шелка. Сшивая обрывки вечности Невидимою иголкой. Не допускай слез радости, Не замечай цветенья, Пусть понедельник сразу же Становится воскресеньем. Пружину сильней закручивай Танцуй, обняв табуретку. Крутись меж столом и кучею Неубранных с ночи объедков. Забудь все, что было дорого, Учись замыкать спирали Невысказанного, забытого Намечтанного в астрале. Не выходи из матрицы, Замкнись, не люби, не думай. Не надо объятий, музыки, Весны, тишины и шума.
* * *
Вышел из дома вовремя Навигатором руки заняты. Строю маршрут, и вот она — Дорога к друзьям в Рязанию. Проехал квартал — встал намертво. Как миной дорога вспорота. Вгрызаются экскаваторы, Мелькают серпы и молоты. Наверно, ремонт покрытия, Наверно, асфальт меняется. Как в пуповин обвитии, Москва в пыли задыхается. Дороги в кольцо закручены Из плитки, асфальта, гравия. Долма толчеёю скучены По чьим-то дурацким правилам. Проехать нельзя — пешком иди. Пешком — берегись — колдобины. В усах прорастают проседи, В мозгу поспевают фобии. Не нравится — вон из города. В деревню к быкам и курицам. В Москве жить морально дорого. Бордюр. Плитка. Осень. Улица.
Александр Семёнов
18+
Без названия
Дерево Стоит Листья его дрожат Дождь уже прошел А казалось Он навсегда Я добрел до остановки И стал весь мокрый Для чего нам сухость? Чтобы лучше гореть
Лиссабон
Помнишь мы ездили в Лиссабон Мы тогда еще даже не думали Что когда-нибудь разведемся Отель стоял прямо у станции За железной дорогой был океан Когда возвращались поздно, Покупали еду на бензоколонке Что нам осталось — названия улиц Как перепутали и сели не на тот автобус Как вслушивались в португальскую речь Какие-то слова застряли И вертятся в голове кабальяу камароеш гайвоташ гайвоташ
А. Гришаеву
Хоть бы лето прошло Заебался возить на дачу полные ящики рассады Жена все равно недовольна Теща молчит но как будто с ней согласна И похоже только дети рады моим визитам А в Москве такая жара это просто пиздец Плюнув на дресс-код прихожу в больницу в шортах и шлепанцах Вечером поедешь на пляж покидать мяч через сетку Так уиграешься сил больше нет ни на что Какие там стихи Какие там книжки Все плавится. Даже ночью Жара не дает покоя Уж днем я вообще молчу — понавалит туристов Фуры везут коробки переспелых фруктов К подошвам липнет асфальт В кино снова идет «Касабланка» Куда бы еще смотаться чтоб только не на дачу Звоню Гришаеву и говорю Хоть бы лето прошло заебался возить Хоть бы лето прошло заебался Хоть бы лето прошло Хоть бы лето
Как пьют поэты
Я пил с поэтами. Знаешь, как пьют поэты Они просят мальчика златокудрого (есть в любом кабаке В штате на этот случай) обносить их кипящим кубком С лучшим вином понтийским. А сами при этом Они возлежат; возле главы юноликие девы Струны златые лиры сладкоголосой перебирают. «Ебаный рот, — говорят поэты, — что за хуйня ваши тексты! Только мудак может писать о том, что идеи существуют в сознаньи. Я убежден, что возможное, как говорит Аристотель, Предшествует актуальному». Поэты, ух, поэты, они ого-го, ты знаешь — Потом начинают кусками цитировать Феофилакта и Анаксимена — Естественно, в оригинале, а хули, греческий зря, что ль, учили.
Владимир Кочнев
* * *
Я видел по телевизору как взбесился слон, выступавший в цирке: сперва он наступил на дрессировщика, а после на парочку клоунов, оказавшихся рядом. Люди рванули от него кто куда и выглядели при этом не лучше стайки тупых обезьян. А один (его потом назвали храбрецом и героем) попытался даже закрыть перед ним ворота, но слон взмахнул хоботом, и герой отлетел, словно бумажный лист. Слон вырвался на улицу и побежал. Он весело трубил, расталкивая машины, автобусы, давя пешеходов. Возможно, он добежал бы до родных джунглей, но через два квартала его застрелили. Тем не менее слон победил. Хотя бы раз в жизни он почувствовал себя слоном. А кто бы из вас знал, как мне хочется почувствовать себя человеком.
* * *
иди говорит в процедурную ждёт тебя молодая красивая хочет видеть прихожу молодая но не красивая рот прикрыт повязкой сколько лет спрашивает шесть снимай говорит штаны снимаю ложись говорит ложусь трёт ваткой колет вот она первая боль первый обман и первая неудача любви
* * *
внезапно понял что люблю тебя это со мной сегодня 533-й раз
* * *
в чужом доме я надел чужие ботинки и гуляю по этажам вслушиваясь в эхо подошв это так странно как будто говорить с кем-нибудь
* * *
пока его мать на работе его отец временно безработный замещает няню сидя с ним и чтобы выжить ворует хурму в супермаркете всё ради будущего скоро сын вырастет и научится тоже воровать хурму в супермаркет
Евгения Сизова
18+
Рыбы
Рыбы не живут без воды и не ищут почвы под плавниками. Рыбы знают, что верить — это о том, чтобы иметь опору внутри и никакой опоры снаружи. Снаружи — только пространство для вдоха и выдоха, взмаха крылом, плавником, рукой, только немного воздуха, чтобы назваться собой. Рыбы знают, как сохранить покой, когда вокруг море волнуется, время (а время всегда волнуется); как обходиться без мишуры, не опираться на новую мебель, одежду, еду, чьи-то мощи послаще; умеют не заглушать тишину новостями, и больше — молчать на любом языке, сбрасывать скорость на поворотах и даже на самом илистом дне оставаться как дома. Только — в воде. Рыбы не живут без воды. Остальное — не обязательно. Достаточно одного платья в цветок. Одной рубашки. Вдоха и выдоха. Воды, тишины и воздуха хватит, пока ты жив. Рыбы знают. Мы учимся жить у рыб.
* * *
И пошли они с мамой Покупать платья. И пошли они с мамой Вытирать слезы. И ветки хлестали их по рукам больно. И от соседей доставался им звук трепетавшего фортепьяно, жгучего, как крапива, и разговоры с балкона... И дождь не кончался. А когда они наконец вышли из леса, Их обнял волшебник и сказал: А теперь это ваши звуки, это ваши ветки, это ваш голос. Вы давно идёте. И они заплакали пуще прежнего, Только соль стала слаще солнца и слаще ваты, розовой ваты, пломбира-брикета в парке. И они купили платья, научились и фотре, и пьяно. И волшебнику разрешили остаться подольше.
* * *
Окей, русский язык, Расскажи, как жить, Поддержи И дай опереться В эти дни сомнений, Раздумий На самое твоё сердце, Есть у тебя сердце? Вот оно, всё те же три буквы Для выражения счастья страдания гнева. На хуя тебе, русский язык, Стихов моих крошки хлеба? С хуя ли, я спрашиваю, Ты курлычешь мне в ухо? Когда ни хуя не понятно, По каким частям света размазаны твои части речи, мои части речи. Что там твои поэты несут-щебечут? Кем ты проснешься завтра? А я-то проснусь-ли завтра? Я в гневе, любимый, Учи меня гневу! Люби меня, нахуй! Во дни сомнений Учи меня гневу Нахуй.
Последствия 90-х
Кто-то ездит на Тойотах Кто-то глушит портвешок Я боюсь спросить у папы Что такое хорошо
Вадим Крючков
Одиночество
Мотор машины застучал и заглох. Осталось сто верст по декабрьской ночи Под ледяным пронизывающим ветром. Позади — теплый дом и родные, Вокруг — убегающие поля, схваченные морозом. И небо, полное равнодушной луной и звездами. И непонимание куда двигаться дальше. Ветер врывается в открытое окно машины, Выхватывает тепло и сигаретный дым, Унося далеко от меня, затерянного на пути, Между прошлым и будущим, Между точками А и Б на карте. Мой сосед сегодня — холод, Ночевать с ним в обнимку. Буду Читать ему не написанные стихи, Пока не сядет батарея телефона.
Карантин
Вместо цепи посадили на карантин, сделали подробный анализ: «У вас все признаки смерти», — сказал умный доктор. Пепельница, голодной муреной глотает окурок. Кожу руки под проточной водой трем. Ты боишься? Детская площадка пусто трепещет на ветру заградительной лентой – красные и белые полоски рвутся улететь, но их оставили охранять инерцию. Хочется быть успешным, но жизнь имеет все признаки смерти. Я никак не могу унять дрожь. И проснулся. Я проснулся, и долго не мог унять дрожь.
Колыбельная Алисы
Уложены зайки и мишки, И коши, и даже мышонок. Уж поздно, прочитаны книжки, Усни же и ты, мой ребенок. Ты вечером маме на ушко Шепни свое главное слово. Скорей засыпай, хохотушка, Пусть будет тепло и пухово. Веселый и ласковый Завтра Тебя на рассвете разбудит. И ты, его главный соавтор, Решишь, каким день этот будет.
Анна Аксенова
Моему Одиссею
Чехов пишет в своем письме От 16 числа: Я не писатель, Забудь про меня. Читай газеты. Пока не ушла холера, Ты будешь знать, Что я не писатель, Пока. Но сейчас, Сейчас не холера, Сегодня 3 апреля. Тебя заберут у меня На дни, На дни и недели. Пока ты лечишь Этих скверных больных, Этих чужих и заразных, К кому я прижмусь, Чтоб подслушивать сны? То волны толкают в бока, Шипят, пробегая меж ребер. То накатит степная дорога, И стучит, и стучит, И стучит саранча, Вминаясь в горячий капот. Как я тебе расскажу Твои сны? Надо мною шесть этажей, Подо мною десять еще, Я слышу только возню И хриплые песни сирен. Я не поэт, Я не поэт пока. Я только женщина, Ждущая дома.
Скорлупа
Раньше ошибочно полагала, Что сердце такое красное И сердце такое мясное, Оно стучит или ноет, Оно бормочет невнятно И ему тесно внутри. Но сегодня я плакала долго И отчетливо ощутила, Что сердце — это яйцо С тонкой белой скорлупкой, Внутри которой птенец. Он скребся или стучался, И было мне очень больно От трещин на скорлупе. И мне казалось, что боли Выдержать невозможно. Хотелось сжать это сердце И трепыханье пресечь. Когда сделалось Невыносимо, Я услышала то ли песню, То ли шипенье и плач. И вдруг поняла, Что у сердца Больше нет скорлупы. И это была не птица, И это была не песня, Это был мой Господь воскресший. И это Его слова.
Елена Куприянова
Случай на воде
регата под предводительством капитана яхт океанского класса, моторных и юрких, подобрала на рейде лодочника Капитона, на вёслах плывущего к незабвенной возлюбленной Нюрке. и всё б ничего, но капитан по имени Агния не удержала — ветер крепчал — дорогую ей шляпу, и в шляпу попала летевшая издали молния, задев своим шаром корму недешевого шлюпа. тогда Капитон заключил капитана в объятья за талию и зазвонил в корабельную рынду, по нашему — колокол, а Нюрка в бинокль троекратный картину беды наблюдала и плакала, пела прощальную песню, и плакала...
Разговоры
… и с мамой мы поговорили, поскольку долго не общались, об экзистенциальной силе мифологической печали и о тоске умерших предков, которые стучатся в окна так безошибочно и редко... сказала: «Анечка и масло, Снегурочка, костёр...» — и скрылась, а за окном смеялась маска, а за окном - такая сырость... открою дверь, открою дверь, и выйду, выйду для начала, а из дверей — куда теперь? мело, мело, но мало, мало, давно закрыт аэропорт, но есть же лодка у причала и две ноги — куда глаза, не мыла руки три часа, но, как ни странно... как ни странно.
Время
Я проснулся и долго не мог унять дрожь
Вадим Крючков
я забыл, что сейчас день, я заснул и снова проснулся, я не знал, чем отмерять время, кроме солнца, когда его нет. мы забыли, который был час, тогда мы начали петь, когда просыпались, и танцевать, когда засыпали, чтобы помочь месяцу не потеряться, когда его нет. я забыла, какой теперь год, и когда мы с тобой повстречались, идя навстречу друг другу по берегам Яузы, по берегам Янцзы, ты сказал: «я забыл, что хотел сказать», ты сказал: «я забыл», ты прошёл мимо — и ничего не сказал.
Ирина Крупина
* * *
а она у меня спрашивает ты любишь кого-нибудь я молчу плачу люблю ли я бог это тот кого ты любишь говорит мне она раз два три и уходит ________ господи спаси и сохрани бога
* * *
я предавала тебя миллион раз с воспитательницей санатория здравница с медсестрой лагеря юность с учительницей географии даже с мужиком — преподавателем психологии целовала их фотографии анонимно дарила им цветы мужику — книги с записками любила их больше всего на свете когда верила в бога на молебне о здравии перечисляла их имена господи спаси и сохрани рабу божью ольгу рабу божью татьяну болящую ирину и николая твоего имени там не было а ты была при смерти два миллиона раз я плакала потому что я с тобой а не с воспитательницей санатория здравница медсестрой лагеря юность учительницей географии мечтала чтоб ты сдохла и меня забрала моя настоящая мама а потом ты сдохла и не оказалось рядом ни рабы божьей ольги ни рабы божьей татьяны ни болящей ирины ни николая даже бога рядом не оказалось были только твой гроб твоя могила искусственные цветы и твои фотографии которые я целовала миллионы-миллионы миллионы раз
* * *
лицо тело сползли с кровати а я осталась было двенадцать меня поднимали с криком «так или иначе в человеке всё сползает рано или поздно но сейчас слишком рано проснись» а я думала двенадцать — вовремя ещё не говорят «жалко такую молодую» — молодость начинается позже уже не поминают как ангела — отроки не становятся ангелами после смерти те кто сползает в двенадцать попадают в вечный новый год и всё у них обнуляется и им больше не двенадцать у сползших нет возраста пока они поднимаются с пола с земли с кровати и улетают другие отмечают дни рождения молятся за усопших а потом сами потихонечку сползают сползают падают и слышат крик «проснись проснись сейчас слишком рано» и шёпот «упокой господи душу рабы твоей такой молодой такой молодой как жаль»
Ирина Костарева
* * *
По городу слонялась бездомная луна.
И. Бабель
По городу слоняется бездомная луна. На 5-й авеню седовласый мужчина с носом-клювом продает стихи за гроши. На обложке тоненькой книжки — ворон. В Гонконге протестующие надевают на себя проекторы, которые «рисуют» на их лицах чужие. Три огромные серые рыбы тычутся мордами в каменный причал в Токио. Я ищу место, где со мной что-то произойдет, но происходит только луна.
Сестра
Африканка в платье цвета шалфея, серебристая ткань на тёмной коже. Чёрный фартук и чёрные волосы — разносит кофе на медном подносе. Мы сидим на плетеных стульях — ты на солнце, а я в тени. Говорим разное одинаковыми голосами. Смотри, какая красивая, — замечаешь, и я киваю в ответ. Ты ловишь сочетания цветов, как я — слов, делаешь заметки в телефоне. (Когда я напишу книгу, на ней будет обложка, которую ты нарисуешь.) В гавани Столового залива океан всегда стального цвета. А над головою нависает мощная Столовая гора. Мы под ней как будто снова маленькие. Сложили дом из маминого одеяла, и больше — никого вокруг.
* * *
Это как лететь на самолете и ходить по коридору до туалета и обратно и никуда больше. Это как лететь на самолете и читать просто, чтобы занять себя чем-то. Это как лететь на самолете и есть теплое из маркированной коробки. Это как лететь на самолете и смотреть, как трепещут закрылки, тонкие как бумага, а потом подумать: Даже если самолет будет падать, я ничего не смогу сделать, и — успокоиться.
Дарина Стрельченко
Я теряю последний источник тепла
Я теряю последний источник тепла. Я забытая. Я забытая в этом Подмосковье. Телефон, в котором бьются написанные мне письма, В котором живут мои стихи и фотографии, Который нагревается так, что его больно держать, — Он сейчас холодеет, он гаснет. Я теряю последний источник тепла. У меня так много мыслей, так дрожат руки. Мне так холодно в этом Подмосковье. Мне так хочется вырваться из метро в свою квартиру. Мне так важно верить, что где-то есть солнечные дни. А музыка продолжает играть, ей не важен холод, Ей всё равно, что я в Подмосковье, В странном мире серой ветки метро. Телефон неумолимо выключается вот уже третью секунду, А мысли только набирают скорость, Они перегоняют телефон, они учат наизусть все мои письма, Они ловят строчки сенсорного блокнота, Он запоминают спрятанные за паролями лица. Не хочешь спать, серое Подмосковье? А я хочу, в своей кровати, где тепло и светло, Где пахнет грибным супом с нерасплавившимся сыром. Где стоят мои розы, так и не пустившие корешки. Эй, лето, куда ты пропало? Сели батарейки? Тебя использовали слишком долго, слишком часто? Эй, лето! Экран почернел. Всё. Всё, это конец. Можно не торопиться больше, можно не думать больше. Мысли, отключитесь, не мучайте меня. Я хочу домой, мысли. Я хочу домой, Подмосковье. Я теряю последний источник тепла.
Ноябрь наступает на анданте
Ноябрь наступает на анданте, С причала раскидало рыбаков. А может, это замысел таков. В Бастилии меняют коменданта. И холодно, и света очень мало, И судорогой сводит снег с ума Слепое засыпающее небо. И льют колокола, и бьют бокалы, И тучи проплывают, как амебы. Ноябрь ухмыляется устало: Ну погоди, ещё придёт зима.
Софья Швец
Соловей
Не плачь, мой соловей, не плачь, не плачь, Когда бежит веснушчатый палач За нежностью немой и легкоплавкой. Теснится в перламутровом зобу Похожее на лепет и мольбу Слюдой морозной, солнечной булавкой. Горошинка на блюдце золотом, Бумажный профиль с обожженным ртом, Гусиным криком вспорота перина. Свободного заменит заводной. Тебе осталось на своей одной, Закрыв глаза, брести тропой звериной. В прозрачной скорлупе недолог сон. Смотри на тех, кто тайно был крещён Соленой пеной, языком отваги. Смотри, как отплывают корабли. Как прячет небо в пряничной пыли Под кожей черепичной Копенгаген.
* * *
Мороженое в мятом серебре. Таинственная карта на ковре — Обводишь указательным в потёмках. Под надписью рокочущей «Райком» Бранится воробьиным говорком Соседка Райка в курточке-варёнке. 12-тый троллейбус не спешит. За шторами — ежевечерний вид Бразилии, несбыточной и тёплой. У станции с асфальтовой руки Детей обедом кормят старики: На желтизне газетной — соль и свёкла. Тугой прищур, коричневый жетон. Ты был многоэтажно обречён Разгадывать грядущее, как ребус. И плавились пломбирной пеной дни, И не было чернеющей Чечни, И не был взорван старенький троллейбус.
* * *
Когда берёзовая пыль осядет в жёлтых лужах, Забытый, как обычно, зонт не очень-то и нужен. Когда на вымокшей траве следы оставит вяхирь, Ты понесёшь свои слова на мысленную плаху. И будет каждый малый шаг за сто — не оттого ли, Что наизнанку вывернут язык любви и боли? И там, где проще промолчать, исчезнуть, раствориться, Где протыкает солнце тьму заточенною спицей, Ты крикнешь так, что полетят цветы с прозрачных вишен, И вдруг поймёшь, что голос твой не очень-то и слышен.
Пехорка. Июнь
Полдня таскать бы солнце на закорках С песчаной кручи, наперегонки, Туда, где мелководная Пехорка Ныряет под горбатые мостки, Напитаны смолой и земляникой Младенческие дёсны берегов… Быть на изломе, на ребре, на стыке, Быть на кресте простых и страшных слов. Где медяками звякает орешник, И тянут лапы кверху камыши, Песком, надеждой, страхом вперемешку Пересыпать бы отмели души. Не славу — Трисвятое бы пропели Под гулким куполочком цвета льна, Когда в шершавой заводи шинели Замрёт солоноватая волна. Когда речная тишь наполнит фляжку, Прильнёт к груди с доверчивостью пса, Как некогда, спасительно и тяжко, Девчонки расплетённая коса.
Аркадий Тесленко
Рань
Иду-бреду. А в парке пьянь орёт осанну как хулу наоборот. Беру правей. Сквозь чащу синь кричит. В траве подножной шорох нарочит. Шагаю бодро. Вдрызг, воспрянув, сник, и мой двойник ведётся на турник. За пеньем птиц дыханья не слыхать. Заря вот-вот возьмётся полыхать. В овраг бегом. Здесь фауна кругом кишит во флоре, скачет кувырком. Ручей, мостки. Мне словно вслед орут, вновь славословя вереницу утр. Пустырь, кострище. Горизонт раскрыт. Гляжу в прищур как ревностный пиит. Слиянность чувств диктует: этот стих пустить на ветр, ничто не упустив. Ступаю твёрдо, заклинаю вслух! Очнувшись, как от пары оплеух, не обольщаться: так порой вдвойне труднее быть с собой наедине; стремить свой шаг и строить свой охват, при этом никого не предавать и придавать значение тому, в чём нет нужды почти что никому.
Дрозд
С этажа на этаж — от затхлости к духоте; редкий сквозняк на лестнице. Недостатки, однако, малозаметны те молодости-наместнице. Напоённые не для празднеств уже, но служб, кроны отяжелели. Из контекста беспечно вырванный день не чужд множества параллелей. Вкруг волны рябь свивает кольца в протоке лета. Солнечная острота. В хитрый угол зеница вписана и воспета птичьей двуострой нотой. От себя никогда не поздно уйти. Пускай некуда. Или некому. Смысловая лузга и чувственная мезга копятся. Я кумекаю. Коль пристрастно взглянуть, болезненно оценить, добрую половину половинчатой жизни держатся, чтоб не выть, злую влачат повинно. И чем меньше карт в колоде той календарной, тем фигляр увлечённей. Заглушённый ветвями, вызрел плафон фонарный, лакомый, закопчённый. Эту ягоду я склюю, а потом гляжу: выломано крыло моё. И за что, и зачем так вдруг окунает в жуть, ведомо ли ведомому?.. Вот тогда самый сложный, да и небыстрый трюк — что-то представить лишним, улыбнуться и промолчать: всё ушло, мой друг; не унижаться лишь бы. Ртутный пар в колодце лестницы гулким зудом мой разоряет разум. Реостат внутри я кручу безрассудно, вычурно, розно, праздно.
Пауза
Всё больше смысла в каждом дне, лежащем кверху дном двойным, тройным и четверным — ну словом, потайным. За слоем слой снимая скрупулёзно, днём с огнём ищу формулировки я и тем живу одним. Начавшись каламбуром, по гиперболе скользит — верстается элегия, нерыночный продукт. И умозрительный процент бежит на депозит настолько неликвидный, что захватывает дух. Всё больше смыслов, толку чуть, а проку ни на грош — ловушку относительности нечем оплатить. А как бесстрастно над обрывом ветер треплет рожь, сколь многие оценят среди тех, кто во плоти? В случайной паузе порой такой царит покой, которым не насытиться. Он в принципе ничей. И сущее причудливо петляет в нём строкой, которая гораздо непрерывней, чем блокчейн. И с рифмой развязавшись конъюнктурно, я бегу от страха бессловесности к триумфу языка. Из точки М-м-м, опаздывая с вечным, длю строку в ту точку, из которой не посмотришь свысока. Не свысока, не искоса, не вскользь, не сквозь, а так, что ум, воспламеняясь, освещает закутки. А далее по тексту я покину свой чердак, нисколько не смещаясь, разве только вдоль строки. А вслед за мной и ты, без экивоков говорю. Ещё не истощился ухищрений арсенал, шипящие не кончились, но должен быть финал. Кому же адресован текст? Должно быть, словарю.
Татьяна Жданова
Лестница в подземелье
Лестница в подземелье. Люди муравьиными тропами озабоченно спешат вниз. Навязчивые улыбки бумажных и пластиковых лиц обещают всевозможные блага. Не верю! Стараюсь смотреть в реальные. Кто-то задумался, кто-то целуется. Остальные смотрят в ладони. Им улыбаются, в них хмурятся. В ладонях вся жизнь. У каждого своя, но чужая. Беглый взгляд мимо. Ты - вне интересов. Изучай безнаказанно, никто не заметит. Все как на ладони. Но в чехлах зеркала душ. Заглянуть можно только в ладонь, А там лопается шариками, Утекает в воронку мысль. Скучно здесь в подземелье одной. Нырну в бездонный омут своей ладони.
Брат
твой отец умер когда тебе было два года умер от порока сердца так и не успев повзрослеть твоя мать три года ходила вдовой а потом вышла замуж через год она стала моей матерью но мой отец так и не смог стать тебе отцом он старался иногда наверное слишком но ты так не считал и кропотливо нанизывал бусины обид на нить своей памяти ты с детства любил обижаться и винить других в своих неудачах и чаще всего меня отец был большой и неприступный а я была маленькая и ранимая его удары рикошетом отлетали в меня я молчала я считала что ябедничать плохо особенно на своего родного брата но как же я ненавидела тебя в эти минуты и в сердцах обзывала самым ужасным словом я обзывала тебя фашистом и кричала что ни одна женщина на земле ни одна дура не захочет на тебе жениться ох как я ошибалась такая дура нашлась и не одна несчастные женщины но ты не всегда был фашистом иногда мы были друзьями помню как вместе построили шалаш на берегу ты стащил мамин сверкающий чугунок а я тайком раздобыла овощи для нашего супа ты разжег костёр прямо под кронами верб и мне было жутко весело с тобой и жутко интересно а потом ветки над нами загорелись и папа увидел дым и прогнал нас и нам обоим влетело но я до сих пор вспоминаю этот день как самый счастливый в нашей с тобой братской жизни а ещё я никогда не забуду как ты уже будучи взрослым парнем и начав зарабатывать свои первые деньги приехал домой и привёз мне в подарок свёрток в нем были модные вещи целых три чёрные лосины футболка в полоску с пуговицами янтарного цвета и босоножки-плетенки ты знал что меня не часто баловали красивыми вещами и хотел сделать мне приятное а может тебе просто было стыдно что у тебя такая некрасивая сестра в любом случае я благодарна тебе безмерно за этот подарок до сих пор у меня чудесная память в ней остаются только хорошие воспоминания все плохое испаряется развеивается ветром времени в моей копилке нет ни одной обиды только смутные ощущения которые не хочется ворошить а хочется жить и надеятся на лучшее на лучшее для тебя брат
Паводки
Сидеть и слушать как твои
разгромыхаются глаза
и скоротечно вдруг ручьи
зальют моря и океаны
Иван Барно
Ее глаза подобно двум озёрам Бездонным, малахитово зелёным, Ночами разливались по долине. Он паводков ночных необъяснимых Старался избегать, не выносил их И не хотел увязнуть в их причине. Она мечтала о большой и верной, А он желал волнующей и скверной И ревностно хранил свою свободу. Стремясь понять его чужепланетно, Она боролась за, он — против этого. Пыталась обмануть саму природу. Она его по клетке отторгала. Ждала, надеждой тихо умирала. Любовь ее была сродни болезни. Но к счастью, время лечит все недуги, И свежий ветер развязал ей руки. Она смогла сказать ему: исчезни! Оставив все совместные портреты, Она шагнула в новые рассветы Туманному, но ясному навстречу. И паводки ночные прекратились, И воды тех озер засеребрились. Луны сиянием их блеск теперь подсвечен.
Александр Иванков
* * *
рыбы не живут без воды и не ищут почвы под плавниками кролики не то чтобы на передок слабы но не знают даже, что происходит у них за ушами жабы не лягушки но квакают или что-то такое а мы не рыбы, не кролики и даже не лягушко-жабы мы коты с обрубленными хвостами с приподнятыми ушами мы коты и кошки от слова мур-мур от слова мяу-мяу от слова джиу-джитсу, йокараныйбабай, выгибаем спину и воем на луну, будто выброшены на берег, скошены серпом по завялены и в газетку «спид-инфо» завернуты мы коты от слова чеширский и иногда мы от слова гав!!!1!
Ovts radus og!
сосед полковник третий день
сам не свой, как больной
Г. Сукачёв
государственная комиссия по борьбе с особо опасной инфекцией создаётся издает указ включает сирену воет государственная комиссия по борьбе заканчивает работу ровно в <…> , согласно положения о карантине, расходится по домам моет рука руку показывая пример забоится о депутатах старше 65-ти лет отправляя народных в режим out of office объясняя избранникам, что такое out of office поясняя , по понятиям, человеко-населению, суженному , публикацией в газете комсомольская правда, с любовью от ряженых , что иного выхода нет: свои электронные адреса — придётся вписать в клетчатую тетрадь большими печатными буквами Г О С У А Д А Р С Т В Е Н Н А Я К О М И С С И Я лепит скотчем объявление «масок нет» орошает бдит просит потерпеть верить и самообразовываться проводя zoom-курс молодого бойца масштабирует умножение на ноль включая режим «полёта» кукует гнездится за закрытой пластиковой дверью с табличкой «осторожно злая собака» посылая всех с вопросами в комментариях к чертовой матери мама говорит не переживай всё будет хорошо, болеют только пожилые а умирают так и вообще а я еще не пожила отче наш надеюсь простит что не попаду на кладбище в ближайший вторник немного жаль остатки кулича что даже птицам не оставишь главное мой почаще руки и носи маску #мамаявмаске она успокаивает меня я успокаиваю её и жму на красную кнопку завершить видеовызов
Натали Верна
COVID-19
Старики не рисуют Больше вазу. Не гнут позвоночники В залах для джиу-джитсу. Самый главный враг Человечества назван. Женщина в маске Спиртует ребенку джинсы. Антисептик навроде Святой воды. Изыди! Останутся только лучшие. Те, которые взяли еды По случаю. От гречки легче, Хотя гречка не лечит. Действует как седация. Батареей выстроим, выстоим. Нечего! Мы же сильная нация. На полках лимоны Тщательно выбирая, Причитает многодетная мать: Не из Китая! Не из Китая! Итальянские тоже не брать. Старики сидят прилежно На карантине. Листают фотки недорисованных ваз. Помнишь тот, свиной, Как-то же победили? Может, и в этот раз?
Демоверсия старости
Демоверсия старости. Сложно подняться с дивана. Тяжелые руки и ноги, Халат. Махровый, рваный. Шея из гипсокартона. Читаешь ребенку лекции. Не радует картина, Купленная в Венеции. Не открываешь окно. Воздух пахнет борщом. В отражении — рябь от акне. Что там еще От молодости, кроме следов, Счетов, ипотек? Так жалко себя, что готов До утра сморкаться в платок. Обещали, к тридцати — Вот там-то и начнется жизнь. Но так уж стало трясти, Что это не жизнь, а жесть. Все ближе и ближе он — Террипратчеттовский, во плоти. Говорит, если есть лимон, Обязательно заплати. Бездумно кликаешь вкладки. Москва — это ваш город? Что уж, все в одной лодке. Курьер доберется скоро.
Последние дни
Залив океана. Последние дни. Кафе. У воды — столики. А под водой проплывают они — Рыбины-меланхолики. Они здесь были всегда, а мы Случайные посетители. Плывут тунцы, акулы, сомы. Рыбины-повелители. Им все равно, что в их водах жизнь Зачалась. Туда же канет. Они плывут по течению вниз, Но весь океан — в стакане. Стакан на столике. Стол у воды. За столиком — человек. Протрет салфеткой со рта следы: «Пожалуйста, можно чек»?
Полина Репринцева
* * *
Вновь зашедший в тупик подростковый возраст Раскрывается в крике ближе к тридцати. Ты вопишь, мол, дайте мне выйти на воздух, Да никто ведь не против, малой, иди. Я крутил-вертел, чтобы было пёстро, Ошалевшую от перемен юлу, Что поделать, мать, пожалей подростка, Не сиделось мирно ему в углу. Простудился, в горлышке запершило, Заблудился. От этого нет пилюль. Я ошибся, радость моя, ошибся! А слово проверочное — «люблю».
* * *
Девочка в красном бреду извлекает звуки из живота, До мальчика в волчьей шкуре доносится эхом: прошу, не надо. Но мальчик нащупал черту, и будет пройдена эта черта. Он сделает все, чтобы она наконец доросла до ада. И девочка делает шаг, делает два, сходит с ума. Плачут мясные цветы, задыхаясь в холодном дыму перекура. Ну вот, мы на месте, я должен бежать без оглядки. Дальше — сама. Мальчик снимает и оставляет ей серебристую шкуру.
* * *
На крылечке за Волгой Вкуснее в сто раз рассол. Вот и дядя пригнал навоз — Начало начал. То, что назвали Богом, Включило себя в горизонт. Чтобы я не видел его, Но ощущал. После третьей ясно, О чём говорят коты. После пятой вспомнил, Где спрятал рулон стекловаты. То, что назвали Богом, Пропитало твои черты. Непонятно: С кем из вас теперь целоваться?
Мария Гацоева
Чужой
Милая, ты больна. Бледная, лоб пощупай! — Лоб — та отвесная штука у изголовья лица. Он холодней, чем щука? Пальцами чутче щупай. Ощущаешь щупальца подлеца? Это Чужой, залез тебе в лоб, забрался в забрало склизкий. Это Чужой, сожрать тебя чтоб. Выжрать под виски. Брысь, рысь. Беги в лес. Уноси ноги. Гибель слышится, близится, видится. Гончии. Гон. Здесь на любой дороге — и нету подмоги — на каждой твоей дороге — монументальный он. Хрум-хрим-хрук. Что за звук? Чужой выедает мысли, — слышишь, — хрустят как мюсли. Чужой выедает чувства, — видишь, — плотнеет мрак. Страх его потерять — особая часть искусства — Чужой совершенен в статусе «вурдалак». – А вдруг он исправится? Поест и изменится? Стешется, нагуляется, Сгладится, перемелется? Он ведь в душе хороший! Мы допиваем «Мартини». Целуем в щёку. И оставляем на произвол вечно-зелёных надежд. Но, уходя, кладём в её косметичку компактный осиновый кол. Женщина не должна быть беззащитной перед лицом любимого.
* * *
Временная воронка затягивает вперёд, вера в перемены становится верою в энтропию. Йети, Йоко Оно, йодль и йод — Верую: все умрет, что имеет имя. Распадётся на йоты, сложится в новый формат Дети, око, дол, док, койот и лодки. И когда закончится их распад, мы вернёмся снова в надзвучный сад. Как врата Вселенной раскрыв бархотки.
* * *
А когда небо спустится, рыхлое как фланель, серое как глаза однокурсницы Н. Абрамовой, я выхожу на улицу, вцепляюсь в ладони людей: «Гусенице надо окуклиться. А потом? Я не помню…» Заново! Под фланелевым небом с живучей надеждою невест, я ждала прорастания жизни, ждала мое солнце в зените. «Приходите, всё будет, вы ждите! Окуклитесь и приходите. И – держите билет. Он без места Но все-таки есть». Я хотела понять… Я сдала свой экзамен за курс. Уточните у той же моей сероглазой Абрамовой. Почему я лежу в этом куколе? В коконе этом кружусь? Сокрушаю свой пульс. Ужимаю. Куда же мне? Заново? В упаковке. В закрытой коробке. Коробка в столе. Стол в квартире. Квартира в подъезде. В какой-то высотке… Я, конечно, не жду уже, что в посеревшем окне небо спустится, снидет фланелью ко мне — неслучившейся особи в окаменевшей обмотке.
Чудище
Я внутри ограды гнездо вью. Чищу и рублю я лаги для града. Чудище тянет к гнездовью, к маю, к жилью. Чудищу — хочется в стаю. В рассаду. Обло, озо́рно, огро́мно. Любит «Дор Блю». Не блюрит фото, хотя помнит люрекс. Чудище говорит, прищурясь: «Блюр не люблю. Я без купюр любуюсь». Пращуры знали знаки — зеркальну вязь: Сом или язь? Явь или навь? Дом или сома? (Сома такая кома, что с нею сходясь, Хрясь — хряком в грязь). Ну а чудище вышло из дома. Чудище вышло. Я вам не открою сама. Чур меня, ящур. Всё — суета сует. Чудищу не до жира: блюет от блюра. Чудище знает: хорошо лишь там, где нас нет. И де-факто нет, и уже де-юре. Форма не фора, не фетиш и не фетиш. Фарш не форшмак и не фиш. Шифр утрачен в гуще, и -и- чаще — чудищу чуши уже не внушишь. Вот шиш! Чудищу нужно «по-настояще». Лайя, стозевно, наземно и тянет левкои к рублю, коинам, прочим лавэ и левам. Чудище говорит: невещественное не люблю. И желает погибели лансам и женевьевам. Томно, позорно, скоромно пришло, говорю: «При всем богатстве рока руки — к чаче. Очень уж я, чудище, вас не люблю. Бдите, товарищи-люди. А чудищу лучше в чаще». Здесь у нас в верховье реки — цветение! Вот розмарин. Он для памяти. Ешь, люби, но помни: подходит к рыбе. А это рута — испытывать горечь, оплачивая грехи. Как ртуть при люэсе. Хуже уже куда? Хоть быстрее. А вот и — цветочек аленький. Он для любви чудища к человеку и наоборот. Это мифическое растение. Выглядит как герань. Звучит «нихера». Но, говорят, в Иванов день, когда зацветёт папоротник… Чудище знает, что папоротник не цветет. Но на Иванов день, взяв герань, зачем-то идёт к лесу...
Евгения Коробкова
Быль
Ада шла по снежной каше — в горку, с горки, по мосту. И несла кастрюльку хаши, и гремела за версту. Шла по снежной каше Ада в трех минутах от беды, отнести кастрюльку надо в некий дом у Мтацминды. Шла война, летели пули, падал снег, и неспроста «Гого, гамоштеребули, — Ей кричали с блокпоста. — Моди, моди…» Неизвестно, Что еще… Ну а потом Ада стала мокрым местом на мосту сухом.
Тверская
В этой жизни надо как-то жить, В этой жизни надо как-то смерть. И куда ни выберешь смотреть — всюду виновато государство. Ходят крысы утром по Тверской, ходят люди, мучаясь тоской, ходят тетки с надписью такой: «Помогите сыну на лекарство». У стены «Макдональдса» стоит, улыбаясь, модный инвалид. У него обрубок от ноги, в левом ухе у него сережка. У него написано вот так: «Помогите на бигмак». Люди смотрят, замедляют шаг И дают немножко. Там слепая девочка поет, только ей никто не подает (потому что выберет народ инвалида, чтоб свалил отсюда). Потому что, если не фигня, из бигмака вырастет ступня, вот сейчас, посередине дня, будет чудо!
Страшный сон
А я не собиралась умирать. Я в лес за земляникой собиралась. — Надень ушанку, — кто-то говорит, — чтоб не схватить отит на оба уха. — Надень ушанку, — кто-то говорит, — не то схлопочешь страшный гайморит. — Надень ушанку, — кто-то говорит, — у нас коль не понос, так золотуха... А я не собиралась умирать, я в лес пошла, но там стояла осень, я вместе с ней осталась постоять, надела шапку, как велела мать, но мне и в шапке было сорок восемь.
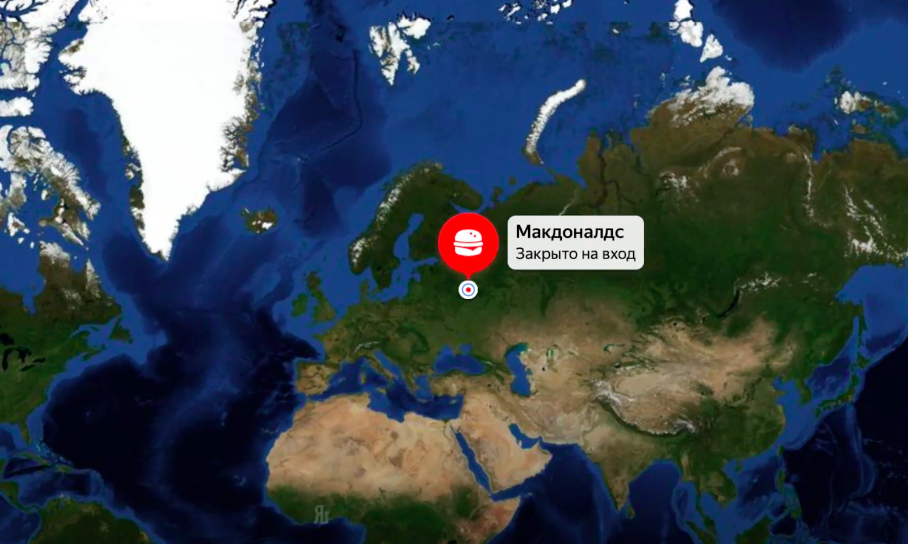
Угол зрения
Этот фильм был снят в мастерской CWS «Автопортрет: I-movie на фоне города», которая проходит под руководством журналиста и драматурга Валерия Печейкина и режиссера Артема Фирсанова.
В видеомастерской собрались студенты, не имеющие опыта создания фильмов. Всего за девять занятий с нуля они создали короткометражные фильмы о самих себе. И попутно научились работать с программами для монтажа, писать закадровый текст, подбирать музыку, освоили другие навыки, необходимые для создания фильма.
В процессе обучения в Москве был введен режим самоизоляции, съемки в городе стали невозможны, но для настоящих документалистов сложные условия делают задачу только интереснее. Слушатели мастерской использовали домашние съемки, фрагменты видеоинтервью, записанные через Zoom, личные архивы и виды из Google Maps.
Одна из самых сложных форм — это лирика. В школе она используется как испанский сапог инквизиции. Ведь никто не объясняет, зачем нужны все эти «лирические отступления».
Валерий Печейкин:
«Фильм Марии Лобановой — это кино-лирика. Он из той эпохи, когда поэтов ссылали в деревню, а они погружались в себя и свою память. Мария рассказала о себе, своем детстве, окружении и даже коте — через те инструменты и приемы, о которых мы говорили на занятиях. Из самых разных материалов, пользуясь простыми средствами, она смогла сделать настоящий фильм.
Он начинается с изображений чужих глаз. Нам чужих, родных для автора. Однако I-movie снимается, чтобы породнить незнакомых со своими ближними. Приятного просмотра».

35 рублей, Иваныч
Желтый автобус задыхался. Он вез по серпантину сорок пассажиров, слипшихся, как карамельки в банке. Асфальт под автобусом закипал, мелькали придорожные сосны, разливая приторный, горьковатый запах хвои. Горячий ветер вздувал линялые занавески, пассажиры сопели, извивались ужами, чтобы плечо с плечом не встретилось. А если такое и случалось, то отстранялись рывком, молча, презрительно.
От дородной женщины несло кислым потом и лавандой, девушка в белой майке двигала очки по переносице, ловя убегающую на кочках строку в книге, мужчина в клетчатой рубашке смотрел в экран смартфона как в оракул, что вот-вот засветится откровением. Деньги за проезд передавались вяло, название остановки угасающим эхом плелось по цепочке. А море, синее до невозможности, в серебряных бликах и парусах яхт, весело плескалось справа от автобуса: пассажиры изредка кидали на него высокомерные взгляды.
Минуя серпантин, автобус вырвался наконец на трассу. Водителю хотелось мчать до самой Ялты. Но на остановке по требованию от кипариса отделилась косматая фигура и подняла руку. Водитель остановил, открылись двери, и в марево салона ворвался чужой запах. Запах лишений и пота, что настаивался неделями. Пассажиры отпрянули от дверей: бродяга. Пыльные брюки болтаются, разбитые кроссовки не по размеру, из-под пиджака, засаленного, стертого на локтях, выглядывает майка в мелкую дырочку. Борода с проседью, над ней двумя складками висят щеки в красных прожилках. Тонкий нос обгорел и пошел мелкой чешуей. Пустота в воспаленных глазах, душе и карманах.
— Довезите до храма.
— Тридцать пять рублей, Иваныч.
— Нечем платить.
— Тогда вылезай. Зайцев не вожу, тебя — тем более. Завязал — и в храм побираться?
— Пожалуйста, я не дойду по жаре.
— Не волнует. — Водитель почесал мясистую шею с тяжелой золотой цепочкой.
— И правда, водитель, ссадите его и поехали! Я на теплоход опаздываю!
— Мне сейчас станет дурно, какая вонь!
— Зачем вы его вообще посадили в автобус?
— Милок, да отвези ты убогого. Тут ехать-то полчаса. Я с пенсионным, а то бы заплатила.
— Мама, а чего у дяди пиджак в дырочках?
— Вы думайте, что говорите! «Отвези»! Здесь же дети. Саша, отойди от него, еще вшей подцепишь!
— Простите, горе у меня, брата хороню. Отпевают сейчас, хоть попрощаюсь… — Бродяга говорил в пол, ни к кому не обращаясь и не жалобя.
До этой остановки маленькая Вика уже прочитала плакат с техникой безопасности на стекле автобуса и даже фамилию водителя — Молодец Е. В. Теперь девочка, выглядывая из-за бабушкиной сумки, ловила каждое слово. Впервые автобус заговорил. До этого пассажиры лишь покачивались манекенами.
В шесть лет Вика не понимала, что значит смерть. Но помнила, как плакала бабушка, когда дед умер в марте. «Смерть — это когда уходят и не возвращаются», — объясняла мама. Бабушка все говорила, ей пора вслед за дедом, что он зовет ее. Как он мог звать из ямы, куда отправился в ящике — Вика не понимала, но у родителей вытягивались лица. В итоге она, Вика, точнее, ее врожденный порок сердца, стал решающим аргументом, чтобы они с бабушкой провели лето на море. Соленый, прогретый солнцем воздух, как утверждали врачи, лечит от всех болезней. А горе тоже болезнь.
Бабушка всю дорогу дремала, а Вика держала тридцать пять рублей на проезд в потном кулаке. Четыре монеты стали липкими, горячими, пятачок то и дело выскальзывал. Еще при входе Вика протянула их водителю, тот не взял. «Мала еще». «Но мне шесть!» «Да езжайте уж так. Бабуля, проходи в салон, не задерживай». Вика насупилась, но бабушка уже потянула ее в конец салона, усадила к окну, устроилась рядом и закемарила. «Сладкой ваты купишь в парке», — сказала бабушка, и Вика уже предвкушала розовые нити, тающие на языке.
Автобус не двигался с места. Духота, колыхаемая на скорости, густела, отупляла и злила пассажиров. Они рвались по своим делам, в мыслях уже плыли на теплоходах, обедали в ресторанах, прохаживались вдоль набережной, но на их пути встал чужак.
Вика видела, как автобус раскололся натрое. Совсем не поровну. Бродяга в дверях, которые из-за него нельзя было ни открыть настежь, ни захлопнуть вовсе. Водитель — судья в зале суда, но спиной ко всем. И пассажиры-присяжные, ощетинившиеся телефонами, прикрытые сумками, как щитами.
— Мам, когда мы поедем?
— Паша, наши билеты на теплоход пропадут! Сделай что-нибудь!
— Мужчины, да высадите же его!
Бродяга был высок ростом, но стоял на нижней ступеньке, понурив голову. С каждой презрительной фразой он гвоздем вбивался все ниже и скоро опустился бы на колени.
— Я и не полез бы к вам, да не дойду, — говорил бродяга тихо, равнодушно. Будто остановилось подо льдом зимнее озеро, и на оттепель нет надежды.
Мужчина в клетчатой рубашке засунул телефон в карман, поднял черные очки на лоб, выдвинулся из отряда пассажиров. Он взял нищего за грудки и тряхнул, стараясь выпихнуть в полуоткрытую дверь. Но бродяга развел костлявые локти и сумел устоять.
— Паша, да не марай ты руки. Водитель, что вы молчите? Мы поедем или нет?
— Поедем, вот заяц сойдет, и тронемся. У меня принцип и план — все платят.
— Ну так ссадите его!
— Это не мое дело. Я баранку кручу.
Тут женщина в заднем ряду взвизгнула и стала одергивать юбку, потом чуть покачнулся мужчина с потными подмышками в рубашке-поло. Девушка с книжкой приподняла сумку повыше, шире расставил ноги клетчатый Паша. По полу автобуса на четвереньках ползла Вика. Она держала руки сжатыми в кулаки, больно стерла обе коленки, но продолжала путь, пока ее голова с двумя бойкими хвостиками не оказалась аккурат у груди нищего. Вику встретили глаза, всколыхнутые ожиданием, но смиренные, как у дворняги, привычной к камню в бок. Она протянула кулачок, бродяга поставил руку, горячие монеты перетекли в нее.
— Меня тоже не хотели на похороны дедушки брать, — шепнула Вика.

Без пяти двенадцать
Олег лежал на больничной койке с закрытыми глазами и слушал, как что-то назойливо дребезжит прямо над его головой. Наверное, лампа? В больницах они обычно издают такой противный, мертвенный и ровный стрекот, от которого никак не отвлечься. Ну а что тут поделаешь? Казенный дом.
Рядом на стуле, опершись на тумбочку, сидела его жена Лена. Сидела недвижимо и совершенно бесшумно. И даже духами никакими не пахла, как будто сложно было для встречи надушиться — стоит же батарея этих склянок, полванны занимает. Тумбочка кряхтела под жениными локтями, охала, страдала. Конечно, центнер Ленкин держать, еще и не так раскряхтишься. Дома вон ни одной целой табуретки не осталось, чини — не чини.
Никакого чувства в ней, вот и не надушилась. И напялила, как всегда, что попало, это даже смотреть не надо. И не надо, и не хочется совсем. Насмотрелся уж дома-то — хоть тут отдыхает. И правда ведь, ну что она там надеть могла? Платье свое синее? Или постеснялась все-таки? В таких платьях только на похороны ходить. А, может, этот. Как его. Кардиган! Умрешь со смеху, конечно. Кофта вязаная, в каких бабуси у метро носки да герань на перевернутых ящиках продают. А все туда же — кардиган, едрит мадрид. Теперь вот, вишь, сидит в этом кардигане, тумбочку ломает. Все никак красоту свою несусветную домой не унесет.
Он знал это только потому, что не слышал стука каблуков, скрипа двери или шороха сумок. Чего-нибудь, что обозначило бы ее уход. «До свидания» Ленка никогда не говорила. Не царское это дело.
Жена зашла в палату полчаса назад и с порога начала причитать о неисчислимых горестях, постигших семью с того дня, как он попал в больницу. Как будто к депутату в приемную со списком жалоб ввалилась. А было этих горестей как звезд на небе и песчинок на дне морском. Большинство из них Олег слышал и до больницы. Но кому как не Ленке, учительнице начальных классов, знать, что повторение — мать учения. Кстати, про мать она тоже не забыла: обругала сначала свою, потом его, потом их отцов, детей, соседей, врачей, медсестер и водителя автобуса, везшего ее сюда, отчего Олег окончательно впал в тоску. Такой упадок сил стал за последние пару месяцев неизбежным следствием каждого ее визита.
Выплеснув на мужа мутные воды своего уныния и раздражения, Лена наконец замолчала. Тут бы ему и перевести дух, расслабиться, забыться, да не уходит, окаянная. Молчит. Нагнетает. Казалось бы — чего еще? Ты ведь за этим приходила? Слила ржавчину — свободна. Так нет же, сидит!
Открывать глаза не хотелось, отвечать — тем более. Если сначала отсутствие духов лишь высекло первую искру досады, а слишком высокий Ленкин голос превратил эту искру в слабый огонек, то после долгой лекции о несправедливости, тяжести и гнусности жизни все в нем вспыхнуло ярким пламенем, молниеносно прогорело и покрыло нутро густым дымом безразличия. Так что не хотелось ни говорить, ни даже двигаться. Поэтому Олег просто продолжил лежать, Лена — сидеть, а лампа — гудеть. Вокруг этого единственного звука стояла тишина, которую обычно называют «гробовой». Эх, Ленка, Ленка! Никакого чувства в тебе к болящему. Ни сострадания, ни понимания.
Потом дверь все-таки скрипнула, но это была не жена. В нос рванул поток очень тяжелых и сладких нот, что-то типа сирени или розы, Олег плохо в этом разбирался. Однако, безошибочно узнал Надюшу — добрую тихую медсестру, которая, кстати, не в пример Ленке, всегда прощалась, выходя из палаты.
— Елена Николаевна, пора! — сказала Надюша своим мягким грудным голосом. От него сразу стало теплее.
— Как пора? — Лена вдруг громко ахнула, судя по глухо оборвавшемуся вздоху, прижала ладони ко рту и неожиданно разрыдалась.
Олега это мгновенно вырвало из вязкой сонной тоски и дико разозлило. Ну, Ленка! Хватит того, что ходит сюда каждый день, жалуется, в покое его никак не оставит. Так еще и при Надюше так позорится! Срамота, что сказать. Часы посещений давно закончились, все их на попреки извела, нет бы слово доброе для супруга найти. А как намекнули ей культурно, мол, освободите тумбочку — сопротивляется!
Вот только же и ругалась, и ворчала, и ныла, все жилы вытянула. Вот только что всю жизнь их обхаяла, а теперь встрепенулась, как Джульетта на балконе — разве что не зарделась. А может и пошла пятнами, конечно. Черт ее знает. Хорошо хоть Наденька — человек интеллигентный, виду не подаст. Он-то уж наизусть все эти сцены выучил. Вроде и повода нет, а Ленка давай комедию ломать. Любительница сцен, большой профессионал. Сначала взвизгнет что-нибудь, как ножом по стеклу царапнет, внутри аж захолодеет. Потом сразу заголосит, слезы в три ручья, ну чисто артистка. Да еще побелеет вся, намек такой, что в обморок сейчас хлопнется — лови, мол. Довел до потери сознания — вот и лови теперь. Короче, мрак.
Он хоть и лежал с закрытыми глазами, тут же захотел отгородиться от происходящего чем-нибудь дополнительно. Вот вроде как у рептилий еще одно веко есть — зашторился сначала одним, потом вторым, и хоть трын-трава.
Жена не унималась. Надюша вежливо молчала. Олегу надоело и то и другое. Где-то в районе коленей появилось покалывание. Вот сейчас бы встать, да как следует…
— Елена Николаевна, и все-таки пора. Мы же говорили об этом. Вы подписали бумаги. Если до тридцатого никаких изменений, то ровно в двенадцать. Сейчас без пяти. Дождемся врача и отключаем.
Лена рухнула прямо ему на грудь и завыла.
«Ну, нет. Это уж слишком», — решил Олег. Подумаешь, отключают они там чего-то. Мало ли. А Ленка опять свой театр на пустом месте развела. Вот бабы! Тебе же русским языком сказали — все обговорено, бумаги там какие-то, чин чинарём. Пришли, предупредили, сервис! А ты как на кладбище, ей-богу. Ни лада, ни склада с тобой, Лен. Никакого чувства.
И, чертыхнувшись про себя, открыл глаза.

Бейгале
«Тахана мерказит аяшана», — объявляет динамик в автобусе. Я с сожалением выхожу из-под живительной струи кондиционера. Старая автостанция Тель-Авива. Район нелегалов, бомжей, героиновых наркоманов, юродивых, сумасшедших и проституток. Липкая приморская жара. Раскаленный воздух пропитан выхлопными газами, запахами фастфуда, мочи и гниющего мусора. Наверное, так пахнет безнадежность.
Я сидел на единственном целом сиденье заплеванной остановки и пытался прикинуть, хватит ли денег до конца месяца. Если есть один раз в день… Если какое-то время не пить… Если собирать бычки… если… если… до пособия по безработице все равно не дотянуть.
Рядом стоит лоток старика Шломо. Целыми днями он сидит на пластиковом стуле в неизменной ковбойской шляпе и толстой золотой цепи с лежащей на груди звездой Давида, пьет кофе и курит сигареты. Шломо йеменец, но своим прикидом он больше напоминает цыганского барона из фильмов Кустурицы. Старик торгует пиратскими DVD, сланцами, чехлами для телефонов, носками, презервативами, контрабандными сигаретами из Газы, шоколадными батончиками, прохладительными напитками, фальшивыми ролексами, футболками «Ай лав Тель-Авив», связками бубликов-бейгале и еще какой-то невероятной дрянью.
Еще Шломо в обход закона продает алкоголь после одиннадцати вечера, чем сильно поднимает свои акции в цене среди обитателей района.
У Шломо работает телевизор. Выпуск новостей. Летящие ракеты, плачущие дети, мигалки скорых, перекошенные злобой лица, обращения премьер-министра… Все как обычно…
Снимаю со счета последнюю наличность. Прямо возле банкомата дремлет грязный торчок, выставив напоказ гниющие ноги. Он поднимает голову, фокусирует на мне мутный взгляд и хрипит по-русски:
— Братуха, есть полтос? Ты тут постоянно крутишься, я верну. — Торчок говорит медленно, растягивая слова. — Отдам биткоинами. Настоящими, царской чеканки…
— Извини, друг, я сам на дне.
— А сигарета есть?
Я отсыпаю ему курительного табака, стараясь не смотреть на его ноги.
— Мне фильтр не надо, ты мне тока бумажку дай.
— Ну ты совсем себя не бережешь, сорвиголова.
Торчок хрипло смеется и заходится в долгом кашле.
Я прошел мимо синагоги, расположившейся прямо напротив борделя. Через открытое окно было видно молящихся. Бормоча молитвы и раскачиваясь взад-вперед, они черпали свою правду в Торе.
Дальше по улице — мясная лавка «Kingdom of Pork». Свиным королевством заправляют экзотические даже для Израиля угрюмые уйгуры, говорящие по-русски.
Пристраиваюсь в хвост очереди.
В лавке, как всегда, толкотня и галдеж. Со стороны это напоминало экстренное совещание Совета Безопасности ООН: эритрейские модники, прическами похожие на молодого Майкла Джексона; филиппинские тетки с гружеными снедью кошелками; китайские, украинские, молдавские работяги; тайцы, индусы, суданцы, арабы, евреи.
Сзади меня похлопали по плечу. Я обернулся: мятая похмельная харя, растянутая в улыбке. Фил.
Мы не виделись пару лет. Познакомились, когда работали охранниками в супермаркете. Охранные фирмы в Израиле это самое дно. Туда брали всех: больных, хромых, тупых, убогих, алкашей, торчков, маргиналов. Фил был алкашом и единственным человеком, с которым было можно поговорить. Однажды Фил заснул пьяным на объекте и был уволен. Сразу после этого его выгнала жена, и он жил в однокомнатной квартире с папой-инвалидом, пропивая его пособие.
Мы сидим на кухне у Фила и пьем дешевую водку «Белый Аист». Тяжелый дух давно немытой посуды, липкий пол. Пыльный вентилятор гоняет горячий воздух. Мы пьем, обильно потеем и обтираемся туалетной бумагой.
— Как там борьба с системой? — спрашивает Фил.
— С переменным успехом.
— Рассказики все пописываешь?
— Пописываю.
— Молодец, пописывай. У тебя местами хорошие рассказики. Злые, грубые, честные. И с самоиронией у тебя все в порядке, не превращаешься в чопорное литературное говно. Но как-то безыдейно все.
— Разве описание действительности недостаточно хорошая идея?
— Я имею в виду, что у хорошего текста должен быть посыл. Я тут недавно в одной книге вычитал хорошую мысль… Сейчас…
Фил выуживает из-под завалов газет, пивных банок, объедков и окурков мятую засаленную книгу в мягкой обложке и очки. «Цитаты великих людей». Интересно, откуда у него деньги на книги?
— В «Исрадоне» спиздил, — будто прочитав мои мысли, пояснил Фил. Он водрузил на нос очки и раскрыл книгу. — Где же это… Ага, вот. Слушай. «В приходящем в упадок обществе подлинное искусство должно отражать деградацию», — начал Фил, поучающе помахивая указательным пальцем с грязным ногтем. — «Если искусство желает показать свою социальную роль, оно должно показать изменяемость мира и содействовать его преобразованию». — Фил захлопнул книгу и снял очки. — Понял? А ты о чем пишешь? Пиво, бары, телки. У тебя даже все рассказы начинаются одинаково: «Он сидел в баре и пил пиво…», «Она прошла мимо, оставляя за собой шлейф парфюма…», «Они подошли к стойке, и их взгляды встретились…» Твой материал ограничен. Узко мыслишь, узко.
— Куда мне до такого гиганта мысли, как ты.
— Я не претендую на то, чтобы стать писателем.
— Зато, блядь, литературный критик из тебя отменный.
Мы пьем водку и запиваем ее апельсиновым соком в картонной упаковке, но привкус нефти все равно остается.
— Работу не пытался найти, Фил?
— А на хера она мне далась? Мне и так хорошо.
Мы выпили еще.
— Раньше ведь как было? — развивал мысль Фил. — Раньше я вполне себе ячейка общества был. Первые два года в Израиле я еще вел ошибочный, трезвый образ жизни. Стремился к тем же одобренным минздравом ценностям, что и все: работа, машина, ипотека, набитый холодильник. И понеслось. Каждый день одна херня — к семи на завод, в пять — домой. А денег как не было, так и нет. Долги растут, жена толстеет. А рожи вокруг! Ты вспомни кунсткамеру, где мы работали. Там ведь ни одного живого человека нет! Мне нужны люди, способные слышать музыку прилива и понимать слова ветра. Для меня голод ума страшнее голода физического. Я задыхался среди этого сброда. И все это ради чего? Ради того, чтобы просто остаться на плаву?
Я представил, с кем Фил может разделять радость музыки прилива и слов ветра в нашем районе. С барахольщиком Шломо или с мясниками-уйгурами?
— А сейчас, значит, ты счастлив?
— Представь себе, в каком-то смысле да! Ни забот, ни хлопот. Женщины только давно не было. Я как-то сунулся в отъебочную, что напротив синагоги, так там такие ценники — это ж половину отцова пособия оставить надо! А когда-то я был молод и прекрасен ликом, женщин имел за просто так. Эх… Накатим?
— Давай.
Мы пьем и закуриваем.
— У тебя нет ощущения, что ты инопланетянин, попавший сюда совершенно случайно?
— Я уже несколько лет так живу.
— Вот! Знал, что ты поймешь! Мы оба инопланетяне, мучительно привыкающие к глубокому идиотизму созданной людьми корявой общественной системы! Изгои. Угроза сытой стабильности, столь необходимой для правильного осеменения яичников и размножения среднестатистических обывателей. Отличников боевой и политической подготовки.
Фил откидывается на стуле и закуривает. Он доволен. Сегодня он в ударе.
— А почему мы изгои? — продолжил Фил, размахивая зажатой в пальцах самокруткой. — Потому что блядской системе не нужны маргиналы, вдруг начавшие слышать другой барабан. А нужны ей надежные, послушные роботы, отрабатывающие процентные ставки кредитов. Оглянись вокруг — большая часть населения, даже с мизерными зарплатами заводских работяг и охранников супермаркетов, подсаживается на кредиты и ипотеки!
Я молчу, обдумывая слова Фила. Где-то на третьей стопке из него получался неплохой оратор.
— А про меня напишешь?
— Напишу.
— Переврешь все наверняка.
— Перевру. Но я все равно напишу.
— Ага, напиши. Мол, интеллектуал с душой поэта, не выдержал гонки на выживание, сломался духом. Жертва аборта пространственно-временной матрицы. Баг в алгоритме эволюции. А еще лучше заболей меня раком. Таким страшным рачищей, ну чтоб жизни осталось дней на семь. За это время я осознаю всю непутевость своего жалкого существования и начинаю жить настоящей полной жизнью: увольняюсь с работы, нассав на лицо начальнику, совершаю ограбление банка, нюхаю кокаин, трахаю жарких мулаток и следую за солнцем в красном «порше». И чтобы умер обязательно сидя на берегу моря, провожая последний закат!
— Красный «порш», море, закат — это все клише. Давай я лучше умру тебя в ночлежке для бомжей, обоссаным и никому не нужным?
— Вот опять ты со своим реализмом. Где романтика? Где доброе, светлое? — Фил рассматривает остатки водки в бутылке.
— Накатим?
— Я пас.
Фил пьет один. Сок закончился, и он запивает водой из-под крана.
— Сдохнешь ты от этого скипидара.
— А и пусть. Что хорошего в старости? Я все на своего папаньку смотрю: в молодости летчиком был, офицер, красавец, умница. А сейчас одна оболочка осталась. Вот и скажи мне, так ли уж плохо жить по законам другим и, соответственно, умирать молодым?
— Филя! Кто там у тебя? — доносится из комнаты стариковское брюзжание.
— Я пойду.
— Да все нормально, сидим.
— Я пойду, дела.
Мы с трудом встаем из-за стола и проходим к входной двери через единственную комнату. В комнате пахнет старостью, болезнями и мочой. Развалы лекарств, ортопедических приспособлений и каких-то тряпок. В кресле напротив телевизора с выключенным звуком дремлет старик. Снова новости, но уже российские: Донбасс, ядерные ракеты, чьи-то похороны. Декорации другие, начинка та же: тупая злоба и ненависть. Везде одно и то же.
— Заходи еще как-нибудь, — сказал Фил, протягивая мне руку.
— Зайду, — соврал я.
Я вышел в духоту и шум вечернего южного Тель-Авива. Знакомый барыга-суданец заговорщически подмигивает: иногда я беру у него гашиш.
— What’s up?
Я отрицательно качаю головой и делаю «нет» рукой — сегодня на нуле.
Шломо все так же сидит на стуле, пьет кофе и курит сигареты.
— Как дела, Шломо?
— Привет, Роман! — Шломо растягивается в улыбке, сверкая золотой фиксой. — Нормально, спасибо. Как сам, дорогой?
— Все хорошо. Мне один «Карлсберг».
— Открыть или с собой?
— Открыть.
Шломо достает из холодильника пиво и не глядя открывает. Делаю несколько глотков. После Филового пойла холодное пиво кажется нектаром.
— Опять теракт, — кивает Шломо в сторону телевизора. — Араб подрезал двоих в автобусе. И Сдерот снова обстреляли. Слышал?
— Нет.
— Ты что, не смотришь новости?
— Нет.
— И по радио не слушаешь?
— Нет. И газет не читаю.
— Как же ты остаешься в курсе событий?
— Мне достаточно выйти на улицу или проехаться в маршрутке.
— Бейгале хочешь?
— Нет, спасибо.
— Я угощаю, все равно выкидывать, завтра свежие привезут.
— Ну тогда давай.
— С кунжутом или с маком?
— С маком.
Я сижу на скамейке возле дома, откусываю от бублика и прикладываюсь к бутылке пива. Жить можно. Могло быть и хуже. Например, все то же самое, только без пива и бейгале. Или без дома.
Через дорогу проститутка-трансгендер отбивается сумочкой и ногами на шпильках от пьяных тинейджеров в вязаных кипах. Тинейджеры улюлюкают, плюются и кидают в нее пустыми пивными бутылками. Из хриплых динамиков льется заунывная восточная песня — соседи опять поют караоке. Истерически кричит филиппинский ребенок. Из квартиры обычно тихих латиносов доносится смачное «La puta madre!» и запах жареной рыбы.
Подвывая сиреной и ослепляя светомузыкой, носятся ментовские повозки.
Похоже, жара и новости давят на мозг сильнее обычного. Только не нам с Филом — пол-литра «Белого Аиста», и мы в домике.
Конечно, я напишу про тебя, старый ты разъебай.

Бог всё видит, бог всё знает
Маша говорила, что на такую работу берут только двинутых. Это, конечно, неправда. Брали всяких, но в основном студентов-медиков, совершенно обыкновенных, даже не упакованных ещё в хитиновый панцирь обычного медицинского цинизма. Они зажимали носы и падали в обмороки, а через два месяца уходили. Надолго задерживались только люди вроде Лёни, которые работали не за деньги и не для галочки, а по призванию. Наверное, можно сказать, что двинутые, ну а кто нормальный?
Лёне нравилась работа. И Маша ему тоже нравилась, правда, не всегда, а лишь когда они были вместе: не только в географическом смысле — две точки на карте, слившиеся в одну, — но во всех остальных тоже, и чем больше Лёня мог этих смыслов придумать, тем пронзительнее делалась его нежность к Маше. Например, она очень нравилась ему в постели — это был момент абсолютного сближения, совершенной определённости их отношений. Увы, длилось это дай бог полчаса, а потом Маша вставала, натягивала пижамные шорты и Лёнину футболку и как бы отгораживалась от него: шла смотреть очередной сериал в «Нетфликсе», к которому не разрешала включать русскую озвучку, или без конца торчала в телефоне, переписываясь с друзьями, которых Лёня не знал, а она не приглашала познакомиться. Потом и вовсе собиралась и уходила. И чем дальше она отходила от Лёниной квартиры, дома, улицы, тем зыбче становилось её присутствие в Лёниной жизни, тем страшнее и неопределённее становилась она сама. Тогда она совершенно переставала ему нравиться, и хотелось, чтобы она никогда больше не приходила. Но через несколько дней она звонила и спрашивала: заеду? И всё повторялось.
В ночную смену Лёню перевели не так давно, пару месяцев назад, уже под занавес их с Машей отношений. А всё потому, что на него пожаловались. Лёня не знал, кто именно, но подозревал одну девушку, которая приехала как-то опознавать пропавшего отца. Лёня любил, когда приезжали за неопознанными. Ему страшно нравилось встречать родственников, с мрачным и торжественным видом провожать их в холодильник. Но лучше всего были моменты узнавания: когда Лёня откидывал белую простыню, и выражение лица у родственника делалось каким-то окончательным, по-настоящему завершённым. Момент был очень короткий, одна секунда — и вот уже узнавание изуродовано, разбавлено чем-то другим, ненужным: страхом ли, отрицанием, горем, — но и за эти сингулярности Лёня был благодарен своей работе. Порой он так напитывался счастьем от этой свежей, новорождённой определённости, что на глаза наворачивались слёзы. И один раз, не сумев сдержаться, он произнёс вслух: «Как здорово, что человек нашёлся!» Девушка, неподвижно стоявшая над телом отца, повернула к Лёне бескровное, невыразительное, как бы затянутое плёнкой лицо, уставила на него пустой взгляд невидящих глаз. Тогда Лёня пояснил: «Жалко, конечно, что мёртвый. Но неопределённость ведь куда хуже». Два дня спустя его перевели в ночную смену, и больше он никого на опознания не водил.
Лёня иногда как будто забывал, что произошло на самом деле, и ему начинало казаться, что Маша его бросила именно из-за перевода в ночь. Фатальная несовместимость графиков. Эта мысль ему нравилась своей оформленностью. Ведь настоящей причины, по которой это случилось, он так никогда и не понял до конца. А если и понял, то не мог её объяснить в трёх красивых словах, лаконично, как пишут в пресс-релизах о разводах знаменитостей.
Они познакомились, когда Маша проходила практику. Лёня в морге работал всего пару лет, но услышав вопрос: «Давно здесь?» — всерьёз задумался. Ему казалось, что здесь он был всегда: возил покойников на каталках, оформлял документы, вешал ярлыки на лодыжки. Его с детства тянуло к мёртвым: когда ему было восемь, умерла бабушка, и мать не могла прогнать его из комнаты, где лежало, дожидаясь похорон, её тело. Он всё норовил подобраться поближе и потрогать бабушку за ледяную руку или погладить по застывшей, сухой, наждачной щеке. Мать сперва шикала, выставляла его за дверь, но в конце концов смирилась, и они вместе сидели возле бабушки, и Лёня чувствовал, что матери теперешнее бабушкино безмолвное состояние тоже нравится как-то больше.
На поминках Лёню спросили, какая бабушка была, он ответил: очень верующая — и все почему-то ужасно растрогались, хотя сам Лёня ничего трогательного в этом не видел. Бабушка верила во всё подряд: в гороскоп, в бога, в карты таро, в приметы, в святочные гадания, в вещие сны. Она очень любила знать наперед, что с ней случится и когда, и поэтому Лёня страшно удивился, что бабушка умерла, никого не предупредив. Он подумал, что на небе её наверняка за это отругают, как ругали его, когда уходил со двора без спроса, ведь бог всё видит. Это была любимая бабушкина присказка. Она напоминала об этом и Лёне, когда он пытался тайком выкинуть варёный лук из супа, и матери, когда та уходила из дому поздно вечером и когда возвращалась несколько дней спустя — усталая и незнакомо пахнущая. «Бог всё знает, бог всё видит!» Лёня богу сильно завидовал и поэтому решил, когда вырастет, стать богом: чтобы каждую минуту знать, где мама. Он рассказал об этом бабушке, и та заставила его вымыть рот с мылом, а потом много раз повторять непонятные слова, стоя на коленях перед иконой. С этих пор Лёня ничего важного бабушке не рассказывал.
Его мать, напротив, не верила вообще ни во что: она не ходила в церковь, не стучала по дереву, не смотрела в зеркало, если возвращалась в квартиру за забытым зонтиком. Она никогда не знала, что на следующий день будет к завтраку и где будет она сама. Правда, со смертью бабушки она перестала исчезать из дома слишком уж часто, а если исчезала, то обычно звонила и говорила: «Лёнечка, на комоде сто рублей, выйди купи сосисок и хлеба». Но никогда не говорила, где она и когда вернётся.
Мать умерла, когда ему было двадцать семь. К тому времени он уже успел отучиться на одном курсе медицинского, двух курсах философского и половине курса филологического факультетов и сменить десяток работ. В морг он устроился за полгода до смерти матери и не успел даже ничего ей рассказать, всё боялся, что покрутит у виска. По матери он очень плакал и даже хотел переехать, чтобы не жить с её отсутствием в одной квартире. Но спустя некоторое время это необратимое отсутствие начало ему казаться каким-то приятно новым, по-настоящему определённым, и пришло в голову, что в стремлении к этой настоящей определённости и состоит вся жизнь.
— Единственный смысл жизни — в смерти, — говорил он Маше на первом свидании. — Или, вернее, в жизни вообще нет никакого смысла. А смерть просто делает её выносимой.
У Маши был курносый нос, обсыпанный веснушками, и такие же веснушчатые плечи, пересечённые тоненькими лямками платья, и вид этих лямок будил в Лёне философа-второкурсника.
— Вот, например, рыба, — сказал он, заглядывая в витрину ресторана, мимо которого они шли к «Макдональдсу» у метро. Внутри, в огромном аквариуме, плавали, разевая рот и блестя боками, крупные рыбины. — Придёт повар, поймает одну сачком и унесёт, а она будет биться в сетке, раздувать жабры, понятия не имея, наступит ли когда-нибудь конец этой агонии. Рыбу природа не одарила разумом. Рыба не осознаёт собственной недолговечности, для неё вот эти минуты между сачком и сковородкой невыносимы, потому что они навсегда. Мне поэтому и нужна моя работа, понимаешь? Чтобы каждый день осознавать собственную недолговечность.
— Я знала, что на такую работу берут только двинутых, — ответила Маша, дёрнув веснушчатым плечом, и крепче сжала Лёнину руку.
Они поехали к Лёне домой, и весь вечер и ночь Лёня был совершенно счастлив так, как только может быть счастлив человек, осознающий недолговечность всего на свете. Два месяца Машиной практики они виделись почти ежедневно: встречались на работе, вместе обедали, вместе уходили, гуляли по одним и тем же переулкам, целовались на светофорах и расставались всегда в одном и том же месте — возле автобусной остановки, с которой Маша уезжала домой. Трижды в неделю с этой же остановки они уезжали к Лёне.
Всё начало меняться, когда Маша вернулась к учёбе. В сентябре было ещё ничего, и в начале октября, пожалуй, тоже, но потом у неё вдруг не стало времени гулять, зато появилась привычка отменять свидания за час или два до встречи, ссылаясь на университетские дела. У Лёни она бывала теперь дай бог раз в неделю, а всё остальное время проводила неизвестно где, неизвестно с кем. Однажды, в декабре, когда под подошвами таял первый неудавшийся снег, Лёня встретил её возле университета: подсмотрел расписание и пришёл к концу последней пары с букетом гербер, скукожившихся от холода. Маша, увидев его, странно дёрнулась и, не махнув даже рукой, отвернулась. Долго говорила о чём-то с подругами, потом наконец подошла, нервно поцеловала его в щёку и потащила прочь от университета. Лёня всё пытался вырулить к их привычному маршруту, но Маша сворачивала и сворачивала в незнакомые переулки, пока у него не начала кружиться голова.
— Мне не нравится, если я не знаю, где ты, — сознался Лёня, когда они ждали на остановке, деля на двоих враждебное молчание.
Маша пожала плечами:
— И что я должна сделать? Каждые пятнадцать минут тебе отзваниваться и сообщать, где я? Или ты на меня повесишь GPS-маячок? Лёнь, мы два отдельных человека, я не могу с тобой проводить всё своё время, о’кей?
Они постояли ещё немного, Маша внезапно смягчилась:
— Ладно, прости. Я понимаю, что мы мало видимся, просто с учёбой всё немножко… сложно. Я в пятницу приеду, хорошо?
В пятницу Маша и правда приехала, и пока она была в душе Лёня сделал одну крошечную, не стоящую внимания вещь: взял её телефон, пароль от которого подсмотрел тем же вечером, и поставил в настройках безобидную, совершенно незаметную галочку.
Ему сразу же стало легче, и когда Маша наутро уехала, он налил себе ещё чашку кофе, открыл карту на телефоне и долго наблюдал за тем, как мерцающая синяя точка перемещается по двору, как её несёт по шоссе 87-й автобус.
Теперь, если его вдруг охватывала тревога, он брал в руки телефон, следил за маленькой синей точкой, и становилось легче. Даже не просто легче, но совершенно хорошо: наконец-то он всё знал и всё видел (с суммарной погрешностью около 15 м, но кого волнуют такие мелочи) — и в этом было едва ли не больше счастья, чем в том первом вечере.
Ему страшно хотелось поделиться своим счастьем с Машей, но это было совсем невозможно, и тогда он всё рассказал санитару из ночной смены, с которым Маша не была знакома. Тот, не глядя на Лёню, сказал: «Ну ты даешь», — и, кажется, совсем ничего не понял. Лёня так никогда и не узнал, он ли рассказал обо всём Маше, или кто-то ещё, или она догадалась сама. Так или иначе, через пару месяцев Маша позвонила ему и долго кричала в трубку, обзывая всякими нехорошими словами. Лёня мямлил, уговаривал встретиться, но она сказала, что на пушечный выстрел к себе не подпустит маньяка, не имеющего понятия о личных границах. «Я знала, что на такую работу берут только двинутых», — закончила она и повесила трубку.
Лёня открыл карту и обнаружил, что синяя точка исчезла. Было девять вечера, и не зная, что ещё делать, Лёня собрался и пошёл на работу — его смена начиналась в одиннадцать. По дороге он всё проверял карту, будто надеясь, что точка вернётся, и скучал по ней куда сильнее, чем по самой Маше. По Маше скучал тоже, но как-то остаточно, как по несбывшейся и несбыточной уже детской мечте, и за эту несбыточность любил её теперь больше, чем когда-либо, и совершенно не хотел её возвращения.
Около трёх утра в морг явился пьяный человек в помятой одежде, щуплый и печальный, со сбитыми костяшками на руках и красными, мясистыми от слёз веками. Он представился Сергеем Лапшиным и потребовал показать ему жену. «Она здесь, — говорил он, пуская слюни, — мне сказали, что она здесь».
Лёня хотел было вызвать полицию: обычное дело — не в первый раз на его памяти буйные родственники требовали выдать или показать тело без оформления. Но ему так было тоскливо одному, а этот несчастный Сергей Лапшин казался таким беспомощным и таким замёрзшим, что Лёня пустил его внутрь, хоть и предупредил, что в холодильник (он, конечно, сказал: «в комнату опознания») без нужных документов зайти не даст.
Сергей Лапшин хлюпал носом и говорил:
— Я не смогу, я без неё не смогу, какой смысл жить без неё?
Лёня поставил чайник в подсобке.
— А в жизни, — сказал он, — вообще нет никакого смысла. Смысл — это абсурд. Поиски смысла — эволюционный рудимент, которым наградила нас природа. Мы слишком сознательные, вечно ищем всему причины и никак не можем поверить, что жизнь на земле — это совершенная случайность, бессмысленная и беспричинная.
Лёня взял Сергея за руку и усадил на кушетку в приёмной. Они посидели так, слушая шуршание закипающего чайника.
— Я бы на вашем месте вообще радовался, что жена умерла. Теперь вы, по крайней мере, всегда знаете, где она.
Сергей посмотрел на Лёню долгим, мутным взглядом, а потом размахнулся и прямо так, не вставая с кушетки, ударил его костлявым кулаком в челюсть. Всего мгновение Лёне казалось, что это было совершенно заслуженно. А потом он выставил Сергея за дверь и позвонил в полицию.

Бублики с маком
Спина ныла. Матиас посмотрел вниз: Максимка спал, уткнувшись в его бок и положив руки под голову. Рядом на земле лежал сложенный воздушный змей; его крылья подрагивали на ветру.
Ирина с благодарностью улыбнулась и легонько погладила сына по ноге, стараясь не разбудить. Матиас так же молча улыбнулся в ответ. Некоторое время они сидели, потом Максим проснулся и они втроем пошли к морю.
— Видно, здесь у вас не пекут бублики с маком, — сказала Ирина, снимая туфли и погружая ступни в песок. — Придется вам приехать к нам в гости.
Матиас смотрел на море. Вдоль линии прибоя носился Максим, его кеды взметали фонтаны песка, которые тут же сносило ветром.
— Я постараюсь. Но вам будет скучно со мной. Вы очень занята, а я буду только мешаться.
Он замялся.
— Простите, мой русский не очень хороший. Так говорят?
Она рассмеялась:
— Бросьте извиняться за свой русский, нормальный он. Лучше, чем мой латышский. Приезжайте. Максимка будет вас ждать. Да и я тоже. Мы же не скучали с вами эту неделю.
Он посмотрел на Ирину: она жмурилась от солнца и улыбалась. Ветер трепал ее платье и волосы, темные пряди щекотали лицо и шею, закрывали глаза. Майское солнце отпечатало этот день в памяти как фотографию.
С тех пор прошло два с лишним месяца. Каждый день Матиас вставал, смотрел в зеркало, чистил зубы, съедал яйцо с хлебом, шел на работу. В больнице день под копирку: поднять, помыть, отвести, успокоить, вколоть лекарство. Жалобы нормальных на родственников, которые их сюда упекли. Крики выживших из ума. Тушенная до серости еда из столовой. Обход. Смена. Блеющий голос сестры Анны, проводящей осмотр для очередных клиентов: «Надлежа-а-а-щий уход. Вашим родственникам здесь будет обеспечен надлежа-а-а-щий уход». Вечный вальс под одну и ту же мелодию.
Было ли в его жизни что-то иное, более настоящее? Булочки, которые они воровали в приюте. Первая драка. Тот раз, когда он бежал под дождем за автобусом и все же догнал. Ирина рассказывает про свою кондитерскую. В этот момент казалось, что она вся искрится. Воздух вокруг нее сгущался и наполнялся ароматами кофе, карамели, миндального печенья и масляных круассанов.
— Но самое главное — это бублики с маком, — говорила она. — Это вкус детства. Есть еще кексы с изюмом, но все-таки бублики — настоящая машина времени.
И Максимка. Крутится рядом, миллион вопросов, просит подсадить на перила, починить змея. Теплая ладошка в руке.
Когда с Максом случился приступ, Матиас не испугался. Отстранил Ирину со словами: «Я знаю. Это работа». Потом они долго гуляли, скованные общей тревогой, и вдруг Матиаса прорвало: он задавал вопросы, рассказывал, наконец спросил, почему она не покупает современные лекарства, способные облегчить приступы. Ирина покачала головой:
— Их не продают в России — не сертифицированы. За покупку можно попасть в тюрьму как за торговлю наркотиками.
— Я приеду к вам и привезу лекарства.
— Что вы, Матиас, это слишком. Вы и так очень помогли нам тем, что были рядом. Вы лучше просто приезжайте.
— Вы угостите меня бубликом с маком?
— Разумеется. Знаете что? Давайте я вас угощу прямо сейчас: наверняка в какой-нибудь пекарне они есть.
Он смотрел, как ее платье мелькает в витринах магазинов и окнах кафе. Максим схватил его за руку и затараторил про змея. Прошло два с лишним месяца, и теперь у него на руках были билеты и виза, на которые он потратил все свои деньги. Осталось выполнить обещание.
Матиас встал, посмотрел в зеркало, почистил зубы, съел на завтрак яйцо с хлебом и отправился на работу. Переоделся в форму, обулся в мягкие тапочки, начал обход. Несколько раз заходил в кладовую с лекарствами вместе с врачами и другими санитарами, вставал подальше от камеры и прятал в карман коробочку нужного средства. Быстро поел, не чувствуя вкуса пищи. После обеда продолжилась канитель: помыть, переодеть, успокоить, взять лекарства, выдать больному. К концу смены у него было пять коробочек. Этого хватит надолго. Остается надеяться, что его не заметят. Впрочем, он скоро уедет, а клиника не захочет поднимать скандал и терять свою репутацию. Он же сюда ни ногой. Последний обход. Отчет. Роспись. Переодеться, обуться, выйти на улицу.
Подошвы кроссовок прошлепали по ступеням. После чахоточного шарканья тапочек о паркет этот звук радовал и освежал. Матиас ступил на асфальт, зажмурился, чихнул от яркого солнца и перебежал перекресток наискосок. Резко обернулся, оглядел чопорное здание больницы и закурил. Затянулся лихорадочно — раз, другой. Затем еще раз, медленнее, в такт замедлившимся ударам сердца. Ну и дела! Матиас крепко сжал сигарету в зубах, почти прокусив ее, и, будто не веря, ощупал карман куртки. Помотал коротко стриженной головой. Ну и дела!.. Кажется, он только что стал вором. Отшвырнув сигарету, он направился в сторону пляжа.
Далеко над морем собирался дождь. Кромка облаков, сероватая, как матрасы в больнице, медленно наползала на море. Над берегом же до сих пор царило мутное солнце, чей разбавленный свет вычерчивал пошлость картины. Пестрая круговерть зонтиков, неуклюжие мазки плавок, маслянистые буроватые тела, космы серо-зеленой травы, бледный, как манка в столовой, песок. Все это Матиас прошел, не замечая, а сам наэлектризованной былинкой потянулся к тучам и морю. Гроза подступала как радостный вопль, ширилась, расправляла плечи, поднимала голову, ликовала.
Не в силах вздохнуть, не смея кричать о своей радости, Матиас набрал полные пригоршни песка и запустил его в воздух. Тишайший из фейерверков мгновенно разметал ветер. Песок осел в волосах и на зубах, заскрипел, зашуршал, чиркнул ухо. Матиас тряхнул головой и еще раз тронул карман; на миг ему представился запах свежих бубликов с маком. Вязко загребая ногами, он пошел вдоль берега моря. Ему нравилось думать, что он идет в сторону своего нового дома.

Бумеранг
Подходил к концу третий год студенческой жизни. Мои планы и амбиции были такими же самоуверенными, линейно очерченными и кричащими, как маленькое лоскутное одеяло наподобие английских пэчворков. Этой грубой простотой отличались и мои моральные убеждения: человек сам себе кузнец счастья, и прораб, и букмекер, и даже тот, кто рулит ассенизатором (как его называют, кстати?). Так что жертва насильника напросилась сама, а кредитов на тебя никто не вешал! «Я сам себе и небо, и луна», так сказать…
Весной всех студентов загоняли в стойло практики, от которой мне бы очень хотелось отвертеться в пользу непопулярной, зато стабильной библиотечной жизни, но увы — эта роскошь была доступна только филологическому отделению, а нас, историков, отправили в самый неприглядный «загон».
Часть курса работала в представительстве Красного креста, перекладывая с полки на полку пыльные пособия выпуска 1992 года, остальных распределили по социально значимым учреждениям. Я со своей специализацией оказалась в месте, где каждый из вас боится оказаться больше всего — в СПИД-центре.
Моим руководителем была чересчур жизнерадостная и общительная для этой обстановки женщина по имени Евгения. В центре она выполняла работу клинического психолога. При первой встрече я представила, как эта хорошенькая брюнетка, шустрая, как стриж, сообщает людям об их неизлечимой болезни и самой большой трагедии в жизни (так мне казалось). Я читала о таких моментах у философов, и их описания не увязывались у меня с этими гладкими волосами и клетчатым костюмом, больше подходящим концертному директору актрисы бурлеска. Получить под дых от такого гонца представлялось таким же вероятным, как утонуть в утреннем стакане с водой.
— Не проявляй сочувствия. Не отводи глаз. Не показывай, что боишься или брезгуешь. И не бойся вовсе. Тебе ничего не грозит. У людей много предрассудков. Знаешь, сколько таких, кто уверен — ВИЧ болеют только представительницы древнейшей профессии и наркоманы? А остальных Господь уберегает. Уберегает так же, как пассажиров «Титаника»…
Мое лицо приняло выражение глубокого недоверия, подкреплённого многочисленными увещеваниями взрослых и теориями тех самых пассажиров.
— А разве нормальный человек может СПИДом заболеть?
— Во-первых, СПИДом почти не болеют. От него скоропостижно умирают. Во-вторых, ВИЧ болеют даже восемнадцатилетние натуралы из МГИМО и святоши, не пропускающие воскресную службу. В общем, предохраняйся в любой непонятной ситуации. Посиди-ка тут. Этот случай сложный…
Женя просочилась в узкий проем чуть приоткрытой двери, отчего та издала высокий щекочущий скрип. Я устроилась прямо напротив так, чтобы видеть ее собеседницу. На кушетке сидела рыжеволосая девушка с круглым розовым лицом. Казалось, от этого лица и мягкого тела исходит запах соломы. На вид ей было лет двадцать восемь или тридцать, не больше. Она сложила руки на коленях и пристально смотрела на Женю, потом в пол, не шаря глазами, а так, будто увидела что-то, от чего хочется отвести взгляд, но не выходит.
Прошло минут пятнадцать, рыжая девушка, по моим наблюдениям, не сказала ни слова. Я моргнула лишь на мгновение, и Женя неаккуратным движением подхватила меня под локоть.
— Пойдем, очкарик. Антракт…
В коридоре кроме людей в белых халатах и «гражданских» были немногочисленные посетители и пациенты. Один из них робко останавливался у каждого кабинета и щурился, как слабовидящий, потерявший очки. Видимо, он искал знакомое лицо. Увидев Женю, он захлопнул очередную дверь и без стеснения смотрел прямо на нас, распахнув глаза и высоко подняв кудрявую голову. Выглядел мужчина при этом как мученик за правое дело: на лбу выступила испарина, фигура, вертикально уложенная на стену, обессилела и расплылась. На мои вопросы Женя сказала только: тут бывает всякое. Обознался, видимо, от испуга.
* * *
— Сём, а вишня где?
— Забыл. Ну, хочешь, сбегаю?
— Ага, марафонец. С твоими шабашками уже ни одного порядочного магазина не найдешь. Или ехай три дня полем, два дня лесом. Сиди, утром уже купим.
— А ты что, так уверена, что подработка? Ты бы хоть спросила, где был муж.
— И где был, муж?
— Сама сказала — подработка. Она и есть…
Семён скривился в ухмылке, протирая стекла очков, и, водрузив их на переносицу, обнял жену сзади. Живот уже прилично выпирал, еще больше округляя мягкую фигуру. Шел шестой месяц беременности. Никто из семьи или знакомых не знал, что ребенок спас их супружество, позволил Юле наконец ощутить себя в полной безопасности. Две предыдущие беременности не подарили им детей. Юля, родом из станицы с гордым названием Маркс, хорошо знала матчасть: роди, тогда семья будет крепкой, вообще от всех проблем — роди. По логике предков получалось, что из-за Юли семьи не выходит, а этап Семёна проходит гладко. Девушка часами раздумывала, не пойти ли ей к целителю или гадателю, отчего в рассеянности могла накормить кота той самой вишней или постирать водительские права супруга.
После первой беременности она стала ходить в церковь, на кухне по вечерам зажигала тоненькую свечу, источавшую запах топленого воска и какого-то смиренного спокойствия. Воск неспешно капал на белую ажурную салфетку, пока Юля, отвлекаясь от натирания стаканов, смотрела на желтый свет огонька не мигая.
* * *
— Сёма, ты гляди!
Семён уже вышел из ванной на запах свежей выпечки, растирая накрахмаленным полотенцем белесые кудри. Самой лучшей привычкой своей супруги он считал своевременный завтрак и до блеска начищенную обувь. И то и другое происходило без его ведома и участия. Отбояриться он был мастер, но тут этого не требовалось — Юля с охотой и богатырским рвением управлялась сама даже с тяжелыми сумками на рынке. Этой привычке вскоре в жизни маленькой семьи не нашлось места.
Юля с бумажкой в руке и хмельной улыбкой на лице заслонила дверной проем. Она держала полоску аккуратно, как страничку редкой книги, за уголок, только без бархатной перчатки. Мягкий ветер из открытого окна, свет, исходивший от жены, — все это сделало Сёму беззаботно счастливым. На следующие полчаса он совсем забыл и о завтраке, и о ботинках, и о том, как много месяцев они с Юлей жили молча, потому что жена то ли не хотела, то ли не умела говорить ни о чем, кроме обедов, позабыл он и о том, что станет его «бумерангом».
Беременность проходила легко. Нет, Юля не изменилась, но и не заимела привычки сетовать на жизнь или здоровье. Лишь раз она простудилась, перепугав Семёна, себя и нескольких молодых медсестер в женской консультации. Семён расцвел. Даже бывшая у него свербящая потребность в беседах и просмотрах кино, к которому Юля была равнодушна, растворилась в ожидании первенца. Теперь туфли, ботинки и даже сапоги — хотя в Москве стояло небывало плавящее лето — Юли показывали отражение смотрящего круглосуточно вместо телеэкрана. Из дома супругов были выселены хлорсодержащие средства, вся алкогольная продукция, вредная, на взгляд Семёна, еда, конфликты по любому поводу, задержки после работы и вся старая бутафория.
— Можем позволить себе новую жизнь!
Этими словами сопровождались уикендные поездки в «Икею» за дизайнерскими сокровищами из серии «собери сам не без страданий ближнего своего», массмаркеты одежды и зоомагазины: кошка Ксюша была теперь почти так же почитаема, как ее хозяйка, наверное, из-за родственного рыжего окраса.
В декабре родилась Вера.
Семён, сновавший по длинной парадной, стучал каблуками натертых туфель, теща, нагруженная авоськами и затертыми сумками, трясла листочком, спасаясь от духоты, сестра Ленка перебирала в кармане пачку с сигаретами, такими же тощими, как она сама, родители Семёна, которых почти не было видно за букетами и шарами, опасливо держались в стороне. Шарики всех цветов на длинных лентах, для мальчика и девочки одновременно — Юля старомодно полагала, что узнавать пол ребенка нужно только при его появлении на свет. Так знакомились с маленькой Верой и встречали все ту же простую молчаливую Юлю.
* * *
Спустя три месяца ловкого и размеренного материнства Юля проснулась без всякого повода еще до рассвета и принялась неуемно плакать.
— Юль, ты чего? Болит что-нибудь?
— Семён, я кошку увидела во сне.
— Кошку? Ксюшу, что ли? Что она, твою рассаду испортила?
— Нет, я кошку видела черную. Я Веру кормила, а потом смотрю, а вместо Вероньки кошка лежит, черная как уголь. А кошки к добру не снятся, бабушка всегда говорит…
— Юль, ну твоя бабушка и головой советует вертеть, чтоб в рот не ссали, но такого ведь никто не делал еще. Это только сон. Просто сон. Я водички принесу, а ты засыпай…
* * *
Неприветливый белый свет лампы заливал комнату. Все звуки отзывались здесь эхом пустоты, что делало пространство нереальным и отталкивающе холодным. Юля расположилась на бесцветной кушетке. Дверь взвизгнула на петлях, в комнату влетела темноволосая девушка, почти сразу начав торопливое изложение:
— Ваш тест показал положительный результат. Мы понаблюдаем за Верой. У детей иммунный статус нестабильный, может быть и так, что точные результаты мы получим спустя год или даже два. Для вас мы подберем терапию. Жизнь не кончается, Юля, поверьте. Вы такая не одна.
Юля уставилась на кафельный пол. В самые опасные и сложные моменты она ничего не ощущала, впадала в ступор и отупение. Мысли просто безразлично шмыгали в голове, но она знала, что пройдет немного времени и придет боль, как боль от пореза в горячей воде — приходит позже, когда ты уже остыл. Боль придет, когда через минуту она подумает о Вере.
Женщина незаметно вышла, и Юля осталась наедине с подкатывающей болью. Выражение ее лица при этом оставалось равнодушным благодаря несгибаемой внутренней силе, которую другие обычно принимали за поверхностность и близорукость.
В центре было тихо, Юле даже показалось, что, может, от болезни она стала глохнуть, но тут в дверь постучали. Вошёл Семён.
* * *
— Юль, я тут принес… Мама передала. Бульон там… Она все готовит к выписке. Шторы твои перестирала, окна помыла, кругом чисто, прямо как в больнице. Извини, не хотел…
— А чего это ей мои шторы грязными сделались?
— Да не грязные они. Так же всегда, по особым случаям. Как перед Пасхой.
— Воцерковленным заделался? Или Пасха два раза в год?
— Ну что ты все время болтаешь, как центровой! Шторы, церковь, суп, позиция! На каждую неприглядную мелочь — твой комментарий. Ты можешь высказаться? О важном поговорить, а не о том, что в кармане, на столе или на гардине.
— Какое число сегодня?
— Тридцатое, а что?
Он не успел закончить, как Юля внезапным движением свалила все содержимое пакета ему под ноги. Туфли, брюки, пол — всё покрылось горячим бульоном.
— Так вот, запомни, как первый поставленный синяк, как поп — молитву на крестный ход, раз ты его помянул, сегодня, Семён, тридцатого апреля, я тебя, и твой суп, и мать твою, и шторы — всё проклинаю. Я думала, что все смогу простить, если не узнаю, если не повредит. И простила бы. Потом думала, ну что, ну, мужики, они же только тем и думают, что между ног в руках у кого-то оказывается, кабаны. Стыдно тебе было за меня, из деревни, да? А я оттуда и знаю, что ты как кабан — за всеми кабанихами и свиньями волочишься. Только кабан тебя лучше, он не принесет падаль в свинарник и потомство своё не отравит.
Дверь палаты дернулась с характерным звуком. Вошла молодая сестра в цветной пижаме со стойкой и препаратами.
— Юлия Александровна, давайте поставим. У меня там еще тяжелые, а я одна в крыле, понимаете…
Капельницу поставили. Юля закрыла глаза. Лицо ее не выражало ничего, казалось, ее просто клонит в сон.
— Лучше бы не прощала. Жил с тобой, думал, что знаю, а ничего не знал. Твое молчание раздражающее принимал за простодушие. Ты теперь все обо мне узнала, а я так и не понял ничего. А может, это и есть брак.
— Брак, Семён, а не семья.
* * *
— Получается, Юля права была, да? Все вернулось бумерангом. И Семёну — за измену, и Юле — за наивность, что ли. Так?
— Может, и так. Я не знаю. А может, все случайно вышло.
— А как ты узнала? Подожди, то есть, они тебе сами говорят, да?
* * *
После университета я неожиданно для всех порвала с наукой и библиотечными залами и ушла работать в фонд помощи ВИЧ-инфицированным.
Там я почти каждый день узнаю такие истории. Но эту помню ярче всех. Откуда я узнала подробности? Их рассказала мне та самая Женя, психолог из центра и третья сторона развернувшейся драмы.
Почему она так запомнилась?
Один любитель Познера (или те, что поизобретательнее — поклонники Пруста), спросил меня в юности, какой порок я готова простить человеку. Я ответила что-то вроде блуда или лени, неоформленное в приличное мнение.
После этой истории я решила — любой.

В такси
Тоня вышла из подъезда, осмотрелась, увидела машину, сверилась с приложением в телефоне. Подошла к такси, привычно посмотрела наверх. Мама стояла на балконе и энергично махала ей на прощание. Тоня махнула в ответ и села в такси.
Вчера Тоне исполнилось тридцать один. Сейчас с двумя пакетами из «Ашана», полными еды и вина, она ехала на работу — вечером надо было проставиться. А вчера отмечали с семьей — с мамой и старшим братом, неженатым замкнутым мужчиной, с которым Тоня, как ей казалось, так и не познакомилась за всю свою жизнь.
Так повелось с детства — каждый свой день рождения Тоня отмечала с семьей. Друзей домой водить было не принято, да Тоне и не хотелось — она стеснялась потрёпанной хрущевки, бедной мебели и чудаковатого неряшливого отца, который, к несчастью, был рад любому новому человеку и непременно лез с разговорами. Отец умер семь лет назад, Тоня уже пять лет жила одна, в съемной квартире, но традицию нарушать боялась. Знала, что мать обидится: сделает равнодушное лицо и скажет — «конечно, это твое дело, можешь не приезжать». И после этого не захочется уже никакого праздника, никаких гулянок с друзьями.
Телефон зазвонил — мама. Тоня досадливо цыкнула языком и выключила звук. Мама всегда вспоминала что-нибудь «важное» сразу после Тониного ухода и звонила вдогонку. «Что на этот раз? — гадала Тоня. — Расческу забыла? Оделась слишком легко? Такси какое-то не такое?»
— Что, поклонники надоедают? — спросил водитель, одутловатый мужчина лет пятидесяти с капельками пота над верхней губой, с прилипшими ко лбу голубиного цвета редкими волосами и с клочковатой седой бородой, рассеянной по подбородку каким-то разномастными пучками. Спросил без кокетства, без улыбки, скорее, сердито.
— Мама, — коротко, раздраженно бросила Тоня и вся подобралась, выпрямилась на переднем сиденье.
— Мама… Ну, маме и ответить можно. Потом жалеть будете, что не отвечали.
Тоня замолчала. Она почувствовала желание оправдаться, разозлилась на себя и плотно стиснула зубы. Разговор оборвался.
Проехали Алабяна, Большую Академическую, кое-как выползли на Алтуфьевское шоссе, встали в привычную пробку. Мимо машин ходили мальчики, продавали цветы, кофе, какую-то ненужную пластиковую ерунду. Тоня вспомнила, как умер отец. Днем позвонили из больницы, вечером брат подобрал ее по пути с работы, приехали к матери, та плакала, сидя на старенькой детской кушетке, поджав ноги. Вокруг стояли коробки с фотографиями, она рассматривала одну за другой, раскладывала на какие-то стопки. Тоня тогда удивилась — мать с отцом друг друга не любили, так было почти всю ее жизнь. Только из самого раннего детства иногда всплывали неясные воспоминания: вот отец, держа ее на шее, заходит в кухню, мать возится у плиты, она протягивает к ней руки, все обнимаются и смеются. Еще воспоминание: с отцом и братом Тоня собирает дикие мелкие яблоки — там, где они жили, росли яблони, остатки какого-то деревенского сада. Собирают целый день, потом принесут полную корзинку, и мама испечет шарлотку — пышную, с сахарной пудрой, с ядреной, обжигающей язык кислинкой. Собственно, и все воспоминания о семейном счастье. Дальше — редкие ссоры, крики, хлопанье дверей, но в основном напряженное, полное взаимной неприязни молчание. Дети ужинают с мамой, отец — отдельно, в холодильнике — у каждого свои полки. Так прожили почти тридцать лет, потом отец резко постарел, сдал, начал заговариваться, падать, выпивать. Однажды даже бросился на мать с ножом — глаза побелели, мышцы напряглись, на лице появились перекатывающиеся бугорки. Такое больше не повторялось, но деменция давала знать о себе все чаще, все явственнее. Когда отец умер, Тоня испытала облегчение. Даже испугалась этого — такого отчетливого — чувства. Потом, позже, пришла досада. Так за всю жизнь и не поговорили, даже вспомнить было нечего. А мать плакала — Тоня тогда удивлялась.
Телефон зазвонил снова, это была Лена Кучеренко, подруга еще с институтских времен. Давно ее не было слышно, пропала совсем. Где-то полгода назад Тоня услышала от общих знакомых, что Лена, уверенно делавшая карьеру светской обозревательницы, уволилась. Кажется, как-то сильно заболел ребенок, будто даже что-то неизлечимое.
— Лена, ты? Привет, как давно тебя не слышно, молодец, что позвонила! — Тоня неожиданно для себя самой затараторила, словно испугалась чего-то.
— Тонь, да закрутилась я, с Вадиком у меня проблемы. Болеет. Все по больницам мы с ним, по врачам. Устали — ни конца, ни края.
— Что-то серьезное? — глупо спросила Тоня каким-то специальным тоненьким голоском и тут же разозлилась на себя. Знала ведь, что серьезное, да.
— Серьезнее некуда. Лейкоз. Прогнозы не очень. Детей от такого вылечивают, но у нас с осложнениями, почечная недостаточность. Страшно так… — Лена заговорила низко, заглушая дрожь в голосе.
Тоня не знала, что сказать, но молчать было неудобно.
— Ох, Лена, сочувствую. Держись. Блин, глупые такие слова, прости, не знаю, что говорить. Могу чем-то помочь?
— Тонь, я на него смотреть не могу. И даже не потому, что жалко. Не потому, что страшно. Я злюсь. Злюсь, представляешь? Думаю, да за что же ты меня наказываешь? Что же я тебе такого сделала? За что ты меня так ненавидишь, что даже заболел так ужасно? И чувство вины, просто бить себя по щекам хочется — зачем рожала? Что — нормального родить не могла, здорового? Может, мне вообще рожать нельзя было, что я натворила?
Замолчали обе, прошло секунд пять, Тоне показалось, что вечность, она даже дышать старалась куда-то в сторону от телефона.
— Ты извини меня, я просто устала очень и выговориться особо некому. Извини, что я на тебя это все вывалила. Я, вообще, по делу звоню. Помнишь, ты говорила, что у твоей мамы врач какой-то хороший был, по сосудам, невролог? У меня у матери предынсультное поставили, не знаю, к кому обращаться, хочется проверенного кого-то.
— Да-да, он чудесный, он раньше в клинике неврозов работал, теперь в какой-то частной, не помню. Я сегодня же маме позвоню, сброшу тебе тогда.
Такси выехало на Юрловский проезд и остановилось, водитель посмотрел на Тоню. Тоня вся скукожилась, как будто озябла, пока разговаривала с Леной. «Приехали…» — осторожно сказал таксист. Тоня вздрогнула, начала торопливо отстегивать ремень. Выволокла с заднего сиденья свои пакеты, поставила у фонаря, вытащила из кармана плаща пачку ментоловых «Вог». Она вдруг вспомнила, как тяжело заболела в детстве. Ни с того, ни с сего у нее стали отказывать ноги. Она как будто бы разучилась ходить. Ей было всего пять лет, сейчас уже она не могла вспомнить, было ли ей страшно, понимала ли она, что с ней происходит. Помнила только, как натужно улыбалась мать, целуя ее в лоб перед сном. А под глазами были синяки, а руки как будто все время тревожно, исподтишка щупали Тонино тельце. Тоня вспомнила маму во всех подробностях — не ту, молодую, а сегодняшнюю — с морщинами, в теплой жилетке и валенках, в которых она шаркала по квартире. Обычно Тоня злилась, ей казалось, что мать шаркает нарочно, нарочно ноет о своих болячках. Тоня негодовала — в этих жалобах ей виделся эгоизм: мать как будто не отпускала уже давно взрослых детей от себя, не давала им жить своей жизнью, играла на их чувстве вины, требовала постоянного внимания и участия. Но сейчас Тоне было не по себе, она часто дышала и мяла сигарету так, что пожелтевший фильтр вывалился из бумаги и упал ей под ноги. Тоня вытащила телефон, открыла «пропущенные», нажала на кнопку, но тут же сбросила, открыла SMS. «Мама, у тебя сохранился телефон твоего невролога?»

Воровка
По сумеречной осенней улице к ряду припаркованных вдоль дороги джипов быстро шагала молодая женщина. Она крепко сжимала в руке воротник розового девичьего пуховика, в котором подпрыгивала девочка лет пяти-шести. В свете фонарей на лицах обеих поблескивали прозрачные мокрые дорожки. Руки матери были заняты сумкой, ключами и воротником куртки. Девочка тем временем старалась не выпасть из своего пуховика, слишком высоко задранного матерью, и не потерять рюкзак.
Подойдя к белоснежному внедорожнику, женщина зло рванула на себя одну из дверей и швырнула внутрь пуховик и почти выпавшую из него дочь.
— Живо пристегнулась! — приказала мать. — Дома будет серьезный разговор.
Девочка оттопырила нижнюю губу, опустила взгляд в пол машины и стала продевать замерзшие руки в петли ремней.
Усевшись в водительское кресло, женщина потянулась было к кнопке включения двигателя, но поймала взглядом зеркало заднего вида. В нем девочка, замерев, смотрела на мать, при этом, казалось, совсем не замечая ее. Пальцы застыли на ремне, а лицо выражало вовсе не испуг, а будто удивление от того, что все это могло произойти с ней. Женщина опустила плечи и устало развернулась к дочери.
— Воровать?! О чем ты думала?! Как такое вообще могло случиться? — спросила она со смесью разочарования, обиды и упрека.
Голос матери вернул дочь обратно в бежевый салон их машины. Моргнув, девочка снова увела взгляд в пол и спрятала недоумевающее лицо под навесом густой черной челки. Не глядя и как можно более беззвучно она застегнула ремни и продолжила сидеть с низко опущенной головой.
Мать, не дождавшись ответа, повернулась к дороге, раздраженно отбросила вниз солнцезащитный козырек с вдетым в него зеркалом и длинными пальцами начала торопливо и больно вытирать под глазами следы пережитой ярости, задетой гордости и глубокого стыда за дочь и за себя.
Наконец она завела двигатель и немного подождала, пока печка отогреет заиндевевшее лобовое стекло. Женщина уже собралась выворачивать на дорогу, но, напоследок оглянувшись на школу, заметила, что из дверей здания в их сторону выбежала блондинка с аккуратным каре и в синем пальто-футляре. Та подала рукой знак подождать и торопливо застучала к ним черными лодочками по желто-красной от листьев дорожке. Женщина узнала в блондинке секретаря директора. Вздохнув, она поставила ногу на педаль тормоза и опустила пассажирское стекло.
— Анна Леонидовна, мы проверили все шкафчики и не нашли ни кулона с цепочкой, ни книжки с наклейками. Директор и семья Анжелики просят вас убедиться, что пропавших вещей нет в рюкзаке и карманах Марины.
— Прямо сейчас?
— Если это вас не затруднит.
— Затруднит. Это был непростой вечер для всех. Поэтому прямо сейчас я планирую ехать домой, а не возвращаться в школу и подвергать свою дочь обыску. Поверьте, если мы обнаружим одну из пропаж, мы тут же вернем ее владельцам или, если угодно, принесем завтра же в кабинет директора.
— Но кулон очень дорог семье…
— Тем более им не стоило позволять шестилетке приносить его в школу! – внезапно взяв высокую ноту, перебила секретаря Анна Леонидовна. Выдохнув, уже обычным голосом: — Я прошу прощения, нам еще предстоит долгий разговор дома. Вынуждена с вами попрощаться.
Не дожидаясь ответа, женщина подняла стекло, резко вывернула руль влево и вжала педаль газа.
Спустя час молчаливой дороги мать с дочерью выбрались из городского лабиринта. Уже совсем стемнело, когда они зашли в тихую квартиру на девятом этаже их высотки на окраине района. Не разуваясь, мать села на кушетку у двери, шлепнула сухой ладонью по выключателю света в коридоре и уперлась строгим, ожидающим взглядом в дочь. Та, в розовом пуховике, цепляясь большими пальцами за лямки рюкзака, все так же прятала глаза под челкой. Прошло минут десять, пятнадцать или даже час.
— Снимай рюкзак и показывай все карманы, — наконец нарушила безмолвие мать.
Девочка начала послушно раздеваться, нерешительно опуская одежду прямо на пол рядом с обувью, и опустошать один за другим карманы куртки, кофты, джинсов, рюкзака. Свои сокровища она любовно выкладывала на полку рядом с кушеткой. Пони, фигурки кошечки и двух принцесс, три разрисованных камушка, пара фантиков, один самодельный браслетик, оригами-гадалка, маленький фломастер с блестками, резинка, леденец и прочая ерунда. Ни кулона, ни цепочки в этой коллекции не оказалось. Женщина проверила даже носки дочери и обложки тетрадок. Безрезультатно. Через полчаса обысков мать, все еще одетая в пальто, повернулась к дочери, стоявшей перед ней босиком на холодной плитке прихожей теперь уже в одних трусах. Закрыв на пару секунд глаза, она глубоко вздохнула, шумно выпустила воздух, обернула запястья дочери своими ладонями и, пытаясь заглянуть ей под челку, вполголоса медленно произнесла:
— Я спрошу тебя сейчас только один раз. Ты должна ответить честно. Это важно. Ты брала вещи Анжелики?
Девочка, не поднимая глаз, на несколько секунд задержала дыхание. Потом осторожно выпустила воздух и еле заметно задышала снова.
Женщина, подождав с минуту, разжала ладони и тоже опустила голову.
— Мне очень стыдно за тебя. Твоему отцу, когда ты ему об этом расскажешь, станет еще более стыдно. В этой школе ты учиться больше не будешь. И осенние каникулы в наказание готовься провести у бабки, — ровно и отчужденно, как судья, сообщила, глядя в пол, свое решение мать.
Девочка на мгновение подняла робкий взгляд на нее, снова оттопырила нижнюю губу, но тут же нырнула глазами вниз.
Еще раз шумно вздохнув, женщина достала из кармана телефон и принялась набирать чей-то номер.
— Алло, Ольга Витальевна, это мама Марины. Мы пока не нашли ни одну из вещей вашей дочери. Но я вам обещаю… — начала она извиняющимся тоном в трубку.
— Ой, Анна Леонидовна, — перебила ее трубка. — Вы буквально на мгновение меня опередили. Я уже набирала вас. Анжелика нам все рассказала. Из кулона она, оказывается, сделала «секретик» в саду. Помните, как мы в детстве под стеклышками закапывали? И не смогла его потом найти. Мы завтра всю площадку перероем. Kнижку с наклейками Анжелика, возможно, тоже сама спрятала где-то. Понимаете, она часто теряет вещи, в том числе дорогие, просто забывает, куда их кладет. Мне очень жаль, что она решила все свалить на Марину. Я очень извиняюсь. Инцидент неприятный, но я уверена, что…
Трубка продолжала что-то стрекотать, но женщина уже не слушала оправданий матери Анжелики. Она ошеломленно смотрела на дочь, спрятавшуюся от нее где-то далеко и глубоко.
— Почему ты не сказала, что это не ты?
Молчание.
— Тебе повезло, что Анжелика рассказала правду.
Голова дочери опустилась еще ниже.
— Ты понимаешь, чем тебе это грозило?
Девочка стояла не дыша.
— Думаешь, я бы тебе не поверила?
Ни звука, ни жеста.
Женщина уже собиралась встать, как дочь внезапно вынырнула из своих глубин и подняла глаза на мать.
— Я останусь в школе? — хрипло спросила девочка.
— Да, Марина, все в порядке. Ничего не меняется.
— И никуда не поеду?
— Да, извини, я была неправа…
Девочка протянула руку к маленькому пони в горе безделушек. Обхватив пальцами с обеих сторон розовый пластик, она сильно надавила на игрушку и разделила ее на две половинки. Внутри было что-то маленькое, поблескивавшее в унылом свете прихожей, с тонкой золотой цепочкой.
Женщина посмотрела из-под сведенных бровей в чужие глаза дочери и сжала губы в тонкую красную линию на пожелтевшем лице. Она уже открыла было рот, готовясь обжечь дочь чем-то привычно-суровым и злым, но тут будто невидимая пружина вдруг разжалась в обратную сторону, пробив незримую стену внутри нее самой. Она на секунду задержала дыхание, неслышно выдохнула, и, покачав головой, опустила ее, закрыв глаза.
Девочка же продолжала смотреть на мать, точнее, сквозь нее, все с тем же удивленным выражением, как будто не веря, что это все-таки случилось, получилось.

Восьмой этаж
Я открываю дверь парадного, всю в царапинах и с облупившейся краской внизу, и спокойно шагаю в черную пустоту за дверью. Ступеней не видно, в воздухе пыль, и как будто летучие мыши шуршат под потолком, но мне не страшно. Уже не нужно стоять перед лестницей по нескольку минут, пока по темным углам перестанут прятаться тени.
Поднимаюсь и смотрю вверх, в просвет между пролетами. Надо мной — воздушный столб, сложенный из блоков лестничных клеток, сигаретного дыма, запаха жареной картошки, пыли и ругательств. Наталья Андреевна не могла знать, что атмосферный столб из урока по природоведению может весить намного больше, чем написано в учебнике.
Мой дом из лего точно так же делил воздух на блоки. В каждом блоке я ставила бумажный горшочек с цветами, или селила куклу, или расставляла бумажную мебель и оставляла пустым, представляя себе, что хозяева ушли по своим делам. А когда утром уходила в школу, ставила дом на подоконник, чтобы он тоже проветривался и все, кто в нем жил, дышали свежим воздухом.
Я поднимаюсь выше, скользя ладонью по перилам. Четвертый этаж — тут жила тетя Маша и тут всегда было пыльно. Соседи сверху сметали мусор вниз, подметая свою лестничную площадку, и пыль часто клубилась в потоках воздуха, пробивавшегося через старые газеты, которыми тетя Маша заклеивала окна. Газеты создавали желтоватый полумрак, отчего на этом этаже всегда казалось, что на улице осень.
Тетя Маша часто звала меня в гости, если мы встречались на лестнице. Помню ее занавески из белого тюля с ромашками, желтыми от частых стирок, и пятном от утюга внизу. У нее было всегда тепло, пахло пригоревшим маслом и старыми покрывалами. Она думала, что я стану врачом, и все время спрашивала, как я учусь. Я говорила, что хорошо, и она кивала, часто тут же уходя в свои мысли, а я представляла себя в белом халате и как я пишу в журнале ровным почерком и сижу с прямой спиной за столом.
Восьмой этаж — мой. Вот дверь моей квартиры, мы ее обшивали дерматином все вместе. Желтые гвозди, выстроенные ровным большим ромбом, запыленный глазок. Маме хотелось красоты и шика, но она не умела управляться с молотком, поэтому дядя Толя, мамин знакомый, должен был все переделать заново, отчего бабушка тогда очень перенервничала и пила валидол. А еще бабушка знала толк в изяществе и стиле, ее мнение было важно во всем. Мама могла быть уверена, что ей все еще идет и та юбка, которую они с бабушкой выбрали в ЦУМе перед моим первым классом, и что сумочка «не слишком».
Еще бабушка преподавала в школе и умела добиться хороших оценок от ученика. Мы с ней занимались каждый день начиная с третьего класса, как только стало понятно, что «… катится ребенок по наклонной плоскости». Мы учились правильно записывать условие задачи — каждое действие на новой строке, выдерживать наклон букв и держать осанку — всем тем вещам, которые помогут мне научиться самодисциплине и выправить оценки.
* * *
В пятом классе закончились первые в моей жизни экзамены. Влетев в квартиру, бросив портфель в коридоре, я широко открыла дверь в кухню и торжественно впечатала табель прямо в то же место стола, где всегда вечерами лежали моя тетрадь и учебник.
Бабушка и тетя Маша, пришедшая незадолго до этого в гости, пили чай с бабушкиным печеньем и обсуждали виды на мое будущее. Когда я вошла, они обе по очереди начали меня хвалить и говорить, что я молодец — старалась и заработала оценки своим трудом. Потом я пила с ними чай и рисовала на бумажке домик — крыша, окошко, в нем цветочек, тропинка вьется прямо к двери.
Тетя Маша сказала, что у нее знакомые в областной больнице и что, когда я стану врачом, она договорится, чтобы и мне выделили комнату в нашем доме рядом с ее квартирой на четвертом этаже. Я вспомнила ее желтоватый тюль, запах старых газет в коридоре. Посмотрела снова на свой нарисованный домик. Гигантское окно в полстены, занавески закрыли окно, дверей нет. Еще и крыша тоже была неровной и словно нависала над окном. Я закрасила крышу, превратив ее в пятно чернил. Потом зарисовала окно с цветком. Потом стала закрашивать весь дом.
— Не горбись. — Бабушка взяла у меня лист с рисунком. — Что ты рисуешь такое, ужас, одни кляксы.
Бабушка скомкала лист и выбросила его в мусорное ведро под раковиной.
Я вышла из кухни и побрела в свою комнату, там, на подоконнике, ждал меня мой домик из лего.
Мама и бабушка затеяли уборку у меня в комнате. На полу не было ковра — он лежал свернутым в углу. Все мои книги и тетради, мои смешные лепреконы, мои ручки и карандаши были сметены в сторону и лежали горой на углу стола. Сесть негде. Стул стоял на столе вверх ногами. Занавески оказались сдвинуты и прижаты краем стула. Подоконник пуст — на нем не было моего домика из лего.
Он стоял на столике перед зеркалом, аккуратно накрытый бабушкиной вязаной салфеткой: кружевной, белой, такой же как на старом телевизоре у бабушки в комнате. Телевизор нельзя было трогать без спросу. Я остановилась тогда на секунду перед ним, не зная, что делать, и не решаясь убрать салфетку.
Резко загудел майский ветер, раскрыл окно и надул занавески, стараясь оторвать их от стула. Ветер наполнил комнату таким свежим воздухом, такими обещаниями лета и бескрайней синевы над головой, что я тут же подбежала к окну. Опершись на подоконник, я стала смотреть, как ветер колышет верхушки тополей.
Потом подошла к столу и стала стаскивать с него стул, чтобы забраться повыше и больше увидеть. Занавески, вырвавшись из плена, начали трепыхаться от ветра, пока не перехлестнулись через карниз.
Залезла на стул, поставив его перед окном.
Ветер дышал и летел вперед, ничего не знал про уроки и про внеклассное чтение, про алгебру и про необходимость быть всегда внимательной, собранной и про то, что не бывает результата без труда. Ветер не был нарезан на кубики, как в наших лестничных пролетах, поэтому мог свободно играть с облаками, несясь куда-то с востока на запад.
Встав на стул и раскинув руки, как птица, я смотрела через окно в небо, высоко задрав голову и наклонившись вперед. Облака летели, несясь над крышами, пролетая над тополями, вели за собой куда-то, где не было ни неба, ни земли, где только синяя гладь, воздух такой чистый и свежий, что его хочется пить, и все ясно, и все только начинается.
И я полетела, полетела за облаками.
* * *
Подхожу к квартире. Вот дверь. Наша обивка, гвозди, дерматин. Сколько раз я уже была здесь. Закрываю глаза.
На столе все книги расставлены ровно в ряд, карандаши собраны в стаканчик, маленькие фигурки лепреконов стоят кружком. Мама всегда выставляла их так после каждой уборки.
«Это же моя книга, я же там читала, а вы закрыли страницу».
«И где мой домик? Там же жила моя кошка. Там жила я. Где я теперь буду?»
К трем часам дня у меня уже был свой дом. Только мой, для меня одной. С настоящим номером на бирке. А еще теперь я могу летать, куда захочу. С ветром и облаками.
«Мама, можно я заберу своих лепреконов?»
* * *
Боже, кто выбрал эти гвозди? Уже такого не найдешь нигде, даже если захочешь. Стучу по обивке кулаком, звонок давно не работает.
— Тамара Ивановна, это я, откройте.
— Ксюша? — Голос из-за двери громкий, как у полуглухого человека. — А где Ксюша? — Старушка смотрит на меня, потом на мою сумочку, потом снова на меня. Видит меня, а не то, что другие. Отлично.
— Тамара Ивановна, здравствуйте, — повторяю все те же слова-заклинания, как и на прошлой неделе. Еще немного, и она узнаёт во мне работника социальной службы. Лучше так.
Сегодня снова, наверное, будем печь наше печенье. На прошлой неделе чуть не сожгли занавески.
Теперь буду приходить каждую неделю.
Скоро, наверное, и каждый день.
А потом — потом мы снова будем вместе. Мама, я и бабушка. И сможем все-все друг другу рассказать.

Грех
Плёнка предательски вылезала из-под рукава: любимый пиджак в клеточку заканчивался чуть выше запястья. Миша вытащил одежду из комода и перемерил всё, у чего был рукав. Заявиться так домой — это будет слишком. У серого джемпера рукава три четверти. Рубашку он обрезал, когда манжеты превратились в лохмотья. Папа взбесится. Он просто слеп, и с ним невозможен нормальный разговор.
Наконец на дне кучи откопался свитер, который он надевал всего пару раз, подарок Карины. Светло-серый, пушистый — Мише он напоминал козлиную шкуру. Карина папе не нравилась. Вообще, все друзья старше двенадцати лет папин тест не проходят: видимо, они теряют безгрешность младенцев. Даша вообще делает вид, что она девственница и любит только свой универ. Он ведь старался сделать всё по-человечески: приехал с Кариной домой, предупредил всех, она испекла какой-то пирог, сёстры накрыли стол… Папа поздоровался и сразу спустился в свою мастерскую, в подвал. Сёстры, потупившись, пили чай, Васёк хихикал. Но он-то мелкий. Нет, на сей раз он так не опрофанится. Миша надел свитер, пнул груду одежды и вышел.
* * *
Собственная женитьба была для него неожиданной. Он вообще был подозрителен к женщинам: от них не было ничего хорошего. Анечка ходила к ним в мастерскую, вышивала покровы на аналои, которые они делали для храма. Она была младше на пять лет, всего шестнадцать. Длинная коса, которая вилась змейкой, когда Аня суетилась (а суетилась она частенько). Лёша смотрел на её ладную фигурку и представлял, что она вьётся на кухне в их общем доме. Ему становилось особенно спокойно в такие моменты.
Когда он приехал к Аниным родителям просить руки, её папа насупился, а мама заплакала. Был сентябрь, но Анечка не пошла в одиннадцатый класс. Они знали, что их жизнь будет совсем иной: у них была духовная семья, община Свято-Никольского храма, там никто не плачет, когда люди женятся. У них будет много-много детей, будет папа, на все руки мастер, и тихая, любящая мать. Вскоре появились Даша, мамин медвежонок, и Миша, папин пшеничный зайчик. Они будут любить своих детей, трудно, но счастливо.
* * *
Дома Уля с порога бросилась на шею. «Покажи татуху!» Она рассмотрела мандалу на левом запястье, спросила, зачем плёнка. «Заживает пока». — Ему был приятен трепет сестры, он придавал ситуации героический оттенок. Васёк был в полном восторге, Соня и Надя заявили, что тоже хотят татуировки. Даша хмыкнула: «Интересно, как ты объяснишь папе?» Миша огрызнулся. Даша поедет в общагу через два дня, она тоже боится. «Интересно, на что она потратила свою стипендию? По-любому не на книжки, раз бесится». Папа не может дать всем, обычно забег выигрывает один.
Сели пить чай. Вышел папа, благостный, как ветхозаветный праотец, присел с ними, коротко спросил, как у каждого дела, и позвал в свою комнату смотреть «Конана-Варвара». Это старый вечерний ритуал, который все любили. Ещё папа читал младшим «Дон-Кихота» по вечерам. Миша уговаривал себя, что он старается. Выпить с папой пива отказался: он не любил подпитые разговоры про церковь. Архиерей слишком бюрократичен, говорил папа, нужно, чтобы в церкви пели все прихожане, как в первых христианских общинах. Нужна красота, а не роскошь. Папа всё говорит правильно, но Мише всё равно.
* * *
Папа не придёт. Он догадывался уже давно, но сегодня окончательно понял. К маме пришла тётя Ира и другие подруги. Звали гулять. Он вытянул окурки из банки с надписью «Шпроты». Он придумал вынести мусор, чтобы не быть здесь, пока они хохочут и гремят сумками, полными бутылок, но уйти почему-то не мог.
Он забрался на подоконник и смотрел, как мама надевает оранжевый пуховик для прогулок — на работу она ходила в другом, зелёном, — и сапоги на каблуках. Тётя Ира вцепилась в щёку своими ногтищами: «Какой ты хорошенький, кудряшки, реснички. Прям не Лёшка, а Алёнушка». «Да, мальчонке без отца-то трудно», — пробасила другая. Ещё одна красила губы, загородив всё трюмо своим жирным задом. Маминого лица не было видно. Она застёгивала сапог.
— Куда вы идёте?
— На блядки, — рассмеялась жирнозадая и причмокнула в зеркало губищами.
Он смутно представлял, что происходит на блядках и где они бывают. Но знал, что ему предстоит тягомотный вечер. Он так и не пойдёт выбрасывать мусор, а останется на подоконнике, смотреть, как исчезают под снегом следы у подъезда. И даже не разогреет курицу из холодильника. Мама вернётся через неделю, когда сойдёт похмелье.
* * *
Сын тихо стучится, заглядывает в комнату. Отец сидит в любимом кресле за книгой.
С.: Можно?
О.: Михаил. Ты что-то хотел спросить?
С.: Я завтра еду обратно, пап.
О.: Как у тебя дела в университете?
С.: Хорошо. У нас проходит практика в клинике, это очень интересно.
О.: Ты уже кого-то лечишь?
С.: Нет, мы только на втором курсе, в это время ещё не допускают. Мы наблюдаем, как лечат другие врачи.
О.: А, другие. Что ж, Михаил, я рад за тебя.
Молчание.
С.: Пап, я ещё хотел тебя попросить…
О.: Да, сынок?
С.: …Ты мне можешь дать сколько-нибудь на следующую неделю?
О.: Хм. Ты помнишь про нашу договорённость?
С.: Мы вроде бы договаривались, что я трачу свою стипендию и спрашиваю у тебя по мере необходимости.
О.: Но у тебя было ограничение. Мы договорились, что я прибавляю половину к твоим доходам. На прошлой неделе я дал тебе полторы тысячи, на этой, насколько я знаю, у тебя приходит стипендия.
С.: Да, папа, она пришла позавчера. Я половину заплатил за общежитие, а остальное… потратил.
О.: Потратил… Ах да, вижу, у тебя новый свитер.
С.: Уже октябрь, а у меня вся одежда — с коротким рукавом.
О.: Что ж, это разумно. Давай посмотрим, сколько тебе нужно.
С.: Еда и проезд.
О.: Ты должен учиться сам тратить деньги и распределять свои доходы, поэтому я не даю тебе много. Хочу, чтобы ты это понимал. Пора уже быть самостоятельным, а то ведь некоторые до старости висят на шее у родителей.
С.: Да, папа, я понимаю.
О.: Но я знаю, что ты умный мальчик. Просто хочу, чтобы ты меня тоже понял, а деньги я, конечно, дам. Если у тебя нет ничего с длинным рукавом, свитер действительно необходим. Восемьсот рублей хватит?
С.: Да, вполне достаточно. Я всё понимаю, пап. Я постараюсь.
О.: Успехов тебе, сынок.
* * *
Дашка плакала. «Папа сказал: мне нечего тебе дать». Они курили у пруда на соседней с домом улице. Мише было стыдно.
— А на что деньги нужны?
— Противозачаточные.
— Ты же лесби!
— Девушке. У неё какой-то мужик. Я боюсь.
Летом на пруду плескались гуси, но теперь был уже не сезон. Пруд подергивался ледком, в середине — легкая рябь, у берегов — застывшая ряска.
— Дашк… Давай я тебе свои деньги отполовиню. Тоже ведь папины.
— Не стоит. — Даша высморкалась в рукав. — Мы разберёмся.
Мише было очень стыдно. В конце концов, Даша и правда лучше училась.

Димин остров
В некотором царстве, в некотором государстве, а именно в России, давным-давно, в двадцатом веке, в восьмидесятых годах его, родился мальчик Дима. Был он не лучше и не хуже других: ходил в школу, гонял во дворе в футбол, девочку любил из соседнего подъезда. Не взаимно, конечно, но и недолго, года два. Рос он без отца. Зато он ни разу не встретил на кухне большого волосатого человека в семейных трусах, который, выдыхая сигаретный дым в форточку, косился бы на него пьяным глазом и хрипло басил, цокая зубом: «Да, шкет, хлипковат ты. Вот я в твои годы…»
Мама много работала, Дима видел ее редко. Богом Диминого детства была бабушка: все знала наперед, все прощала и назойливо стремилась к тому, чтобы ему было сытно, тепло и одеяло не сползало.
Сверстники Димы хотели стать космонавтами, пограничниками, потом бизнесменами, рок-звездами и рэкетирами. Он же грезил о другом: не вставать рано и не мерзнуть зимой.
Аромат осенней прелой листвы не рождал в нем романтического настроения. Ему мешали жить ветер и дождь. И шапка. И куртка, в которой, если застегнуть, то жарко, а если расстегнуть, то холодно и дождь попадает на рубашку. Ботинки промокали, и стельки дешевых ботинок красили в синий цвет и без того бледные худые ноги.
Зимой он страдал невыносимо. Сквозь окно школьного вестибюля Дима долго смотрел, как одноклассники выскакивали после последнего урока на заснеженный школьный двор. В куртках нараспашку, они смеялись, играли в снежки, пихали друг друга в сугробы. Мысль о падении в снег была сродни мысли о казни декабристов. Он решался на это, гордо задрав подбородок, который тут же прятал в шарф. Страшная казнь была неминуема, но он старался встретить ее достойно: старшеклассник Вовчик, неандерталец, поджидал его. Оттягивая капюшон, он сгребал Диме за шиворот снег и глумливо хихикал.
Ему было жалко себя. Бабушка гладила его по голове подрагивающей рукой, он обнимал ее, ревел навзрыд, и ему становилось светло и спокойно. Бабушка умерла, когда Диме было шестнадцать. Вместе с ней ушло беспощадное детство, наступила бестолковая юность.
Дима закончил школу, поступил в институт. Не в тот, который хотел. Он ни в какой не хотел, поэтому подал документы в ближайший к дому.
Потом он устроился на работу. Работа не доставляла ему ни радости, ни горя. Она не доставляла ему ничего, кроме скуки. Дышащая креозотом пасть метро по утрам проглатывала его и выплевывала через восемь остановок. Переступая отдавленными ногами, Дима привычно соизмерял шаг со скоростью движения зевающей толпы. Поток людей выносил его на тротуар, как сонная река прибивает к берегу трупик мелкой рыбешки: волны на гальке шевелят безвольный хвостик. Шевелился безвольно и Дима. Шевелился лет пятнадцать, пока детские мечты — не вставать рано и жить, где всегда тепло, — не сложились однажды бессонной ночью в отчетливую картину. На этой картине щедрое тропическое солнце отражалось в невысоких волнах, вежливо накатывающих на песчаный пляж небольшого острова, заросшего пальмами. Дима, вернее сказать, Дмитрий Иванович, понял, что хочет остров.
Для начала Дмитрий Иванович решил уволиться с работы. Заявление на увольнение начальник отдела порвал, выругался матерно и стал настаивать на визите Дмитрия Ивановича к психиатру. Жена Дмитрия Ивановича в целом поддержала руководство. Теща обозвала придурком. То, что теща о нем невысокого мнения, Дмитрий Иванович всегда знал, относился к этому, как к подоходному налогу — философски, но непонимания жены он не ожидал. Он обиделся, обозвал тещу старой кошелкой, жену — дурой, взял бутылку водки и пошел к соседу. Те времена, когда алкоголь продавали круглосуточно, прошли и поговорка «сколько водки ни бери, все равно два раза бегать» стала не актуальна. Сосед был человеком опытным, имел дома запас. Когда принесенная бутылка ушла под соленые огурцы, сосед достал свою и маринованные помидоры. Они обсудили основные мировые проблемы и наметили пути их решения. Проблемы были серьезными, но решения оказались на удивление просты. Окрыленный осознанием этого, Дмитрий Иванович поведал умному и тонко чувствовавшему собеседнику о своей беде: он хочет переселиться на остров, а жена с тещей его дураком обзывают и еще по-всякому. Сосед был близок к разгадке тайны мироздания. Он смотрел внутрь себя и видел вселенную. «Правильно называют», — сказал сосед, прервав созерцание космоса, и икнул. «Ты псих», — добавил он и снова икнул. Дмитрий Иванович разозлился и ударил соседа в глаз. Сосед ударил его по уху. Тут пришла жена соседа, отлупила обоих веником и вытолкала Дмитрия Ивановича за дверь.
Утро взорвалось в голове болью. Ухо саднило. Физические страдания изнуряют человека, он слабеет духом, сомневается в собственной правоте, спросите хоть следователей НКВД. Дмитрий Иванович сдался.
Психиатр оказался худым, сутулым парнем в мятом халате. Он выслушал Дмитрия Ивановича, долго расспрашивал про травмы головы, пьющих родственников и насилие в семье, проводил малопонятные тесты. Когда доктор спросил, как давно он мечтает уехать на остров, Дмитрий Иванович честно ответил: «Всю жизнь». Психиатр посмотрел на него глазами спаниеля. Держа в руке справку о своем совершенном психическом здоровье, Дмитрий Иванович заметил, как психиатр подпер щеку рукой, вздохнул и посмотрел сквозь окно в московский ноябрь. Там разноцветным неоном сверкала вывеска торгового центра: над буквами склонились пальмы, под ними бежали волны.
Выйдя из психоневрологического диспансера, Дмитрий Иванович разозлился. Нет, на начальство, коллег, правительство, жену и тещу он злился часто. Он впервые разозлился на себя, на то, что посмел сомневаться в себе. Не обращая внимания на ругань и слезы жены, он продал доставшуюся от родителей трехкомнатную квартиру, которую сдавал. До окончания срока контракта оставалось два месяца, но он не стал ждать, потеряв на этом немало. Денег, вырученных от продажи квартиры, на большой остров не хватало. Клерки агентств по торговле недвижимостью разводили руками и с сожалением качали головами. Он сутками не вылезал из-за компьютера, искал сам. Маленьких островов не продавали. Глаза стали красными. Кофе проступал желтизной на коже нижних век. На ладонях появились следы от ногтей.
Через месяц сосед зашел выпить мировую, но, разглядев осунувшееся лицо Дмитрия Ивановича, засомневался, спросил о здоровье. Узнав о его трудностях, сосед сказал: «Ты пока наливай, а я Андрюхе наберу. Брат мой двоюродный в Панаме. Шоферит в посольстве».
Через неделю Дмитрий Иванович прилетел в Панаму. Соседский брат встретил его в аэропорту. «Короче, так, — сказал он и промокнул платком бритую макушку. — Есть кое-что для тебя. Один местный барыга купил островок для себя, самолеты с кокаином из Колумбии хотел принимать. Даже взлетку построил. Но не срослось: наркобароны его завалили. Вдова отдаст по дешевке. С тебя три штуки гринов». Дмитрий Иванович матюгнулся про себя, но, поразмыслив, осознал, что цена за посредничество божеская: оставалось еще и на лодку с мотором, и на жизнь.
Прошел год. Дмитрий Иванович дремал и слушал шум волн и жену. Жена, зевая, говорила: «Твой доктор совершенно не умеет ловить рыбу. Утром поймал одну ставридку. Зато сосед наш сегодня отличился: двух тунцов притащил. Хорошие стейки получатся. Мама завтра пожарит». «Завтра к западному мысу пойдем, попробуем марлина взять», — ответил ей Дмитрий Иванович и уснул.

Дядь Паша
Дядь Пашу знала вся деревня, жил он один, на нашей улице. Маленький домик, замазанный светлой глиной, а перед домом — самая высокая черемуха, какую я только видела. В августе родители знали, где нас искать — мы сидели на углярке и до того объедались этой черемухой, что начинали болеть языки. Никто нас не выгонял.
Постоянной работы у дядь Паши не было. Лет десять назад он попал ногой в тракторную гусянку, ногу зажевало и через круг выплюнуло уже покореженную. Несколько операций, раны зажили, но хромота осталась, и такого тракториста держать не стали. Тем более что он часто выпивал.
Дядь Паша так же, как и мы, любил болтать и фантазировать. Он знал все наши истории. Про рыбалку и купание на местной речке, про ворованную кукурузу и горох и про то, кто из нас с кем поженится. Или вот привезут соседям машину щебёнки, а в некоторых камешках попадаются золотые слюдяные вкрапления. Как муравьи, мы ползаем по насыпи этой, собираем каждый себе сокровища. И дядь Паша с нами ползает, а лучшие камешки отдает самым маленьким детишкам.
Интересно, что малыши никогда его не боялись, хотя лицо его и зимой и летом было темным, как подошва. Глаза были сизые, с нависшими веками. Нормальных зубов почти не осталось, а полуседые волосы он, кажется, стриг сам и как попало. Одевался всегда в одни те же рабочие штаны, оставшиеся у него еще с колхоза, и коричневую рубашку с нагрудным карманом — там лежала пачка дешевых сигарет. Из ворота рубашки в любую погоду выглядывали его худые загорелые ключицы.
Одним летом вдруг появился в глиняном домике новый жилец. Кирюше было два года. Молчаливый, плохо одетый и вечно голодный малыш так же, как и его дед, стал слоняться по улице. Только эта картина никого уже не веселила. Наши родители хмурились, когда замечали Кирюшку у своей калитки. Сначала его подкармливали, но понемногу пришли к тому, что просто тихонько прогоняли.
Дядь Паша стал проситься к людям помогать по хозяйству — кто-то даст денег, кто-то — продуктов. Так они с внуком и перебивались. Бросить пить ему было трудно. Иногда, совсем осоловелый, он приходил к деревенским женщинам и, когда те открывали дверь, опускал глаза и старался не дышать вперед. Женщины сердились, но ужин для Кирюши собирали. Знали, что дядь Паша сам не съест.
К концу лета мы заметили под черемухой маленькую женщину с серыми волосами, собранными в хвост, и поникшим беременным животом. Она тоже переехала жить в глиняный домик, а скоро родила Кирюше братика Стёпку.
Подражая своей матери, подрастающие мальчишки называли дядь Пашу папой. За это мы прозвали их дурачками.
Женщина с серыми волосами хоть и не пила, но тоже нигде не работала. Она взялась привести в порядок запущенный дядь Пашин огород, где среди травы и крапивы никогда не было видно картошки. Она бессмысленно копошилась то тут, то там, и урожай ее всегда был жалким. Один год она завела кур, но сарайка оказалась худой, и цыплята разбежались через щели. Каких поймали коты, а каких передавили на дороге машинами. Соседи долго смеялись и, вскидывая руки, спрашивали, ну чем же она детей-то кормить собирается? А она улыбалась виноватой дядь Пашиной улыбкой.
Я помню, как на широкой песчаной дороге мы начертили футбольное поле и обозначили ворота. Я вынесла синий резиновый мяч, и игра началась. Низкое вечернее деревенское небо стояло куполом над нашей бешеной возней. Подсвеченный солнцем, горящий край небосвода оказался прямо напротив горючей тяжелой тучи, которая медленно наползала на деревню. Мы орали и визжали так, что срывали голоса и кашляли взахлеб. Дядь Паша, которому теперь запрещалось курить в доме, вышел на дорогу с сигаретами, увидел игру и тут же стал носиться с нами за глухо булькающим мячом.
Вышли бабушки и мамы загонять домой малышню. Но дети не поддавались, поэтому женщины скопились у забора и, позевывая, болтали обо всем. Когда дядь Паша терял на бегу резиновые галоши, они хохотали и просили его не рассыпаться в свои широкие штаны. Потом на шум повыходили мужики, зажгли сигареты и стали своими зычными голосами давать шутливые футбольные советы. Но вот дядь Паша остановился, рассеянно оглядел контрастное небо и сказал:
— Я, наверное, все…
Он молча поднял с травы пачку сигарет и пошел к своему дому. Мы стали кричать, уговаривать его остаться, но он нас не слушал и шел тихонько, не оборачиваясь, сутулясь еще больше, чем обычно. А под черемухой упал как-то неказисто на один бок. Мы не шевелились и смотрели. Мы так привыкли не принимать всерьез дядь Пашины радости и горести, что просто ждали продолжения. Стояли молча и наши родители. И только одна старушка в тишине вдруг закричала так тонко, что всех нас проткнуло холодом. Игроки и болельщики одновременно кинулись вперед и стали делать каждый что умеет — щупать пульс, слушать дыхание. Разорвали старую рубаху, но тощие косточки на груди уже не поднимались. И таким страшным показался нам, детям, дядь Паша без своей улыбки.
Лето еще не кончилось, и через пару дней мы легко обеспечили высокую похоронную явку. Впервые мы тогда попали в глиняный домик, где не оказалось электричества. В полутьме мы столкнулись с двумя парами больших настороженных серых глаз. Мальчишки сидели на стульчиках и внимательно смотрели на людей, которые входили в их темную норку. Кирюшке было уже около пяти, а Стёпке — два-три года. Их мама, одетая по-будничному, сидела так же тихо, как мальчики, и безучастно смотрела под ноги. Из черного на ней был лишь платок.
Мы медленно дотащились до широкого и выпуклого на холме деревенского кладбища. У могилы покорный Кирюшка вдруг стал оглядываться на взрослых. Он понял, что яму хотят закопать, и стал отбирать у мужиков лопаты.
— Там папа, там папа! — кричал он.
— Папа! Папа! — повторял за ним Стёпка, и все прижимали к глазам платки и рукава, а старушки стали садиться прямо на землю.
В футбол мы на дороге больше не играли. И на черемуху не лазили, хотя нам по-прежнему никто не запрещал. Маленький домик вообще опустел, а глина пошла широкими трещинами. И стало нам страшно к нему подходить, да и выросли мы — не до черемухи теперь.

Конец года
Пока Сергей ехал из аэропорта домой, билеты в Бильбао подорожали в два раза. Оля сказала: «Давай придумаем другой вариант». Сергей пожал плечами — то ли расстроился, то ли снова устал. Дети уже спали. Надо же, в эти новогодние каникулы даже Шурику будет нужен полноценный билет — в декабре ему исполнится два. Надо бы заказать торт. Сергей сказал: «Реши сама». Добавил: «Давай без танцев с бубнами в этот раз».
И ушёл в спальню. Зря она его ждала, он все равно не сел бы рядом с ней напротив сайта с авиабилетами, полный энтузиазма. Бильбао вызывал в нем хоть какую-то реакцию, Сергей давно мечтал поехать в те места — мокнуть под январским дождем и пить сидр.
Год кончается, а этот его проект в Минске — нет. Оля потеряла счет командировкам и привыкла не тревожить мужа лишними просьбами в его короткие приезды домой.
Совсем в ночи купила билеты в Барселону. Без багажа получилось вполне сносно на четверых.
Утром наступила суббота. Дети радовались приезду папы. Маша притащила к завтраку стопку рисунков из детского сада, Шурик перевернул чашку с кофе, вертясь на коленях отца. И хотя Сергей выругался почти беззвучно, дети притихли и приставать к нему бросили.
До следующего его отъезда из дома в этот раз оставалось неслыханно много — целых четыре дня.
Вечером Машу и Шурика забрала бабушка. Оля спросила, чем Сергей хочет заняться. Наверное, он почувствовал что-то в ее вопросе такое, о чем она молчала последний год, потому что вместо обычного «пораньше лечь спать» вдруг ответил: «Ну, можно в кино…».
Сеанс был поздний. Времени на сборы было много. Оля дважды стёрла помаду — первая была слишком темная, вторая была слишком яркая. Сменила джинсы со свитером на платье, купленное в начале сентября и ни разу не надетое. Сергей лежал на диване с телефоном, что-то писал, чему-то улыбался.
— Ну как?
Оля вышла к нему, одергивая липнущий к колготкам подол.
— Супер!
Сергей показал большой палец, не выпуская из рук телефона.
За последние три месяца Оля похудела на шесть килограммов, срезала и осветлила волосы. Сергей, казалось, не замечал.
А Оля замечала все. Из предпоследней поездки Серёжа не привёз кашемировый свитер, который она подарила ему на день рождения, — забыл в отеле. Отрастил бороду без предупреждения — раньше советовался. Пару раз вернулся с постиранными вещами, хотя в гостинице не было прачечной. Приезжал в облаке чужих запахов, от которых у Оли кружилась голова и сводило скулы.
На сеанс пришло совсем мало зрителей. В зале было тепло и немного душно. Сергей зевнул.
Начался фильм. Парень и девушка встретились в кампусе колледжа и, держась за руки, отправились на прогулку, горячо обсуждая грядущие выходные в Нью-Йорке.
— Все одним кадром, — сказал Сергей.
Оля ждала этой реплики. Ему нравилось, когда в фильмах было мало монтажа, и он каждый раз подмечал это вслух. Сергей был человеком ритуалов, повторений, длинных списков дел, которые он называл перечнями. Это успокаивало Олю.
Героиня на экране достала тетрадь и ручку. Если бы она стала писать левой рукой, Серёжа бы обязательно сказал: «Левша».
Но он сказал другое:
— Фильм о любви и верности. Ожидаю волну рефлексии от тебя после сеанса.
— Почему волну, почему рефлексии?
— Твои любимые темы.
Все это Сергей произнёс совсем не враждебно, но Оля расстроилась.
Из кино вышли молча. В свете фонарей на грязные лужи падал снег. Оля поежилась: лучше бы все-таки свитер надела. Сергей не спросил, хочет ли она ещё куда-то. Вызвал такси домой.
— Серёжа, помнишь, в ту нашу первую поездку в Гурзуф в какой-то день нам было так скучно, и мы…
— А вот и она, волна рефлексии. — Сергей держал перед собой телефон, следя за тем, как приближается такси. Восемь минут.
Оля закашлялась и замолчала.
До дома ехали, слушая радио, выбранное водителем.
Дома нашлось много дел. Помыть посуду, поменять постельное белье, собрать игрушки с пола. Оля быстро ходила по квартире в рутине своих обычных дел. Сергей почему-то не ложился спать. Громыхал посудой. И вдруг затих.
Оля вошла в кухню снять с батареи высохшие детские варежки.
Вид мужа ее напугал. Сергей сидел, уставившись в стену. Телефона в руках не было.
Только не сегодня, пожалуйста. Оля ещё не успела подготовиться.
— Ну что там с Гурзуфом? — вдруг хрипло спросил Сергей.
— Что?
— Сядь, Оля.
Оля села. Кухня чуть поплыла перед ней.
— Что случилось, Серёжа?
— Давай про Гурзуф.
— Серёжа…
— Почему ты решила это вспомнить?
Стояла жара, они бродили по городку. Красные как раки — сгорели на солнце. Художник шаржей предложил им портрет со скидкой. Смеясь, согласились. Делать больше было нечего. Пока сидели рядом, замерев, придумали игру. Вот они встанут сейчас, заплатят художнику и разойдутся. А потом будто бы случайно столкнутся на набережной, познакомятся, придумают себе другие имена и другие жизни.
Вживание в новые роли давалось нелегко. Поначалу не могли сдержать глупых улыбок. Но игра увлекла, втянула.
Целый день они гуляли, обедали вместе, вместе ужинали, рассказывая друг другу то, чего не было на самом деле. Или было, но не с ними. После ужина в кафе пошли в сторону гостиницы — будто бы Игорь решил проводить Наташу (имена выбрали случайные). В номере продолжили пить вино. В какой-то момент попытались выйти из игры, но не смогли. Легли в постель, не узнавая друг друга.
Та ночь стала ответом на все незаданные вопросы на долгую жизнь вперед. Оля увидела Сергея таким, каким он был бы с другой женщиной, с неизвестной ей Наташей, в кожу которой она забралась и никак не могла выбраться.
— Серёжа, в последнее время ты так далеко от меня. Даже вот сейчас, когда ты дома. Ты в телефоне, в своих мыслях.
— У меня трудный период на работе.
— Тут не только это.
— Тут не только это, Оля? Что с тобой, вообще, происходит?
— Со мной? Не знаю! Может быть, я просто боюсь? Боюсь, что следующие новогодние каникулы я и дети проведём без папы?
— Вот как? Это угроза? Мне что, уволиться?
— Почему ты поменял пароль на телефоне?
— А ты что, шпион?
— И где ты на самом деле оставил свитер?
— Какой, твою мать, свитер?
Оля встала. Руки не слушались, розовая варежка упала на пол.
Целый год Сергей ложится спать, не дожидаясь ее. В командировках не звонит перед сном.
Целый год Оле снятся сны, что она — больше не она, а Наташа, которая никогда не хотела семьи и детей, Наташа, живущая у моря и танцующая на пляже, пьяная, счастливая и молодая.
Оля вышла из кухни. В ванной комнате закончила стирать машинка. Стала доставать вещи: детские футболки, халат, носки…
— Оля! Кстати… Маша стала лучше рисовать. Я сегодня заметил. Люди стали похожи на людей… Оля, это хорошо, что мы поедем в Барселону. Там не будет дождей.
Сергей стоял в дверях.
Оля слышала, как он барабанит пальцами по косяку.

Невидимка
Макс никогда не видел полицейских так близко. Как-то так получилось, что его дорога, пролегающая из дома в школу, из школы в консерваторию, из консерватории на концерты, а с концертов обратно домой, с ними не пересекалась.
И вот теперь один из них, в тёмной форменной куртке с яркими, почти неоновыми нашивками, чем-то напоминавший нахохлившегося воробья, сидел за столом на их кухне и заполнял какие-то бумаги.
Какие именно — он, Макс, не знал. Но то, что все это имело отношение к событиям сегодняшнего дня, было очевидно.
Валентина Андреевна молча мерила кухню шагами.
— Ну, и где мы были? — спокойно, почти равнодушно произнёс полицейский.
— Я украл сигареты в магазине и прятался от охраны. Во дворе.
Вообще-то, украл Игорь. Но об этом Макс решил умолчать.
Полицейский поднял на него уставший, разочарованный взгляд. Смена подходила к концу, дома ждали жена и ужин, а тут такое дело. Сначала его вызвали на дом, как какую-то скорую полицейскую помощь, на поиски не вернувшегося из школы подростка, так теперь и этот парниша признается бог знает в чем. И все это на ночь глядя. А главное, зачем?
Маятник Валентины Андреевны наконец остановился.
— Максим, ну зачем ты врешь?! — как-то даже обиженно воскликнула женщина. — Ты даже не куришь!
Офицер отложил ручку.
Оба ждали. Ждали совершенно другой версии произошедшего, которая бы получше вписывалась в давно решенный финал. Считывать чужие ожидания за свои почти пятнадцать лет жизни Макс научился очень хорошо. Почти так же хорошо, как играть на скрипке, а может, и лучше.
— Я прогулял.
— А врешь-то зачем? — вздохнул полицейский.
Макс пожал плечами.
Впрочем, вопрос был уже скорее риторически-поучительным.
Желаемое было получено.
Макса отпустили в его комнату под домашний арест.
В коридоре ещё слышались разговоры, которые, впрочем, его уже мало интересовали.
Он рухнул на кровать и попытался подключить к телефону уцелевший наушник. Не сработало. Он сунул его под подушку и отвернулся. Мысли крутились вокруг Игоря.
Игорь буквально влетел в спину Максу, отчего новенький наушник, который отец подарил ему на еще не стукнувшие пятнадцать, выпал в мокрую серую лужу под ногами. В его уютный изолированный мир Бетховена ворвался резкий, словно соскочивший смычок, шум улицы.
— Держи его!
Его?
Обернуться он не успел. Как и выловить наушник. Кто-то схватил его за капюшон и потащил вперёд. Дороги было не разобрать; чехол от скрипки то и дело спотыкался о поток людей, а сам Макс — о ботинки и комья мокрой грязи вперемешку с листвой. Но мысли о том, чтобы остановиться, отчего-то не было.
«Беги», — неоспоримо заявил внутренний голос. И он бежал, уже сам.
— Так это они за тобой гнались?
Макс наконец отдышался, прислонившись спиной к влажной кирпичной кладке одного из дворов-колодцев, спрятавших их от давно отставшей погони.
— За этим. — Воришка выудил из кармана пачку сигарет, подкинув ее в воздухе.
— Вор, значит, — заключил Макс.
— Музыкант, значит, — кивнул на чехол Игорь.
— Скрипач.
* * *
Из машины ему выходить запретили. Водитель должен был доставить арестанта до дверей школы, оттуда же и забрать перед репетицией.
Не то чтобы что-то изменилось, но чисто теоретически иметь право все же приятнее, чем не иметь вовсе.
Макс приоткрыл окно и высунул нос на улицу. Было холодно и пахло сырой опавшей листвой.
Игоря он заметил ещё на подъезде. Маленькая фигурка в рыжем жилете мерила шагами расстояние от одного дерева до другого.
Не сговариваясь, они шли параллельно и совершенно не заинтересованно, пока машина не скрылась за поворотом, и только потом сблизились.
— Как ты нашёл меня?
— Это было несложно.
Начался мелкий дождик, и Игорь натянул капюшон. Только сейчас Макс заметил, что концы шнурков на его жилетке были завязаны висельными узлами.
— Так что, ты идёшь?
— Куда?
— Мы вчера не закончили.
— Не выйдет, я под арестом.
— Но ты здесь же.
Макс остановился. То же сделал и Игорь. Между ними были чёрные влажные прутья школьной ограды.
Игорь взялся за них и, подтянувшись, просунул между ними лицо, насколько смог.
— Так придумай что-нибудь, — как-то очень просто заявил он.
* * *
Придумывать по-крупному Максу ещё не доводилось.
Вся его жизнь до этого момента была придумана за него мамой, а оплачена — папой.
Тем более удивительным стало для него открытие, как легко на самом деле поддавался этот мягкий пластилин реальности, если действительно хотеть.
Вечером к нему пришла Валентина Андреевна. Она тихонько отворила дверь в комнату, села на край кровати.
— Максим, давай поговорим.
Он молча сел, отложив телефон.
— Детка, я все понимаю. Школа, репетиции, все это отнимает много сил, ты просто устал.
Школа.
Школу мама не любила. После того как во втором классе он сломал руку, упав со ступенек. Это была случайность, но она стоила ему выступления. Валентина Андреевна так и не смогла этого простить. С тех пор она не раз предпринимала попытки забрать Макса на домашнее обучение. И наверняка забрала бы, если бы отец не настоял на том, что ребёнку нужно общение со сверстниками.
— Я поговорила с директором, ты можешь учиться дома до выступления.
— Мам… Дело не в школе…
— Тогда в чем? Расскажи мне.
Он сунул руку под подушку, извлекая наушник. Один.
— Я его потерял. Пытался найти, но не смог. Вот как все было.
Секунду она молча смотрела на сына. Затем протянула раскрытую ладонь, жестом показывая, чтобы он отдал ей наушник.
— Знаешь, как мы поступим? — Закрыла ладонь. — Я куплю тебе точно такие же, а папе мы ничего не скажем. Это будет наш маленький секрет. Идёт?
Макс кивнул.
— Вот и прекрасно. — Валентина Андреевна потрепала сына по голове и встала, направляясь к двери.
— Мам?
— Да, дорогой?
Она остановилась.
— Школу пропускать ведь необязательно?
Повисла пауза.
— Хорошо, — наконец согласилась она. — Завтра я позвоню директору, скажу, что все отменяется.
— Я просто приду завтра в школу и все.
— Как хочешь. Спокойной ночи.
Макс рухнул на кровать. Получилось.
* * *
Ровно в девять Игорь ждал его у школы.
Питерские крыши были сырыми. Серыми. Скользкими. И бесконечно прекрасными. Они пахли свободой и ржавым металлом. Покрытыми мхом досками.
Игорь, привыкший к такой жизни, легко парил над городом, время от времени ловя за руку — или за шкирку, тут уж как повезёт, — своего менее ловкого товарища.
За день, за тот короткий школьный день, что был в их распоряжении, они успевали обойти две-три крыши. Конечно, это зависело и от района, но больше от вида. Если вид попадался особенно завораживающий, то все время можно было спустить на одну-единственную крышу. Условие было только одно — не возвращаться.
«Первое правило невидимки, — говорил Игорь, — знаешь какое?»
«Ну?»
«Ты можешь делать абсолютно все что угодно, пока всем на тебя пофиг. А второе правило — всем пофиг, пока ты делаешь то, чего от тебя ждут».
* * *
— У тебя есть мечта? — спросил как-то раз Игорь, сидя на краю очередной крыши и свесив ноги вниз. Вид отсюда был не очень. Но они все равно решили остаться. Дождь барабанил по скату, и нужно было ещё успеть высушить одежду в школьном туалете.
— Официальная?
— Официальная — это как?
— А у тебя?
У Игоря мечта была. Настоящая. Он мечтал о том, что как только ему стукнет шестнадцать и он сможет купить билет на поезд, он уедет. Далеко-далеко. К Белому морю.
— Почему к Белому?
— Не знаю, никогда его не видел.
— А другие моря видел?
— И других не видел.
— Так почему к Белому?
Игорь откинулся на спину, заводя руки за голову и смотря в сырое серое небо. Струйки дождя огибали его силуэт и, собираясь в потоки, скатывались вниз. И хотя каждая такая струйка уносила с собой прочь оставшиеся минуты, Макс сделал то же самое.
* * *
Он ходил по краю, в прямом и переносном смысле. И, наверное, его могли бы раскрыть и раньше. Но один факт накрыл его прочным куполом неуязвимости — он стал играть особенно хорошо. И это было главное. Для всего внешнего мира. А, как верно заметил Игорь, он был невидим, пока оправдывал ожидания.
Так бы оно и продолжалось, если бы двум реальностям, наконец, не стало тесно в одном мире.
Это случилось в выходные.
Он сидел, подобрав под себя одну ногу и болтая второй, пока мама перелистывала — в который раз — семейный альбом.
— О, смотри-ка, а это ты с Игорем.
Знакомое имя ударило током.
Макс подскочил, перегибаясь через стол, по пути сбивая розетку с клубничным вареньем, и так же резко замер, смотря на выхваченный у матери снимок.
Край его рубашки медленно становился красным, впитывая пролитый сироп.
Парнишку на фотографии он не помнил.
— Тебе тут три. А это сын нашей соседки, Игорь.
— Не помню этого.
— Ты совсем маленький был. Мы тогда ещё на севере жили.
— Мы ведь больше не переедем? — Макс поднял глаза на мать.
Хлопнула входная дверь.
Отец вернулся из командировки раньше. Они с мамой долго обсуждали что-то в комнате за закрытыми дверями. Макс не подслушивал, но одно он услышал очень чётко — Москва.
Новый мир уплывал из-под ног, захватывая по дороге и старый. Превратившись в огромный поезд, с ревом мчащий прямиком на север, к берегу Белого моря, он проносился мимо, стуча и грохоча колёсами. Варианта было только два — стоять и смотреть, пока не скроется за поворотом последний вагон, или попытаться вскочить на подножку.
Он выбрал второе.
* * *
Ровно в девять утра, как и обычно, он был у школы. Игоря не было.
Найти его дом было несложно. Это была единственная крыша, на которую они возвращались.
Старое здание давно обнесли строительными лесами. Но приступать к реставрации не спешили.
Игорь расположился на чердаке.
— Ты чего не пришёл?
Макс буквально влетел в комнату.
— Так воскресенье же.
Был понедельник.
— Собирайся.
Парень решительно принялся запихивать в свой ранец вещи Игоря. Тот лишь следил за происходящим из старого кресла.
— Куда?
— К морю. Белому. Прямо сейчас.
— Билетов нет.
Макс остановился, поднял на друга взгляд.
Игорь, он что…
— Струсил?
Ответить тот не успел. Дверь на чердак снова распахнулась, и в проёме показалась оранжевая макушка строительной каски.
— Ты что тут делаешь, пацан?
— Валим!
На этот раз уже Макс схватил Игоря за шкирак и потащил через окно на крышу. Стук колёс уносящегося поезда становился все громче. Если его поймают — не выпустят до самой Москвы. Что будет, если поймают Игоря — он даже не представлял. Детский дом, сразу тюрьма? Конечно, все его махинации ещё нужно будет доказать, но…
Нет, им совершенно точно нельзя попасться!
— Слезай оттуда, немедленно!
Ветер трепал доносящийся сзади крик. Было холодно. Второй внезапный осенний мороз сковал вчерашний дождь тонкой ледяной плёнкой, скользящей под ногами. Тяжёлый ранец тянул вниз. Главное, не останавливаться. И не оборачиваться.
Но он не удержался.
Все случилось слишком быстро. Макс дернулся, пытаясь уцепиться заледеневшими пальцами за руку друга. Но последним, что он видел, было лицо Игоря, отдаляющееся от него. Вниз… Или все же вверх?
От резкой боли он распахнул глаза. Сперло дыхание. Вокруг бегали люди в оранжевых жилетах. Он слышал обрывки фраз. «Повезло… Леса…»
— Где он? — Макс попытался подняться, но ему не дали.
— Кто?
Из тумана проявилось лицо в каске.
— Мой друг… Он упал… Он умер?..
— Нет, ты не умер. Ты был один. Всё хорошо.

Нырок
Из пункта А в пункт Б автобус выехал со скоростью 60 км/ч. Первая же строчка из задачника для четвертого класса как по щелчку пальцев переносила меня на трассу М-4, и вместо того, чтобы умножать в столбик скорость на время, я пытался справиться с тошнотой. Будто снова чувствовал запах раскаленной на солнце резины, потных тел и коровьего навоза, налипшего на подошвы. Снова видел раскрасневшихся пассажиров, что толкались в проходе, цеплялись за потертую обивку кресел на поворотах, жаловались на вечно сломанный кондиционер. Прижатый к стеклу какой-нибудь грузной тетенькой, которая обмахивалась журналом «Крестьянка», как веером, — а мне всегда везло на таких попутчиков — я считал телеграфные столбы и пил теплую колу, купленную мамой на вокзале, чтобы не укачивало.
Духота, затекшие ноги и кирпич в желудке — все можно вытерпеть, если знаешь, что у покосившегося знака остановки будет стоять дедушка в неизменной белой шляпе, похожий на Толстого из учебника, только с короткой бородой. И будет махать водителю, разглядев табличку на лобовом стекле, зная, что я стесняюсь кричать на весь салон, чтобы остановили. И когда я спрыгну с подножки на расплавленный асфальт, он встормошит волосы на моей макушке — какой ты уже большой, Юрка, колесо на велосипеде подкачал, учиться будем, во-о-от такую щуку поймал, Юрка, не поверишь, лодку не красил, тебя ждал, рыбаки, будь они неладны, сетей понаставили, я уже двух нырков выпутал…
Вот почему в четвертом классе я не мог решить ни одной задачки про автобус. Бессмысленно вычислять расстояние, если в точке Б никто тебя больше не ждет.
Автобус плетется по неровной дороге, которую так и не отремонтировали за двадцать лет. Кроме меня и Иришки, что посапывает рядом (к счастью, морская болезнь не передалась по наследству), — лишь мужик на заднем сиденье. Печка пашет вполсилы. Еще не рассвело, да вьюга, но я помню, что по обе стороны — только сиротливые черноземные поля. Мелькает знакомый указатель, и я кричу на весь салон, по-взрослому и не стесняясь:
— Остановите у знака!
Подхватываю заспанную Иришку, потуже затягивая шнурки на ее капюшоне, и спрыгиваю в сугроб.
Гравийку занесло. Снег вьется вокруг фонарей. Домишки с темными окнами проступают кривыми силуэтами. Иришка жмется замерзшим носом к щеке, греет дыханием… Щеку обжигает белое южное солнце. Дребезжит велосипедный звонок, потные ладони стискивают руль, из-под колес летят камешки, дедушка вскидывает руки, будто сдается, он меня не держит больше, я сам, сам кручу педали…
— Голодные?
Стоит, дрожит в тулупе, разъеденном молью, и старых галошах.
— Мам, ну куда ты с босыми ногами-то?
Можно подумать, мы вчера виделись. Мама всегда так, ни здрасьте, ни до свидания. Иришка почти проснулась, но рук к бабушке не тянет — то ли в тулупе не узнает, то ли за два года забыла.
В доме натоплено, пахнет прогорклым маслом и луком — пирожки с яйцом, не иначе. Когда здесь жил дедушка, всегда пахло свежей краской… Плоскодонка брюхом кверху сохнет на солнце, а мы, уставшие, перемазанные белилами, пьем остывший чай с чабрецом…
— Давно у нас такой снежной зимы не было. — Мама варит кофе в облезлой турке.
Отряхиваю снег с хрустящего целлофана, в него завернуто десять хризантем, бледных, будто бумажных. Турка — мамина «городская» привычка, как лиловый лак на ногтях, закрашенная хной седина и сборник поэзии Серебряного века с закладкой посередине. Ну кто, скажите на милость, переезжает в деревню и читает стихи?
— Та зима тоже снежная была, — замечаю.
Иришка жует пирожок, а я все смотрю на ее сапожки, что остались у порога… С дедушкиных сапог натекла лужица, прямо на деревянный настил. Подошва с наростом подтаявшего грязного снега напоминает днище ржавого корабля, облепленного ракушками. Дедушка рассказывал, как в войну приходилось скоблить корпус судна на плаву, не дожидаясь захода в док, счищать шершавую скорлупу из моллюсков и водорослей, даже красить. Я, конечно же, не верил — как можно красить под водой? Сковырнув острый камешек, застрявший под каблуком, я представляю, как дедушка в медном водолазном шлеме ныряет в море с кисточкой и за ним тянется длинный след от краски. Кстати, в какой цвет красили днище? Я тогда не спросил. В черный, наверное, как дедушкины сапоги. Хотя, их цвета уже давно не разобрать. Кожа истерлась, сморщилась, потрескалась, как лак на синей двери, что ведет в дедушкину комнату. Как выцветшая репродукция «Девятого вала», что висит над его кроватью. Как лицо дедушки, что лежит на кровати под картиной в комнате с занавешенными зеркалами. Внутри дедушкиных сапог, брошенных в углу, еще тепло и сыро. Я сижу с руками в сапогах и не верю, что когда-нибудь вынырну…
— Пап, озеро. Ты обещал озеро показать.
Иришке не нравится мерзнуть меж надгробных плит, она скоблит носком притоптанный снег.
— Завтра на озеро пойдем, завтра.
Хризантем не различить на белом. Мама безучастно смотрит на мои попытки отполировать рукавом дедушкин портрет. На нем он особенно похож на Толстого… Мама долго стоит, опершись на оградку. Снег покрывает землю на свежей могиле. Выпросил зимние каникулы в деревне, будто знал. Размазанные по щекам слезы стынут на морозе, я дергаю маму за пальто. Ее лицо, что с ним не так? Такое лицо бывает, когда она пьет таблетку от головной боли. В ее глазах что-то, чего я не могу разгадать, сколько ни всматриваюсь. Совершенно сухие, совершенно…
— Ну, не чокаясь.
Пьем водку вдвоем на кухне. Третья рюмка накрыта куском белого хлеба.
— Мам, давно хотел спросить… Почему ты не плакала тогда, на его похоронах?
Мама кривится от беленькой, тянется за пирожком.
— Двадцать лет прошло, Юр, что толку вспоминать.
— Мам.
— О мертвых либо хорошо, либо ничего…
— Кроме правды. Переврали цитату.
Приземистый рыжий сервант — четыре ножки, облупившийся лак, за стеклами пылятся остатки польского чайного сервиза — почему-то мама проводит пальцем по глубокому белому сколу на нижней дверце, что болтается на петле.
— Бляха тяжелая была, латунная…
Мама трет скол, глубокий белый шрам на лакированном дереве.
— С якорем, как сейчас помню.
Острый скол царапает палец.
— Промазал вот однажды.
Мама все трет и трет.
Тогда, на кладбище, в одиннадцать лет, я не мог разгадать, что было в ее глазах. Облегчение.
Хватаю рюмку, ту, что накрыта хлебом с солью, и швыряю ее на пол, проливая водку. Она не разбивается, нет, только катится и стукается о ножку серванта.
— Папа! — Иришка в дверях хлопает ресницами спросонья.
— А ну, в кровать! Живо! — рявкаю я и сам пугаюсь своего голоса.
Морщит лоб, сейчас заплачет.
— Прости, прости, милая. — Прижимаю ее к себе, щекой к щеке, к моей щеке, пылающей, будто ее обжигает раскаленное солнце. — Папа не хотел кричать, прости… Я тебя не обижу, никогда-никогда, слышишь…
Утренний туман над озером. Тонкий лед как пленка жира на остывшем бульоне. Иришка потеряла варежку и греет пальцы в кармане моей куртки, ей так удобно. Сжимаю осторожно ее маленькую ладонь, хрупкую, теплую, как крыло пташки… Крылья бьются в руках, черный клюв норовит ущипнуть, но дедушка старательно распутывает сеть вокруг лап, ругаясь вполголоса на местных рыбаков. Цепляясь за борт лодки, разглядываю нырка. Бурое тельце трепещет. Глупая птица не понимает, что ее спасают.
— Ну, удачи, водолаз. — Дедушка наконец выпускает нырка. Тот, неблагодарный, плывет к камышам не оборачиваясь.
— Уже который по счету? — спрашиваю.
Дедушка пожимает плечами.
— А сколько нырков нужно спасти, чтобы искупить вину? — говорит тихо. — Вот так задача, Юрка…
Смотрю на замерзшее озеро, глаза слезятся. От ветра, наверное. Не знаю, был ли разговор на самом деле, или я только что его выдумал. Мы много в то лето нырков спасли.

Он хорошо стрелялся косточками
Ему обещают, что папа по возвращении c гор привезет большой ящик с живыми лисятами. В комнате темно, и горит только одна настольная красная лампа. Мама и тетя в рыжеватых тенях суетятся вокруг Андрюши, а он кричит, заглядывает им в лица: «Хочу к папе!», они растерянно отводят глаза, отвечают как не ему, а в пустоту ночи: «Завтра утром приедет», он плачет, не верит.
Он любит ходить с папой за руку, возвращаясь из детского сада, идти с ним бойко в ногу и слышать как награду: «Ну, Андрюха, ты у меня уже мужик», а еще запоминать папины рассказы: фиолетовые цветы с длинным горлышком и открытой пастью — петушки, будка на крыше c антеннами и проводами — домик Карлсона, а яркая-яркая звезда на небе — это вовсе не звезда, а планета Юпитер.
Летом, когда они гуляют по парку, под ногами всегда пляшут тени. Андрюша старается наступать только на солнечные пятна асфальта, а не получается, под носок потертых уже сандалий всегда в последний момент проскакивают темные очертания больших тяжелых веток.
Папа — строгий. Он покрыт жесткими волосами. И когда он сидит в туалете, то там, в пространстве унитаза между его ногами, Андрюша видит подозрительную темноту, зияющий волосяной тоннель.
«Мне нужно уйти, а ты останешься сам». Андрюша садится на подоконник, поближе к улице и людям, подальше от платяных шкафов, в которых прячутся злые духи, и ждет — терпеливо, молча, давясь всхлипами, не хочет никого расстраивать. Иногда папа сердится, особенно когда Андрюша делает глупости, например, разрисовывает себе щеки красной ручкой, как у клоуна, или не может спокойно посидеть на плоском камне для фотографии.
Папы он не видел уже очень давно и ждал его возвращения каждый день. Он чувствовал, что что-то изменилось, и мечтал о чуде, таком, как прошлой зимой. Тогда они с папой проходили площадь, где устанавливали новогоднюю елку, шел сильный снег, ветер задувал за края шапки, Андрюша зарывал лицо в шерстяные волокна шарфа, от его теплого дыхания шарф становился влажным и покрывался ледяными иголками, неприятно колол подбородок и щеки. Переступать нужно было по непрочищенным дорожкам, мерзли ноги. Вдруг с самой верхушки елки слетела гирлянда, бледно-розовая, блестящая, невероятная по своей волшебной роскоши. Ее тут же подхватил ветер и понес на проезжую часть. Они бежали за ней, перепрыгивая через сугробы, останавливаясь перед сигналящими машинами, от чего у Андрея внутри от страха все сжималось. Гирлянду, порхающую в метели, заметила и женщина в оранжевой шапочке и с авоськой в руке, она тоже начала преследование, но они оказались первыми; в зимней холодной темноте на подмокшей Андрюшиной варежке лежала звезда, на нее падали мелкие снежинки и таяли. «Как нам повезло!» — громко басил папа всю дорогу домой, «Как нам повезло!» — вторил ему, попискивая, Андрюша. А она отражалась в свете фонарей и разбрасывала маленькие розовые огоньки по его шубе и шапке.
Андрюшу на несколько дней отправили к малознакомой тете, ну, как малознакомой — пару раз мама встречала ее на улице, и они болтали до бесконечности, а он стоял у них почти что под юбками и ждал конца разговора, изучая зеленый досчатый забор и все паутины на нем, заглядывая потихоньку в окна и представляя, а каково это — жить там, по другую сторону стекла, и быть единоличным хозяином этого клоуна или пластиковой розы. Знакомая мамы подрезала ему ногти на руках и ногах и шутила: «А то вырастут и будут торчать как шпаги», и он думал, как он тогда сможет перешагивать через порог квартиры. Потом пришла мама, потемневшая, грустная, какая-то другая, и все время смотрела в пол.
Через несколько дней он снова ночевал не дома, теперь у других знакомых, они жили на восьмом этаже в квартире с собственной ванной. В ней блестело все: и кафель, и раковина, и даже бутылочки с шампунем и кремами. Здесь можно было купаться, как в бассейне. Он стоял в ванной зажмурившись, вслушивался в водопадное эхо и чувствовал кожей щекотливое касание воды, как она ползет, поднимается по ноге вверх, обволакивает ее теплыми струями. Малознакомая тетя принесла резиновую уточку с погрызенным хвостом, и та не крякала, только пускала пузыри воздуха. А потом снова пришла мама, и взрослые стали испуганно шептаться.
Он запомнил, что при упоминании папы у всех лица становились строгими и напряженными. Пропали разговоры: папа — работа, папа — дача, папа — магазин. Работа, дача, магазин — все было по-прежнему. О нем же молчали, как будто вытерли, вычеркнули, как будто его никогда и не было. Андрюша громко кричал «Папа», пытаясь внести его присутствие в жизнь дома хотя бы так, взрослые в такие моменты растерянно смотрели друг на друга, а он не понимал почему и чувствовал сладкую власть над ними.
Теперь он засыпает под мамины уговоры, вспотевший, взволнованный, руки и ноги еще долго подергиваются под одеялом, сон медленно растекается по телу, наполняя его силами и надеждой.
* * *
Проснулся он на следующий день рано, через тяжелые шторы проглядывало солнце, по блеску и той силе, с которой свет проникал в квартиру, можно было сказать, что погода на улице солнечная и дождя не будет. Он привстал с кровати и посмотрел в темный угол: никакого ящика, никакого папы. Только дерматиновое кресло-качалка, красный телефон на тумбочке и записная книжка, на обратной стороне которой папа крупными буквами когда-то написал рабочие телефоны — свой и мамин — «на всякий пожарный случай». И Андрюше стало ясно, что папа теперь стал сказкой, в которую хотелось верить, но которой не было места здесь, на этом деревянном полу, возле этого серванта с блестящими хрустальными бокалами, за этим журнальным столиком.
«Мама, а папа умер?» — Он сам удивился, как легко и отстраненно спросил об этом. Так же просто, как раньше узнавал, что будет на завтрак или когда она идет на работу. Весной они ездили на могилу к бабушке, мама тогда деловито завязала платок на голову, надела перчатки и стала протирать покосившийся железный памятник, тоскливо серый, в ржавых прожилках и белесых пятнах. Папа смотрел на маму, а Андрюша поливал из лейки полевые ромашки вокруг, взлохмаченные ветром, какие-то нерасчесанные.
«Пусть у папы будет тогда большой-большой белый памятник. Из мрамора. А рядом растет вишня. Помнишь, как он вишни любил, а еще хорошо стрелялся косточками».

Папина дочка
Противница подняла руку над доской, взяла ферзя. Саша съежилась. Шах. Среди болельщиков послышался вздох и чей-то приглушенный шепот. Саша остановила часы и пожала противнице руку. Подошел судья, взял бланки, проставил в итоговой таблице результат — 0:1. Саша положила ручку с кожаным блокнотом в сумку и вышла из зала.
На улице ее ждал взволнованный папа, он обнял дочку за плечи.
— Поздравляю!
— С чем? Я же проиграла, папа.
— Ну и что? Зато как играла! Твой ход ферзем был вообще самым сильным, никто в зале не ждал такую мощную контратаку!
Саша вздохнула и опустила плечи. Ход ферзем на крайний левый угол доски был неожиданным даже для нее, этот удар был найден в цейтноте, в этом вечном спутнике запутанных миттельшпилей. Цейтнот — значит, решайся и бей. Веди войско в атаку. Или сдайся, потому что стрелка на часах вот-вот упадет. Саша озадачила противницу этим странным тихим ходом — ферзь ушел назад и спрятался за еще не тронутые с начала партии спины пешек на a2 и b2. Противница проследила глазами за возможным ударом белых, и ее взгляд остановился на собственном короле. Противник грозил напасть на ладью и одновременно объявить шах. Теперь у черных могли быть проблемы. Мастер спорта Барановская обхватила голову руками и задумалась. Через десять минут она нашла единственно верный ход. Саша не смогла больше ничего сделать.
Они уже ехали в автобусе, Саша — поникшая, молчаливая. И папа. Все принимающий. Поддерживающий. Покрасневший от желания убедить, что на самом деле все хорошо. Главное — ты не сидела сложа руки, сказал он. Ты не сдалась, а сопротивлялась до последнего хода, причем как красиво ты это делала. Ничего. В следующий раз, Сашуня.
Следующий турнир проводился через полгода, осенью, в том же центральном клубе, самом большом в городе. С просторным залом, массивными люстрами из чешского хрусталя и высоким подиумом, вмещающим двадцать деревянных столов со столешницами в черно-белую клетку.
Внизу, под подиумом, — несколько десятков болельщиков. Они перешептывались, ходили из угла в угол. Если позволяло пространство, подходили к демонстрационным доскам, развешанным на стенах по периметру зала. Складывали руки на груди, закрывали в раздумьях ладонями губы и изредка хватались за голову. Иногда в зале раздавался терпкий запах буфетного кофе, кока-колы или только что открытой плитки молочного шоколада. Фольгой шуршать тут не смели — из уважения к игрокам и искусству, похожему на спорт, войну и философию одновременно. И среди этих сдержанных, одержимых игрой людей почти всегда стоял или ходил Сашин папа. Иногда он мог выйти на улицу — перевести дух от напряжения. И снова зайти. Он почти никогда не сидел, сколько бы часов ни длилась партия.
На этот раз Саша встретилась с Барановской в турнире, устроенном по швейцарской системе, когда самые сильные встречаются в самом конце соревнования. Это была последняя партия в турнире. В дебюте была разыграна «сицилианка» — так небрежно называли профессионалы сицилианскую защиту и все ее богатые ответвления. В середине игры Саша двинула пешку в атаку, а в эндшпиле бастионы соперницы выглядели жалкими, разрозненными и полуразрушенными. Барановская дала напоследок истеричный шах враждебному королю и можно было бы запросто съесть безумного коня, но даже этого напрашивающегося хода Саша не стала делать — чтобы не спровоцировать агонию из серии бесполезных шахов уже проигравшей борьбу противницы. Саша просто и элегантно ушла королем на h8. Торопиться было некуда. Две черные ладьи тяжелыми грозными танками стояли на второй линии противника, поближе к осунувшемуся от треволнений белому королю.
Барановская остановила часы и поздравила соперницу. Подошла к вешалке, надела тонкое кашемировое пальто, сообщила мужчине в сером костюме результат и ушла. Это был тот же лысоватый судья в тонких круглых металлических очках. Он записал в новый блокнот тот же результат — 0:1 в пользу черных. Только черными в этот день играла повзрослевшая на полгода Саша. Она посмотрела в зал. На том месте, где обычно стоял папа, обсуждали ход турнирных событий незнакомые люди. Саша представила, как бы папа обрадовался — не реваншу, а дочкиному умению слышать и создавать черно-белую шахматную симфонию.
Саша была очень похожа на папу, даже уши у нее торчали из-под прямых каштановых волос так же. Такой же тонкий нос и вытянутый овал лица. Такие же, похожие на миндальный орех глаза и любовь к математике.
Она дошла до остановки и села в полупустой вечерний автобус. По дороге домой зашла купить шоколад и спелые груши в магазине у дороги, папа всегда их ей покупал. Пошелестела серебряной фольгой, откусила маленький коричневый уголок от твердой плитки. Выбросила обертку. Поздоровалась с соседкой, зашедшей купить мягкое овсяное печенье детям. На улице стемнело, единственный на ближайшие несколько метров фонарь не работал.
Она пришла домой, открыла гулкую дверь и прошла на кухню. Нажала на выключатель. Голая лампа одиноко моргнула и погасла. Саша подошла в темноте к окну и прижалась к стеклу губами. Снег сыпал на стекло белыми иглами, был ноябрь и не слишком холодно. Сегодня главный тренер страны предложил Саше переехать в столицу — играть за сборную. И она согласилась. Она будто слышала музыку слов, что сейчас сказал бы, но уже никогда не скажет папа:
— Ничего, Сашунь. Корову не проиграешь.
Саша включила радио — диктор читал стихи какой-то позвонившей на радиостанцию девушки. Стихи были хорошие и немного грустные. Похожие на сегодняшний вечер.

У реки не пахло рекой
У реки не пахло рекой. Память, зараза, дразнила, повторяла по кругу, как должно было пахнуть: илом, загнивающей ряской, мокрым птичьим пером. Но Лера сидела теперь на берегу, тянула воздух опухшим носом, и воздух тот был горек и пуст.
Родные края не простили беглянку, пожалели для нее привычных когда-то запахов, припрятали их для кого-то другого. Для того, кто не уезжал, а уехав, не забывал вернуться.
Лера вернулась, но не успела. Проститься не успела, простить…
Дыхание сбилось. Под ребрами вновь сделалось горячо и колко. Запрокинуть бы голову, завыть, зарычать, размножиться эхом — и снова завыть, как воет ночами дикий обездоленный зверь. Но солнце стояло в зените, белесое, жаркое солнце, а у ног курлыкала теплая речная вода, и пестрые куры копошились под помостом у самой ее кромки — и все текло своим чередом.
Лишь Лера застыла, распятая полуденным солнцем. И смотрела куда угодно: на суетливых кур, на усыпанную ракушками отмель и метелки рыжих камышей, на ноги свои, на незагорелые руки… Только бы не обернуться, только бы не столкнуться взглядом с голыми окнами старого деревенского дома, что давно уже врос в траву, но все еще ждал хозяйку. А хозяйка его больше года как лежала в земле.
Лера всхлипнула, заскрежетала зубами. Но память не отступала. И Лера снова кричала: «Ба!» И снова бросала школьный рюкзак в заросль жидовильника, чтобы бежать налегке от автобусной остановки к родному дому. Бежать с хохотком, наперегонки с громкими белобокими гусями. И даже пыль не поспевала за ней: лишь взвивалась под босыми ногами и долго висела потом над вздыбленной колеёй.
Бабушка встречала, присев у перевернутой лодки: чинила сети. Или в яблоневом саду, который сколько ни поливай, все равно сох. Изредка — в натопленной тесной кухне. И тогда Лера заглядывала в дом лишь на минутку, чтобы клюнуть губами воздух рядом с родной, пахнущей тестом щекой, и тут же выкатывалась во двор, поближе к воде.
Во дворе, на своей половине чахлого огорода, от которого к осени оставалась лишь ботва, Леру ждал Колька, соседский приемыш. На два года старше, на два тона тише: за годы общего детства Лера слышала от него не больше десятка слов.
«Убогий», — сплевывала бабушка и гнала Кольку за частокол, что разделял два участка. Но гулять вместе позволяла.
Год позволяла, два, десять…
А потом прошло еще десять лет — в грязи и смоге Замкадья, на берегу чужой мутной реки. И несло от той реки сыростью, гнилью и безнадегой. Несло так, что впиталось в кожу, в волосы, в десны — в самую суть ее, Лерки, впиталось.
И вдруг замкнуло что-то: через год после похорон, на которых не была. И запоздалое горе сдавило грудную клетку, чтобы затем растянуть ее острыми спицами, как растягивают недовязанный носок. И был самолет, был автобус, была остановка по требованию…
Лера закрыла глаза, прогоняя слезы. И вскоре вслед за запахами и картинками истончились, исчезли звуки. И не осталось теперь у Леры ни всхлипов, ни скрежетов, ни придушенного «Ба», что минуту назад драло горло. Даже плеска воды, и того не осталось.
Только вкус: сухих корочек на губах, вязкой слюны, пыли. Пусть так…
Лера выдохнула, сложила на груди руки и медленно откинулась спиной на прогретые доски помоста. Если не шевелиться, если остаться здесь, быть может, еще через десяток лет сумеет врасти в ил и осоку, как врос в траву бабкин дом. И станет тогда Лера частью речного края, и никто не посмеет указать ей на дверь. И никто не посмеет захлопнуть эту дверь перед Колькиным носом.
* * *
Бабу Катю Николай не любил. Та вечно зыркала на него из-под рыжего скособоченного платка да редких седых ресниц, звала если не убогим, так оборвышем, и на порог не пускала.
Вот только в детстве, обласканный приемной матерью, Николай оборвышем не был. А теперь… Да что теперь, когда бабка мертва?
Хоронили ее всей деревней, как хоронили всякого. Не поскупились ни на живые цветы, ни на пластиковые венки, ни на пышные поминки.
Николай шел впереди гроба, первым кидал на него горсть земли, помогал закапывать. А затем в трапезной при церкви глушил одну за другой. И рассказывал всякому, кто готов был послушать, что одежду для погребения баба Катя собрала сама, сложила аккуратной стопкой на сундуке у кровати, ждала…
А вот платка подходящего в доме не нашлось: только рыжие да красные. Похоронишь в таком, и кто-то близкий последует за усопшим. А у бабы Кати никого, кроме Леры, не осталось. Так что Николай не думал дважды: поехал в город, купил черный платок.
А теперь смотрел на Лерину бело-красную фигурку, лежащую на помосте — руки сложены точь-в-точь как у покойницы — и снова вспоминал и гроб, и венки, и платок треклятый. А лица Леры вспомнить не мог.
Но руки ее на ощупь помнил, и длинные волосы, и загорелую полоску между шортами и футболкой. Помнил, как пахла крапивой и ромашкой впадинка под ключицей. И как шуршал сарафан, сброшенный на пол. А зачем помнил, толком и сам не знал.
Как не знал, зачем стоит у окна в полутьме чужого дома, зачем мнет в руках полотенце, которым только что обметал паутину с икон, зачем шагает за порог, зачем зовет ту, которую не ждал и которой не стоило возвращаться…
* * *
Ее имя стало первым звуком, который сумела различить. «Ле-ра», — звал кто-то. А затем добавился хруст шагов и шорох примятой травы. И снова: «Ле-ра».
Голос был раскатистым, зычным. Так священники распевают «Упокой душу раба божьего» и раскачивают над покойниками кадило, и сыплют пеплом на восковые лица, на сложенные руки, на белые кружева, выстилающие гроб.
Незнакомый голос. Но Лера догадалась, под чьими ногами скрипнул помост и чья тень упала на ее лицо. Потому процедила, повторяя бабушкины слова:
— Это наша половина. Нечего здесь шастать.
Но глаз не открыла, не шевельнулась, так и осталась лежать. Хотя знала уже, что не врастет ни в ил, ни в осоку, ни в землю, в которой лежала вся ее, Леры, семья, а ей лежать не суждено.
— Я коробку принес, — вновь затянул раскатисто тот, кого когда-то кликали Колькой, а теперь называли «батюшка Николай». — Баба Катя перед смертью собрала.
Сволочь! Говорит он теперь! А когда хваткие бабкины руки Леру из его постели тащили, когда стегали ремнем до кровавых ссадин, когда волочили голую через дом его, через огород, через вставшую стеной пыль, молчал. Шел следом, но молчал.
И когда захлопнули перед ним дверь. И когда Леру в эту дверь выталкивали взашей, а за ней летели на землю тряпки да аттестат за девятый класс. И когда тащил Лерин рюкзак до автобусной остановки, а бабка орала вслед обидное, гадкое…
А теперь орала Лера. Орала беззвучно, не размыкая губ, не поднявшись с помоста, не взглянув в лицо того, кто больше не был ее Колькой. А оторавшись, с трудом подняла себя с досок, поставила на ноги и потащилась, загребая ногами пыль, прочь от дома.
Николай пошел следом: донес коробку до остановки, поставил на лавку. И больше нечего ему было сказать той, которую не любил.

Женщина-единорог. Пьеса для театра Но
Действующие лица:
ИЗЭНЭМИ — женщина, которая приглашает.
НОБУО — сёгун, преданный человек.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК — старик. Позже — Дух Ветра.
СВИТА
ЖИТЕЛИ САМАРЫ
ХОР МЁРТВЫХ ДЕВУШЕК
Эта пьеса — что-то типа:
Японского периода Ван Гога,
Значков анимешника на рюкзаке,
«Малыша» в Нагасаки,
Стихов дауншифтера из средних веков
Или васаби из столовой горчицы.
Эта пьеса — что-то типа сна.
Такое может присниться:
Ему,
Ей,
Мне,
Тебе,
Кому угодно,
Всем.
Такое может присниться, когда:
В комнате сильно натоплено,
Все думали об одном и том же, пока засыпали,
Все болеют одной и той же болезнью,
Скучно, а за окном валит снег.
Я никогда не был в Самаре.
Место действия: Славный город Самара. Время года: осень или зима — холодно.
Картина нулевая. Спойлеры и прочее
Выходит БОСОЙ ЧЕЛОВЕК.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК:
Запад или Восток —
Всюду одна и та же беда.
Ветер равно холодит.
Содрогнись, о холм!
Осенний ветер в поле —
Мой одинокий стон.
Там, где родится поток,
Низко склонилась ива:
Ищет ледник в земле.
Холодный горный источник.
Горсть воды не успел зачерпнуть,
Как зубы уже заломило.
Иней её укрыл,
Стелет постель ей ветер…
Брошенное дитя.
Чтоб холодный вихрь
Ароматом напоить, опять раскрылись
Поздней осенью цветы.
Совсем легла на землю,
Но неизбежно зацветёт
Больная хризантема.
И осенью хочется жить
Этой бабочке: пьёт торопливо
С хризантемы росу.
Ростки озимых взошли.
Славный приют для отшельника —
Деревня среди полей.
Поля по-зимнему глядят.
Лишь кое-где крестьяне бродят,
Собирая листья первых трав.
Путник в дальней стране!
Вернись, тебе покажу я
Истинные цветы.
Дом на славу удался!
На задворках воробьи
Просо радостно клюют.
Вместе с хозяином дома
Слушаю молча вечерний звон.
Падают листья ивы.
Как завидна их судьба!
К северу от суетного мира
Вишни зацвели в горах.
Зимние дни в одиночестве.
Снова спиной прислонюсь
К столбу посредине хижины.
Это грустная и жестокая история.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК уходит.
Интермедия с главным героем
Выходит НОБУО.
НОБУО: Да будет вам известно, я — странствующий сёгун. Вместе с моей свитой. Вон они, там, танцуют у костра и пытаются согреться. Вместе с моей свитой мы ходим от селения к селению и пытаемся сделать жизнь людей хоть сколько-нибудь сноснее. Обычно это происходит так. Мы входим в город с какой-нибудь песней, которую там особенно любят. Ну, «Любэ» или Скриптонита какого-нибудь. Нам-то всё равно вообще. Я говорю торжественную речь, и все уже в принципе рады, что видят чуваков из такого далека, как мы. Ну, то есть, оттуда. Из столицы. Смотрят так, чтобы запомнить. И, не знаю, потом, может, корчить рожи перед зеркалом. И вот все аплодируют, и затем я поднимаю руку, все умолкают, и я с пафосом спрашиваю: «Ну, чем же мы можем помочь вам?» Ну, с тем посылом, что они и так заебись живут, что типа помощь вообще как бы не нужна, но вдруг мы можем порадовать чем-то. По-братски, типа. И это, там, в Орле каком-нибудь или, там, в Бузулуке условно. Или, вон, только приехали оттуда — Сызрань. Город — сказка.
Ну и все, конечно, нет-нет да и «да». Мол, живём славно, но вот бы порадовать чем себя. Ну и тут я произношу другую пафосную речь, и мы начинаем раздавать деньги.
Красивая сцена. Все тянут руки, давят друг друга. И так, в общем, всегда.
СВИТА изображает давку и какой-то мош.
НОБУО: Да будет вам известно, мне это всё не особо нравится. Но в целом работа как работа. Но тут вот какая штука. Список городов нам всегда присылают только за неделю. Ну, чтобы людям сюрприз сделать. И есть такое правило. Блядь, я не думал, что это так скоро случится. Сука.
В общем, так заведено, что как только ты наносишь визит в качестве сёгуна — это я сейчас — в свой родной город, откуда тебя однажды забрала Великая Свита. Ну вот эта шпана, что пытается согреться у костра. Как только ты добираешься домой, ты должен остаться там навсегда и следить за тем, чтобы жители славного города и дальше радовались жизни. И вот завтра я буду дома. В Самаре. И, кажется, я совсем не помню её. Самару и свою прошлую жизнь. Лишь какой-то силуэт и странное имя: Изэнэми. И больше ничего. Но я вспомню. Я вспомню, хотя я совсем этого не хочу. Эта ностальгия. Чтоб её нахер, нахер.
Ну это я так вам рассказал, чтобы вы врубились. Это называется интермедия. Это не ваш уровень английского, это такое как бы пояснение. То есть, это всё как бы чисто для вас специально. То есть, я на самом деле это всё про себя говорю. Хотя зачем это говорить, если я и так всё знаю. Я так долго об этом не рассуждаю. Просто думаю. Сука, ну за что. За что, сука? Вообще нам положено говорить стихами, ну или чем-то подобным. Но из трёх слов не сделать хокку. Особенно если это слова: «Самара», «сука», «блядь». Порядок произвольный.
Картина первая. У колодца
НОБУО садится на край обрыва, поодаль горит яркий костёр возле заброшенного колодца. Сзади видны пляшущие фигуры СВИТЫ.
НОБУО:
Прошёл я много км,
Прежде чем вновь увидеть дом,
Который ни хрена не видно.
Тёмное небо.
Падают сверху на поднятый лоб
Снежинки и звёзды.
Внизу тянется дорога:
Белые огни вперемежку с красными.
Отсюда — красиво.
Вечер. Двор.
Сугробы, ледяная корка на асфальте.
Протяжный лязг лопаты.
Иду домой. Темень.
Сугробы — по обе руки. Без шапки.
Мороз — в темя.
Замёрзли уши,
Это странное слово «промозглый»,
И руки закоченели.
И мысли сбиваются.
Лишь бы стало теплее.
На душе.
Хоть кто бы сказал раньше,
Что возвращаться сложнее,
Чем уходить.
А так всё.
Возвращаться — плохая примета.
Не более.
И менее, чем через ночь.
Я — там.
Точнее — здесь.
Дома.
Привет, Самара!
И там,
Точнее, здесь,
Изэнэми.
Из сна приходит
Еженощно она —
Не видать лица.
Она или нет?
Рассмотреть уже много ночей
Не удаётся.
Под капюшоном
Скрыто лицо её, точно её,
Но какое?
Как только приближаюсь,
Её уж нет.
И только ветер свищет.
И свист этот
Складывается в слова,
В нечто вроде
Весёлой шутки
Или детской загадки.
Что выберешь —
Реку, бегущую вниз,
Или дерево, растущее вверх?
Откуда-то слышен смех. НОБУО озирается.
НОБУО:
И ветер, который беспрестанно свищет,
Словно говорит мне:
Это не она.
Это не она.
Ты обознался.
Это не она.
Это женщина-единорог.
Это не она.
Её уже давно нет.
И каждую ночь
Я просыпаюсь в зарю
И иду дальше.
И это единственное, что…
Подходит КТО-ТО ИЗ СВИТЫ.
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Ты что, брат, уснул?
НОБУО оборачивается.
НОБУО: Чего?
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Ты уснул, что ли?
НОБУО: С чего ты взял?
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Да вот, сидишь неподвижно. Бормочешь что-то, словно видишь какой-то сон. Кошмар, там, или наоборот.
НОБУО: Да нет, ничего. Просто. Да что-то. Вид такой отсюда.
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ (смотрит туда же, куда смотрит Нобуо): Вид? Не видно ж ни черта. Только шоссе освещено, и вон там что-то в центре. Памятник или какой-нибудь дом культуры. А так. Темень какая.
НОБУО: Вот в том и дело. Я смотрю на свой родной город, а его как будто нет. Понимаешь? А вдруг он делся куда? Меня давно тут не было.
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Самара? Да куда она денется? (Задумывается). Да не, не так давно какой-то матч смотрел по телеку. Там «Крылья Советов» играли. И комментатор говорит какую-то штамповую муру типа: игра состоится при любой погоде. И потом так добавляет: даже в минус пятнадцать, в Самаре. И я тогда подумал.
Зачем им это вообще нужно? Ну, типа, футбол зимой. Трава зимой. Это же, ну, просто… Как это?
НОБУО: Сюр?
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Да не. У нас такое слово есть красивое. Как бишь его?
НОБУО: У кого у нас?
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Кароси! Точно, кароси. Знаешь?
НОБУО: Это же типа когда люди умирают от переработки или вроде того. В Японии.
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Вот именно. От переработки. Это типа как — сгорел на работе. Вот и они так же.
НОБУО: Кто?
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Да футболисты из «Крыльев Советов». Вот ты прикинь какая у них работа. В минус пятнадцать два часа мяч пинать.
НОБУО: Да уж.
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: И ведь они бегают в шортах там. А холодно пиздец ж, да?
НОБУО: Ну да.
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Ну вот. Там и заболеть влёгкую. Или просто депрессию словить.
НОБУО: Чего?
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Ну, депрессию. Вот ты футболист «Крыльев Советов». Какой-нибудь простой самарский парень. Ну или простой конголезский. Знаешь — Конго? Жителей Конго называют конголезцами. Красиво. Ну вот. Ты, предположим, простой конголезец и играешь в Самаре в футбол в минус пятнадцать. И вроде бы всё ОК, всё логично. Глобализация и всё такое. Но ты вдруг задумываешься: я что, совсем долбоёб, чтобы играть в футбол в минус пятнадцать? Так далеко от дома. Там река Конго, а тут — река Волга. И всё вокруг такое серое. И едва ли я попаду в премьер-лигу на будущий сезон. И такая тоска берёт.
Ну ты понял. И тут ну реально мощное может быть потрясение, хотя ты самый простой парень из Конго, который любит пинать мяч.
НОБУО: Да. Я как-то об этом не думал.
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Ну, конечно. У тебя заботы есть и поважнее.
НОБУО: Какие, например?
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Ну, как. Ты же дома почти. Я вот дом уже лет пятнадцать не видел. А ты вот уже на пороге почти. Табличка вон уже эта белая маячит.
НОБУО: Ну да.
Пауза.
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Она мне часто мерещится или снится. Не знаю.
НОБУО: Кто?
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Табличка эта. Вижу её просто, ну, типа, когда глаза закрываю. И знаешь, какое-то такое странное чувство. Типа я не понимаю, приближается эта табличка или отдаляется. То есть, я не врубаюсь, в какую сторону двигаюсь. Вперёд или назад. К ней или от неё. Понимаешь? И вот потом я думаю: надо сконцентрироваться и понять, куда же я всё-таки двигаюсь. Я закрываю глаза, делаю вдох и пытаюсь вслушаться в пространство. И всё равно ничего не понимаю. Несусь куда-то, но вот куда — не понимаю. Это, знаешь, типа как лошадь в таком маленьком фургоне.
НОБУО: Какая лошадь? В каком фургоне? Ничего не понимаю.
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Да не знаю какая лошадь. Неважно. Просто лошадь, которую везут куда-то в таком специальном лошадином прицепе. Понял?
НОБУО: Ну.
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: И вот она несётся в этой маленькой комнатке со огромной скоростью, и ведь это страшно. Из-за шума, из-за того, что темно, из-за того, что эти стенки такие хлипкие. И вот я прям ощущаю себя этой лошадью. Ощущаю, как мне страшно, как я гажу под себя и думаю, что как выйду из этой клетки, дам этому гандону, что меня запер, в зубы и убегу как можно дальше ко всем чертям.
НОБУО: И к чему это всё?
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Да это просто, знаешь, мысли вслух. А про что мы говорили?
НОБУО: Про то, что ни хрена не видно, про белые таблички. И ты сказал…
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Да-да! Это так пугающе. Знаешь, что самое пугающее? Вот я представляю, что двигаюсь в сторону таблички — страшно, от неё — тоже страшно. И получается, что двигаться вообще страшно. Но нельзя же не двигаться. Так?
НОБУО: Да, так. Наверное, так.
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Нам же с самого вот такого возраста говорят: жизнь есть путь. И так далее. И тогда нужно обязательно куда-то идти, так? Нельзя, получается, просто остановиться, сесть или лечь и совсем ничего не делать.
НОБУО: Дзен — в пути.
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Вот-вот.
Пауза.
НОБУО: А что на твоей табличке-то написано?
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Тюмень. А на твоей?
НОБУО: Самара.
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: А ну да, точно. Не видно её что-то ни хрена. Ладно, я пойду. Тебе есть о чём подумать.
Пауза. Оба не двигаются с места.
НОБУО: А ты о чём бы думал?
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Когда?
НОБУО: Если бы стоял на холме и смотрел на свой родной город, а его было бы не видно.
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Честно?
НОБУО: Да.
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Я не знаю.
НОБУО: Вот и я тоже не знаю.
Пауза.
НОБУО: Здесь холодно. Пойдём к остальным?
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Д-да, пойдём. А что за женщина-единорог-то?
НОБУО: Женщина-единорог?
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Ну да. Ты бормотал что-то. Я ещё подумал, что это, наверное, что-то очень красивое. Средневековое такое.
НОБУО: Да просто. Не знаю. Это типа сна. Я давно его вижу.
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Значит, она тебе нужна.
НОБУО: Сон или воспоминание. Не знаю.
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ уходит. НОБУО остаётся один.
НОБУО:
Сон или воспоминание.
Если сон — страшно,
И если воспоминание — страшно.
Привет, Самара.
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ подходит к костру, где стоит остальная СВИТА и закусывает. СВИТА исполняет Танец Согревания. Ведь на улице зима или осень — холодно. А Танец — под песню.
СВИТА:
Издалека долго течёт река Волга,
Течёт река Волга, конца и края нет.
Среди хлебов спелых, среди снегов белых
Течёт моя Волга, а мне семнадцать лет.
НОБУО подходит и вопросительно смотрит на СВИТУ. Та прерывается.
СВИТА:
Тренируемся, брат.
Да и песня ничего, распевная.
Как хочется водки.
Или чтобы кто-то обнял.
НОБУО: Давайте согреемся.
НОБУО и СВИТА исполняют Танец Согревания.
НОБУО (Песня Согревания):
Высокий костёр
Горит мёрзлыми дровами,
Которые были высокими елями
С тяжелыми от снега лапами.
Голая-мокрая земля открывает заспанные глаза
От яркого света, от тепла, от топота ног.
И многоэтажный дым тянется к пропасти,
Где лежит Славный город Самара.
Спускается дым, виднеется огонь.
И мы танцуем, чтобы согреться.
И не хватит высоких елей, чтобы растопить эту зиму или осень.
Не хватит и углей, что так быстро остывают.
И потому как не хватает дров,
Мы исполняем этот танец,
Который похож:
На притопывания на остановке, пока ждёшь маршрутку,
На прыжки через костёр из детских сказок,
На красные лица скоморохов и продавщиц в «Пятёрочке»,
На ржавый золотой самовар,
На стоптанные валенки и соль на ботинках,
На крепкий чай с лимоном и водкой.
Это такой нескладный танец,
Который зовётся Танцем Согревания.
НОБУО отстраняется от СВИТЫ и смотрит вниз, на город.
НОБУО:
Добрые самаритяне.
Они никогда не делали зла,
Потому что не было смысла,
Ведь отсюда не выбраться.
Все здесь равны и одинаковы.
И не делают зла, потому что это не поможет.
Здесь есть всё.
Длинная река,
Такая, что этим можно гордиться.
Лада Приора,
Лада Гранта
И ещё какая-то особенно уродливая Лада.
Как её? Не помню.
И внутри — разбавленный девяносто второй.
И так далее.
Крылья Советов,
Что вечно играют под светом софитов с Ярославским Шинником на искусственном газоне в минус пятнадцать.
И на стадионе так холодно, что мгновенно остывает чай из бидона, так что проще пить водку.
Ларгус — вспомнил! Лада Ларгус.
И ещё есть Юнгородок,
Город моей Юности,
И там даже есть метро.
Отсюда не выбраться,
А если получилось сбежать,
То Самара навсегда с тобой.
Самара никуда не денется.
Она прямо вот здесь.
Бьётся и греет.
Лишь изредка.
Её не залить колой и крафтовым пивом.
Её не зажрать майонезными роллами.
Её не выбить на андеграундном моше.
Её не выдуть через айкос.
С ней ничего не сделать.
Самара навсегда здесь.
Самара навсегда.
И это — фраза для финала.
Или она вообще не отсюда,
Но так уже вышло, что это и есть конец,
И эта фраза здесь.
Здесь.
И потому нет ничего такого в том, что я вот-вот вернусь домой.
Взгляну на длинную реку и испытаю гордость.
Возьму яндекс-такси и прокачусь на Ладе
Любой абсолютно модели.
Послушаю радио.
А таксист скажет:
Не по погоде ты чё-то оделся, долбоёб.
И приду к маме, которая подумает то же самое,
Но скажет: я рада, что ты приехал.
В этом ничего такого нет.
Ведь это всегда есть со мной, где бы я ни был.
Опускается ночь. Гаснет большой костёр. На него показывают пальцами ЖИТЕЛИ САМАРЫ, которые выходят на мороз из всяких баров, «рюмок» и торговых центров.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ:
Вот это огонь.
А завтра у нас будет праздник,
И мы наконец будем счастливы.
Славный город Самара готовится принять гостей из столицы, как может.
Картина вторая. Славный город Самара.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ стоят на площади и что-то молча пьют из кружек. Где-то поодаль виднеется фигура БОСОГО ЧЕЛОВЕКА. Вдалеке раздается ропот. Люди приходят в волнение. По толпе проходит лишь одно слово: едут.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ:
Едут, едут, едут.
Уже почти приехали. Да. Едут.
А мы что же?
Стоим тут, пьём что-то из кружек, и даже не подготовили ничего.
Что надо, то и пьем.
А что надо было готовить?
Ну, песню, там. Мы же умеем.
Мы живём впроголодь, страдаем, не смеёмся уже столько лет, потому что —
Знаем, знаем.
Ну вот, и мы ещё должны радоваться? Песни петь? Хули тут веселиться?
И то верно.
Да правда-то правда. А вот неловко будет.
Приедут, спросят: а чего рожи такие кислые? А мы чо?
Да вот ничо. Так и скажем.
Кислые, потому что ты совсем не ту девку поимел, бро.
Это если он приедет, а может кто еще?
Кто еще?
Он один и есть.
Откуда вы знаете-то?
Старик нам сказал.
Как он сказал?
Все хором.
Вернётся путник,
Принесёт иголки дикой хвои
С собою в волосах.
Красиво всё-таки.
Да, красиво.
А что это значит?
То и значит, что он вернётся.
Ну и что? Ну вернётся, а с чего вы взяли, что станет лучше?
Да как же иначе?
Да, куда уж хуже?
ЖИТЕЛИ САМАРЫ чокаются жестяными кружками.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ:
Едут, едут.
Ну что, вот оно и наше счастье.
Какое бы ни было — другого нам не видать.
В город въезжает СВИТА. СВИТА движется единой процессией, которую возглавляет НОБУО. Он улыбается и кивает. Процессия доходит до центральной площади города, на которой стоит Памятник Вениамину Куйбышеву. СВИТА исполняет Танец Посещения под аккомпанемент любимой всеми здесь песни. Здесь это не «Любэ» и даже не Скриптонит.
СВИТА:
Здесь мой причал, и здесь мои друзья —
Всё без чего на свете жить нельзя.
С далеких плёсов в звёздной тишине
Другой мальчишка подпевает мне.
Издалека долго течёт река Волга,
Течёт река Волга, конца и края нет.
Среди хлебов спелых, среди снегов белых
Течёт моя Волга, а мне семнадцать лет.
НОБУО и СВИТА (Песня Посещения):
Мы прошли многие км,
Чтобы добраться до вас, жители Самары.
Нет больше такого богатого и счастливого края.
И вы можете поверить нам, ведь мы видели много.
Прошли многие км.
И вот мы здесь.
Какой тёплый приём, и в такой мороз.
Как тепло от ваших улыбок, от вашего смеха.
И нам так хочется петь и танцевать.
Нам так хочется устроить вам —
Нет, не праздник —
Настоящее торжество.
Поэтому мы дарим вам:
Торжество духа,
Торжество морали,
Торжество любви,
Торжество милосердия,
Торжество справедливости.
И немного денег.
Всё это для вас, Жители Славного города Самара.
СВИТА:
Сказала мать: бывает всё, сынок.
Быть может, ты устанешь от дорог.
Когда придёшь домой в конце пути,
Свои ладони в Волгу опусти.
Издалека долго течёт река Волга,
Течёт река Волга, конца и края нет.
Среди хлебов спелых, среди снегов белых
Течёт моя Волга, а мне семнадцать лет.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ нехотя всё же подпевают, хотя стараются стоять отстраненно.
НОБУО отделяется от СВИТЫ. Он выходит на площадь прямо к памятнику Вениамину Куйбышеву. ЖИТЕЛИ САМАРЫ отводят глаза. Никто не улыбается, и даже жестяными кружками уже никто не чокается.
НОБУО: Помните ли вы меня, добрые самаритяне?
Пауза. Никто не отвечает.
НОБУО: Я — сёгун Нобуо. Когда-то я покинул свой отчий дом и отправился в Великий Путь.
Пауза.
НОБУО: Я обошёл много земель, я видел множество людей. Счастливых и добродушных, но нигде меня не встречали такими светящимися лицами, как здесь. Как счастливо вы живёте здесь. И всё же я должен спросить вас. Можем ли мы, я и моя свита, сделать что-то для вас от имени великого государя?
Пауза.
НОБУО: Да-да, не все сразу. Давайте выберем одного самого достойного и уважаемого человека в вашем селении. Кто самый достойный из вас, добрые самаритяне?
Пауза.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ:
Пусть старик с ним базарит.
Да, где он?
Эй, старик.
Слышь, старик.
Поговори, пожалста.
На площадь выходит БОСОЙ ЧЕЛОВЕК.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК: Я буду говорить с тобой от имени жителей Самары, сёгун Нобуо.
НОБУО: О, ты говоришь. Я уж думал, мой язык им не понятен.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ:
Слышь, в сраку пошёл, гондон.
Совсем охренел.
НОБУО оборачивается.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК:
Покидая дом,
Запомни запах кухни и половиц.
Вспоминай чаще.
Он ни черта не помнит. Совсем.
Обращаясь к НОБУО.
Не суди их строго, сёгун. Тут многое изменилось с тех пор, как ты покинул нас.
НОБУО: Я заметил это, старик. Но что же случилось?
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК рассказывает, что случилось, пока НОБУО не было.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК: Когда-то Самара была славным городом. Здесь жили добрые простосердечные люди. Они были такими добрыми и простосердечными, что они вошли в нарратив. Про них так и говорили: добрые самаритяне и самаритянки.
И это было правдой. Я прослышал об этом чудном крае и приехал сюда со своей дочерью. Я хотел, чтобы она росла… Как это говорится?
ЖИТЕЛИ САМАРЫ: В нетоксичном бэкграунде.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК: Вот-вот. И поэтому мы переехали сюда с дочерью. Мою дочь звали Изэнэми. Это означает: женщина, которая приглашает. Просто такое имя, ничего особенного. У каждого же имя что-то значит. Но она ещё не была женщиной.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ:
Ха, а теперь что?
Уж она наприглашала будь здоров.
Ты тоже, конечно, молодец — так дочь назвать.
Как говорится.
Как корабль назовёшь…
А вы знали, что в Англии корабль — это ши?
Шип, а не ши, дебил.
Да не, в смысле, женского рода. Хи-ши-ит. Понял?
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК: И здесь мы обрели свой дом. Мы жили уединенно. Я ходил на реку и ловил рыбу, а Изэнэми носила её на продажу на рынок.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ:
На Губернский рынок.
Который на Агибалова.
Рейтинг 4,2.
Все есть! Выбор хороший! Ну и качество соответственно.
Чисто, удобно, даже для инвалидов все предусмотрено.
Купила шампунь за 199 р. и дезодорант за 149 р. А так очень хороший рынок, отличный выбор продуктов, фруктов и мяса.
Запах испорченного мяса витает по всему помещению, очень грустно…
Хороший запах приправ. Все очень дешево.
Это, пожалуй, самое дорогое место для торговли, красный и белый лук стоит 200 рублей.
Был там пару раз, никому не советую. Типичный рузкий рынок.
Нууф. Был лучше. Дорого все ппц.
Есть павильон с вкусной и вредной выпечкой, в 6:00 спасает меня от голода.
Когда-то это была почти что Мекка.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК: Я говорил Изэнэми, чтобы она не привлекала внимания и возвращалась, как только удавалось продать улов. Так было безопаснее. Мы хорошо знали людей. И всё было хорошо, пока люди не стали замечать её.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ:
О, прекрасная Изэнэми.
Наши девчонки, конечно, тоже ничего себе, но эта…
Я из-за неё начал есть воблу. Не потому что она как вобла, а потому что она её продавала.
У неё всегда было такое лицо, будто мыслями она где-то не здесь. И стоит ей сказать, типа: девушка, две воблы заверните, как она смотрит на тебя и так улыбается.
Да, и жена спрашивает. Вот на хер тебя на рынок посылать — всё рыбу тащишь.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК: И ею становились одержимы в любом месте, куда бы мы ни приезжали прежде, но в Самаре жили добрые люди, которые не мыслили зла. И я решил, что это — хорошие люди. Я стал чаще отпускать Изэнэми на рынок. Ей нравилось там. Она смотрела за тем, как они живут. Ей было интересно. Она говорила мне, чтобы я не думал о них так плохо. Что они лучше. И могут быть ещё лучше. Она общалась, росла. Ей было это нужно. Да и всё-таки я — не самая приятная компания.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ:
Это уж точно.
Ты такой нудный, жесть.
Да, сдохнуть хочется, пока ты что-нибудь договоришь.
Но стихи хорошие.
Да, красивые.
Хоть и непонятные.
А не всё понимать надо, понял?
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК: Изэнэми стала чаще бывать в городе и дольше оставаться там. Однажды ей сказали… Что вы ей сказали?
ЖИТЕЛИ САМАРЫ: Мы сказали: однажды ты придёшь к нам насовсем, забудешь о своем старом отце-пердуне и будешь править нами, прекрасная Изэнэми!
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК: Так и сказали?
ЖИТЕЛИ САМАРЫ: Ага.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК: И я стал следить за ней.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ: У-у-у.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК: И я узнал, что Изэнэми стала проводить много времени с юношей, который водил её к заброшенному колодцу. О том колодце ходили слухи, будто в нём покоятся души многих обманутых девушек.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ: Он лишил их чести называться самаритянками.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК: Ну, можно и так сказать. Юноша водил их к колодцу. Он много говорил всяких слов. Это был ты, сёгун. Тогда ты лишь грезил о том, чтобы присоединиться к Свите и отправиться в Великий Путь. Тогда ты был лишь обычным самарским юношей. Ты помнишь, что говорил тем девушкам?
НОБУО:
Вся прошедшая жизнь,
Словно лес в туманное утро —
Рисуется и ускользает.
СВИТА:
Жизнь есть путь,
А память — лишь фонарик на айфоне.
Много ли помнит он?
НОБУО:
Юность — минувшее время,
Но грусть, оставленная ею,
Со мной навеки.
СВИТА:
Туман забвенья
Застилает тревоги юности.
Любовь.
НОБУО:
Любовь.
Любовь.
Любовь.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ:
Чо они несут?
Это, типа, он не помнит?
Я ни хрена не понял — он помнит наших дочерей или нет?
СВИТА: Каких дочерей?
НОБУО: Блин, я вообще их не помню. Какие-то тёлки? Мёртвые к тому же. Я же никого не убивал.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК: Сёгун, чтобы ты мог всё вспомнить, мы позовём их. Мы споём их любимую песню.
СВИТА: Каких ещё дочерей? У нас обет. Эй!
ЖИТЕЛИ САМАРЫ поют любимую песню Мёртвых девушек.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ:
Платок тонет и не тонет,
Потихонечку плывет,
Милый любит и не любит,
Только времечко ведет.
Ах, Самара-городок, беспокойная я,
Беспокойная я, еспокой ты меня!
Я росла и расцветала
До семнадцати годов,
А с семнадцати годов
Крушит девушку любовь.
Ах, Самара-городок, беспокойная я,
Беспокойная я, еспокой ты меня!
Появляется ХОР МЕРТВЫХ ДЕВУШЕК, который вновь и вновь поёт припев.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ: Здравствуйте, наши мёртвые дочери.
ХОР МЁРТВЫХ ДЕВУШЕК: Здравствуй, Нобуо. Давненько мы не виделись.
СВИТА: Ну всё, пиздец.
Всё оставшееся время СВИТА смотрит на ХОР МЕРТВЫХ ДЕВУШЕК, не отрываясь. НОБУО с ужасом смотрит на Мёртвых Девушек и кивает.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК: Вы помните, что говорил вам Нобуо?
ХОР МЁРТВЫХ ДЕВУШЕК:
Конечно, помним.
Он говорил.
Нужно бежать.
Куда угодно прочь.
Здесь нельзя оставаться.
Там лучшее, чем здесь.
Там — хорошо, здесь — плохо.
Там — хорошо, здесь — плохо.
И так далее.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК: И потом ты загадывал им загадку, сёгун. Ты помнишь её?
НОБУО: Я вспоминаю. Это такая простая загадка без правильного ответа.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК: У всего есть правильный ответ, сёгун.
НОБУО: Мне однажды загадал её какой-то странствующий старик.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ: Кто бы это мог быть?
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК: И в чём же была загадка?
НОБУО: Она — о дереве и реке.
Откуда-то слышен смех. Все озираются по сторонам.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК: Что загадывал вам Нобуо?
ХОР МЁРТВЫХ ДЕВУШЕК:
Он спрашивал,
Кем бы ты хотела быть:
Рекой, бегущей вниз, или деревом, растущим вверх?
ЖИТЕЛИ САМАРЫ: А когда ты трахал их, до или после загадки?
ХОР МЁРТВЫХ ДЕВУШЕК: До.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК: И что вы отвечали?
ХОР МЁРТВЫХ ДЕВУШЕК: Мы отвечали: рекой, бегущей вниз. А он говорил…
НОБУО: И я говорил — тогда вам нужно бежать отсюда.
ХОР МЁРТВЫХ ДЕВУШЕК:
И мы спрашивали:
А ты, Нобуо?
Кем бы ты хотел быть?
НОБУО:
И я отвечал:
Рекой, что бежит вниз.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК: И что потом?
НОБУО:
И я говорил —
Как жаль, но нам не суждено быть вместе.
Ведь не могут ужиться две реки.
Нет в нас гармонии.
ХОР МЁРТВЫХ ДЕВУШЕК:
И мы спрашивали —
А что же тогда делать нам?
НОБУО:
И я отвечал —
Бегите прочь.
Без меня.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК:
И тогда мёртвые девушки, которые тогда были ещё не мёртвыми, понимали, что ты обманул их, Нобуо, что ты лишь воспользовался ими, что ты просто лишил их чести называться самаритянками, что ты — всего лишь скучный губернский балабол.
И тогда мёртвые девушки, которые тогда были уже почти мёртвыми, бросались на тебя, но ты сбегал. И тогда мёртвые девушки оставались одни и умирали. Многие до сих пор покоятся в том заброшенном колодце, другие покинули Самару, но не ушли далеко, ведь рядом только Бузулук и Сызрань.
ХОР МЁРТВЫХ ДЕВУШЕК:
Милый спрашивал любови,
Я не знала, что сказать,
Молода, любви не знала,
Ну и жалко отказать.
ХОР МЁРТВЫХ ДЕВУШЕК и ЖИТЕЛИ САМАРЫ:
Ах, Самара-городок, беспокойная я,
Беспокойная я, eспокой ты меня!
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК:
И обо всём этом знала прекрасная Изэнэми. И она хотела проучить Нобуо. То было в преддверии Дня Посещения.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ:
Ровно как сейчас.
Погоды такие стояли.
Какие?
Ну какие — такие же, говённые погоды.
Снег, слякоть, и этот ветер всё дул и дул.
Ветер здесь всегда.
Да, всегда.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК: И Жители Самары находились в предвкушении праздника.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ: Как и сегодня.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК: Все толкались у рынка, торговались и смеялись. Изэнэми продавала выловленную рыбу.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ:
Всё как вчера.
Я всю ночь проворочалась — не могла уснуть, думала.
О чём?
О судьбе, о нашем пути, о том, что, наверное, в этом всём нет никакого смысла.
И чо?
Я каждый день об этом думаю.
Тоже мне, Симона де Бовуар.
Кто?
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК: И ты увидел Изэнэми, сёгун. Ты никогда не видел кого-то более прекрасного. И ты пожалел, что так много растратил своей любви на каких-то уже мёртвых шлюх.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ: Воу-воу.
ХОР МЁРТВЫХ ДЕВУШЕК Полегче, старик.
НОБУО: Я смотрел за её движениями. Они были какими-то… Не знаю, животными, дикими. Она ходила вдоль торговых рядов, и ей улыбались, дарили цветы. Она была какой-то нездешней. И я подумал. Она такая же, как я. Ей тоже не место здесь.
Я говорил это каждой из них, и потом они умирали или уходили. Они не могли жить где-то там, потому что они здешние. Ну, то есть, они должны оставаться здесь, таков их удел. Правильно?
ХОР МЁРТВЫХ ДЕВУШЕК:
Милый скажет: «До свиданья»,
Сердце вскинется огнем —
И тоскует, и томится
Всё о том же, все о нем.
НОБУО: Это их путь. Ведь может путь заключаться в том, чтобы оставаться на месте, так?
СВИТА подходит к ХОРУ МЕРТВЫХ ДЕВУШЕК.
СВИТА:
Сказала мать: бывает всё, сынок.
Быть может, ты устанешь от дорог.
Когда придёшь домой в конце пути,
Свои ладони в Волгу опусти.
НОБУО: Они обычные здешние шлюшки, и мне так не хватало кого-то, кто мог бы понять меня.
ХОР МЁРТВЫХ ДЕВУШЕК:
А с семнадцати годов
Крушит девушку любовь.
НОБУО: Кто тоже совсем не здешний, кто — тамошний.
СВИТА:
Течёт моя Волга, а мне семнадцать лет.
НОБУО:
Кому не нужно здесь, но нужно там. И я смотрю на её прекрасное нездешнее лицо, на её дикие движения и туманные глаза, и я понимаю: она — такая же, она — со мной.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК: И он подходит к ней. И он говорит…
НОБУО: Печаль идёт твоим глазам. Хотя я просто подумал: у тебя красивое лицо.
Из колодца появляется фигура, облачённая в капюшон. Никому не видно её лица.
Картина третья. Женщина-единорог.
Появляется ИЗЭНЭМИ.
Интермедия
ИЗЭНЭМИ: Да будет вам известно, моё имя — Изэнэми. Это означает: женщина, которая приглашает. Ну да, имя, конечно — жесть. Будто сразу дочь Анжелой назвать. Вот чего ты хотел? Кто, ты думал, вырастет с таким именем? Ну ладно. Вообще я давно ждала этого дня, потому что без этого не могла куда-то деться из колодца. А там так темно. Это такая дыра. Ну, в общем, этот день наконец настал. Тут какое-то волшебство, конечно. Ну это как раз не удивительно. А удивительно то, что я как-то не особо рада. Хотя он всё так же красив. Жесть. Ну почему он такой красивый?
ЖИТЕЛИ САМАРЫ, ХОР МЁРТВЫХ ДЕВУШЕК и СВИТА: Это Изэнэми!
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК: Здравствуй, дочь моя. Как я счастлив!
НОБУО подходит к ИЗЭНЭМИ.
НОБУО: И ты сказала.
ИЗЭНЭМИ: И я сказала. Ты — Нобуо? Тот, кто лишает чести и обрекает на страдания?
НОБУО: Да, так меня зовут. Моё имя означает «преданный человек».
ИЗЭНЭМИ: Кому-то или кем-то?
НОБУО: Судьба моя такова, что обычно предают меня, и всё же я остаюсь преданным. А как твоё имя?
ИЗЭНЭМИ: Моё имя — Изэнэми. Это означает «женщина, которая приглашает».
НОБУО: На счастье или на страдание?
ИЗЭНЭМИ: Я редко задерживаюсь на одном месте, посему мне некого спросить.
НОБУО: Я вижу, что твоё место не здесь.
ИЗЭНЭМИ: Ты всем это говоришь, Нобуо.
НОБУО: Я часто ищу близких себе. И часто ошибаюсь.
ИЗЭНЭМИ: Это ты — тот человек, кто лишает чести и обрекает на страдания?
НОБУО: Да, это я.
ИЗЭНЭМИ: Отведи меня туда, куда ты всех их водишь.
Пауза.
ИЗЭНЭМИ:
И он отвёл меня к колодцу на том холме.
Всем привет-привет.
И там было сыро и пугающе.
И дальше я сказала.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ: Она сказала.
ИЗЭНЭМИ: Я сказала.
ХОР МЁРТВЫХ ДЕВУШЕК: Мы слышали, как она сказала.
ИЗЭНЭМИ: Я сказала.
НОБУО: И она сказала.
СВИТА: Да что она сказала-то?
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК: Она сказала, что.
ИЗЭНЭМИ:
Да я особо ничего не сказала.
Он был красив, и мне было скучно.
Я хотела проучить его, но как-то передумала.
Я сказала.
Обычно это так делается?
И разделась.
Стояла нагая перед ним.
Покачивала бёдрами и ключицами.
Я могу показать.
ВСЕ ВМЕСТЕ: Не надо.
НОБУО:
И я сказал.
Раньше такого не было.
ИЗЭНЭМИ:
И что ты сделал?
Ты точно помнишь, что ты сделал.
И ты подошёл ко мне.
НОБУО:
Всё её тело было каким-то диким.
В морщинках и небольших волосках.
Я дрогнул, будто у меня этого вообще раньше не было.
ИЗЭНЭМИ: Ты подошёл ко мне, нагнулся к моим ногам.
НОБУО:
Она стояла на мёрзлой земле.
Её кожа была в мурашках.
ИЗЭНЭМИ:
И ты поднял мою одежду.
Ты смотрел на меня и куда-то мимо.
И ты сказал.
НОБУО: Раньше такого не было.
ИЗЭНЭМИ:
И потом бросил мою одежду в колодец.
И ты сказал.
НОБУО:
И я ничего не сказал.
Когда она вдруг оказалась передо мной,
Голая, дикая и сильная,
Я понял, что мне некуда бежать,
И то, чем я жил всё это время,
Побегом и Путем,
Всё это пошатнулось,
Пока она покручивала своими бёдрами и ключицами.
Не надо.
Всё затряслось.
Я никуда не уеду, я никуда не уеду.
Я останусь здесь.
И никогда мне не бывать там.
Никогда я не стану тем, кем должен стать там.
Я стану лишь кем-то здесь.
А быть кем-то здесь — всё равно, что вообще не быть.
Это не быть даже чем-то.
Здесь — это вообще ничто;
А я хотел быть рекой, бегущей вниз.
И она тоже хотела быть рекой, бегущей вниз.
И в этом нет гармонии.
А я понял, что если я с ней — быть мне деревом, что растёт вверх в скучной Самаре.
Растёт всё выше, возвышается над сугробами, свалками и многоэтажками.
Возвышается и смотрит завистливо в даль.
И это гармония?
И я обречён быть таким?
А я — река.
Вот типа этой, длинной,
Такой, что этим можно гордиться.
И я даже лучшая река.
Я — горный поток,
Хотя тут и совсем нет никаких гор.
Я — поток, который несётся, волочит деревья с корнями, валуны с обрыва,
Рушится водопадом и снова бежит.
Я — поток.
И потому я не мог вот так вдруг остаться при ней.
В этой Самаре.
И я убежал от неё и больше не возвращался.
ИЗЭНЭМИ:
И пока ты не возвращался, тут было вот что.
Я осталась одна.
Посередине того холма.
И я рыдала.
Я заглядывала в колодец, и оттуда я тоже слышала рыдания
или смех.
Этого было не отличить.
И я поняла, что это плач или смех тех мёртвых девушек.
И я поняла, что и они тоже не знают, смешно это всё или грустно.
И я перестала рыдать и начала смеяться
Навзрыд.
Я перегнулась через колодец и крикнула в эту холодную тьму.
ХОР МЁРТВЫХ ДЕВУШЕК: Она крикнула.
ИЗЭНЭМИ:
Ловите, мне не жалко!
Носите, чур, по очереди.
И смотрите не износите до дыр —
Когда я вернусь, я хочу, чтобы моя одежда была целой,
Как я.
ХОР МЁРТВЫХ ДЕВУШЕК:
И мы перестали рыдать,
Если мы вообще рыдали, и начали смеяться.
И мы смеялись и смеялись.
ИЗЭНЭМИ: И я смеялась вместе с ними.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ: И они смеялись.
ХОР МЁРТВЫХ ДЕВУШЕК: И мы кричали ей.
ИЗЭНЭМИ: Они кричали.
ХОР МЁРТВЫХ ДЕВУШЕК:
Возвращайся к нам, прекрасная Изэнэми.
Когда придёт время, ты вернёшься и будешь править нами здесь, в этой тёмной холодной бесконечной дыре.
ИЗЭНЭМИ: И я смеялась. И они смеялись.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ:
Их смех разносился повсюду.
И некуда было деться.
Как сейчас.
ИЗЭНЭМИ:
И я сказала, что незачем возвращаться,
Ведь я и так с вами.
И они запели.
ХОР МЁРТВЫХ ДЕВУШЕК:
Ах, Самара-городок, беспокойная я,
Беспокойная я, eспокой ты меня!
Понапрасну небо ясно,
Одна звездочка горит.
Понапрасну милых много,
Об одном сердце болит.
ХОР МЁРТВЫХ ДЕВУШЕК и ИЗЭНЭМИ:
Ах, Самара-городок, беспокойная я,
Беспокойная я, eспокой ты меня!
Милый скажет: «До свиданья»,
Сердце вскинется огнем —
И тоскует и томится
Всё о том же, все о нем.
Ах, Самара-городок, беспокойная я,
Беспокойная я, eспокой ты меня!
ИЗЭНЭМИ:
И я побежала.
Я пела, и смеялась, и неслась вниз с холма.
Я летела с него, я неслась всё быстрее.
Холм отбрыкивался и улетал из-под моих ног.
Вот-вот упаду кубарем и понесусь.
И острые голые ветки будут разрывать мне кожу.
Огромные валуны будут ломать мне кости.
И я несусь с холма, словно горная река.
Мощным потоком вниз.
И я воссоединюсь с землёй.
И вот-вот я прилечу к этой площади,
Растерзанная, сломанная, нагая.
И вот они услышали мой смех.
И они окружили моё тело и долго оплакивали его.
Оплакивали мёртвых своих дочерей,
Оплакивали себя, несчастных и равнодушных.
Оплакивали его, красивого, как Аполлон или любой другой бог.
И однажды он вернулся домой, и они не вспомнили его.
Они приняли его, как положено, улыбались, благодарили.
А потом ели роллы «Филадельфия» и запивали колой, а он пошёл дальше.
И то была бы — хорошая самарская история.
Но это — плохая самарская история.
И вышло всё иначе.
А всё потому.
ИЗЭНЭМИ снимает капюшон, всем становится видно её красивое лицо с раскосыми глазами, какими-то скулами, носом и ртом. Это всё неважно, главное, что с высоким лбом, из которого растёт длинный белый рог, словно оголённая кость при открытом переломе.
ИЗЭНЭМИ:
Всё потому,
Что меня подхватил Ветер.
Я летела с холма.
На меня налетали острые ветки и мелкие камни.
Впереди виднелся валун.
И это был мой конец.
Безрадостный удар очень большим тупым предметом по голове.
И я видела, как влетаю в него,
Как бьюсь о него головой,
Как изо лба вырастает такая смешная шишка, как в мультфильмах.
Но это за секунду до, а в саму секунду я уже видела,
Как моё лицо оставляет на том валуне огромное кровавое пятно,
Словно на плащанице или ещё на чём.
И так должно было быть,
Если бы не налетел ветер.
Если бы он не налетел на меня.
Не вознёс над землёй и не опустил прямо на площадь Куйбышева.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ:
Оценка 4,6.
Самая большая площадь Европы и памятник там.
Большая площадь, но как какое-то мероприятие проводят, так сразу проезд и парковки закрывают.
Площадь просто огромная, можно на роликах, велосипеде кататься и гулять.
Большая площадь. Недалеко — бункер Сталина.
Центральная площадь Самары очень красива!
Памятник Куйбышеву, наверное, самая большая человеческая скульптура в Самаре.
Немного не сочетаются размеры статуи и постамента. Шостакович назвал этот памятник «Мужик на тумбочке».
Союз Нерушимый Республик Свободных
Сплотила Навеки Великая Русь
Да Здравствует Созданный Волей Народ
Единый Могучий Советский Союз!
?????????????????????????????
Неплохо.
Монументально.
ИЗЭНЭМИ:
И я нагая лежу на мёрзлых плитах.
И смеюсь.
Потому что это всё так смешно,
Потому что я помню его лицо, когда он смотрел на меня.
Потому что я вижу эти лица вокруг.
И я смеюсь ещё немного оттого, что всё-таки жива.
И ветер носился вокруг, чтобы убедится, что я жива,
Что я в безопасности среди людей.
А я смеялась.
И люди вокруг таращились на меня,
Бросались словами, кидались и плевали.
И летал ветер.
И он ничего не понимал.
Он совсем не понимает людей, потому что всегда избегал их.
А люди. Их так легко понять.
Они могут творить зло или добро, но это неважно.
Им просто не хватает тепла.
А ещё им скучно.
Холод и скука.
И вот.
Но ветер совсем не знал людей.
Тогда он не жил вместе с ними.
И он летал и сдувал с меня снег, воду, плевки.
И ему стало стыдно за то, что он спас меня
И принёс сюда.
И ему стало стыдно за людей.
И он наказал нас всех.
И меня.
За то, что так громко смеялась, пока умирала.
Их всех — за то, что не смогли выдержать того, как я смеюсь.
И он лишил их любви, и отдал её мне.
Вся их любовь досталась мне.
И изо лба моего вырос этот искалеченный, словно открытый перелом, белёсый рог.
И ветер дул так сильно, что звенело в ушах,
И мы слышали, как он говорил.
Что ты говорил, папа?
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК:
Белее белых скал
На склонах Каменной горы
Осенний этот вихрь!
Как свищет ветер осенний!
Тогда лишь поймете мои стихи,
Когда заночуете в поле.
О, ветер со склона Фудзи!
Принес бы на веере в город тебя,
Как драгоценный подарок.
ИЗЭНЭМИ:
Да, а потом уже.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК:
Повернись ко мне!
Я тоскую тоже
Осенью глухой.
ИЗЭНЭМИ:
И я лишь ощутила боль и услышала,
Как закричали люди.
Что-то невнятное.
Кажется, в этот момент они и помешались.
Они говорили.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ:
За что?
Почему?
Мы ведь всего лишь самаритяне.
Нас все знали как добрых.
Разве мы делали что-то злое?
Разве мы мешали кому-нибудь жить так, как им хотелось?
Разве мы любили или ненавидели слишком сильно?
Мы не выделялись.
Жили у длинной реки и даже почти не гордились ею.
Мы выходили на площади только по праздникам.
Мы не рвали волосы, книги, деньги и цветы.
Мы смеялись не слишком громко и всегда впопад, как научили нас жёлтые старые ситкомы из далёких стран.
Мы ели роллы «Филадельфия» и запивали их колой.
Мы научились жить нормально, так, чтобы все были довольны.
Мы старались.
Мы ведь правда старались.
И не так много мы пили.
И не так уж ненавидели.
Любили иногда.
И вот теперь.
Почему она смеётся?
Почему ты смеёшься, сука?
Ты что, не чувствуешь, как из тебя растёт огромный рог?
Такой, словно это открытый перелом.
Ты что, сука, совсем ни хера не чувствуешь?
Ты только и делаешь, что смеёшься.
А знаешь почему?
Знаешь, почему ты смеёшься над нами, тупая ты сука?
Ты смеёшься над нами, потому что ты упала на самое дно.
А когда ты на дне, что ещё остаётся, кроме смеха?
Это же ты просто отрицаешь,
Тупая ты сука,
Ты просто отрицаешь, что ты на самом дне.
И вот ты отрицаешь и смеёшься.
Смех — это как бы признак.
Ну да, признак.
Признак отрицания.
А после знаешь, что будет?
Знаешь, что тебя ждёт, сука?
Дальше ты примешь это всё,
Примешь тот факт, что ты на самом дне.
Искалеченная и несчастная.
Жалкая.
Примешь всё, заткнёшься.
А потом примешь и всё остальное.
Что мы все принимаем.
Кто как.
Кто по чуть-чуть, а кто и глушит из кружек, словно отбирают.
Вот так.
А ты смейся, это точно пройдёт.
Пройдёт.
ИЗЭНЭМИ:
И так далее.
А я не смеялась.
Я говорила, что чувствую их боль.
Что этот рог, он и есть их боль, точнее, любовь,
И теперь я её чувствую.
Что теперь я чувствую их боль, точнее, любовь,
А они могут видеть моё сострадание,
Ведь это такая адская боль — носить этот белёсый рог.
И это как бы мораль.
И я говорила им это всё.
Но они слышали лишь мой смех.
И я сбежала от них.
Я прыгнула в тот колодец, чтобы не видеть тех,
Чья боль, точнее, любовь
Так остро отдаётся во лбу.
И я осталась в темноте вместе с остальными мёртвыми шлюхами.
Да-да.
СВИТА утешает ХОР МЕРТВЫХ ДЕВУШЕК.
И я почти сошла с ума.
Если бы не он.
Если бы не ветер, что говорил со мной беспрестанно.
Я бы поверила, что помешалась.
Что не говорю ничего, а лишь смеюсь.
Если бы не ты, папа, я бы потеряла веру.
Ты звал меня, но я не отвечала.
Ты ревел и метался.
Ты отнял всю их любовь и отдал мне.
У них и у тебя не осталось ничего.
Вы потеряли всё.
И ты остался с ними, чтобы вместе ждать,
Когда вернётся тот,
Кто сможет вызволить нас.
Ты ночами летал и выл какие-то стихи —
Я всё слышала, но не отвечала.
Как-как, пап?
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК:
Запад или Восток —
Всюду одна и та же беда.
Ветер равно холодит.
ИЗЭНЭМИ:
Ветер всем дует: в лицо, в спину, в уши или лицо.
Не одной мне.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК:
Содрогнись, о холм!
Осенний ветер в поле —
Мой одинокий стон.
ИЗЭНЭМИ: Страшно жить среди тех, кто не слышит даже крика.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК:
Там, где родится поток,
Низко склонилась ива:
Ищет ледник в земле.
ИЗЭНЭМИ:
И так дальше уже просто нельзя.
И становилось холодно.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК:
Холодный горный источник.
Горсть воды не успел зачерпнуть,
Как зубы уже заломило.
ИЗЭНЭМИ:
Любите водку?
Она, как и ветер, обжигает горло и бьёт в лоб,
И ни хера, ни хера вообще не помнишь.
Обморожение души, мыслей.
И это просто пиздец.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК:
Иней её укрыл,
Стелет постель ей ветер…
Брошенное дитя.
ИЗЭНЭМИ: Лежу где-то под землёй и слушаю, как свищет ветер.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК:
Чтоб холодный вихрь
Ароматом напоить, опять раскрылись
Поздней осенью цветы.
ИЗЭНЭМИ:
И я затихала.
И становилось теплее.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК:
Совсем легла на землю,
Но неизбежно зацветёт
Больная хризантема.
ИЗЭНЭМИ: Я засыпала, сохраняла себя и ждала.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК:
И осенью хочется жить
Этой бабочке: пьёт торопливо
С хризантемы росу.
ИЗЭНЭМИ:
Что что-то изменится
Здесь, в Самаре.
Что это всё не насовсем.
Как это говорится?
Что это не навсегда.
Не навсегда.
Самара не навсегда.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК:
Ростки озимых взошли.
Славный приют для отшельника —
Деревня среди полей.
ИЗЭНЭМИ: Пап, что-то ждёт впереди, да?
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК:
Поля по-зимнему глядят.
Лишь кое-где крестьяне бродят,
Собирая листья первых трав.
ИЗЭНЭМИ: Нужно долго ждать, да?
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК:
Путник в дальней стране!
Вернись, тебе покажу я
Истинные цветы.
ИЗЭНЭМИ: И потом он вернётся.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК:
Дом на славу удался!
На задворках воробьи
Просо радостно клюют.
ИЗЭНЭМИ: И с ним уготовано мне счастье.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК:
Вместе с хозяином дома
Слушаю молча вечерний звон.
Падают листья ивы.
ИЗЭНЭМИ:
Да только на хуй оно мне нужно?
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК:
Как завидна их судьба!
К северу от суетного мира
Вишни зацвели в горах.
ИЗЭНЭМИ:
Всё ради какой-то гармонии?
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК:
Зимние дни в одиночестве.
Снова спиной прислонюсь
К столбу посредине хижины.
ИЗЭНЭМИ:
Как в той загадке.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК:
Что выберешь,
Реку, бегущую вниз,
Или дерево, растущее вверх?
ИЗЭНЭМИ и НОБУО стоят вплотную друг к другу. ЖИТЕЛИ САМАРЫ, ХОР МЕРТВЫХ ДЕВУШЕК и СВИТА насвистывают Песню Ветра Перемен.
ИЗЭНЭМИ:
И тогда воцарится гармония, и в моей жизни наконец появится смысл.
Ведь я столько лет проторчала в какой-то тёмной дыре, окружённая добрыми и прекрасными, но всё же мёртвыми шлюхами.
Заткнитесь.
И это всё есть лишь страдание на пути к счастью, и это, типа — мой путь, который неисповедим?
Что это, блядь, вообще значит?
Неисповедим. Мне не в чем исповедоваться. Перед кем? Ради чего?
Ведь это значит — жалеть. Так?
Нет, ну тогда — да. Если жить в этой чёрной дыре и ждать какого-то чуда и есть мой путь, то не о чем жалеть. Путь и правда неисповедим.
Я не жалею.
Во мне не осталось даже жалости к себе — единственного, что помогало сохранить человечность.
Но я не человек.
Я — животное. Я — единственный экземпляр, умирающий вид. Я — женщина-единорог. Девственница с наставленным рогом.
И должна ждать, пока он осознает, вернётся и заберёт меня. И это, типа, называется надеждой?
И я слаба, и поэтому я жду.
Посмотри, насколько я слаба, раз дождалась тебя.
Вот ты пришёл и смотришь на меня.
Ты плачешь.
Ты готов сказать мне что-то.
Но я так заебалась тебя ждать.
Так что давай закончим.
Ёбанная эта гармония.
Ну чо, как в тот раз?
На счёт три ответим?
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК становится ДУХОМ ВЕТРА и парит над площадью. Он поднимает статую Вениамина Куйбышева и бросает её в реку. На площади становится как-то сразу свободнее.
БОСОЙ ЧЕЛОВЕК (сквозь слёзы):
Что выберешь,
Реку, бегущую вниз,
Или дерево, растущее вверх?
Раз.
Два.
Три.
ЖИТЕЛИ САМАРЫ, ХОР МЕРТВЫХ ДЕВУШЕК и СВИТА образуют Общий хор и во всё горло поют Песню Ветра Перемен, которую все знают с детства, юности и молодости. Ну которая:
тееейк ми
ту зэ меджик оф момент ту глоооори найт
вэа зэ чилдрен оф туморроу дрим эвэй
ин зэ уинд оф ченчж
ИЗЭНЭМИ и НОБУО одновременно произносят слова, но они не слышны в вихре песни.
Картина предпоследняя. Здесь хорошо.
Холм из первой картины. Посередине холма стоит небольшой дом, подле него — исправный колодец. Сезон: осень или зима — холодно. Невыносимо тихо.
ИЗЭНЭМИ и НОБУО стоят у колодца и смотрят друг на друга.
НОБУО:
Это всё было?
Ты смотришь как прежде.
Ни капли не отличима.
ИЗЭНЭМИ:
Это тот далёкий день.
Но ты кажешься другим, каким-то здешним.
В глазах печаль и покорность.
НОБУО:
В тебе нет дикой мудрости,
Лишь ярость, что белёсой костью изо лба растёт,
И грусть.
Пауза.
НОБУО:
Мне некуда идти теперь,
Ведь ты здесь.
И этот дом…
ИЗЭНЭМИ:
Он разве был здесь прежде?
Тогда лишь помню я колодец, холм и ветер.
Твой пугливый взгляд.
НОБУО:
Его не было здесь тогда,
Но я будто вижу его не впервые.
Еженощно ты выходила из него мне навстречу.
ИЗЭНЭМИ:
И у меня то же чувство.
Когда в темноте колодца я смыкала глаза,
Мне часто виделся этот дом.
НОБУО:
Быть может, тот сон теперь
У нас двоих единый?
Надолго ли?
ИЗЭНЭМИ:
Иль то был сон, что я жила во сне,
А ты так долго шёл домой?
И это не навсегда?
Пауза.
НОБУО:
Нет, Изэнэми, это не сон.
Я чувствую, что я не тот, кем был прежде.
Тогда я был — там. Понимаешь?
А теперь я — Здесь.
Там и Здесь это не про место, это про время.
Там — это потом, а Здесь — это сейчас.
Там — это кто-то другой, а Здесь — это я.
Там — это река, а Здесь — это дерево.
ИЗЭНЭМИ:
Что ты ответил, когда Ветер загадал нам загадку?
НОБУО:
Деревом.
Пауза.
А ты?
ИЗЭНЭМИ:
Рекой.
Пауза.
НОБУО:
Это — гармония.
ИЗЭНЭМИ:
Да. Вероятно, это и есть счастье.
Пауза.
НОБУО:
Я буду Деревом, что растёт вверх.
ИЗЭНЭМИ:
Возвышается над Самарой и смотрит завистливо в даль.
НОБУО:
И смотрит на реку, что бежит вниз.
Пауза.
ИЗЭНЭМИ:
И это, получается, любовь.
НОБУО:
Вечная и чистая.
Как в какой-нибудь сказке.
ИЗЭНЭМИ оглядывается.
ИЗЭНЭМИ:
Здесь — хорошо.
НОБУО:
Да.
Пауза.
Появляется ДУХ ВЕТРА.
ДУХ ВЕТРА:
Навеки жизнь меняет
Тот, кто любит намеренно,
Вопреки судьбе.
Проторенный путь
Есть освещённая автострада.
Они же ходят лесными тропами.
От скуки люди
Рушат друг другу судьбы
И живут страдая.
Не ждёт счастья
Путь переменивший однажды,
Лишь надеется на хэппи-энд.
Перемен требуют
Те, кто готов потерять покой
Ради двухминутной неги.
ДУХ ВЕТРА рассказывает Изэнэми и Нобуо их судьбу.
ДУХ ВЕТРА:
Нобуо и Изэнэми,
Ваша любовь противоречива, как и всякая любовь.
Её не должно было существовать, как не должно существовать её в мире людей,
Но почему-то она существует.
Вопреки всему, вопреки своей природе.
Также она живёт и в вас.
Ваша любовь родилась в насилии.
Она росла в ненависти и самозабвении.
И как всякая любовь она пришла к самопожертвованию.
Вы обрекли себя на неё в тот самый день у этого колодца.
И спустя годы вы снова здесь.
Любовь в мире людей означает гармонию после страдания.
И ваше страдание только началось.
Но оно закончится, а дальше — вечная гармония.
Пауза.
Рог, который я дал тебе, Изэнэми, есть любовь.
Он заключает в себе любовь и боль всех, кто был здесь в тот день.
Они восхищались тобой. Славили и любили — возненавидели.
Ты забрала всё, чем они дорожили.
Чтобы освободить свою любовь, ты должна освободить любовь всех.
Каждый человек, мужчина или женщина, чья любовь заточена в тебе,
Захочет освободить её.
И ты отдашь её.
Каждый человек, чья любовь заточена в тебе, захочет овладеть тобой,
И ты отдашься.
Как только человек вновь овладеет своей любовью, заточенной в тебе, он перестанет видеть тебя.
Ведь ты — женщина-единорог.
Ты пригласишь каждого зайти в этот дом.
Поэтому твоё имя, Изэнэми, означает: женщина, которая приглашает.
Ты же, Нобуо, обязан встречать каждого человека и провожать его к Изэнэми.
Ты долгое время будешь наблюдать, как женщина-единорог отдаёт кому-то чужую любовь.
И ты будешь ждать, пока не останется последнего, кому видится Изэнэми.
Иначе ты сам навеки потеряешь её, ведь не сможешь увидеть её.
И тогда всё напрасно.
Ты будешь предан ей и предан ею.
Поэтому твоё имя, Нобуо: преданный человек.
И однажды все, чья любовь заточена в Изэнэми, не увидят её.
И тогда отпадёт этот белёсый рог,
И тогда останешься только ты, Нобуо.
И тогда будет конец страданиям.
А после — только гармония.
Таков ваш Путь.
Пауза.
Вскоре они будут здесь.
А пока вы можете сказать что-нибудь.
ИЗЭНЭМИ: Да вы издеваетесь?
НОБУО: Сраный этот дзен-буддизм.
ИЗЭНЭМИ и НОБУО смотрят друг на друга. ДУХ ВЕТРА насвистывает Песню Ветра Перемен, к дому выстраивается длинная очередь.
Картина последняя. Эпилог + открытка на память.
ИЗЭНЭМИ: И вот я лежу на тахте, хотя это, пожалуй, слишком романтично — это просто разложенный диван. Такой, у которого сиденье на колёсиках отодвигается. Неудобный диван. И я лежу на нём и смотрю в потолок и на стены. Иногда я встаю покурить и подхожу к окну. И за окном столько людей. И все стоят ко мне. Мужчины, женщины, вчерашние дети. И всем нужна любовь. И я могу её им дать. Их любовь. И если во мне столько их любви, то это должно давить как-то, наверное. Но я ничего совсем такого не ощущаю. Всё это какая-то механика. Отчего я так плохо училась в школе? Так хочется сказать: занавес, и чтобы всё кончилось.
НОБУО: И они здороваются со мной. Они говорят: какой у вас хороший дом, как крепко он сложен. И ещё какую-нибудь херню говорят. И я что-то отвечаю, потому что должен им что-то ответить, потому что иначе я не получу того отложенного выигрыша. Как в магазине, знаете — я у вас откладывал. Да, на моё имя. Ну уж какое есть. И я говорю и иногда даже улыбаюсь, хотя я их всех ненавижу. Я хочу разорвать на кровавые шматки каждого из них. Зубами хочу разгрызть их глаза, откусить их ужасные носы. И я говорю им: прошу вас, проходите, прямо по лестнице и направо. Занавес, занавес.
КТО-ТО ИЗ СВИТЫ: Здесь темно. Вот если закрыть глаза, потом прикрыть ладонью, потом открыть глаза и потом убрать ладонь — и ничего не видно. Вот так темно. Так бывает. Мы все тут, и, наверное, мертвы. А всё эта музыка, эти песни. Без них невыносимо жить. Без них совсем тоска. А с ней, получается, смерть и вечная жизнь. В общем-то я не знал раньше счастья, может, это оно и есть. Когда живешь в темноте, другие чувства обостряются.
ОДИН ИЗ ЖИТЕЛЕЙ САМАРЫ: Я вернул себе любовь. Не к кому-то конкретному, типа, к жене или к детям. Нет, просто вернул саму любовь. То есть, теперь я чувствую, что она во мне есть. Вот ещё пять минут назад не было, а теперь, когда всё позади, уже есть. И знаете, мир стал лучше. То есть, я всё равно не люблю всего этого. Эту реку, эту грязь, этих людей, жену и детей. Честно, не люблю, хотя думал, что полюблю. Но теперь я ощущаю, что хотя бы могу что-то полюбить. Пусть не природу, жену или детей, но что-то другое. И я понимаю: я могу. Это и есть, наверное, любовь. Вот это чувство, что ты можешь. Это же типа и есть жизнь. Ну а секс был так себе, если честно. На троечку.
ОДИН ИЗ ЖИТЕЛЕЙ САМАРЫ: Она просто лежала там. И я до последнего не хотела заходить. Ведь я никогда прежде. Ну, то есть, с женщиной. Ну, вы понимаете. Хотя, казалось бы, чего я там не знаю, не видела, но есть же что-то в этом такое. Ну, не знаю, запретное. И головой я понимаю, что без этого тебе не видать любви, без этого мир не вернется, останется таким же серым, с этими уёбскими облаками и многоэтажками. А с этим вот мир может стать лучше. Ну, хотя бы теоретически. И я захожу, и она улыбается мне. Она спрашивает: первый раз? И я киваю, а она говорит: в первый раз всегда страшно, хорошо, что рождаешься всего раз, да? И я говорю, что наверное да. Она машет мне рукой. И дальше. Ну, что дальше. Зачем рассказывать. Мне понравилось, да. Очень.
ОДИН ИЗ ЖИТЕЛЕЙ САМАРЫ: Любовь? А что любовь? Да, теперь она у меня есть. Ну, это как, не знаю, с телефоном или там ноутом новым. Находишь его, неделю за неделей ты заходишь, смотришь на него. На характеристики, сравниваешь с остальными и понимаешь, что вот он, самый лучший. Но цена — да. Не, это слишком. И потом как-нибудь идёшь посрать, достаёшь телефон, и так одиноко и грустно почему-то. И вот ты заходишь на сайт и смотришь на этот ноут. Ну хорош, всем же хорош. А что я? Не достоин лучшего, что ли? Ну подкопить — и всё. Ну да, немного ужаться, ну ничего. Не всю же жизнь вот с этим всем жить. И потом говоришь кому-нибудь: ну да, дороговато, но это качество, платишь за качество, не всё же нам Самара, иногда хочется и на Пхукет. Вот это он и есть, да и стоит почти столько же. И вот ты покупаешь. И — вещь. И говоришь потом: да, купил, вещь, вот иначе не скажешь — вещь. А потом как-то всё это проходит. Ну вот и любовь — это так же, вещь. Сейчас хорошо, а завтра? Стоило ли так уже заморачиваться. Пхукет ведь реально не так уж дорого стоит. Ладно, всё, хорош. Давай — занавес. Занавес!
ОДИН ИЗ ЖИТЕЛЕЙ САМАРЫ: Да норм. Ну я захожу и говорю типа: ну чо, как трахаться будем? И у неё было такое лицо. Ей было так жалко меня. И мне себя стало жалко. Ведь я всё думал, неужели без этого никак нельзя? Я, может, проживу и сам как-нибудь всё пойму. И я говорю. Простите. И она кивает. И, в общем, я ложусь. И она говорит. Раздевайся, или ты просто полежать хочешь? И на самом деле да, я хотел, но я сказал. Нет, не хочу. И я разделся. И это было так странно. Я все думал, неужели обычно это все так и делается. И если да, то зачем вообще это? Ну, в общем. Теперь да. Ощущаю. И это так естественно ощущать, кажется, будто это всегда было. Пойду скажу кому-нибудь, что люблю его. А, ну да. Я тебя люблю, я тебя люблю. Как же охуенно.
ОДНА ИЗ МЁРТВЫХ ДЕВУШЕК: Темно, да. Не выбраться, да. Ну ничего, вот жили люди без электричества, а солнца тут и так хрен дождёшься, всё эти облака. Так что в принципе — живём. Песни поём, кино смотрим, любовью занимаемся. Что ещё надо? Да, хороший. Мне не особо есть с чем сравнивать. А какие бывают? Ну, тогда на четверку. Да, с плюсом.
ИЗЭНЭМИ: Каждый день, каждую минуту я думаю о том, когда отдам всю эту любовь. Ведь тогда я освобожусь и будет всё хорошо. Не знаю, я отдаю им любовь, словно какую-то болезнь, которой я сама не болела. Я как бы носитель. Носитель любви. Переносчик. И вот когда мне скажут. Ну всё, болезнь ушла, теперь вы здоровы. Ничего же не изменится. Я же и так не ощущала болезни, просто переносила её. Просто меня должна будет обрадовать мысль, что я больше не болею. И потом мне скажут. Вы здоровы, но от этого иммунитета нет, может потом снова заразитесь. И я скажу: да, без проблем.
НОБУО: Я лишь наблюдаю. А что ещё остаётся? Ведь уготованное счастье иначе не получить. И я пишу стихи, улыбаюсь, разговариваю и жду, а когда последний уйдёт и поблагодарит. Я пожму ему руку, закрою дверь. Налью воды. Поднимусь наверх и спрошу. Голодная? И она скажет.
ИЗЭНЭМИ: Да, просто умираю с голоду.
НОБУО: И я скажу. Может закажем роллов?
ИЗЭНЭМИ: И я скажу. Да, и колы. До смерти хочется колы. И еще я скажу. Ложись, давай просто полежим в темноте.
НОБУО: И я скажу. Давай. И я подумаю.
ИЗЭНЭМИ: Ведь и правда хорошо.
НОБУО: Да, хорошо.
И вот теперь — занавес.
Не картина, а, скорее, открытка с фотошопленным видом города
Холм из первой картины. Посередине холма стоит небольшой дом, подле него — исправный колодец. Рядом с ним растёт высокое дерево.
Если подойти к дереву, можно увидеть, что из под него сочится вода — это ручей, который сбегает вниз по холму и тонет в громаде длинной реки. И сколько таких ручьёв сбегает с прибрежных холмов, чтобы сделать эту реку такой длинной, что этим можно гордится?
Из колодца слышна какая-то странная, но такая любимая песня.
Жители Самары ходят по торговым центрам, сидят в «рюмках», гуляют в парках и смеются над каким-то стендапером из столицы.
И на всё это вдруг набрасывается острый и порывистый речной ветер. И ты задумаешься: что я ему такого сделал? Самара, сука, блядь. Порядок произвольный.
А он всё свищет, и вдруг пропадает.
И мёрзнут уши, и отчего-то очень чешется лоб.
И думаешь: ну её нахер такую жизнь — я отрываю авиасейлз.
Занавес.

Как покорить гипотетический гроб
Не верьте присланному счёту за ваш гипотетический гроб
Во-первых, уймите, уймите, уймите ваш первый озноб
Во-вторых, съешьте этот ненавистный счёт
Ненавистный счёт как весенний укроп
В-третьих, и это очень важно, вытрите пот
Важно, чтобы был пот
А не сладкий потец
Означающий пиздец
В-четвертых, скажите себе стоп:
Потому что не важно, что скажет знакомый поп
А важно, что сделает землекоп
Важно, что он не примет его за боб
Ваш гипотетический гроб
Может ему понравится ваш гардероб
СТОП
На кладбище нет никаких злоб
Можно не отбирать никаких проб
И нет никаких сдоб
И очень странный сироп
В котором живёт микроб
И пара жирных амёб
СТОП
Не пускают на кладбище агитпроп
И всяких жирных утроб
Но пускают недотёп
Из непонятных трущоб
Чтоб составить гороскоп
На ваш гипотетический гроб
СТОП
Да, да, замените его на стоп
Ваш гипотетический гроб
Гроб на стоп
Стоп на гроб
Гроб на стоп
Гроб на стоп
Стоп
Сто
П, п, п, п, п…
Действующие лица:
ЛИНДА — учитель математики, около 30 лет.
ЛОЛИТА — секретарь в фирме, её младшая сестра-погодка.
МАТЬ — их мать, около 50 лет.
ГОЛОС ИЗ ГРОБА — мужской голос из гроба неизвестного возраста.
Полутемная комната обставлена в советском стиле: прямоугольный стол посередине, буфет, платяной шкаф и диван. За окном — луна и дождь. На столе — гроб, обитый красным бархатом.
В комнату входят две женщины в плащах и с зонтами.
ЛИНДА: Лолита, я прошу. Не включай свет.
ЛОЛИТА (передразнивает): Не включай свет. Зассыха!
ЛИНДА: Правда, я боюсь. Боюсь шуметь. Шум и свет её бесили.
ЛОЛИТА: Кого?
ЛИНДА: Её.
ЛОЛИТА: Кого её?
ЛИНДА: Её — мать.
ЛОЛИТА: Мать её?
ЛИНДА: Не её — нашу.
ЛОЛИТА: Нашу не её, а нашу её. Что ты всё время носишь?
ЛИНДА: Не нашу, а нашу, мать нашу!
ЛОЛИТА: Ах, нашу мать, мать нашу!
ЛИНДА: Да! Нашу мать бесит! Свет и шум! Увидит свет в окне, услышит шум в своей квартире и подумает: припёрлись, нахалки, хозяйничают.
ЛОЛИТА: Чушь! Её душа простилась с телом, а руки — с хрусталём и мебелью.
ЛИНДА: Мёртвой мы её не видели. Вдруг она ещё здесь или где-то рядом.
ЛОЛИТА (дёргает плечами как во время озноба): Ладно, чёрт с тобой! Зажгу только свечку.
ЛИНДА подходит к буфету и достаёт подсвечник и спички. Зажигает свечу и ставит на стол рядом с гробом.
ЛИНДА (видит гроб): Ой! Ты уже гроб купила.
ЛОЛИТА: Ага. По дешёвке. На Авите. Там у одного покойника кастинг был, и он не
прошёл.
ЛИНДА: Покойник кастинг не прошёл?
ЛОЛИТА: Какой, твою мать, покойник?
ЛИНДА: Твой.
ЛОЛИТА: Мой?
ЛИНДА: Твой.
ЛОЛИТА: У меня нет покойника.
ЛИНДА: А мать?
ЛОЛИТА: Мать есть. Чёрт, была. Нет, не была — стала. Да. Стала покойник.
ЛИНДА: Наша мать — покойник.
ЛОЛИТА: Покойник — наша мать.
ЛИНДА: Не прошла кастинг.
ЛОЛИТА: Не прошла…
ЛИНДА: Я не понимаю, как ТУДА можно не пройти кастинг?
ЛОЛИТА: Куда туда?
ЛИНДА: Ну ТУДА. Туда где ТАМ.
ЛОЛИТА: А, ну если туда где там.
ЛИНДА: И ты говоришь, что она не прошла кастинг. ТАМ.
ЛОЛИТА: Кто она?
ЛИНДА: Наша мать, твою мать. Наша мать — покойник. И ты говоришь, что она не прошла кастинг.
Молчат.
ЛОЛИТА: Я не понимаю, радоваться или горевать.
ЛИНДА: Горевать, твою мать.
ЛОЛИТА: Почему?
ЛИНДА: Потому!
ЛОЛИТА: Почему потому?
ЛИНДА: Умерла наша мать.
ЛОЛИТА: Надо горевать.
Плачут.
ЛИНДА: С другой стороны, чего мы плачем, если она не прошла кастинг. Может, её вернут? Ты точно знаешь, что она не прошла кастинг?
ЛОЛИТА: Я этого не знаю. Это ты сказала.
ЛИНДА: И я не знаю. Я думала, что ты знаешь.
ЛОЛИТА: А я думала, ты знаешь.
ЛИНДА: Запутались мы.
ЛОЛИТА: Запутались не мы, это смерть нас запутала.
ЛИНДА: Давай сначала.
ЛОЛИТА: Или с конца.
ЛИНДА: Тогда с главного.
ЛОЛИТА: Да, с главного. А что главное?
ЛИНДА: Главное — нет нашей мамы.
ЛОЛИТА: Нашей мамы нет.
ЛИНДА: А гроб есть.
ЛОЛИТА: А гроб есть. Твою мать! Это гроб не прошёл! Понимаешь! Не наша мать, твою мать, а гроб. Гроб не прошёл кастинг.
ЛИНДА: У матери?
ЛОЛИТА: У какой матери?
ЛИНДА: У нашей матери.
ЛОЛИТА: Нет, твою мать, у покойника.
ЛИНДА: Наша мать — покойник. Значит, у неё не прошёл кастинг этот гроб.
ЛОЛИТА: Да ни при чём наша мать, твою мать! Не имеет она отношения ни к гробу, ни к кастингу.
ЛИНДА: А кто тогда имеет?
ЛОЛИТА: Имеет? Имеет один сноб.
ЛИНДА: Кто?
ЛОЛИТА: Другой покойник.
ЛИНДА: На кладбище всегда лежат другие.
ЛОЛИТА: На кладбище всегда лежат другие покойники.
ЛИНДА: Нет, просто другие. Другие бывают покойники и не покойники.
ЛОЛИТА: Зачем же другим не покойникам лежать на кладбище?
ЛИНДА: Чтобы быть другим, не обязательно лежать на кладбище. Потому что как только родился — сразу записали в покойники. Гипотетически. Понимаешь? Все другие — все покойники. Одни уже, другие ещё.
ЛОЛИТА: Понимаю. Кастинг был у другого покойника. Другого важного покойника.
ЛИНДА: Какой кастинг?
ЛОЛИТА: Кастинг гробов. Сказали, что родственники со всего света приехали со своими гробами. Штук десять. А нужен только один. Этот ему не понравился. Я купила.
ЛИНДА: А ты у него не спросила, почему он ему не понравился?
ЛОЛИТА: У кого?
ЛИНДА: У другого покойника.
ЛОЛИТА: Нет. Мне не дали с ним поговорить.
ЛИНДА: Почему?
ЛОЛИТА: Торопились закопать.
ЛИНДА: Копай, не копай — всех не закопаешь!
ЛОЛИТА: Главное, что гробы не стали закапывать, а устроили распродажу. Со скидкой. Типа как бэу. Вот я и подсуетилась.
ЛИНДА: Хорошо.
ЛОЛИТА: Что хорошо?
ЛИНДА: Хорошо, что подсуетилась.
ЛОЛИТА: Да, хорошо.
ЛИНДА: Хорошо сидим.
ЛОЛИТА: Да, хорошо. Другие, небось, так не сидят. Лежать приходится.
ЛИНДА: И нам лежать придётся.
ЛОЛИТА: Заставят, твою мать.
ЛИНДА: Да, заставят, как нашу мать.
Молчат.
Крышка гроба приподнимается и резко опускается. Свеча гаснет.
ЛИНДА: Ой!
ЛОЛИТА: Кто здесь, твою мать?
МАТЬ: Ваша мать, твою мать!
Сёстры оборачиваются к силуэту у входной двери.
ЛОЛИТА: Ваша или твоя?
МАТЬ: Кто?
ЛОЛИТА: Мать.
МАТЬ: Я — ваша мать.
ЛИНДА: Наша мать на кастинге!
МАТЬ: Вот я и не прошла кастинг.
ЛОЛИТА: Да? Чем докажешь?
ЛИНДА: Вот именно! Чем докажешь? А то ты какая-то другая.
МАТЬ: Извините, девочки, что не похорошела. Давайте скажу вам то, что знает только мать. У тебя, Лолик, два аборта. Один в семнадцать лет, еще в школе. Другой — год назад. Первый раз одноклассник, второй — начальник, у которого ты секретарём работаешь. А у тебя, Линочка, один аборт и один выкидыш. Аборт от…
ЛИНДА (перебивает): Хватит! Хватит! Хватит, твою мать!
ЛОЛИТА: Действительно, мать. Могла бы как-то по-другому.
МАТЬ: Как?
ЛИНДА: Ну, хотя бы про родинки. У нас одинаковые родинки.
МАТЬ: Возле пупка? Были. Так твоя сестра её срезала.
ЛИНДА: Как это возможно? Мать, ты что, упавшая вниз звезда?
ЛОЛИТА: Ага, геранью с последнего этажа.
ЛИНДА: Правда, ма, почему ты вернулась? Не ожидали мы такого натюрморта!
ЛОЛИТА: Да, какого … (Подбирает слова). В общем, зачем лишила нас комфорта?
МАТЬ: Получилось так: жизнь ушла, смерть не пришла. Нестыковка. Две сестры, а согласья нет.
ЛОЛИТА: Там что — бардак?
МАТЬ: Бардак здесь, а там нестыковка. Я же говорю: жизнь ушла, смерть не пришла.
ЛИНДА: Издеваются как хотят.
ЛОЛИТА: Как здесь.
ЛИНДА: Издеваются.
МАТЬ: Здесь вам не там. Там вообще.
ЛИНДА: Я думала, там не вообще, а чики-пуки.
МАТЬ: Чики там есть, а пуки все здесь остались. Если вам мало, то могу ещё вспомнить, как вы в начальной школе отправились гулять по трамвайным рельсам.
ЛОЛИТА: Хотели купить мороженое на Чистяках у Грибоедова.
ЛИНДА: Потому что у Грибоедова самое вкусное.
ЛОЛИТА: Но трамваи не ходили — был сбой. Сбой с электричеством или ещё с чем. Неважно. Мы тогда пошли по трамвайным рельсам.
ЛИНДА: Мы подумали — если пустят трамвай, остановим его и сядем.
ЛОЛИТА: Трамвай не пустили. Могли бы по бульвару пойти. Только коленки сбили в кровь.
ЛИНДА: Только в очередь встали, нам говорят — девочки, это не ваша мать?
ЛОЛИТА: Все сразу поняли, что мы в самоволке.
МАТЬ: За самоволку я вас наказала.
ЛИНДА: Я не помню.
ЛОЛИТА: И я не помню.
МАТЬ: Купила мороженое, но приказала есть не своё любимое, а сестринское.
ЛОЛИТА: Я люблю вафельный стаканчик с розочкой.
ЛИНДА: А я — «Ленинградское».
ЛОЛИТА: Когда ты ушла, мы обратно поменялись.
ЛИНДА: Примерно половина на половину вышло. Половина своего, а другая — Лолы.
ЛОЛИТА: Да, половина Лины и половина своя. Но всё равно вкусно. Очень. Даже про коленки забыли.
ЛИНДА: Зелёные коленки.
С опаской подходят к МАТЕРИ.
МАТЬ: Вот и вернулась я в дом раздробленных откровений.
ЛОЛИТА: Зачем?
МАТЬ: Вернулась?
ЛОЛИТА: Дробить.
МАТЬ: Кого?
ЛОЛИТА: Откровения.
МАТЬ: Веяния?
ЛОЛИТА: Узнаю. Ты мать наша.
ЛИНДА: Наша мама.
МАТЬ: Ваша мама пришла, молока принесла.
ЛОЛИТА: Мы, мать, сейчас тебя будем поминать. Положено так.
ЛИНДА: Вспомнить мать — святое дело.
ЛОЛИТА: А тут ты со своим молоком.
МАТЬ: Так занимайтесь своими делами. В этом деле я вам не помеха. На меня внимания не обращайте.
ЛОЛИТА: Вышла из обращения?
МАТЬ: Вышла.
ЛИНДА: Целиком?
МАТЬ: Частично.
ЛОЛИТА: Если частично, то, может, присоединишься?
ЛИНДА: Ма, давай! Помянем тебя как следует!
МАТЬ: Не могу. Там строгий фейс и нюх контроль. Такие церберы. Хуже наших ментов.
ЛИНДА: Шутишь?
МАТЬ: Какие шутки. Реально проверяют по всем параметрам. И на алкоголь тоже.
ЛИНДА: Что может быть хуже наших ментов?
МАТЬ: Так там они тоже типа ментов.
ЛОЛИТА: Неужели нашлись такие ангелы?
МАТЬ: Ангелы не находятся. Ангелы встречаются. Что это там на столе?
ЛОЛИТА: Гроб.
МАТЬ: Чей?
ЛОЛИТА: Мой.
МАТЬ: А тебе зачем?
ЛОЛИТА: Для тебя.
МАТЬ: Значит, мой.
ЛОЛИТА: Я купила. А ты не позаботилась.
МАТЬ: Извини что не успела. Быстро как-то всё. До последнего надеялась, что не сейчас. Обманулась. Так что заботиться теперь ваше дело.
ЛОЛИТА: Хоть деньги отдай!
ЛИНДА: Лолита! Как тебе не стыдно? У ангелов денег не берут.
ЛОЛИТА: Она не ангел, она покойник.
ЛИНДА: Ма, ты ангел или покойник?
МАТЬ: Разве это важно?
ЛИНДА: А что важно?
МАТЬ: Важно, что есть выбор. Доведите меня до гроба, а то сама не могу.
ЛИНДА: Мы и так вроде. Довели. Ты нам всю жизнь говорила, что мы доведем тебя до гроба.
ЛОЛИТА: Да, говорила!
МАТЬ: Говорила, говорила. Давайте, девочки. Доведите до конца начатое дело. Всего пять шагов осталось!
ЛОЛИТА: Нет. Не поведём.
МАТЬ: Почему?
ЛОЛИТА: Гроб мой, а ты за него не заплатила.
ЛИНДА: Доводить кого-то до гроба — плохая примета.
МАТЬ: Плохая примета — мать в законное жилище не пускать.
ЛОЛИТА: Сделаешь по-нашему — доведём до гроба.
МАТЬ: А по-другому?
ЛОЛИТА: По-другому никак.
МАТЬ: Теперь я поняла.
ЛОЛИТА: Что?
МАТЬ: Почему по-другому никак.
ЛОЛИТА: Вот видишь.
МАТЬ: До гроба могут довести только близкие люди.
ЛИНДА: Ну, ма.
МАТЬ: Да, я та самая ма, которая не стала ба. Так бы внуки до гроба довели.
ЛОЛИТА: Да зачем это тебе надо? Или это им надо?
МАТЬ: Кому им?
ЛИНДА: Ну, им! Которые ТАМ!
МАТЬ: Не могу сказать. Я ТАМ ещё не была.
ЛИНДА: Ма, всё равно там кто-то есть.
МАТЬ: Конечно, ТАМ всегда кто-то есть.
ЛИНДА: Не в этом смысле. Не ТАМ (показывает рукой наверх), а там (опускает руку и указывает на гроб).
ЛОЛИТА: Да, ма. В моем гробу лежит посторонний.
МАТЬ: Лола, я тебе что? Посторонний?
ЛОЛИТА: Да нет. Совсем посторонний.
МАТЬ: В смысле, не я и не ты?
ЛОЛИТА: В смысле, не я и не ты.
МАТЬ: И не Лина?
ЛОЛИТА: И не Линда.
МАТЬ: А должна быть ты.
ЛОЛИТА: Почему я?
МАТЬ: Ты говоришь, что он твой.
ЛОЛИТА: Кто мой?
МАТЬ: Гроб — твой.
ЛОЛИТА: Гроб мой, но не такой степени.
МАТЬ: До какой?
ЛОЛИТА: Я — владелец, а потребитель — ты.
МАТЬ: А ты не боишься, что я истреблю его полностью?
ЛОЛИТА: Истребляй, с деньгами потом разберёмся. Просто мне обидно, что в нём какой-то рейдер.
ЛИНДА: А ты что? Перед покупкой не проверяла?
ЛОЛИТА: Да говорю же. Онлайн! С доставкой! Приехали курьеры. Доставили, поставили, деньги получили и убыли.
ЛИНДА: Убили? Кого убили?
ЛОЛИТА: Да не убили, а убыли. В смысле, уехали. Кто там, я не знаю. Недосуг открыть было.
МАТЬ: Посмотрим. Ну-ка, Лола, постучи в него.
ЛОЛИТА берет зонт и с опаской подходит к гробу. Стучит.
ГОЛОС ИЗ ГРОБА: ЗА-НЯ-ТО!
ЛОЛИТА отбегает, ЛИНДА падает, МАТЬ садится на пол.
МАТЬ: Лолочка, детка, постучи ещё раз. Скажи, что мне тоже надо!
ЛОЛИТА: Не буду я стучать. Пусть сам вылезет.
ЛИНДА: Правда, ма. Не волнуйся. Мы его не пропустим. Мимо нас не проскользнет.
ЛОЛИТА: Линда, что ты говоришь! Зачем он там нужен. Наоборот, надо чтобы он побыстрее освободил незаконно занимаемое имущество (поворачивается к гробу). То есть, гражданин, выметайтесь из чужого гроба!
ЛИНДА: Он не гражданин. Он другой.
ЛОЛИТА: Правильно, Линда! Вы чужой. А гробы — только для своих! Выходите немедленно!
Ждут минуту.
ЛИНДА: Не выходит. Что делать будем?
МАТЬ: Эх вы, интеллектуалки! Даже из гроба есть два выхода!
ЛИНДА: Правда?
ЛОЛИТА: И куда ведёт второй?
МАТЬ: Да уж не туда, куда первый. Ушёл он.
ЛОЛИТА: Ну, раз так, постучу еще раз.
ЛОЛИТА берет зонт и опять подходит к гробу. Стучит.
Тишина.
ЛОЛИТА стучит еще раз.
Тишина.
ЛОЛИТА: Эй! Как вас там? Всё, что ли? Сделали свои дела?
Ждут минуту. Тишина.
ЛИНДА: Кончили, наконец, пользоваться?
ЛОЛИТА: Незаконно, между прочим!
ЛИНДА: Да! Нам для мамы надо! А вы заняли!
Ждут минуту. Тишина.
МАТЬ: Я же говорила.
ЛОЛИТА: Фу! Ну просто на сердце отлегло!
Сёстры подходят к гробу, приподнимают крышку и заглядывают внутрь.
ЛОЛИТА: Пусто.
ЛИНДА: Вот что значит семья.
ЛИНДА: Давайте наконец поминать. А то с этими переживаниями выпить захотелось.
ЛОЛИТА: Действительно, зря только время теряем.
ЛИНДА и ЛОЛИТА подходят к столу и выгружают на него снедь. ЛИНДА достаёт из пакета хлеб и нарезку в вакуумной упаковке, а ЛОЛИТА из кожаной сумки — пластиковые контейнеры. ЛИНДА достаёт из буфета три тарелки.
ЛОЛИТА: Вилки достань.
ЛИНДА: Ма, где у тебя вилки? Всё там же?
МАТЬ: Нет, девочки. Никаких вилок и ножей. Ешьте ложками.
ЛИНДА: Почему?
ЛОЛИТА: Потому что ей жалко нам приборов. Мне для неё ничего не жалко. Вон какой (размахивается, чтобы хлопнуть рукой по гробу, но передумывает) саркофаг купила!
МАТЬ: У вас, девочки, у каждой есть непрощенная обида. Если подеретесь, то хоть не покалечите друг дружку.
ЛИНДА: Твоя, ма, правда.
ЛОЛИТА: Ладно, ложками так ложками, тем более, что осторожность нам не помешает.
ЛИНДА достает из буфета три ложки.
МАТЬ: Мне не надо. Лучше стул принесите.
ЛОЛИТА: Надо, не надо — что за разговор. Если на поминки пришла, то будь любезна.
ЛИНДА: Да, ма. Как-то нехорошо получается.
ЛИНДА приносит матери стул и помогает сесть.
ЛОЛИТА: Это что у тебя? (Берет бутылку, которую принесла сестра). Красное полусладкое. Ты бы ещё шампусик приволокла! Водкой поминают, только водкой!
ЛОЛИТА наливает водку в рюмки.
ЛИНДА: А маме?
ЛОЛИТА: Я портрет приготовила, но с натурой лучше. Да, я помню, ма, ты водку не пьёшь.
Открывает бутылку красного вина, наливает в рюмку, сверху кладет хлеб и на тарелке передает матери.
ЛОЛИТА: Ну вот и славно!
ЛИНДА: Как в старые добрые.
ЛИНДА (пьёт водку): Ма, царствие тебе небесное.
ЛОЛИТА (пьёт водку): Да, земля тебе пухом.
Молча едят каждый своё.
ЛИНДА: Ма, а как тебе лучше: царствие небесное или земля пухом?
МАТЬ: Главное, что есть выбор.
ЛОЛИТА: Правда, как лучше? Ты скажи, мы так и будем.
МАТЬ: Это не мой выбор, а ваш.
ЛОЛИТА: А тебе всё равно?
МАТЬ: Всё равно.
ЛОЛИТА: Всё говно.
МАТЬ: Равно.
ЛОЛИТА: Говно.
МАТЬ: Равно.
ЛОЛИТА: Говно.
МАТЬ: Равно.
ЛОЛИТА: Говно.
ЛИНДА (кричит): Хватит! Всё равно всё говно!
Молчат.
МАТЬ: Успокоились? Доведите меня до гроба.
ЛОЛИТА: Нет, мать, погоди. У нас есть нерешенные вопросы.
ЛИНДА: Давай маму вспомним, прежде чем вопросы решать.
ЛОЛИТА: Будем решать, если мать не будет мешать.
ЛИНДА: Да, красное с белым нельзя мешать.
ЛОЛИТА: Наши вопросы надо решать.
ЛИНДА: Наши вопросы надо мешать.
ЛОЛИТА: Чтобы решать, надо поминать.
ЛИНДА: Чтобы не мешать, надо поминать.
ЛОЛИТА: Твою мать.
ЛИНДА: Нашу мать.
ЛОЛИТА: Нашу мать надо поминать.
МАТЬ: Поминайте уже! Вашу мать!
ЛИНДА (пьёт водку): Ма, царствие тебе небесное.
ЛОЛИТА (пьёт водку): Земля, мать, тебе пухом.
ЛИНДА: Ты, ма, хорошо выглядишь. Раньше думала, что плохо. А как помянули — так лучше стала.
МАТЬ: А ты плохо. Сестра твоя тоже не лучше.
ЛОЛИТА: Так мать у нас умерла.
МАТЬ: Неужели?
ЛИНДА: Да, и мы переживаем.
ЛОЛИТА: Как мы можем переживать нашу мать, если она вот сидит. Я не понимаю, переживаем мы нашу мать или нет?
ЛИНДА: Твою мать! Правда, ма, мы тебя переживаем или нет?
МАТЬ: Нет, не переживаете.
ЛИНДА и ЛОЛИТА (вместе): Почему?
МАТЬ: Пока до гроба не доведете, переживать не начнете. Закон такой. Человеческой природы. Ешьте, девочки. На поминках надо хорошо есть.
ЛИНДА и ЛОЛИТА закусывают.
ЛОЛИТА (брезгливо смотрит на снедь сестры): Оставь ты свои суррогаты, бери вот у меня. Здоровая пища. И ты, мама, угощайся. Что тебе положить?
МАТЬ: Мне нельзя. Лучше до гроба доведите.
ЛОЛИТА: Не хочешь — как хочешь. Не волнуйся, не сама готовила — из ресторана взяла.
МАТЬ: Из ресторана в космос не летают.
ЛОЛИТА: А зачем мне космос?
МАТЬ: Космос нужен, чтобы быть человеком.
ЛОЛИТА: А сейчас я не человек, что ли?
МАТЬ: Сейчас ты покойник. Гипотетический.
ЛОЛИТА: А ты, мать, твою мать, кто? Настоящий или гипотетический?
МАТЬ: Скажу, если до гроба доведете.
ЛОЛИТА: Тьфу!
Пауза.
ЛИНДА: Лолита, так это не твоя стряпня? Угостишь вон из той оранжевой коробочки?
ЛОЛИТА: Давай! (Кладёт еду в тарелку сестры). Это гратен дофинуа.
ЛИНДА: Нет, до фига не надо.
ЛОЛИТА: Не до фига, а гратен дофинуа, запеченный картофель в сливочном соусе с сыром.
Едят.
ЛОЛИТА: Нам надо решить вопрос — могила или кремация.
ЛИНДА: Конечно могила! Как-то я поехала на кладбище подышать свежим воздухом.
Остановилась у свежего захоронения и заметила в земле червяков. Обыкновенных дождевых червей. Я подумала — как хорошо быть червяком! Если червяком нельзя, то хотя бы возле них.
ЛОЛИТА: Есть такие диеты: посидишь и станешь червяком. Зато какая талия потом.
ЛИНДА: Да нет же. Не из-за этого. Замечательно быть червяком, потому что они гермафродиты! У них в запасе и яйцеклетки, и сперматозоиды. Для них главное — любовь. Если встречаются два червяка, то они обязательно полюбят друг друга. Вот я и подумала: в могиле хорошо. Лежишь себе, отдыхаешь, а вокруг любовь, любовь, любовь.
ЛОЛИТА (вскакивает): Не надо портить обедню! Никаких подробностей про этих сраных червяков! Нет, когда умру, пусть кремируют! Всё лучше, чем меня будет трахать склизкий вонючий гад. Бэ-э-э! (Садится). Значит, у меня урна, а у тебя могила.
ЛИНДА: Давай у мамы спросим. Всё-таки эта услуга её касается.
ЛОЛИТА: Да, мам. Мы стараемся, обсуждаем, а ты отмалчиваешься. Нехорошо.
МАТЬ: Главное, что есть выбор.
ЛИНДА: Нет, ты скажи, как лучше? Мы так и сделаем.
МАТЬ: Это не мой выбор, а ваш.
ЛИНДА: А тебе всё равно?
МАТЬ: Всё равно.
ЛИНДА: Всё говно.
МАТЬ: Равно.
ЛИНДА: Говно.
МАТЬ: Равно.
ЛИНДА: Говно.
МАТЬ: Равно.
ЛИНДА: Говно.
ЛОЛИТА (кричит): Хватит! Всё равно всё говно! Говно вопрос, но мне одной могилу не потянуть. Линда, у тебя деньги есть?
ЛИНДА качает головой.
ЛОЛИТА: Значит, решено: кремация.
ЛИНДА: Лолита, может, отдашь маме свой гроб?
ЛОЛИТА: Нет. Пусть заплатит.
ЛИНДА: Ну как тебе не стыдно?
ЛОЛИТА: Стыдно? Мне? Это мне должно быть стыдно? После того, что вы со мной сделали?
ЛИНДА: А ты! Что ты со мной сделала! Сука!
ЛОЛИТА: Сука ты проклятая!
ЛИНДА и ЛОЛИТА начинают драться, вцепившись друг другу в волосы.
МАТЬ: Стойте! Прекратите! Вы ни в чём не виноваты. Это всё из-за меня. Это я подстроила!
Сёстры отпускают друг друга.
ЛОЛИТА: Нет, ты здесь ни при чем.
ЛИНДА: Не верю.
МАТЬ: Только доведите меня до гроба и всё вам расскажу, как было на самом деле.
ЛОЛИТА: Больно надо.
ЛИНДА: А чем мне это знание поможет?
МАТЬ: Может.
ЛИНДА: Что?
ЛОЛИТА: Что?
МАТЬ: То. (Отворачивается).
ЛИНДА: Ладно. Разверни свою мамскую правду.
ЛОЛИТА: Да, разверни. Как говорил мой неважно кто, сегодня твой день — тебе и карты сдавать.
МАТЬ: Вспомнили, что я ваша мать.
ЛОЛИТА: Да, твою мать, ты — наша мать. Тебе и карты сдавать.
ЛИНДА: Лолита правильно говорит — был твой день, твой день рождения. Пять лет назад. Последний раз отмечали втроем. Ещё Ваня был, но лучше бы его не было.
МАТЬ: Ваш отец всегда хотел мальчика, а первая родилась Линочка. Линда так на него похожа, как с ксерокса. Он любил ее безумно, ничего для нее не жалел, возился постоянно, ночами вставал. Когда я забеременела второй раз, он всем говорил, что вот наконец-то пацан. Но получилась Лолита. Так вот к Лолочке у него было вообще диаметрально противоположное отношение. Нет, он не кричал на нее или что-то такое, он ее будто не замечал. Он приходит с работы, ребенок бежит, за ногу его хватает, а у него ноль реакции. Сидеть с ней не хотел, вещи ей покупать тоже, вечно экономил на ней. Говорил, что пусть за сестрой донашивает. Эти мелочи копились, копились, пока я не выдержала. Последней каплей стал его день рождения. Вы нарисовали ему по рисунку. Он взял Линин подарок и стал нахваливать, а на Лолин — ноль внимания. Она с одной стороны подойдёт, с другой, с третьей, настырная ведь. Ему надоело, и он разорвал её листочек, чтобы не приставала. У тебя, Лола, была такая истерика, что я два часа успокаивала. А он с Линой на каруселях в парке Горького катался.
ЛИНДА: Отец для меня был как бог. А ты, мать, нет.
МАТЬ: И тогда я прогнала его — потому что никто, никто не имеет право разделять моих девочек!
ЛОЛИТА: Почему-то я долго не замечала, что у нас нет отца.
ЛИНДА: Я заметила, сначала переживала, а потом забыла.
МАТЬ: Потом новая напасть — Линда привела Ваню.
ЛИНДА: Мы с ним полгода уже жили у него. Я подумала — надо знакомиться. Тем более, мамин день рождения. Купили цветы, торт и шампанское.
ЛОЛИТА: Я ничего не помню.
ЛИНДА: Врёшь! Ну ничего! Я тебе припомню, как дело было.
МАТЬ: Лолита ничего не купила, потому что так я её попросила. Но когда Линда с Ваней пришли, сказала, что Лолита сделала мне настоящий подарок, не то что Линда. Подумала, что Ваня поймёт намёк и уйдёт сам. Но нет. Он недогадливый оказался.
ЛИНДА: У Вани аж подбородок задрожал. Я попросила его не обращать внимания.
МАТЬ: Потом он Лолиту увидел и слюну пустил. Ну, думаю, ладно. Линда сама его прогонит, без всякого моего вмешательства. И говорю: если дочь знакомит мать с женихом, то это тоже подарок.
ЛИНДА: Праздновали, праздновали, а потом я заметила, что Муси нет. Я кис-кис-кис, кис-кис-кис. Не отзывается. По всей квартире искала. Нет нигде.
МАТЬ: Пока ты бегала, они уже флиртовали вовсю. Но тебе не до этого было, тебе кошка важнее. Надоела она мне, твоя Муся. Почему не взяла к себе?
ЛИНДА: У Вани аллергия на кошек. Не могла я её взять с собой.
МАТЬ: Муся эта целыми днями под ногами путалась, ещё шерсть кругом. Потом смотрю — окотилась, гадина! Как увидела это безобразие — сразу попросила Лолу избавиться от приплода.
ЛОЛИТА: Не помню.
МАТЬ: Муся ринулась за ними, но я придержала её минут на десять. Надеялась, что сгинет.
ЛИНДА: Живодеры! Я пошла за Мусей, а ты, мать, за мной увязалась.
МАТЬ: Чтобы Ваня не смущался. Что поделаешь? Пока нас не было, они и переспали.
ЛИНДА: Суки.
ЛИНДА достает из буфета лист бумаги и ручку.
МАТЬ: Ваня сразу убежал, да так быстро, что ключи от машины оставил. Так эта дура…
ЛИНДА: Вот, ма, пиши завещание: квартиру мне, вещи пополам. Прощу вас, так и быть. И до гроба доведу.
ЛОЛИТА: Это с какой стати? Простит она нас! Посмотрите на неё! Благодетельница нашлась!
ЛИНДА: Будет по-моему, всё равно!
ЛОЛИТА: Всё говно.
ЛИНДА: Всё равно.
ЛОЛИТА: Всё говно.
ЛИНДА: Равно.
ЛОЛИТА: Говно.
ЛИНДА: Равно.
ЛОЛИТА: Говно.
ЛИНДА: Равно.
ЛОЛИТА: Говно.
МАТЬ (кричит): Хватит! Всё равно всё говно!
Пауза.
ЛИНДА: Да, тогда я любила Ваню больше вас! Как в него было не влюбиться: высокий, светловолосый, элегантный, притягательный. Кому я говорю, вы же его видели. Мы познакомились в театре. Я была с детьми из школы. Я одна сопровождала, дети разбредались и норовили потеряться. А они с приятелем мне помогли. Потом, когда детей раздали, он проводил меня домой. До того случая на мамином дне рождения мы и встретились пару раз. Поэтому я его простила. Не сразу, конечно: два раза его прогоняла. А на третий простила, потому что любила и решила — вот оно, счастье. Никому не отдам! (Наливает водки и выпивает одна). Вначале всё было хорошо. Потом он стал меня пошлепывать. Проходит мимо и обязательно ударит по пятой точке. Вначале не больно, потом чувствительно. Последнее время удары стали все сильней и сильней. Перед сексом тоже стал шлепать. И очень сильно. Я вижу, его это возбуждает, а у меня наоборот, какое-то непонятное и неприятное чувства вызывают его шлепки. Попыталась поговорить с ним. Это же наша игра — что тут особенного? — его ответ. Потом бить стал ремнем каждый день. Однажды сорвался и сделал из моей задницы отбивную. Я три дня все уроки на ногах проводила, сесть не могла. Ваня на коленях ползал, обещал, что подобное никогда не повторится. Стал внимательным, душевным. Прям как при знакомстве. Я и простила как дура.
ЛОЛИТА: Дура ты, дура ты, дура ты проклятая. У него четыре дуры, а ты дура пятая.
ЛИНДА: Потом опять сорвался, лупцевал уже по всему телу. Когда до лица добрался, я не смогла в школу пойти. Тогда я сбежала. Бегу и думаю: сяду на трамвай и поеду до ближайшего моста.
ЛОЛИТА: А я знаю, почему на трамвае. Потому что из нашего окна виден мост. И по нему ходят трамваи.
ЛИНДА: Потому что из нашего окна видно настоящий мост. Крепкий и надёжный. (Подходит к окну и смотрит вниз). Вон он, наш Устьинский мост. Сколько раз я глядела на него отсюда, пока не поняла, что наша жизнь — это как поездка на трамвае по мосту. И только от тебя зависит, каково тебе будет — хорошо или плохо, холодно или тепло, весело или тоскливо, азартно или буднично. Сейчас мой мост в плачевном состоянии. Требуется срочный ремонт. Как его починить без нашей квартиры? Никак. Мне жить больше негде и кроме вас никого нет.
ЛОЛИТА: Жалостливая твоя сказочка, только хуёвая. И конец у ней неправильный.
ЛИНДА: Ах ты сука!
ЛОЛИТА: Моя мука посильней будет!
ЛИНДА: С чего это? Я одинока, а ты нет!
ЛОЛИТА: А с того это! Если ты с нами и об этом говоришь, значит, не одинока. Поговорим теперь о моей участи. Участи доверчивой девушки. Ведь когда вы с мамой вернулись, я же поверила тебе. Ты что мне предложила?
ЛИНДА: Мировую.
ЛОЛИТА: Ты мне сказала, что простишь меня, если я покажу, куда отвезла котят.
ЛИНДА: Муся умная была. Нашла бы детей — больше жизни бы их любила.
ЛОЛИТА: Ты, мама, что молчишь. Ты наверняка видела, как она мне клофелин в коньяк накапала. И молчала. И тогда, и теперь. А я верила! Верила, что мать ребёнка не продаст! Выпила коньяку, а ты чай. Цвет-то один, я и не заметила. Ты знаешь, мама, что она со мной сделала? Раздела и голой бросила на Горьковском шоссе! (Наливает водки и выпивает одна). Что вы молчите? Расскажите мне, о чём говорили, когда она вернулась одна.
МАТЬ: Ни о чём.
ЛИНДА: Я сюда больше не возвращалась.
ЛОЛИТА: И ты, мама, даже не спросила у неё, где твоя сестра?
Молчат.
ЛОЛИТА: Даже он спрашивал. Спрашивал у одного брата, где другой.
ЛИНДА: Вот видишь, хоть и брат, а другой. К тому же, ты — сестра, а не брат. При чём здесь он?
МАТЬ: Он только творит, а мать рожает. Лола, не смей меня им попрекать.
ЛОЛИТА: Хорошенький разговор. Вот они, родные люди, за всё время даже не поинтересовались — жива ли я! Как выбиралась из того ада, в который вы меня определили. Как кочевала из машины в машину, с одного сиденья на другое, с одного угла в другой, с одной комнаты в другую. Год назад нашелся поклонник — начальник. С деньгами. В мэрии работает. Меня секретарём устроил. В отдельной квартире поселил. Ну, думаю, Лолочка, вот твой шанс. Попросила квартиру на меня оформить. Нет, говорит, ещё не время. Стала настаивать. Он ни в какую. Поставила вопрос ребром — он и выгнал меня отовсюду. Дура.
ЛИНДА: Дура ты, дура ты, дура ты проклятая. У него четыре дуры, а ты дура пятая.
ЛОЛИТА: Пусть дура, но жить мне негде. Только здесь. Тебя, Линда, мудохал один мужик. И то — законный муж. А меня — несчетное количество всяких мудаков. По твоей вине, кстати. Так что мои страдания и шире, и глубже.
ЛИНДА: Лолита, как ты выжила?
ЛОЛИТА: Сама удивляюсь. Я просто всегда знала, что жить приходится в воде. А она бывает разная: и чистая, и нечистая. Надо иметь волю и смелость, и волю, и умение, чтобы выплыть из того говна, куда тебя течением занесло. В самые трудные моменты я говорила себе: неужели я потону в этом дерьме? Фу, гадость. Если уж тонуть, то в чистом омуте! Решайте, если квартира будет моей, то я вас прощу. Так и быть. И маму до гроба доведу. В лучшем виде.
ЛИНДА: Жалостливая твоя сказочка, только хуёвая. И конец у нее неправильный.
МАТЬ: Померялись дочки сказочками. Теперь драться будете?
ЛОЛИТА: Нет, не будем.
ЛИНДА: Ты, ма, лучше свою сказочку расскажи. А мы послушаем.
МАТЬ: Мою сказочку вы знаете. Вы — моя сказочка.
ЛИНДА: Выкрутилась.
ЛОЛИТА: Давай её помянем, может, тогда расскажет.
ЛИНДА: Давай помянем. Обе. А то всё в одиночку.
ЛОЛИТА: Вот именно! Только не вдвоем, а все вместе, втроем.
ЛИНДА: Да, ма. Нехорошо это. Вроде как ты ни при чём. Помните, раньше, когда мы с Лолитой девочками были, всё втроём делали. И ели, и пили, и убирались, и читали вслух, и гуляли, и танцевали.
ЛОЛИТА: Так что, ма, давай все вместе. Помянем тебя втроём.
МАТЬ: Я объясняла. Нельзя мне.
ЛОЛИТА: А здесь сидеть можно? Ничего. Соврёшь чего-нибудь.
МАТЬ: Глупая, ТАМ врать нельзя.
ЛИНДА: Ма, ты меня удивляешь. Никогда никого и ничего не боялась. Не может быть, чтобы ТАМ это не ценили. Так что давай! Если выпьешь с нами, доведём тебя до гроба. Правда, Лола?
ЛОЛИТА: Да, доведём. Линда и Лолита доведут мать до гроба. Куда мы денемся?
ЛОЛИТА наливает водку себе и Линде.
МАТЬ: Ну, если доведёте, тогда рискну. (Пьёт вино). Всё! Теперь у меня будут неприятности.
Молчание. Сёстры едят.
МАТЬ: Ну, давайте, идите же за мной! Что вы медлите?
ЛИНДА и ЛОЛИТА (вместе): Обманули дурака, обманули дурака, обманули дурака!
Тишина.
ЛИНДА: Ма?
ЛОЛИТА: Мама?
ЛИНДА: Обиделась, что ли?
ЛОЛИТА: Выходит, так.
ЛИНДА: В детстве не обижалась. В нашем детстве.
ЛОЛИТА: Ну, пошутили мы.
ЛИНДА: Как в детстве.
МАТЬ: То, что я вам скажу, девочки, никому не рассказывайте. Помните, мы катались на карусели с деревянными лошадками на каком-то карнавале?
ЛИНДА: Да, помню! Карусельщик не хотел тебя пускать. Говорил, что у взрослых может закружиться голова!
ЛОЛИТА: А я сказала ему, что если он не пустит нашу маму, то я ему откушу нос!
Все смеются.
МАТЬ: Совсем недавно, ну, ещё до того, я вдруг поняла: наша жизнь и есть карусель, только лошадки бегут вокруг гроба. Меня просто осенило: тогда в душе тенью пробежало знакомое, но забытое чувство. В каждом человеке есть это чувство. Чувство собственного гроба. Очень неприятное и досадное чувство. Оно никому не нужно, поэтому никто его не принимает. Все его отрицают, пока не становится поздно. Поздно, потому что чувство уже к этому моменту омертвевает и теряет смысл. Остаётся только запоздалая реакция — холодный пот на лбу умершего. По себе знаю.
ЛИНДА и ЛОЛИТА подходят к матери.
ЛИНДА: И правда пот.
ЛОЛИТА: Потец. Мама, тебе, у тебя потец! (Берет мать за руку). Линда, бери за другую.
ЛИНДА и ЛОЛИТА подводят МАТЬ к гробу и помогают ей залезть в него.
ЛИНДА: Как тебе там, ма?
МАТЬ: Хорошо.
ЛОЛИТА: Правда?
МАТЬ: Правда.
ЛИНДА: А почему хорошо?
МАТЬ: Когда родные и близкие доводят до гроба — всегда хорошо.
ЛОЛИТА: Перед этим говорила, что всё — говно.
МАТЬ: За стенами — да, внутри — нет.
ЛИНДА: Может, чего надо?
МАТЬ: Надо.
ЛИНДА: Чего?
МАТЬ: Чтобы вы отстали от меня.
ЛИНДА: Ну ма!
ЛОЛИТА: Только жить начали. По-настоящему. Как когда-то. Когда можно было гулять по рельсам.
ЛИНДА: И спать всем втроём, потому что так слаще.
ЛОЛИТА: Мы не можем просто так тебя отпустить.
ЛИНДА: Нет, ма. Мы с тобой. Не выгоняй нас из гроба.
ЛОЛИТА: Да, ма, не выгоняй нас из гроба. Тем более, что оплатила его я.
МАТЬ: Глупая ты, Лола. Каждый сам платит за свой гроб. Ваше дело было довести меня до гроба. С другой стороны, почему бы его не сделать семейным? Ладно, залезайте.
ЛОЛИТА: А мы поместимся?
МАТЬ: Поместимся. Если ноги выше от земли будут.
Залезают в гроб.
ЛОЛИТА: Кто yспел — томy помиpать.
ЛИНДА: Кто остался — тот и дypачок.
Занавес.

Сны и что-то большее
Действующие лица:
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ — мужчина примерно 60 лет.
ДЕНИС — сосед снизу, относительно молодой и успешный.
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА — очень интеллигентная и не очень молодая дама, соседка сверху.
КАТЯ — дочь Александра Николаевича.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Слева — пространство маленькой квартиры, за столом, возможно спиной к зрителям, сидит Александр Николаевич. Все его реплики обращены в никуда. Справа — пространство лестничной клетки. Между ними железная входная дверь.
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ: Я — как письмо, запечатанное в бутылке, меня нельзя доставать, пока не прибьет к берегу. Скоро ли берег, как вы считаете?
С внешней стороны двери на лестничной клетке появляется Денис, сосед снизу. Он звонит в звонок, потом начинает пинать дверь.
ДЕНИС: Откройте!!! Вы меня заливаете! Вода хлещет, вашу мать, открывайте!!!
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (обращаясь в никуда): В одном городе появился памятник. Вдруг утром вырос посередине центральной площади вместо клумбы с душными невысокими цветами. Никто не знал, кому этот памятник и кто его поставил. Памятник изображал мужчину, среднего во всех отношениях. Им мог бы быть любой житель города, чьи параметры не отклонялись бы от нормы. Жители писали друг другу, в газеты и администрацию, но никто не знал, откуда он взялся. Постепенно к памятнику привыкли, объявили фрагментом привычной топографии, рядом с ним стали назначать свидания и деловые встречи. Делегации от мэра и школьники возлагали к памятнику цветы. Уличные художники писали его с натуры и по памяти. Типография включила фотографию с ним в альбом с достопримечательностями города. Но однажды памятник исчез так же внезапно, как появился. Вернулась клумба с душными цветами и голуби. Жители писали друг другу, в газеты и администрацию, но никто не знал, куда делся памятник. Потом жители привыкли и забыли о его недолгом существовании. Только одна не очень молодая и не слишком красивая женщина раз в год приносила к клумбе букет с надписью на ленте: «От благодарных горожан».
Денис стучит по двери кулаком, потом ногами. Появляется Инга Васильевна, интеллигентная соседка сверху.
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: Господи, что случилось? Что происходит?
ДЕНИС: Залили, потоп устроили! У меня натяжной потолок в ванной уже как беременная сиська! Французский. Тридцать тысяч рэ. Хотите посмотреть?
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: Не уверена, что хочу. Давно не открывает? Странно, Александр Николаевич такой интеллигентный, приятный человек. Вы уверены, что он дома?
ДЕНИС: Да свет горит, я с улицы смотрел.
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: Может быть, ему плохо стало? Александр Николаевич, откройте! У вас все хорошо? Не отвечает. Надо в скорую или в полицию.
ДЕНИС: Тихо!
Прикладывает ухо к двери.
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ: В одной деревне завелась тоска по несбывшемуся. Это совпало с двумя событиями. Первое — из деревни уехал скульптор. Повесил на ворота замок, сел в машину и уехал, оставив за воротами мозаичного дракона и крутобедрую гипсовую бабу. Второе — через бетонную скорлупу заброшенного здания, на которой был нарисован большой оранжевый член, наконец пробилась молодая березка и радостно устремилась к небу.
ДЕНИС: Голос, кажется слышен. Но смысла не понять. В полицию звоню, короче.
Денис звонит в полицию, Инга Васильевна также прикладывает ухо к двери.
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: Да, смысла не понять.
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ: Один из жителей купил голубой и желтой краски и нарисовал на заборе море и солнце. Другой каждое утро просыпался на рассвете, складывал бумажных журавлей и сажал их на тот самый забор с морем. В его доме скоро кончилась бумага, но он уже не мог остановиться и воровал газеты у соседей. Третий вместо давно запланированной бани пристроил к своему дому маяк. По винтовой лестнице он поднимался наверх в маленькую комнатку, где сам еле разворачивался. Смотрел на бескрайние поля вокруг и каждый вечер зажигал лампу. В дни, когда был дождь или туман, не выключал ее и днем.
ДЕНИС: Набрал участковому, скоро будет.
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: Вы знаете, я вспомнила! У меня же где-то записан номер его дочери. Катерина, кажется. Сейчас.
Инга Васильевна копается в телефоне, находит номер, звонит Кате с просьбой приехать. Возвращается к Денису.
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: Вы знаете, а с натяжным потолком — я не специалист, конечно, но там, говорят, можно дырочку сделать и аккуратно так, ручейком, спустить.
Денис смотрит недобро. Какое-то время молчат. Денис еще раз пинает дверь и звонит в звонок.
ДЕНИС: А вообще молодец Александр Николаич. Раз, такой, закрылся, я в домике. Сижу, такой, никому ничего не должен… А простите, как вас зовут?
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: Инга Васильевна.
ДЕНИС: Очень приятно, я Денис. Так вот, молодец, говорю. Забаррикадировался. Как там — не выходи из комнаты, не совершай ошибку?
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА (нараспев, гнусавя, подражая Бродскому, впадая в транс): Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку? За дверью бессмысленно все, особенно — возглас счастья…
ДЕНИС: Вот, Инга Васильевна, я говорю, что пока ты внутри, ты никому не должен. Потому что только ты дверь открыл, сразу становишься кому-то должен.
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: Только в уборную — и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора. Потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком. А если войдет живая…
ДЕНИС: Кому-то обязан. Вот я дома могу ходить голый и бухой в хлам, а, например, выйти из квартиры так не могу… Должен быть трезвый, хотя бы умеренно, и одетый. Точнее, могу, конечно. Но буду осуждаем. Обществом и вот вами лично.
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: …милка, пасть разевая, выгони не раздевая. Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло. Что интересней на свете стены и стула?
ДЕНИС: Осуждаем за то, что бухой, или вот что потолок у меня французский за тридцать рэ. Или что машина большая. И бизнес. Да найдется за что. За то, что дышу и существую, в принципе. Даже за то, что за дверную ручку взялся.
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером таким же, каким ты был, тем более — изувеченным? О, не выходи из комнаты. Танцуй, поймав, боссанову в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу…
ДЕНИС: А знаете, почему я все-таки выхожу? Потому что остаться с собой наедине — это прям подвиг героический на самом деле. Это прям страшно, особенно если долго. Потому что тогда понимаешь, что никому ты так не должен и никто тебя так не осудит, как ты сам себя.
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв; еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты. О, пускай только комната догадывается, как ты выглядишь…
ДЕНИС: А еще хуже, что когда ты один, никогда не поймешь, есть ты или нет. У меня стена одна в черный покрашена, напротив зеркало большое, и светильники так, в общем, сложно объяснять, не суть. В общем, встал я ночью в туалет, свет какой-то сбоку горит, а я как бы иду, и в зеркало заглядываю, и себя не вижу, представляете? Только стену эту черную. Ну, оптический эффект такой, тень там, отражение. И я тут подумал, а вдруг наоборот? Что это когда я есть — это оптический эффект? А, Инга Васильевна?
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: И вообще инкогнито эрго сум, как заметила форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты! На улице, чай, не Франция…
ДЕНИС: Инга Васильевна?
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели, слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся…
ДЕНИС: Инга Васильевна?
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: …Запрись и забаррикадируйся шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы…. (Выходит из транса) А? Что? Про вирус не надо?
Денис отрицательно качает головой. Инга Васильевна вздыхает, достает платочек, вытирает лоб.
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА (обычным голосом): Знаете, Денис, у вас много негативной энергетики. Темных мыслей. А знаете ли вы, что такое ноосфера? Нет? Ноосфера — это сфера разума, сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития. По Вернадскому, в биосфере существует великая геологическая, быть может, космическая сила, планетное действие которой обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе… Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная воля его как существа общественного. То есть, понимаете, все наши мысли, воли, устремления — они все туда. (Показывает пальцем на потолок). И потом начинают влиять глобально — на человечество, на планету. И вы вот думаете о негативном, хотите спрятаться от всех, например, как уважаемый Александр Николаевич, чтобы все от вас отстали. И еще миллион человек так думают. Одновременно с вами. И высший разум обязательно ответит, поверьте. Сделает так, чтобы никто никого не трогал и никто никуда не выходил. Не знаю как, но сделает непременно. Поэтому от негативных мыслей нужно избавляться — это наша общая борьба за счастье человечества. Вклад. Мы с коллегами общество учредили, практически орден, но так назвать его, конечно, было бы нелепо, у нас все-таки не средневековье, просвещенный век. Так вот, мы в нашем обществе — называется «Общество Охранителей Ноосферы», ООН, если сокращенно, — мы разработали специальную технику устранения ментального негатива. Давайте я вас научу.
Вот сконцентрируйте сейчас в себе этот негатив про ваш потолок. Сконцентрировали? Вижу, хорошо, отлично! Теперь давайте вместе со мной — поднимайте одну руку.
ДЕНИС: Правую или левую?
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: Не принципиально, можно даже обе, но это уже отход от традиции, конечно. В общем, подняли так вверх, потом резко вни-из и скажите громко: «Ну и хуй с ним!»
ДЕНИС (опуская руку): Как-как? Вы серьезно сейчас это произнесли?
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА (почти по слогам): Ну и хуй с ним. Попробуйте, у вас обязательно должно получиться.
Денис хохочет и поднимает руку.
Появляется ПОЛИЦЕЙСКИЙ.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ (недовольно и неразборчиво): Старшлейтнчкввов. Что тут случилось?
ДЕНИС: Залили меня. А дверь не открывают. Хозяин вроде там, голос слышно.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Сильно залили?
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: У молодого человека потолок как беременная сиська.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ (Денису): Натяжной, что ли?
ДЕНИС: Ага. Французский. За тридцать рэ.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Так дырочку можно сделать и ручейком так спустить.
ДЕНИС: Дверь ломать будете?
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: А ключей ни у кого нет?
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: Дочери его позвонили, хозяина, она едет.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Ну, подождем. Вы говорите, голос там? (Звонит, стучит, приникает к двери).
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ: Дождь взрывается на стеклянных столешницах в закрытом кафе, притворяется морем, проникает в ячейки плетеной мебели, притворяющейся рыболовной сетью. Чайки летят, отставая одна от другой на полсекунды — чайка настоящее и чайка будущее, сдвинутое время. Баркас уже третью неделю стоит на приколе. Каждый вечер капитан надевает тельняшку, выходит на палубу с ноутбуком и включает старую запись песни о том, как волны бьются о борт корабля. Волны бьются, в ресторане на набережной пьют и поют. Капитана раздражает огрызок на крышке ноутбука, он не любит мусор на своем корабле. Но бережет старые вещи. В кубрике стоят старые часы с надписью «мэйд ин чина», в которых садится батарейка, и они почти никогда не показывают точное время. Рыжий капитанский пес каждые два часа выходит на палубу и вылизывает свое неукрощенное мужское достоинство. Он так пунктуален, что по нему можно было бы сверить часы, но капитан этого не делает. По этой причине положение стрелок старых часов крайне редко совпадает с временем, текущим на берегу. Когда это все-таки случается, из мохнатого прибоя выходит человек, стряхивает пену с ботинок и накидывает капюшон толстовки — потому что ветер.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Голос слышно, но смысла не понять. Ну, подождем дочь, значит.
ДЕНИС: Слушайте, у меня там потолок сейчас до пола растянет. Может, ломать все-таки?
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Да тут дверь норм, так не сломаешь, надо МЧС. А потолок — вы же мужчина, Денис Валерьевич, должны радоваться. Большой сиське-то (грубо хохочет).
Денис хватается руками за голову.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Да и можно дырочку сделать.
ДЕНИС (обреченно): И ручейком спустить, ага.
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: Денис, вы снова мрачный. Давайте вспомним упражнение. Поднимаем руку и-и-и…
Появляется запыхавшаяся Катя.
КАТЯ: Где отец, что случилось?
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Вы дочь заливающего?
КАТЯ: Дочь, дочь. Что с папой, почему он не открывает? Я ему на мобильный звонила и на городской, он не берет
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: У вас ключи есть?
КАТЯ: Есть, то есть, нет, у меня старые, он замок менял. Почему вы дверь не ломаете, вдруг ему там плохо?
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Да вроде разговаривает, только смысла не разобрать. Но помощи не просит.
Катя прислушивается через дверь.
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ: Человек-из-моря неровно поднимается по гальке и выходит в город. Времени у него совсем немного — до следующей точной стрелки. В кафе на набережной он заказывает чашку густого, как мокрая земля, кофе и воду в стеклянной бутылке — пластик он не любит. Потом медленно идет вдоль забора с граффити, каждый раз отыскивая новые. Покупает с рук мобильный телефон — на самом деле ему это совсем не нужно, так, игрушка. Закуривает, смотрит, как проезжает старик на велосипеде. На руле велосипеда сидит петух. Человек-из-моря покупает билет на фуникулер и поднимается к горам, разглядывая пестрые крыши. Между морем и горами, на середине пути, стоит дом и большие буквы, из которых собирается имя города. Человек-живущий-на середине выходит на улицу, ставит на одну из букв чашку чая, похожего на темный янтарь или хороший коньяк. На другую букву он ставит блюдечко с пахлавой. В его обязанности входит следить за состоянием букв, но он не убирает ласточкино гнездо, прилепившееся к последней из них. К человеку-на-середине подходит жена, плавная и плодородная, как долины за горами. Человек-на-середине обнимает ее и улыбается человеку-из-моря. Человек-из-моря машет в ответ и понимающе кивает.
КАТЯ (задумчиво): Да, это он. Я слов тоже не разберу, но смысл, наверное, понимаю. Тут, понимаете… тут такое дело. Он иногда как бы куда-то уходит. Он как бы тут и не тут. И его так просто ОТТУДА (выделяет голосом) не достать.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Что, МЧС вызывать? Дверь ломать будем?
КАТЯ (растерянно): Дверь? А как он потом без двери? (Обращается к Денису) Он сильно вас залил?
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: У гражданина потолок как большая сиська.
КАТЯ: Натяжной? Так можно же дырочку…
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ХОРОМ: И ручейком слить.
Катя смотрит непонимающе.
ДЕНИС: А как вы его вытаскивали обычно?
КАТЯ: Никак, ждали просто — и все.
Денис вздыхает и уходит.
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: Катенька, а вы знаете, что такое ноосфера? Видите ли, все наши мысли влияют на то, что происходит в мире. Вот вы сейчас расстроены, обескуражены, кто знает, что из этого может выйти. Я вам покажу одно упражнение, ручку так берете, поднимаете…
Денис возвращается с тазом, полным воды.
ДЕНИС: Все, в гостиную потекло. Из люстры. На ковер. Не скажу за сколько рэ. Потому что уже не рэ, а уе.
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: Вы говорите, обычными способами его ОТТУДА (выделяет голосом) не достать?
Катя качает головой.
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: У меня есть план, он немного нестандартен, но подходит к ситуации. Я же ровно над Александром Николаевичем живу, и лоджия его прямо подо мной. Мы снимем мою бельевую веревку. Потом мы напишем ему записки, обязательно с чем-то хорошим, закрепим их на этой веревке при помощи прищепок и закинем ему на лоджию. Будем выманивать его на позитив, как рыбу на блесну или на живца, я не очень разбираюсь в терминологии. Это будет у нас такая communication rope. Есть возражения?
ДЕНИС: Может, все-таки МЧС?
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: Успеется. Они решат, что мы все тут сошли с ума. А мы здравомыслящие, трезвые..
ДЕНИС: К сожалению.
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: …Трезвые люди. Нам это надо? Уважаемому Александру Николаевичу это надо? Есть бумага у кого-то?
Катя достает из сумки записную книжку, ее разрывают на листки.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Что писать-то?
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: Хорошее. Доброе. Светлое. И по теме желательно. Можно цитату.
Все пишут и сдают по несколько листочков Инге Васильевне.
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: Так, Денис. «Александр Николаевич, вы залили мне потолок, ну и хуй с ним». Прекрасно! Видите, Денис, рабочая техника, рабочая. Что там еще? «У вашей дочери красивые ноги». Ну, тоже ничего. Следующий. Так, господин полицейский. «Одиночество является неотъемлемой частью индивидуума, рожденного одиноким по сути своей. Это мировоззрение и способ путешествия. Одиночество никак не связано с изоляцией. Открытые двери не разрушают оболочку одиночества, лишь впускают внешний свет, преломляющийся в свет внутренний. Мир одинок, и в этом его счастье». «Выход из зоны комфорта равен входу в нее, поскольку вход и выход по сути одно состояние движения, не различающего внутреннюю и внешнюю сторону, оттого неотменяемого никем, кроме входящего и выходящего». Господин полицейский? Это откуда же? Не узнаю. Может быть, Ницше? Хотя нет, тут что-то другое…
ПОЛИЦЕЙСКИЙ (смущаясь): Это мое, из раннего.
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: Вы прелесть! Так, теперь Катины. «Папа, я тебя…»
ДЕНИС: А вы-то сами что написали?
Берет текст, написанный Ингой Васильевной, читает.
ДЕНИС: «Знаете ли вы, что такое ноосфера, уважаемый Александр Николаевич? Дело в том…»
Инга Васильевна вырывает из рук Дениса листок.
ИНГА ВАСИЛЬЕВНА: Так, не будем терять время, господин полицейский, берите веревку и пойдемте ко мне на лоджию.
Полицейский и Инна Васильевна уходят и на заднем плане мастерят communication rope.
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ: Когда туман замерзает, приходится колоть его экскаваторами и вывозить на грузовиках. Если посмотреть на просвет, в некоторых осколках можно найти вмёрзшую в туман птицу. Это редко, обычно птицы туман не любят. Такие куски нужно ставить напротив огня, чтобы стаяли быстрее. Это очень красиво — смотреть через него на свет. Обсохнув, птицы обычно улетают. А одна осталась. Смотрит сейчас с подоконника. Она из тех, чьи песни лечат людей, забывших своё предназначение. Последнее время таких все больше и больше. То ли с туманом что-то не то, то ли с морем. Недавно пришёл один — мокрый и глупый. Топиться хотел, а море не пустило. Дурак, говорит, иди домой А он, может, и не дурак. Болеет просто. Посадили его у огня, дали птицу в руки. Сидел так до рассвета. Ну а что, нам не жалко, и огню хорошо — есть в ком новом отражаться. Старики говорят, что ему это большое удовольствие.
А человек утром встал и ушёл. Потом слухи дошли, убил кого вроде. То ли брата, то ли друга. Вот так оно бывает — против предназначения не пойдешь.
КАТЯ (Денису): Знаете, Денис, я очень боюсь, что с ними что-то случится. И что он от этого умрет. Я и за маму боюсь, но не совсем так. Мама в другом городе, у нее там другая семья. Знаете, мне кажется, что человеческая жизнь — она как шарик, воздушный шарик. Он не улетит, пока внизу есть грузик в виде чьего-то страха и чьей-то любви. У мамы таких грузиков больше, а у отца, в общем-то, только я. Понимаете, его кроме меня никто не держит — он всегда обходился и без друзей, и работа у него всегда такая была, какая-то никакая. Есть люди, которым все это важно и они так живут — с работой, семьей, друзьями, это их грузики. А ему, знаете, никто и ничего не нужно. Только истории, знаете, такие сказки. Я маленькая была, он мне их рассказывал на ночь и записывал на магнитофон. Знаете, родители так обустраивают мир вокруг ребенка, чтобы оставить там какие-то меточки, зарубочки о себе, как бы бессмертие такое маленькое. А я эти кассеты потеряла, представляете? А самое интересное там было, когда он начинал засыпать и все равно продолжал рассказывать. И тогда из его сна в мои сказки выползали всякие интересные и странные штуки, никак не связанные с основным сюжетом. Я как будто вместе с ним была в его сне, понимаете? И теперь я очень боюсь его потерять, как эти кассеты.
Молчат.
ДЕНИС: Катя, я вам сейчас расскажу, только вы не перебивайте, ладно? Я нескольких друзей похоронил, как-то все так ушли нелепо, астма, там, авария, сердце… В общем, как клуб 27, только клуб 35-40. И каждый раз после таких похорон зарекаешься здоровый образ жизни вести, не гонять, витамины пить, обследоваться, выписку со своими диагнозами с собой носить. А потом забываешь. Но я не об этом, в общем. У меня мать в деревне живет, и там каждый год похороны. Такое все — глупое, но страшное. Вот, например, сосед с женой бухал, там, с кем-то, и что-то у них там не заладилось. В общем, он жену керосином облил и поджег, не знаю уж, там, случайно или специально. В общем, она умерла. Он потом повеситься пытался то ли с горя, то ли белочка. И у него не получилось, зато потом купаться пошел, прыгнул в речку, а там мелко было, он позвоночник сломал. А сын их, чуть помладше меня, он на снегоходе краденом в полынью влетел, утонул тоже. И это только одна семья, а там таких историй знаете сколько.
КАТЯ: Господи, ужасы какие, вы зачем мне это рассказываете?
ДЕНИС: Говорю вам, не перебивайте. Объясню сейчас. А еще я антиквариатом занимался. Ну так, как бизнес, купи-продай. Тоже всякого насмотрелся. Звонят, например, просят приехать мебель посмотреть. А там дед их лежит, только умер, еще не вынесли. А внуки уже его мебель продают по цене айфона нового и тут же, при мне и при деде этом, этот айфон заказывают.
В общем, я к чему это. Я не то, чтобы эксперт, но как бы немного специалист в смерти. И вы знаете, Катя, когда человек собирается умирать, а он не обязательно это осознает, хотя, я думаю, всегда знает. И вот он в этот момент, когда решил уже точно, он как бы все материальное вокруг себя отпускает. И вещи становятся бесхозными, знаете, как животных, например, бросают. И вот это ощущение, этот запах, что ли, бесхозных вещей, его все, кто старьем занимается, все знают. В общем, я к чему это, Катя. Я вот на дверь эту смотрю, например, она ведь тоже как бы вещь, и я по ней вижу, что с вашим папой в ближайшее время ничего не случится. Я больше, конечно, ничего не вижу, даже прихожей, но эта дверь отчетливо говорит…
КАТЯ: Папа говорил, что прихожая это как бутылочное горлышко, а сам человек — как письмо в бутылке. И что его мотает по океану, и он или спасет кого-то, или пропадет совсем.
ДЕНИС: Кать, ну короче, я хотел приободрить как бы. Сказать, что чувствую, что все будет хорошо, что я это ощущаю. Не очень получилось?
Катя мотает головой.
ДЕНИС: Ладно, пойду им помогу. Эта Инга сумасшедшая, конечно, но веселая. И целеустремленная. Мне бы так в ее возрасте.
Поднимается по лестнице, останавливается.
ДЕНИС: А знаете, такое упражнение есть — надо руку так поднять… А, ладно.
Уходит. Катя садится на пол около двери, облокачивается о нее, сворачивается клубочком, как будто прижимаясь к родному человеку.
КАТЯ: Пап, я собаку завела. Маленький такой, джек-рассел, такая порода — теннисный мячик. И я балую его нещадно, потому что, ты знаешь, чувствую себя виноватой перед всем собачьим родом. Из-за Фимки. Ты же помнишь Фимку? Ну конечно помнишь. Ему восемнадцать тогда было и мне восемнадцать, только у нас восемнадцать разные, конечно. Вы его подобрали, когда я родилась, и он как бы со мной вырос и меня вырастил. А у меня мальчик тогда первый был. Я и говорю, разные восемнадцать — у меня мальчик, а у него радикулит, позвоночные диски, суставы и печень. Все-таки для собаки это очень много. Он слышал плохо, на голос приходил, носом тыкался. Лапы расползались на кафельном полу, и он падал, такой, а делал вид, что это ничего, что он просто так лежит, что сам решил. Пап, я плачу, пап, ты слышишь? Он же умер у тебя на руках, и ты мне позвонил. Было три часа ночи, а я была с тем мальчиком на даче. Ну и мы не спали, конечно. И не то, чтобы разговоры разговаривали. И я не взяла трубку. И это как предательство было, пап. Перед тобой и перед Фимкой. Я себе этого простить не могу. И телефон теперь рядом с подушкой кладу, и всегда-всегда-всегда поднимаю, даже когда спам или мошенники. Один такой позвонил в три ночи — перепутал, наверное, что-то, он где-то там на зоне, далеко, но это потом выяснилось. А так сначала попытался у меня номер карты узнать, ну так, вяло, без огонька. А на самом деле ему просто хотелось пообщаться. Но у нас же нельзя просто хотеть пообщаться с человеком, нужно от человека обязательно что-то хотеть.
Историю рассказал про себя — он таджик, пап, или кто-то еще, не русский. Смотрел за загородным домом, а его знакомый за другим домом смотрел. А потом этот его знакомый изнасиловал его беременную девушку, того, который сидит. И он этого, кто изнасиловал, убил. Ударил сильно. Говорит, убил случайно, но хотел специально. Он прятаться не стал, пап, представляешь. Съездил к себе домой, деньги семье отвез, у него жена и двое детей дома были, попрощался. Потом вернулся и сдался. У меня никак в голове не укладывается — вот как он жене своей любимой говорит и детям, тоже любимым, приехал и говорит — я убил человека, который обидел женщину, которую я так любил, что сделал ей ребенка. Это же сколько любви в одном человеке, а, пап? А эта беременная, которая здесь, в смысле, там была, уже другого себе нашла. И на суд к тому, кто за нее убил, не появилась. В общем, люди — суки, пап. Эти — все суки, если действительно все так и было, а может, рассказчик мой сука — если соврал. Хотя вряд ли соврал, пап. Мы пока с ним говорили, начало светать. А время перед рассветом, ты сам мне говорил — оно в счет не идет. Если перед рассветом не спят, то не врут, а если врут, это тоже становится правдой. Хотя бы пока солнце не встанет. Этот, с зоны, мне адрес свой продиктовал и список, что купить, если вдруг я к нему поеду, не поеду, конечно, пап, не волнуйся. Ты знал, что все, что приносишь заключенным, нужно разворачивать? Конфеты, печенья, сахар, все в целлофановые пакетики. Даже доширак, представляешь, надо из коробки пересыпать.
И мне это так понравилось, пап, я бы все так развернула — и город этот, и людей. Чтобы все по прозрачным целлофановым пакетикам, чтобы видно было, что внутри — дрянь какая-нибудь или полезное. И у кого какие тараканы. И себя бы так развернула, чтобы все мои тараканы наружу.
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ: Я живу в этой далекой северной деревне долго, а песок — бесконечно. Я умру, а он останется. Мы с ним — разные состояния одного и того же вещества.
Стекло тоже песок. Я разбил вчера окно в соседнем заброшенном доме. Ни зачем. Просто когда борешься за созидание, иногда нужно что-то разрушить. Иначе слишком приближаешься к состоянию божества. А нельзя. Пока — нельзя. Грехи не пускают, нужно отработать. Да и колодец пересох. Старики не дойдут. Принести нужно. Так что пока в божества нельзя, рано.
Ветер. Иногда его слишком много. Но это хорошо — когда ветер. Мысли в голове не застаиваются, не киснут. И настроение — только загрустил, а тоска твоя уже на другом конце деревни. Радость, правда, тоже уносит, но и это хорошо. Говорят, есть места в мире, где радости совсем нет. А ветер есть. Может, и донесет туда.
КАТЯ: Тогда с Фимкой ты же меня от смерти закрыл, чтобы я с ней не встретилась. Это и обидно было, что ты как бы не доверил мне это пережить, и хорошо, пап. А если тебя не будет, кто меня закроет? Я сейчас так же Ваську закрываю. Ей семь через неделю, твоей внучке, помнишь? У нее рыбка золотая — уже пятнадцатая, наверное, или шестнадцатая. Как Людовик. Когда очередная подыхает, я меняю ее на новую, лишь бы Васька не узнала. Я не знаю, смогу ли закрыть ее от твоей смерти, если с тобой что-то случится.
Каждый раз я вынимаю этих рыбок и еще ни разу не смогла выкинуть их в унитаз или в мусорку. Троих я закопала в комнатных цветах — помнишь эти большие горшки, еще от бабушки, там не то, что золотую рыбку, там человека можно закопать, в этих джунглях. Мне кажется, они всегда были огромные. Мама говорила, что бабушка отламывала отростки от цветов, которые стояли в поликлиниках, не знаю, ставят сейчас их в поликлиниках или нет. Веточку нельзя было попросить, нужно было обязательно украсть. Иначе считалось, что не приживется. Странная логика, да, пап? И часы еще от бабушки были, песочные, медицинские, с лейкопластырем, на котором было написано «3 минуты». Я их разбила потом случайно. Они до самого своего конца пахли так сладковато, кабинетом физиотерапии.
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ: Ветер перенёс дюну с места старого кладбища. Кости повылезали. И закрыл этим песком недавно, лет десять назад построенный дом на углу. Вот тебе и песочные часы. Так и живем. Песок и ветер. Ветер и песок.
Песочные часы. Днём я выгребаю песок из дома. Иначе нельзя, засыпает. Ночью приходит ветер, уничтожая мои усилия. И я начинаю новый цикл.
КАТЯ: А рыбки, в общем, остальные одиннадцать или двенадцать закопаны во дворе. Самой большой проблемой было найти гробик для каждой. Без гробика я как-то не могла себе позволить. Идеально подошли банки от всякой молочки, сметаны, творога. На них еще написано «5 процентов», «10 процентов», «20 процентов». Я покупала всегда 0 процентов — и для фигуры полезно, и символично как-то, что ли. И кстати, я не знаю, как ты тогда похоронил Фимку. Он же большой, его же в баночку не положишь. Никогда не думала, как вообще собак хоронят?
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ: Я считаю себя богатым человеком. У меня есть собака. Точнее, она есть сама по себе, но мне нравится верить, что она моя. Она ложится пятнистым боком к занесенной песком стене моего деревянного дома и тяжело дышит. Кроме собаки есть еще мотоцикл. Их лапы, собаки и мотоцикла, одинаково вязнут в дороге. Они шумные. Это как-то примиряет местных с моим молчанием. Они считают меня немым. А я просто не хочу говорить. В мире и так слишком много слов. Они не превращаются в песок, копятся, и я боюсь, что они однажды вытеснят весь воздух. Людям придется дышать словами, проветривать ими дома и заполнять воздушные шары. Не хочу дожить до этого времени, но в городе это неизбежно. Поэтому я приехал сюда — чтобы оттянуть неизбежное.
КАТЯ: Я купила квартиру, пап. Свою собственную. За МКАДом, до метро далеко, но своя. Дома такие из разноцветных кубиков. Квартира маленькая, однушка, но нам с Васькой пока хватает. Они там все маленькие, на одного, считай. Мне кажется, сейчас квартир для одиноких больше, чем самих одиноких. Но это не страшно, да, пап? Мы же приспосабливаемся. Я там познакомилась с местным активистом, из старожилов. Ну, как познакомилась — он перекрыл въезд в наш двор, акция у него такая был. Говорит, стоки от нашего ЖК текут на его болото. А оно как бы эталонное, это болото. Ты слышишь, папа, как звучит? Если бы надо было в двух словах описать мою жизнь, лучше не найти — эталонное болото. Образцово-показательное. Ну вот, и у него на этом болоте жужелицы, тоже какие-то редкие. Я даже погуглила. Ну, так себе выглядят, пап. Но теперь из-за наших стоков эти жужелицы в говне. Тоже хорошее название для чьей-то жизни, скажи, да? И он мне говорит, такой — а у тебя велосипед в детстве был? Я говорю, был. А он — ну представь, как он выглядел, где стоял. И я прям помню, «Орленок», да? Вот если бы я сейчас зашла в квартиру, только не сейчас, а лет двадцать назад, он бы стоял справа от стены, с царапиной на руле и сиденьем, которое я никак не могла отрегулировать под себя. Мне все время было неудобно, но когда едешь быстро-быстро, этого не замечаешь. И он стоял такой, чуть свернутый к стене, грустный и терпеливый. И этот активист говорит, а представь, что ему, твоему велосипеду из детства, плохо и больно. И он как бы неживой вроде, но для тебя же что-то такое одушевленное в нем есть. И вот он страдает. И вот этот руль поцарапанный со звоночком у него болит, седло это неудобное, педаль с шашечками, чтобы нога не слетала. Кто-то его обидел. А он стоит, такой маленький, и терпит. И этот активист говорит, мне вот болото это, которое вы своими стоками затопили, как этот велосипед. Что это его детство как бы. И если это болото у него есть, значит, было и детство, и мама с папой, и, может быть, велосипед. И собака, или кот, например, большой и рыжий. Про кота он не говорил, это уже я сама. И я опять про Фимку вспомнила, пап, и плачу, пап. И если у меня был велосипед, значит, было и детство. И Фимка, и ты, и мама. И твои сказки.
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ: Быть немым плохо только в том, что нельзя петь. А песни, они не из слов — они из ветра. Из собранных им по миру обрывков звуков. Ими можно дышать. Но людям этого не объяснишь. Я лучше в песок, чем в слова. Когда мне больше не хватит сил откапываться, я, наверное, уйду в песок.
КАТЯ: Ты рассказывал мне сказки и записывал их на магнитофон, чтобы я могла потом слушать. Иногда ты засыпал и начинал нести полную чушь, но это было самое прекрасное, папа.
Я сделала бы такой бот, такого электронного тебя, чтобы кидать тебе фразу, как мячик, а ты, то есть, бот, мне в ответ ее же, но пропущенную через твой сон.
Я очень скучаю, пап, очень. По тебе и по этим дурацким кассетам, на которых записано, как ты брал меня в свои сны. Забери меня туда, папа? Забери меня и Ваську, папа. Потому что на Земле когда-нибудь закончатся все золотые рыбки, и я больше не смогу от нее скрывать, что мы все тоже когда-нибудь закончимся.
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ: Мой сосед — маячник. Он не верит в бога, но верит в маяк и надежду. Он курит без остановки, и мне кажется, что внутри он наполнен пеплом. В день, когда его загорелая морщинистая кожа прохудится, он поднимется на свой маяк. Ветер развеет его внутренний пепел тонкими серыми струйками над морем. Я завидую ему. Завтра тоже начну курить. А ключ от маяка он обещал оставить под дверью.
Во время разговора Александр Николаевич снимает с веревки записки и делает из них бумажные кораблики. Закончив, он тихо обходит дверь, чтобы не разбудить уснувшую около нее Катю, и запускает кораблики в таз с водой, оставленный Денисом.

Алфавит для друга
А
Амстердам
2008
Привет, Маркета! Я в Делфте. Это лучшее сочинение на тему «что такое город». Тебе нужно это увидеть и нарисовать. Здесь твои любимые домики и офигительные палевые поля.
Привет, Маркета! Я в Амстердаме, но до музея еще не дошел. Работаю работу, ем из банок, пью из-под крана. Последний раз на прогулке был три дня назад. Джим.
Маркета познакомилась с Джимом в 1992-м. Любой парень по имени Дима, который занимался тогда рок-музыкой, называл себя Джимом.
Привет! Взял в ареду велик, тут все так ездят. До Ван Гога пока не доехал, прости. Джим.
Привет, Маркета! Никак не могу дойти до музея Ван Гога. Иду, бывало, мимо и думаю зайти, но прохожу мимо.
Да! Да! Да!
(Текст на обороте открытки с «Едоками картофеля» Ван Гога).
Б
Борода из прокладок
1993
Рок или рисование, барабаны или живопись? Маркете восемнадцать, она разрывается. Поступает в художку. После анатомии, рисунка и живописи оттягивается на репетициях. Договаривается о новогоднем концерте «Подсолнухов» в родном училище. «Только если будет Дед Мороз и конферанс», — недоверчиво разрешает завуч Петрович. Вавилонскую башню из усилителей и барабанов везут на санках. Маркета клеит коллаж. Первый в жизни постер: вырезанные по контуру человечки и собственный шрифт. На фото она в косухе и бейсболке задом наперед, вокалист Эдди в клетчатой рубахе, Какатов с прической под Брайана Джонса и басист Донсон в пиджаке на голое тело. Фотку делал Джим.
Народу в актовый зал набивается много. В первом ряду педагоги. Выходит Джим в бороде и красном халате: «А сейчас группа «Санфлауэрз»! Маркета с первого курса за барабанами и Лёха Какатов со второго на гитаре. Встречайте, и всех с Новым годом!».
Какатов ударяет по струнам через дисторшн, учителя выползают пригнувшись. ВХУшники и гости пьют, подпевают, плюют на пол, ломают унитазы, — получают максимум от получасового панк-сейшна. После концерта Джим подходит поздравить Маркету.
— А из чего ты сделал бороду Деда Мороза?
— Не знаю, нашел у мамы пакет с пушистыми прямоугольничками и подумал, что они идеально подойдут. А что это?
В
Выставка «Алфавит для друга»
2015
В центре зала синий почтовый ящик. За окном гроза.
Входит режиссер Клоков. С ботинок капает, он обнимает Маркету, берет стаканчик, озирается. Входит Донсон с треми бэбиками и женой, с детей капает, они обнимают Маркету и орут. Входит Артыкин с букетом белых цветов, с цветов капает, он обнимает Маркету, берет стаканчик, озирается. Входит Соня и озирается. Берет стаканчик, второй стаканчик, потом третий. Уходит.
На стенах фотографии и открытки.
На открытках рисунки и буквы.
На фото режиссёр Клоков держит открытки как веер.
Анна, историк искусства, открытки на парапете Сены и сейчас улетят.
Соня в кафе с кипой открыток и бокалом.
Джим в семейных трусах, открытки разбросаны по полу.
Входят Джим с Адашевым, с них капает, они обнимают Маркету, озираются.
Маркета берет пятый стаканчик, подходит к микрофону:
Полгода в Париже рисовала алфавиты, по букве на карточке, марки лепила. Открытки пачками в ящик опускала, в желтый парижский почтовый ящик. Открытки летели в Москву и Питер, в Вятку, в Париж, Ярославль, Женеву. Спасибо, друзья, друзья, спасибо, я всех вас люблю, я очень рада.
Артыкин дарит цветы, уходит. Режиссер Клоков обнимает Маркету, уходит. Соня уходит, хлопнув дверью. Донсон берёт стаканчики, жену, детей, уходят. Маркета падает лицом в почтовый ящик. Джим с Адашевым несут Маркету в такси через лужи.
Г
Гаттака
1995
— Джим, что ты напялил?
— Обожаю семейные трусы в клетку.
— Что будем смотреть?
— «Гаттаку», я — в пятый раз. Ложись, этот фильм надо смотреть лежа. Вино я поставлю на пол.
— Итан Хоук охуенный.
— Ума Турман охуенная. А ты кто?
— Я Итан Хоук, ясен пень. Хотя нет, погоди, я хочу быть этим чуваком, который сделал титры. Титры охуенные. Беру их в свой канал титров.
Тогда Маркета носилась с идеей сделать телеканал, на котором будут транслировать только титры к фильмам. «Гаттаку» она брала в ротацию без вопросов. Сыплющиеся частицы тела, волосы под макросьемкой, вот это всё.
И потом, это был любимый фильм Джима.
— Джим, где мой кошелек, швейцарский нож, очки? Как я попала домой?
Просыпаюсь без всего этого, я просто не человек.
— Мы запинали вчера под диван. Отвез тебя на такси. Приходи через полчаса на угол Спасской.
— Что у тебя с лицом?
— Это ты мне вчера наджабила во время фильма.
— ?.. Красивая царапина. Давай мои цацки.
Д
День рождения
1995
Пьют, пьют. Поют, Игги Попа поют. Джим как Игги Поп. Поёт и пьёт. Маркета стучит по бокалам. Кисточками по бокалам.
Идут, идут. По сугробам идут. Несут себя. Маркета падает. Джим тоже падает, поднимает ее. Пурга. Долговязые фигуры. То ли мальчики, то ли девочки. Снова падают. Поднимаются. Идут. Падают. Смеются. Поднимаются.
— Так, мы сейчас вашу подругу заберем в женский вытрезвитель.
— Не надо, не надо, не надо, тут близко. Я веду ее домой.
— Доведёте?
— Доведу.
— Доведёте?
— Точно доведу.
Е
Если будем живы
2002
— Я ничего не понимаю, почему так? Я вернулась в Вятку, а ты уезжаешь?
— Не могу больше пить. Мне надо сменить всё, всех друзей, весь круг.
— Мы съездим вместе когда-нибудь посмотреть на красивые домики?
— Если будем живы. Пиши. Салют.
Ё
1999
«Твою мать!» — заорал Джим, столкнувшись с Маркетой на углу Невского и Большой Конюшенной. Длинный, худой, мешки под глазами. Они не виделись пару лет, Маркета училась в Питере, Джим бухал на родине, изображая рок-звезду в местной группе «Музоры».
— Ты что здесь делаешь?
— Хотел в универ перевестись на иностранные языки. Не взяли. Решил договориться о концерте.
Ж
Желтая кофта
2000
— Я накупил целую кучу шмотья в секонде, выбери себе что-нибудь.
— Мне вроде не надо.
— Выбери, я хочу, чтобы у тебя от меня что-то осталось, чтоб ты помнила обо мне.
— Но тут дурацкие свитера три иксэль.
— Вот, смотри, Ив Сен-Лоран, кофта на пуговицах, бери. Шафрановый цвет,
как у буддистских монахов.
— Она на три размера больше!
— Бери, будешь носить поверх пальто, щас так модно.
З
Зоопарк
1999
Афиша: Группа «Бегемот». Клуб «Зоопарк». 23 мая в 19:00. И мелкими буквами внизу: разогрев — группа «Музоры» (Вятка).
Ничего себе. Джим приедет в Питер со своей группой.
— Джим, привет.
— О, Маркета!
— Ты можешь вписать пятерых?
— Конечно, могу
* * *
— Вот вам пять билетов.
— Ты с ума сошел?
— Для бегемотов есть список, для нас нет. Могу я позволить себе пригласить всех твоих друзей?
Они ходили после концерта между клеток с фламинго и павлинами, выпивали из горла, темно не становилось. «Зоопарк закрывается», — прохрипел мегафон. В одиннадцать вечера спрятались за вольером со спящим львом. Курили травку, спали в обнимку на лавке. В семь утра сбежали на глазах растерянных дворников.
Хорошо, что ты приехал.
И
Игги Поп
1996
«А теперь для Маркеты из художественного училища песня Игги Попа «Ин зе дескар». Не болей, Маркета! Мы еще споем Нирвану!»
Джим работал ночным диджеем на первом музыкальном радио, ставил всё,
что хочет. Маркета фанатела от его эфиров. Дома вторую неделю с гриппом.
У Маркеты болеют все: она, мама, брат и папа. Грипп с кишечной палочкой.
Всех тошнит и поносит. Джим не может прийти к Маркете, она заразная.
I know that you have got the time/ Coz anything I want, you do / You’ll take a ride through the strangers / Who don’t understand how to feel /In the deathcar, we’re alive / In the deathcar, we’re alive.
Й
Йога
2009
Айриш йога — любимый спорт Маркеты. Набираться, набухиваться, бежать во все ноги. Остаться одной, падать, застывать в нелепой позе там, где застал последний бокал. Маркета знала — проснётся утром дома, раздетая, в постели. Её не волновало, кто посадит в такси, доведёт до квартиры, разденет, подставит тазик. Часто этот человек спит рядом с ней, а утром делает вид, что ничего не произошло. Она привыкла к такому течению вещей. Всего три месяца в жизни она была одна. Никто не засовывал её в такси. Не подставлял таз. Не раздевал. Она могла очнуться на улице, в подъезде, где угодно.
Бросить пить. Я стара для айриш йоги.
К
Курсовая по живописи
1995
— Ты будешь мне позировать? У тебя красивая борода.
— За бухло буду.
— Коробка красного?
— Пойдет.
— Только надень свое кейвовское пальто.
Приходит.
— Вот тебе бухло.
— Ты серьезно? Я же пошутил.
— Тогда сиди и не двигайся.
* * *
— Долго еще?
— Еще час, терпи.
— Мне надо бухнуть.
— Так вот коробка красного.
— Ну ладно. Получается, я не шутил?
— Я сделаю курсовую картину по твоему портрету. Будет называться «Поезд ушел».
2015
Муха-Цокотуха бьется в стакане. С этого начинается спектакль Маркеты. Стакан сделал папа Джима. Склеил из оргстекла. Он — Самоделкин на пенсии. Маркета пришла в родительский дом Джима, принесла чертёж папе. На стене портрет. Бородатый парень с дворнягой на станции. Сумерки. На дальнем плане ж/д пути. Тусклый свет фонаря.
— Это же твоя картина, Маркета, «Поезд ушел»? Дима оставил нам ее перед отъездом. Он здесь такой несчастный. Несчастный мой ребенок.
— Да, я ему подарила после защиты курсовой.
— Он так редко приезжает. А что у вас случилось с Димой? Вы не общаетесь?
— Да ничего, все ок. Общаемся.
Общаемся, блин. Привет, пока, хорошей дороги.
Л
Ливайс 501
2008
Джим в Москве, модный звукорежиссер. Он бросил пить. Живет в пяти минутах от Ярославского вокзала. Маркета часто останавливается у него.
— О, ты все еще носишь мою желтую кофту. А меня друзья врубили в Ливайс 501, теперь я ношу только 501, а у тебя есть ливайсы?
— Нет у меня ливайсов.
— У Адашева жена такая у-ух, держит его в узде, ему нужна мама. У Бирюкова подруга Саша на голову выше его, разрешает ему бухать. Ну а мне никто не нужен, я дружу с проституткой. Я не верю в любовь. Подруга оказалась талантливой, я ей на Новый год подарил камеру. Она бросила свой ебобизнес и пошла в журналисты. Теперь фотограф в журнале. А ты теперь с кем?
— С Соней.
— Я ее знаю?
— Нет.
— Мы едем по Европе с Адашевым и Бирюковым. Поедете с нами?
— Джим, театр — это подводная лодка, я не могу ездить куда хочу когда хочу. Если вдруг доберешься до Музея Ван Гога, пришли мне открытку.
М
Магнит и Пераст
2011
— Маркета, привет! Ты где?
— Я в «Магните», покупаю еду по списку. А ты?
— Я в Перасте. Тут идеально. Бросай всё и приезжай.
— Пакет молока, один литр. Я не могу. У меня через неделю премьера.
— Блин, Маркета. Ноябрь месяц, тут нет туристов, я снял квартиру, есть комната для тебя, будешь рисовать свои долбаные черепичные крыши.
— Маслины черные. Две банки. Я не могу, у меня нет визы.
— Виза не нужна, только паспорт.
— Томатный соус «Принто». Джим, я очень хочу в Пераст. Но…
— Я понял. Не в этот раз. Ты не можешь сбежать с подводной лодки.
Н
Невеста Маша
1999
— Мама, привет, скоро приеду на каникулы.
— Привет, доча.
— Какие у вас новости?
— Маша вышла замуж.
— За кого?
— За Диму.
— За моего Джима?
— Нет, за другого Диму, пианиста.
— Блин, бедный Джим, ты не знаешь как он?
— Видела его маму в магазине. Говорит, Дима взял топор и уехал в лес. Неделю нету.
В Машу были влюблены все, и Джим, и Маркета, и Ник из «Хоббита», и Макс из «Ушел погулять». Маша была их музой, она собирала на кухне всю богемную поросль, и все посвящали ей песни, картины, стихи. Её старший брат открыл первое музыкальное радио в городе, назвал его именем сестры и обеспечил работой всех Машиных поклонников. И Джим, и Ник, и Макс работали на радио «Мария».
Как-то Джим и Маркета встречали Новый год с Машей. Под утро её голова лежала на коленях Маркеты, её ноги — на коленях Джима, казалось, они достигли полной гармонии.
Потом Маркета закончила училище и уехала с Лизой в Питер, учиться в академию.
Джим остался с Машей, у них вроде бы всё сложилось, но появился пианист Дима, и классическая музыка победила рок.
О
Открытки
2014
Джим, привет. Я уволилась из театра, продала все лучшие картины и еду в Париж, прикинь, делать арт-проект. Рабочее название «Алфавит для друга». Наверное, догадываешься, для какого. Я отвечу тебе на все твои открытки за шесть лет. Нарисую сто, двести, триста почтовых карточек с буквами и завалю тебя. Проверяй свой ящик каждый день, сканируй и посылай мне сканы по мейлу. Да, еще сделай свою фотку с открытками, мне надо для проекта.
П
Пуэр
2013
— Пуэры, свежие пуэры! Свежие варёные пуэры для Маркеты! Маркета, вставай пить чай.
— Я не хочу вставать. Зачем?
— Чтобы выпить чашку пуэра и выйти в город.
— Ты со мной пойдешь?
— Нет, я работать, к вечеру надо написать джингл для ролика. Вернешься и покажешь мне фотки.
— Сегодня католическое рождество, давай сходим в храм. Послушаем орган.
— Во всех львовских храмах жуткий дубак, я не выдержу дольше пяти минут. Лучше засядем на балконе, я буду пить пуэр, ты вино. Будем смотреть на собор. Запишу звук рождества на рекордер. Через год ты снова загрустишь, я пришлю тебе звуковую открытку.
Они поехали во Львов после смерти Веры. Маркета сходила с ума от одиночества, ее голова поставила на повтор момент, как врач отдает ей пластиковый пакет на молнии с оранжевой резинкой для волос и нательным крестиком.
Джим купил билеты и забронировал апартаменты с видом на собор святого Андрея, откуда уходил с войсками на Москву Лжедмитрий. В одной комнате была огромная кровать кингсайз, в другой — кожаный диван и обеденный стол. Джим достал из сумки огромные колонки, ноутбук, наушники и засел на несколько дней. Вышел только раз с Маркетой до секонда, по старой привычке — накупить ненужного шмотья. Спал на диване в свитере и джинсах, потому что тип с быстрыми глазками, который их заселял, долго не мог понять, зачем нужен второй комплект постельного белья. «Мы друзья, у каждого по комнате, нам нужен второй комплект». Тип так и не поверил, но белье привез через пару дней.
Р
Ребёнок
2012
— Джим, ты красивый. Станешь отцом нашего ребенка?
— Блин, Маркета. Вашего — это твоего и?..
— Я тебя познакомлю. Мы с Верой ходили к репродуктологу. Матерью точно будет она, она моложе и ребенка хочет сильнее. Начали выбирать донора, но там даже фоток нет. Русский, без вредных привычек, глаза зеленые, группа крови вторая — всё! Подумали, что хорошо бы у будущего малыша был воскресный папа. Чтоб типа он знал, кто его отец.
— Это сильно, Маркета, я подумаю.
— Врач сказал, что донором не может быть любой. Можешь сдать спермограмму?
С
Сигарета
1992
Под памятником Ленину Маркета сидит. Курит сигарету L&M.
— Хей, герл, хау а ю?
— Ты чо самый умный, раз в футболке «Перл Джем»?
— Да нет, просто шел мимо. Я, кстати, Джим. Живу тут рядом. За той оградой двор. Пошли? Я купил пиво. Завтра у меня выпускной.
— Да ты мелкий! Пошли.
Т
Таллинн
2019
Маркета клеит макет.
Складывает в коробку.
Садится в поезд.
Таможня:
— Что в коробке везём?
— Макет.
— Открываем.
Это зачем?
— В русский театр, сцены макет.
Таллинн сырой. Идти на рынок, сидеть под ёлкой, пить глинтвейн, вспоминать.
Лето 1994, Таллинн, первая поездка. Денег мало, Маркета и Джим тощие, лохматые. Все принимают их за братьев. Они валяются в траве, пялятся в небо. В небе салют, в воздухе вибрирует песня Procol Harum «А whiter shade of pale». Фестиваль «Рок саммер», толпы людей. Маркета теряется в толпе, плачет, бредёт от сцены к сцене. Спрашивает у волосатых эстонцев по-русски, где западный вход, «Ей са ару, вабандаге», — отвечают они, снова бредёт, плачет, наконец, находит Джима.
«Маркета, ты где потерялась? Я чуть с ума не сошёл».
Джим, где ты потерялся?
У
Утро
2019
Одиннадцать утра. Маркета в кровати, смотрит вверх. Яркая белая линия прорезает потолок. За блэкаутами солнце. Боже, какое счастье просыпаться не одной. Какое на фиг
одиночество, какое базовое состояние? Никогда больше не хочу просыпаться одна.
/ Ты зануда, Джим. / А тебе, Маркета, тебе никто не нужен по-настоящему. Только твои рисунки. Твои линии, дома, проекты. / А ты ворчишь на всех и учишь жизни. Ты боишься близости, Джим. / А ты идёшь к цели и перешагнёшь через человека. / А ты носишь меховые чуни и даришь на день рождения шерстяные носки. Пенсионер! / А я в тебя сейчас супом плесну. Кину огурцом. / А я залеплю тебе рот пластырем. / А ты пьяница. / А ты старик в душе, и всегда был стариком. /
Маркета смотрит на Варвару. Во сне она закинула руки за голову и улыбается как ребенок. Белая линия на потолке потеряла четкий контур и расплылась.
А ты трудоголик. / А меня достали твои бесконечные подружки, Лиза, Вера, Соня, я даже все имена не помню! Я не обязан им всем улыбаться и носить вам тяжести. / Зато я сплю не одна, а ты любишь ту, которая спит всю жизнь не с тобой. / А ты самовлюбленная сука в маске Уорхола! / А ты доморощенный певец, алкоголик в завязке, проповедующий ЗОЖ! /
Чёрт, почему Джим мне не отвечает?
— Маркета, который час?
— Полдвенадцатого. Просыпайся, моя богема.
Ф
Филологическая практика
1994
— Маркета, идём копать червей. В четыре утра на рыбалку.
— В четыре? Так рано зачем?
— Клюёт.
— Щас ночь, ничего не видать, что за черви!
— Фонарик возьмём.
— Давай черви и рыбалка в десять?
— В десять сбор материала. Я ж филолог, ёбтыть.
— Что будешь делать?
— Выйду в народ с диктофоном.
* * *
— Джим, клюёт?
— Пока нет.
— Спать, обратно на дачу?
— Маркета, жёлтый туман, смотри, ты же теперь художник!
* * *
— «Девки, девки, чо спитё? Дайте ткнуть, откель ститё». Маркета, вставай завтракать.
— А-а-а что-о-о на-а за-а-автрак?
— Жареная рыба, съевшая ночных червей.
Х
Хрусталь
1992
— Мы будем пить из хрустальных кубков!
— Ого, у тебя большая комната! Ты в ней один или с братом?
— Один. А сидеть будем на полу, как индийские короли. Мама, спасибо за еду, больше не заходи ко мне в комнату.
— Ты фанат гранжа? Что это за постер? Ой!
— Блин, Маркета, ты что, я же только поставил бокалы!
— Прости, я слепая. Вообще, у меня очки, но я их не ношу.
— Мама будет плакать. Последний бабушкин хрусталь. Фигня, не расстраивайся, я тебя прикрою. Это постер «Перл Джем» из Америки.
Ц
Цветы в горшке
2011
Маркета, привет!
Живая ли? Давно ничего нет от тебя. Я всё придумал. Ты будешь богата.
Искал для племянницы подарок — это невыносимо трудно: все игрушки одинаковые, тупые. Нашёл и заказал через интернет кукольный дом, к которому отдельно можно докупить мебель, посуду, цветы в горшке, лампочки, пианино. Ребёнок в восторге.
Фабричные кукольные дома — это ширпотреб и нищеёбство, а долларов тыщ за 10-50 люди покупают рукодельные дома, и вот те хороши нереально. Маркета, это золотое дно. Займись!
Ч
Чувак
2014
Маркета, привет!
Ездил сегодня на аэродром встречать чувака из Таиланда. Он там завёл себе кучу друзей, пока три недели подлечивался от офисной апатии и алкоголизма, и вжился как-то в эту систему, когда тебе искренне радуются, и с пол-оборота смеются, и обижаются как дети. Глупый белый человек посеял там вирус мизантропии, но основа никуда не делась и здорово приятелю поправила мозг. Я поверить не мог, что слышу от него настолько несвойственные концепции. Просветлило чувака, даже завидно)) Подумай-ка о затяжном путешествии к азиатам. Научись воспринимать одиночество как базовое состояние, накопи денег, и на месяц порисовать, фруктов поесть за копейки. Будешь как Гоген, круто же.
Ш
Шекспир
2002
Маркета за кулисами. На сцене все умерли. Аплодисменты. Занавес. Все мёртвые поднимаются. Занавес поднимается, они кланяются. Режиссер Клоков хватает Маркету за руку и тащит на поклон. К Маркете подходит Лиза с букетом, Маркета улыбается, благодарит, снова кланяется, запинается, падает, роняет букет. Встает, кланяется, режиссер Клоков уводит Маркету. Это называют в театре премьерой. Мучение.
— Ты был?
— Я ушёл после первого действия.
— Почему? Это так важно для меня, чтобы ты досмотрел до конца.
— Не увидел любви. Прости. Ромео хоть бы мизинца её коснулся.
Дело не в тебе. Это режиссёр и актёры. Я им не верю.
Щ
Щи
2016-2019
Джим, привет!
Наконец-то мы в одном городе и будем часто видеться.
Пока живем с Варварой у писателя Страусова. Он уехал на год в Черногорию и пустил нас пожить. Приходи в гости.
Привет, Маркета!
Я пока завален работой и прийти не могу. Удачи.
Джим, привет!
Завтра делаю домашнюю выставку «Шинель», собираю народ после семи.
Приходи! Улица Симонова, дом 7, пять минут от метро «Аэропорт».
Привет,
я сейчас в Вятке с родителями, удачи с выставкой.
Джим, куда ты пропал?
Мы сняли большую квартиру на Красных Воротах. Накопили стопятьсот вещей, для нас слишком тяжелых. Можешь помочь с переездом?
Маркета, привет!
К сожалению, помочь не могу — срочный проект, из дома не выхожу, работаю, не вставая, третьи сутки. Удачи с переездом!
Джим, привет!
Мы теперь живем рядом! Закончил проект?
Приходи есть щи. Я наварила огромную кастрюлю.
Познакомлю тебя с Варварой.
Привет, Маркета.
Ты как ребёнок. Удачи со щами.
Привет!
Джим, привет! Хотела пригласить тебя на день рождения 6-го в воскресенье. Будут Донсоны, Артыкин, Россохин. Я теперь живу недалеко от тебя, Басманный тупик, 5. Буду очень рада тебя видеть.
Ъ
2015
Твердый. Какой твердый предмет уперся в лопатку.
Чёрт, очки. Надо перевернуть… поворо… ться…
Твёрдый. Какой твердый предмет уперся в грудь. Телефон?
Надо встать. Надо встать хотя бы на четвереньки.
Какой странный клетчатый пол.
Какие смешные разноцветные горошки.
Где я? Дома?
Боже, какой грязный пол.
Ключи, наверное, в дверях, кто довел до квартиры?
Юношеская привычка пить напитки одного цвета. Янтарный виски. Янтарный коньяк. Снова янтарный виски. Последнее, что помнит Маркета, — она на заднем сиденье такси, сверху падает охапка цветов. Их кидает Джим. Маркета доползает до входной двери, хватается за ручку, подтягивается, встаёт. Дверь открыта. Ключи торчат с той стороны. На часах шесть утра. Плащ в странных разводах. Очки не разбиты, слегка погнулись. Цветы в унитазе как в вазе. Смс от Джима: Ты доехала? Ещё раз с открытием. Крутая атмосфера, работы на высоте, но моя фотка в трусах лишняя. Маркета не в силах раздеться. Пьёт воду из пластиковой бутылки, ставит на пол и падает на кровать.
Ы
Ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы (плач Маркеты).
Ь
2016
Мягкий. Джим говорил, что записывал на рекордер звук в лесу на все стороны света. И что южный звук очень мягкий, отличается от северного и тем более уж от восточного и западного. Маркета сидела на окне. Окно выходило на юг. Она закрыла глаза. Стук электрички, гудок паровоза, лязг стройки, сирены, качели на детской площадке. От всех этих московских звуков разрывалась голова.
Как Джим живет здесь столько лет?
Жалко, что он не отвечает мне.
Спросить бы его, чем южный звук отличается от северного.
По-моему, никакой он не мягкий.
Она пила пуэр, сидя на окне. Чай пах так же, как тогда Джим: копотью, землей, чем-то базовым.
Э
Эгон Шиле
2011
— Чем ты живёшь, Джим, что радует тебя сейчас?
— Простая еда. Вот, например, огурец. Смотри, какие большие огурцы продаются теперь в магазинах.
— Это да. Но вот я. Хочу стать таким же крутым рисовальщиком, как Эгон Шиле. А ты? Работаешь из любой точки мира, у тебя есть деньги. Но зачем это всё?
— Шиле умер в двадцать семь. И если выбирать, стать как он и умереть в двадцать семь, или никем не стать и умереть в семьдесят пять, то я выбираю второе.
Ю
Юность №2
2053
Желтый электромобиль скользит среди полей подсолнухов. Маркете семьдесят девять, Джиму семьдесят семь. У Джима — безалкогольный абсент, у Маркеты — яблочный сок со льдом. Джим лысый, с седой бородой. Маркета в бейсболке задом наперед, сморщенная, как черепашка, в темных очках на пол-лица. Бот Эд: «Поворачиваем направо и едем прямо девять километров, желаете послушать любимую музыку? Могу предложить плейлисты: нью-ньювейв, готик-панк и ретро-гранж».
— Эд, включи «Нирвану», убавь кондиционер на один градус и налей мне еще.
— Джим, за что ты обиделся на меня тогда, в 2015-м?
— Ты выставила мою фотку в трусах на всеобщее посмешище.
— Бог мой, твое фото стало тогда украшением выставки. Весь проект потом купили, тебя не греет, что ты в семейниках теперь в собрании «Тейт»?
— Да плевал я на «Тейт».
— Наконец-то я увижу «Едоков картофеля».
— Почему ты так любишь эту картину?
— Не видела её живьем. Видела «Башмаки» в Париже, «Автопортрет с отрезанным ухом» в Цюрихе, «Подсолнухи» в Лондоне, «Едоки» — мой гештальт.
— Стоп, Маркета, что ты сказала Эду? Куда мы едем?
— Сначала в Делфт, потом в Амстердам.
— Блин, Маркета, зачем в Делфт?
— Помнишь, в 2007-ом ты прислал мне открытку из Делфта?
— В 2008. Я был там в 2008.
— Нет, по-моему, в 2007.
— Чушь, Маркета, это было осенью 2008. Я писал тебе про палевые поля.
— Ну хорошо! Всё равно. Сначала Делфт.
— А Ван Гог? Выставка к гребаному 200-летию?
— Доедем. И когда я увижу «Едоков картофеля», я крикну в твое глухое ухо «Да! Да! Да!»
Я
Я думаю о тебе
2020
Ты стоишь на балконе в семейных трусах в клетку и куришь.
Дома тебя ждут наушники, бегающие столбики звука на мониторе, простая еда, много работы. Ты выдыхаешь дым и не знаешь, что я думаю о тебе.
Маркета и Джим живут рядом, как тридцать лет назад. В юности их дома разделяла площадь с памятником Ленину и короткая улица с одинаковыми желтыми сталинками.Теперь Джим живет на Красносельской. Маркета каждый день гуляет в сторону Сокольников мимо его дома. Балкон на седьмом этаже. Раньше Маркета и Джим часто стояли в темноте и смотрели, как уменьшаются цветные огоньки машин.

Ринг и где-то рядом
Смотреть, как течёт слюна изо рта твоего любимого актёра, — довольно неловкая ситуация. Микки Рурк в боксёрских перчатках напротив темнокожего парня в красных трусах. Уклоняется от удара, слюна продолжает течь, на губах безумная усмешка. Я сижу за столом у ринга с джойстиком от PlayStation в руках. Вокруг больше пяти тысяч человек. Я слегка накурен, но стараюсь быть профессионалом и управляю ударами Микки.
* * *
Бокс я полюбил в конце первого курса философского факультета. Однажды вечером наткнулся на трансляцию первого боя Эвандера Холифилда против Майка Тайсона. Майк, которого я считал тупым амбалом — быстрый и ловкий, как кошка. Холифилд впечатляет волей и коварством — не боится ударов Тайсона, постоянно его обманывает и когда рефери не видит — бьёт головой. Я заинтригован — то, что казалось грубой дракой, выглядит хитрой игрой, яростной шахматной партией и самым жестоким из искусств.
Бокс — моё первое увлечение, на которое никто не влиял. Книжки приучила читать мама-учительница. В гуманитарный вуз помог устроиться отец, когда понял, что я не сдам вступительные экзамены ни по одной точной науке. Все мои любимые группы — кассеты старшего брата.
Боксёры становятся моими рок-звёздами. Смотрю все бои по ТВ. Езжу на «Горбушку» покупать диски со старыми поединками, читаю в интернет-кафе биографии чемпионов. Разговариваю фразами вроде «у каждого есть план, пока в него не попадут», «если ты сдашься, то легче не станет», а когда мне весело — «бить по кончику носа, чтобы загнать кость в самый мозг». В перерывах между парами толкаю однокурсникам телеги о том, что «”Рокки” — худший фильм про бокс в истории кино, а вот “Бей в кость”, “Жирный город” и “Свой парень” с Микки Рурком — это тема. В конце концов, Микки и сам восемь боёв провёл».
* * *
В моём первом боксёрском зале на Курской нет ринга. Занятия ведут КМСы-белорусы слегка за тридцать. Минимум у трёх тюремные сроки. «Как у всех боксёров, за разбой и причинение тяжких телесных повреждений», — объясняет главный тренер. Все исключительно вежливые и тщательно следят за словами — я очарован этой гангстерской сдержанностью — однокурсники регулярно ссорятся и истерично орут, а дома — скандалят родители.
Самый смешной момент любого занятия — когда тренер показывает очередную связку, потом задумывается, почёсывает нос и произносит с более мечтательной чем обычно интонацией: «а вот на улице…». Становимся полукругом и слушаем, как оно — на улице.
После полутора лет тренировок решаюсь на первый бой. Соревнования проходят в клубе «Golden Boxing» в центре Москвы (клиенты из списка «Форбс», кофе на ресепшене по цене бурбона, в коридорах фотографии звёзд бокса на местном ринге). Оппонент — друг моих друзей. Чем ближе день боя, тем более уязвимым я себя ощущаю. Пугает не соперник, а сама ситуация, что кто-то готовится меня избить.
В день соревнований на нас шлемы и тяжёлые перчатки, в которых кулаки не сжимаются до конца. В бою время растягивается — потом прочитал, что это один из симптомов сильного стресса. Обдумываю каждый удар, а когда раздаётся гонг, мне кажется, что прошёл час. Во втором раунде я в панике. Руки не поднимаются, отдал все силы в прошлой трёхминутке и слышу смех из зала. «Мне продолжать?», — мямлю в перерыве. Тренер выталкивает меня на следующий раунд. Когда я свыкся с тем, что провожу бой, раздаётся финальный гонг. Рефери объявляет ничью. На мне нет ни одного синяка — мы так и не смогли толком друг друга ударить.
* * *
После вуза работаю продавцом мобильных телефонов, грузчиком в магазине игрушек, торгую DVD-дисками и наконец становлюсь управляющим магазина кино на Покровке. Утром первым делом смотрю выручку за вчерашний день, вторым — новости бокса в интернете. Взаимная ненависть Марко Антонио Барреры и Эрика Моралеса кажется более реальной, чем мои конфликты с продавцами (опаздывают на работу, обсуждают в торговом зале чужих подружек, виртуозно хамят клиентам). Надеваю рубашку с коротким рукавом, когда предплечья в синяках, но стесняюсь разбитых губ.
Перед вторым боем учусь вырываться из болевых и удушающих приёмов. Мы с тренером решили выступить на турнире по уличным боям «Стрелка». Их соревнования проходят на заводах, старых фабриках, бывало даже на списанном ледоколе. Суббота. Мы на Заячьем острове в Питере. Вокруг шумит автошоу. Столбцы ринга вбиты прямо в землю, на них натянуты корабельные канаты, внутри — песок. Лимита по времени нет, деления на раунды — тоже. Участники дерутся в лёгких перчатках до тех пор, пока кто-то не сдастся или не упадёт в нокаут. Тренер фотографирует меня, когда подписываю бумагу, что сам несу ответственность за любые последствия и травмы.
Всех представляют прозвищами. Передо мной «Дикая Панда» проигрывает «Монтажнику», «Бешеный Псих» побеждает «Злого Еврея», а «Казах с пакетом» избивает «Лопату». При росте 185 я вешу чуть больше 60 кг и прошу представить меня «Белым червём». На выходе поднимаю руки и изображаю мелкую трясучку. Мой оппонент «Фёдор-кузнец» на полголовы ниже и в два раза шире. «Разъебу ему ебальничек с дистанции», — говорю тренеру перед тем, как он надевает мне капу на зубы.
Стараюсь быть профессионалом и запомнить каждое мгновение. Кузнец резко меня бросает, а когда барахтаюсь на земле — наваливается на спину. Ногами обхватывает мою талию, а правой рукой перекрывает кислород. Кажется, что соперник хочет вдавить мне кадык в позвоночник. Стучу по его руке — сдаюсь. Бой, к которому мы с тренером готовились полтора месяца, продлился двадцать две секунды. «Возможно, это просто не твоё. Подумай», — говорит он. Большую часть дороги домой в «Сапсане» мы молчим.
* * *
Прибыли нашего уютного магазина кино падают из-за торрентов. Модная молодёжь любит музыку на виниле, но фильмы — качает из интернета. Дистрибьюторы DVD-дисков тихо, но быстро вымирают. Мы расширяем ассортимент за счёт бархатных медведей с пенисами, холщовых сумок с портретами писателей, настольных игр для влюблённых, магнитов, смешных обложек с названиями несуществующих книг и тонн виниловых пластинок.
За год меняю три места работы (управляю магазином католической книги, составляю программы для онлайн-кинотеатра, делаю контент для соцсетей салона красоты). Наконец, приземляюсь в боксёрском клубе «Golden Boxing», где проводил свой первый бой, — единственная работа, связанная с боксом, которую мне удалось найти.
* * *
Поднимаюсь на ринг. Помощник разводит канаты, я наклоняю корпус, выпячиваю зад и перешагиваю между ними. Мне подают табличку с цифрой 1.
«Смотрите, — говорю я и поднимаю табличку над головой на вытянутых руках. — Нужно делать вот так». «Не так», — опускаю табличку к груди. «И не так», — приподнимаю согнутые руки на уровне лица. Обхожу ринг вдоль канатов, останавливаюсь, поворачиваюсь лицом в зал и улыбаюсь. За мной следят тридцать две девушки в бикини и на каблуках. Я успел бегло посмотреть их анкеты. Две официантки-кубинки (у одной огромная силиконовая грудь, вторая в очках), несколько стриптизерш и четыре мастера спорта по художественной гимнастике. Есть тренер тайского бокса с татуировкой пистолета на заднице, гимнастка, пережившая падение с четырёхметровой высоты, и синеволосая кандидатка филологических наук в поисках жести и веселья. Инструктирую девушек перед кастингом ринг-гёрлз. Три победительницы через неделю будут носить таблички между раундами на вечере бокса. Моя работа в «Golden Boxing» — вести соцсети и «помогать с мероприятиями».
Администраторы и тренеры клуба заигрывают с девушками. Я зануден и общаюсь подчеркнуто вежливо. Лучшая из моих попыток превратить заторможенность в обаяние.
Вечер бокса так и не состоялся — на следующий день после кастинга боксёру с афиши выстрелили в лицо из травмата. Я приглашаю в кино одну из несостоявшихся ринг-гёрлз (двадцать пять лет, работа — «интересная», самое большое потрясение в жизни — «потеря лучшего в мире кота», самый большой страх — «танцевать на слишком узкой барной стойке»). Чтобы позвонить Алисе мне требуется тридцать минут — стараюсь унять тремор в руках и тупо смотрю в телевизор, где идёт бой Джеймса Тони против Василия Жирова. Мы начинаем встречаться. Смотрим мои любимые фильмы («Домино», «Поцелуй навылет», «Пуля») и бои. Устраиваю её носить таблички на другом мероприятии.
* * *
Любой боксёр согласится, что самое страшное — ждать боя в раздевалке. Уже в перчатках разминаться, сидеть с закрытыми глазами или тупо смотреть на дверь, в которую вот-вот постучат и дадут команду идти к рингу. Тук-тук — сегодня это я. Наш клуб — площадка для небольших промоушенов, которые проводят вечера на 200-300 человек и без трансляций на крупных каналах. Слежу за боями в зале и когда остаётся два раунда или бой заканчивается нокаутом, быстро бегу в раздевалку за бойцом из следующей пары. Иногда меня просят достать воду, сухой лёд или смекту.
Первым к рингу всегда выходит боец синего угла (парень из другого города, иностранец или местный чувак, на которого всем насрать). Вторым — боец красного угла (юное дарование, местный герой или обладатель регионального титула). Уже несколько месяцев я вывожу «синих», потому что говорю по-английски.
Впервые наблюдаю профи бойцов вблизи — в реальности всё грубее и драйвовее, чем по ТВ. Самые веселые и дерзкие — легковесы, полулегковесы и другие «мухачи». Тяжи нервничают сильнее остальных. Аргентинцы всегда весёлые, колумбийцы — молчаливые и мрачные, поляки — гордые и подчеркнуто учтивые. Один раз вижу, как жена-никарагуанка тейпирует мужу руки, а потом кричит указания из угла во время боя. Веду к рингу танзанийцев с ошалелыми глазами — обычно они прилетают в день боя и их рубит от акклиматизации. Попадаются филиппинцы — часто они выступают на две-три весовые категории ниже, чем их российские оппоненты, но желание заработать делает ребят сговорчивее.
За девять месяцев четыре раза вывожу драться узбека по имени Носир (переломанный нос, полное отсутствие мимики, вежливые манеры). Узбек работает на стройке и его зовут, когда молодого боксёра нужно проверить в бою против стойкого, но не особо опасного оппонента. Похоже, что для Носира (четыре победы, четырнадцать поражений и две ничьих) это больше, чем просто подработка — он всерьёз пытается выиграть каждый поединок. Пару раз я вижу, что он явно выигрывает бой, но судьи отдают победу сопернику — они не любят портить послужные списки молодых парней поражениями от строителей и грузчиков.
* * *
Турнир по боксу для сотрудников ФСО. Я рычу в микрофон: «Давайте пррррриготооооовимся к мясоррррррууууубкеее!» — вольный перевод легендарной фразы Майкла Баффера «Let’s get ready to rumble!» Обконьяченных генералов и трезвого почётного гостя, абсолютного чемпиона мира Костю Цзю это не впечатляет. Ринг-анонсера Баффера выписывают, чтобы завести многотысячную толпу на топовых боях в Лас-Вегасе, Лондоне и Москве. Меня — когда неохота платить ведущему с «Профи.ру», комментатору с кабельного канала или актеру эпизодов.
Мой профиль — открытые ринги для неспортсменов, турниры среди сотрудников силовых ведомств и мелкие чемпионаты по силе удара. Последние — самые муторные. Семь часов я (пиджак, бабочка с черепами и стопка анкет в руке) стою рядом с мешком-силомером и представляю людей, которые по нему бьют. Обычные и VIP-клиенты клуба, футбольные фанаты, родноверы с коловратами на бицепсах, диванные болельщики, фитоняшки, стронгмены, пара профи бойцов-нонеймов и куча детей. После каждого удара на табло появляется цифра — сила удара в килограммах. Громко объявляю её в микрофон и прошу аплодисментов у толпы в триста человек. Отходняк от таких вечеров — как после ночи в плацкарте.
«Король — орёл, орёл — король», «Саша по шоссе…», «Вёз корабль карамель…» — полчаса в день трачу на скороговорки, которым меня научили на экспресс-курсах для ведущих. Каждое утро начинаю с гудения (стою на цыпочках, голова поднята вверх, звук идёт от диафрагмы) — это должно сделать мой голос менее монотонным. Вечерами занимаюсь перед зеркалом: слежу, куда убегают руки и не подгибаются ли колени. Держу половник вместо микрофона и импровизирую перед воображаемыми зрителями. Алиса накидывает с дивана реплики «из зала», на которые я должен хлёстко и остроумно реагировать. Воображаемые зрители довольны, реальные — не очень.
* * *
«Пора самим играть в эти игры». — Серёга, директор «Golden Boxing», решает организовывать бои самостоятельно и предлагает мне побыть матчмейкером — человеком, который определяет, кто с кем дерётся. Престижная работа для тех, кто врубается в бокс.
Мне нужно найти оппонентов для трёх боксёров, которые тренируются у нас в клубе. Двое только начинают в профессиональном боксе — им нужны соперники попроще, чтобы набраться уверенности в себе. Договариваюсь с легковесом из Питера (десять побед, сорок поражений, парикмахер) и полусредневесом-камерунцем из Балашихи (одна победа, пять поражений, работает на хлебозаводе).
Наш третий боец — двадцатипятилетний тяжеловес Саша Солоух (пять побед нокаутами в пяти боях, любит Сталина и фотографироваться с секирами) — дерётся в главном бою. Он даёт персональные тренировки главному спонсору нашего клуба. Серёга просит «оппонента-иностранца… желательно, негра… и чтобы получился красивый бой». Я просматриваю фейсбучный спам от африканских менеджеров — такие сами тебя находят по общим друзьям. Чувак из Кении скидывает мне пару роликов на ютубе, которые я пересылаю тренеру Солоуха. Тот отвечает в вотсапе смайлами с тремя пальцами вверх.
На дрожащем видео длиннорукий и бритоголовый Фредди Околла (тридцать восемь лет, одиннадцать побед и два поражения) посредственно, но смело боксирует в каком-то ресторане. Прозвище — «Кенийский кошмар». Денег просит немного, в бюджет мы укладываемся. Я нигде не могу найти информацию, сколько Околла весил в последних боях, но его менеджер уверяет, что Фредди сейчас в хорошей форме — 107 кг.
Взвешивание проходит за сутки до боя. Африканцы приезжают к нам в зал прямо из аэропорта. Первая мысль — окей, это тот самый парень с видео. Вторая — какого хрена? «Кенийский кошмар» в жизни весит 94 кг — на 16 кг легче Солоуха. Околле и его менеджеру, видимо, очень нужны деньги.
«Фактически у нас тут боец другой весовой категории… », — вкрадчиво говорит супервайзер от Федерации профессионального бокса России. Он не угрожает отменить бой, но выражает сомнения в моей компетентности. Я подаю реплики: «под мою ответственность», «он знал заранее», «претензий предъявлять не будет».
Главный бой. В первом ряду — наш спонсор-банкир, рядом Серёга, пара госчиновников, несколько сыновей депутатов, действующие и бывшие боксёры класса А. Чтобы сожрать кенийца, Солоуху требуется меньше шести минут. В первом раунде он ломает оппоненту нос, во втором бьёт его, как хочет. Менеджер Околлы держит в руке белое полотенце и готов остановить бой. В конце раунда Саша пробивает левый крюк, после которого «Кенийский кошмар» падает лицом вниз.
Стою оцепеневший, но фиксирую происходящее вокруг. Африканец лежит. В ринг забегают разные люди. Кто-то кричит: «Врача! Врача! Где медицина? Быстрее!» Но врач уже в ринге, просто он в костюме, а не в халате. Фредди ставят кислородную подушку. Серёга энергично показывает банкиру, как круто бьёт Солоух. Через несколько минут кениец все-таки приходит в себя. Зрители аплодируют, когда его усаживают на табурет.
Серёга устраивает разнос на следующий день и орёт на меня в своём кабинете ровно двадцать две минуты. «Братан, не произошло ничего страшного. Менеджеры врут… Боксёры врут… Но ведь все целы», — спокойно говорю я. Серёга сплёвывает в окно и постоянно перебивает: «Леоновичу негр показался дохловатым», «а если бы он у нас тут откинулся?». Уже после узнаю, что Серёга отдал кенийцам деньги только за два раунда — через онлайн-переводчик в телефоне объяснил ребятам, как они его подвели. Я обещал, что мы заплатим за все восемь раундов вне зависимости от результата.
Для следующих боёв Серёга подключает другого матчмейкера. Менеджер из Кении пишет, что Околла в порядке и предлагает новых боксёров. Я всё реже появляюсь в клубе и ищу дополнительные подработки.
* * *
Лучший бой в истории российского бокса я наблюдаю на расстоянии в полтора метра. С первой минуты Денис Лебедев и панамец Гильермо Джонс не жалеют сил — оба уверены, что до 12 раунда дело не дойдёт. К шестому раунду Лебедев становится похож на монстра из фильмов Кроненберга — из-за гематомы вокруг правого глаза. Одутловатый панамец резво двигается по рингу и бьёт Дениса точно в заплывший глаз.
Я сижу вплотную к рингу с джойстиком от PlayStation. Нажимаю кнопки, когда Гильермо бьёт. Семён — мой напарник (двадцать восемь лет, работает в страховой компании, призёр турниров по рукопашному бою) — c таким же джойстиком следит за Лебедевым. Мы считаем удары, и эту статистику показывают по ТВ между раундами.
Считать удары нас позвал ТВ-продюсер, с которым мы занимаемся в одном клубе. Говорит, что со временем нам будут платить, а пока мы просто получаем лучшие места в зале. Официально наша статистика ничего не значит, но помогает зрителям следить за ходом боя.
Глаз Лебедева совсем закрылся, он не видит большинства ударов панамца, но всё равно всаживает в него кулаки. От таких атак другие оппоненты Дениса падали, а у Джонса только глаза кровью наливаются. В одиннадцатом раунде Лебедев опускается на одно колено после 226-го удара в голову. Встаёт, но рефери останавливает бой. Это было жестоко и красиво одновременно.
Мы с Семёном ещё два года считаем удары на вечерах бокса.
Они длятся по пять-шесть часов. Чтобы не терять концентрацию, выкуриваю косяк перед каждой сменой. Семён прикладывается к фляжке с виски в перерывах между боями. Мы сидим рядом с судьями и комментаторами. Видим силу ударов, которые на экране кажутся скользящими. Слышим свист летящих кулаков и вздохи бойцов, которым они втыкаются в живот. Лучше обзор — только у рефери в ринге. Правда, за всё время нам так ни разу и не заплатили.
* * *
Моя левая рука под мышкой у Микки Рурка, правым предплечьем он давит мне ниже локтя. «Ломать руку в клинче меня научил Роберто Дюран», — говорит Рурк и показывает ещё несколько грязных трюков из арсенала профи бойцов (удар подбородком в плечо, удушение в клинче и толчок кулаком под дых, когда соперников разводит рефери).
Мы в «Golden Boxing». Микки проведёт здесь открытую тренировку. До мероприятия два часа, и актёра угощают кофе в кабинете директора. В комнате, не считая нас двоих, ещё шесть человек — Серёга, его жена, администратор, два тренера и менеджер по продажам. С футболки гостя на нас смотрит президент РФ. Рурк купил её в ГУМе под прицелом ТВ-камер и потом долго рассказывал журналистам, что приехал в Москву искать оппонента для своего боя-возвращения.
О чём говорить — никто не понимает. Затыкаю тишину. Стесняюсь только на первых двух вопросах — про кино. Потом спрашиваю, с кем из великих Микки было труднее всего спарринговать. После Дюрана он рассказывает, как Томми Хёрнс в полдень поймал его на удар в корпус — «а в полночь я всё ещё блевал». Спрашиваю про Джеймса Тони — Рурк показывает пальцем на скулу, которую тот ему сломал. Вспоминает, как в аргентинской тюрьме навещал легендарного средневеса Карлоса Монзона.
Иногда переключается на свои тренировки и мечту о новом бое, но это я слушаю с меньшим интересом. Через месяц ему будет шестьдесят два — какие бои? Думаю, что так он поддерживает легенду вокруг своего приезда. Микки хлопает меня по плечу, пишет на стикере свой телефон с имейлом и уходит переодеваться к мастер-классу.
Когда у меня плохое настроение, смотрю в телефонной книжке на контакт «Микки Рурк», но никогда ему не пишу.
* * *
Снова у ринга с джойстиком в руках. Микки Рурк внутри, за канатами. Чтобы исполнить мечту и договориться о бое, ему понадобилось четыре месяца. За это время он успел согнать 13 кг. На словах ведущего «бойцу шестьдесят два года» зрители аплодируют. Микки (новая форма носа, золотые перчатки и имя любимой собаки на трусах) выглядит нервным и сосредоточенным — это его первый бой за восемнадцать лет. И первый в жизни, перед которым он «не пил и не курил». Оппонент — темнокожий Эллиот Сеймур (двадцать девять лет, одна победа, девять поражений). Эллиот тренируется в том же зале, что и Микки.
Под крики трибун «Миша, Миша» Рурк расхаживает по рингу и подзывает оппонента рукой — давай, типа, бей. Мы с Семёном переглядываемся. Происходящее не похоже на обычный бой. У Микки маньячный взгляд, почему-то течёт слюна изо рта и затычки в ноздрях. Несмотря на туго натянутые мышцы он кажется хрупким. Боюсь, что Мик не выдержит прямого попадания.
Перед вторым раундом плотно прикладываюсь к фляжке Семёна, хотя знаю, что мешать виски с травой — плохая идея. Я сфокусирован на джойстике, как будто управляю Рурком. Микки пятится к канатам. Сеймур идёт следом. Рурк бьёт его в корпус. Кажется, что удар неплотный, но Эллиот падает.
Рефери отсчитывает нокдаун, Сеймур встаёт. Микки скользящим ударом попадает ему по печени — и Эллиот снова падает. Рурк наотмашь бьет оппонента по заднице. Я вошёл в раж и засчитываю этот удар. Эллиот спокойно выслушивает счёт рефери на одном колене, и поднимается уже после десяти. Победа Микки нокаутом. Смотрю статистику от Семёна — за два раунда Сеймур ни разу не ударил справа. К моему удивлению, никто не свистит.
После боя минут десять умываюсь ледяной водой в туалете, встречаю Микки в коридоре (пальто в мелкую клетку, камуфлированные штаны, чёрная шапка-ушанка). Голову под шапкой перетягивает резинка с зелёным мячом на верёвочке. Боксёры по нему бьют, чтобы улучшить реакцию. Сейчас мяч бьёт по животу Рурка при ходьбе. У него такой взгляд, будто бой с Сеймуром всё ещё идёт. Я поднимаю руку со сжатым кулаком и киваю ему. Микки явно меня не узнаёт, но кивает в ответ.

