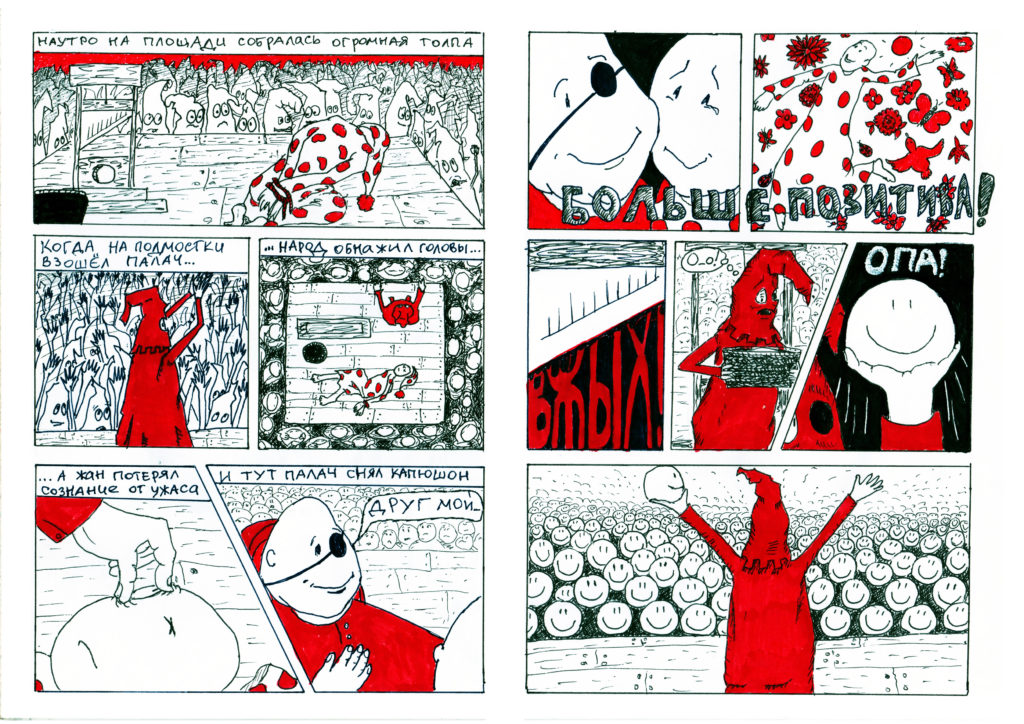Май 2020
Лиза Лосева. Черный чемоданчик Егора Лисицы
Любовь Баринова. Ева
Мастерская «Литературное мастерство»
Мастерская «Фейсбука недостаточно»
Мастерская литературы young adult
Поэзия. Мастерская Евгении Коробковой и Михаила Эдельштейна
Проза для начинающих. Мастерская Ольги Славниковой
Проза для начинающих. Мастерская Ольги Славниковой
Пьесы. Мастерская Дмитрия Данилова
Больше позитива
Гармония
Гуклук
Дождь в марте
Единодушие
ЗУВ
Касса
Метаморфоз
Мыши
Мэй-дэй
Остановка по требованию
Очередь
Пружина
Самый странный день в жизни Саши П.
Третий лишний
Труп одуванчика и генеральский полутруп. Рассказ о двух делах сыщика Мошкина
Шав-Шав
Весна
Весна на старте
Весна, конечно, свое возьмет…
Если вы думаете…
К весенней радости сырой аперитив…
Март
Потом начнет сползать, как шкура
Шестое марта
«Они просто бросили и предали меня…»
Святая радость
Слово свободы
Тетя Катя
Три ложки альмагеля
Элизабет Кюблер-Росс. Теория и практика
Вебинар с Мариной Степновой «Прототипы героев»

Дмитрий Данилов: «Для меня очень важно, чтобы пьеса зазвучала»
Этим летом в Creative Writing School пройдет драматургическая мастерская Дмитрия Данилова. Данилов — писатель, поэт, драматург, лауреат премии «Золотая маска», драматургических и литературных конкурсов. Его спектакль «Человек из Подольска» поставил в Театре.doc Михаил Угаров.
Творческий метод Данилова можно обозначить словами «сидеть и смотреть» по названию одной из его прозаических книг. В своей прозе, которая почти бессюжетна и бесконфликтна, Данилов наблюдает за реальностью и повседневностью, подмечая простые, обыденные вещи. Сам мастер как-то сказал: «Для меня скучное — это самое интересное». Лингвист и молодой писатель Мария Цирулева поговорила с Дмитрием Даниловым о его творчестве, старых и новых пьесах и сегодняшнем мире.
Дмитрий, поговорим сначала о непростых временах, в которых нам всем приходится сейчас жить в связи с вирусом. Ваш творческий метод можно назвать «сидеть и смотреть». Что вы сейчас наблюдаете в окружающей повседневности? Чувствуются какие-то новые вибрации, как меняется поведение людей, их разговоры, отношения друг к другу, к чему все это идет?
Есть общее ощущение большой тревоги. Люди, в целом, говорят только о коронавирусе, обсуждают запретительные меры, многим они не нравятся. Молодые люди, по моим наблюдениям, боятся не столько вируса, сколько социально-экономических последствий — что мы все резко обеднеем, нам придется выживать, наступят опять 90-е годы, когда все мы только начали жить более-менее нормально. Люди теряются перед будущим.
Повлияла ли ситуация с вирусом и карантином на вас самого? Не в смысле бытовых привычек, а в смысле: заставила ли она вас пересмотреть свои взгляды на что-либо/отношение к чему-либо?
Я думаю, что нет. У меня никогда не было иллюзии относительно того, что наш мир — очень прочный. Я всегда чувствовал, даже в относительно благополучные годы, что мир крайне хрупок, и наш общий мир, и мир каждого из нас. Сегодня все хорошо, ты гуляешь по сияющей прекрасной Москве, вокруг веселые люди сидят в кафе, все довольны, у всех более-менее есть деньги, все живут и ездят куда-то, а завтра этого может не быть. Поэтому сейчас для меня не то чтобы мир перевернулся — я всегда понимал, что, наверное, надолго этого не хватит.
Как вы думаете, что будет, когда это закончится. Мир будет другим, или все вернутся к своим прежним занятиям?
Я думаю, что мир будет другим. Ведь мы имеем дело не только с вирусом. Проведен грандиозный социальный эксперимент: выяснилось, что население самых развитых и передовых стран (Россия тоже достаточно развитая и современная) можно очень легко, без малейшего протеста запереть по домам, и они послушно будут сидеть. Это очень интересная ситуация. Мне кажется, что, например, в Америке столетней давности попытки запереть людей в их домах встретили бы ожесточенное сопротивление, в том числе, может быть, вооруженное. А сейчас все послушно разошлись по домам и сидят как зайчики. Никто не поднял голос в пользу того, что эпидемия — ну о’кей, вы нас проинформировали, но дайте нам выбор, я готов рисковать, я хочу ходить и ездить где угодно, а те, кто хотят сидеть дома, — пожалуйста, имеете право, сидите дома. По-моему, это Джефферсон сказал или кто-то из отцов-основателей США: «Народ, который ради безопасности готов пожертвовать своей свободой, не заслуживает ни свободы, ни безопасности». То есть, двести лет назад взгляды у передовых людей Запада были вот такие, сейчас они уже другие. Я не говорю, что одно хорошо, а другое плохо, мне кажется, об этом просто интересно подумать.
Не стимулирует ли вас эта предельно странная ситуация в мире к написанию новой книги, созданию новой пьесы или написанию новых стихотворений?
Пару стихотворений я уже в этом странном состоянии написал, и в них как раз отчасти отражена атмосфера этих дней. Ещё написал мини-пьесу, совсем мини — 12 страниц. Написал по призыву организаторов фестиваля читок пьес о коронавирусе. Я не сторонник писать что-то на злобу дня, но тут решил поучаствовать — просто в рамках борьбы с подступающей депрессией. По принципу «сделаю хоть что-то». Может быть, напишу ещё что-то, посмотрим. В принципе, ситуация стимулирует письмо, это так.
Первую пьесу я написал за месяц, а придумывал три года
Ваша проза — максимально антидраматична. В ней отсутствуют сюжет, конфликт, саспенс, напряжение. Она не дает повода подумать, что ее автор начнет писать пьесы. Органична ли вам сразу стала роль драматурга? Написание пьес шло интуитивно, или вам приходилось напоминать себе о «законах драматургии»?
Это действительно была большая для меня перемена. Я в прозе тяготел к бессюжетности, документальности, к художественному нон-фикшну, я бы сказал. А пьесы у меня, особенно первые две, «Человек из Подольска» и «Сережа очень тупой», — очень традиционные, с сюжетом, героями, диалогами. Вообще я люблю экспериментировать — проникать на какие-то новые территории и их осваивать. Я решил для себя, что мне будет скучно делать одно и то же снова и снова: написать еще один роман, выбрать какой-то кусок реальности, написать еще о каком-нибудь городе или отправиться в еще одно путешествие и написать о нем. Это было бы уже повторение того, что было. Новых идей для прозы такого типа у меня не было, и мне захотелось пойти в противоположную сторону — туда, где есть герой, где все выдумано из головы, где нет никакой документальности. Мне было интересно, что у меня получится и как я себя буду на этой территории чувствовать. Не скрою, у меня был даже некоторый полемический задор, потому что я довольно часто слышал упреки, что пишу такую бессюжетную прозу, просто потому что я не умею совершенно придумывать сюжеты. И я решил: дай-ка я возьму и придумаю сюжет.
Сложно было придумать сюжет?
Сложно, да. Первую пьесу «Человек из Подольска» я сочинял очень долго. Написал я ее за месяц, а придумывал три года. Я ее вынашивал, зачатки сюжета постепенно появлялись. Мне с этим непросто было работать, но, с другой стороны, что-то получилось, пьеса оказалась принятой и даже многим понравилась.
А как это происходило? Вы ходили и думали: а сейчас нужно сделать сюжетный поворот, а сейчас нужно напряжение нагнать, или движение сюжета происходило интуитивно?
Очень многое происходило действительно интуитивно. Мне с трудом дается четкая планомерная работа. Сначала у меня появлялись мысли: а хорошо бы, чтобы эти полицейские были интеллектуалами, чтобы они герою все время угрожали, но в итоге его пальцем не тронули — какие-то такие незатейливые мысли. А потом в какой-то момент у меня эти герои начали звучать, я начал слышать их реплики. Я очень любил гулять или ездить в транспорте и в голове прокручивать их монологи, диалоги. Постепенно дошло до того, что всю пьесу я таким образом услышал. Для меня очень важно, чтобы пьеса зазвучала, и тогда уже все получится.
То есть, вы ее не записывали, пока она у вас в голове полностью не оформилась?
Да, я сел писать, когда она уже у меня вся собралась. Вернее, не совсем так. Во время работы над пьесой я получил со стороны очень ценную подсказку. Дело в том, что я, будучи человеком еще неопытным в драматургии, придумал четырех персонажей, и все они были мужскими. У меня есть очень хорошая приятельница Ольга Столповская, она кинорежиссер. Как-то мы с ней переписывались, я сказал, что начал писать пьесу, она попросила показать. Я ей прислал несколько сцен, и она мне сказала, что тут явно не хватает женского персонажа. Так с ее подсказки я придумал женщину-полицейского, и эта героиня очень легко вписалась в ткань пьесы. Это была очень ценная подсказка, я Ольге очень благодарен.
На читке пьесы «Сережа очень тупой», которую организовывал покойный Михаил Угаров пару лет назад на фестивале молодой драматургии Любимовка, в обсуждениях кто-то сказал, что ваша пьеса — прекрасный материал для режиссера, что пьесу и ее героев можно развернуть в любую сторону, сместить акценты, поставить каким угодно образом. У вас такой нейтральный, безоценочный взгляд на героев и происходящее. Когда после читки в зале обсуждали, что же было в посылке, которую получил Сережа — условное добро или условное зло, вы засмеялись и сказали: «Да я и сам не знаю, что там». Вопрос такой: что вас интересует, когда вы пишете пьесу, в чем вы хотите разобраться?
Сразу скажу, что меня совершенно не интересует трансляция каких-либо идей, поучений, вопросы морали — меня интересует исключительно психологическая коллизия. Допустим, «Человек из Подольска»: человек, самый обыкновенный, который ничего не сделал, ни за что ни про что попал в двери полиции, где его подвергают очень странному допросу очень странные полицейские-интеллектуалы. Мне было интересно, как он в этой ситуации будет себя вести, что он будет чувствовать, чего он будет бояться, как он будет выкручиваться из этого. Будет ли он сопротивляться, будет ли он пассивен — что будет? Как себя будут вести полицейские? Мне было интересно вот это, а не идеи. Хотя многие люди и из «Человека из Подольска» и из «Сережи» вынесли много каких-то для себя идей. Было высказано, например, огромное количество версий, что находится в посылке, которую получил Сережа.
А какие были версии?
Самая дикая версия — что это ребенок. Кто-то говорил, что там бомба. Как-то это всех очень волнует, а меня, если честно, это совсем не интересует. Это просто не важно, что там. Важно, что это что-то, что могло очень сильно изменить их жизнь. Причем мы не знаем, в какую сторону, в положительную или отрицательную. Маша, жена героя, решила: не нужно менять их жизнь, и, наверное, правильно она решила, все у них и так нормально. И они решили жизнь не менять. А что там — да какая разница? Мне больше интересен процесс: что происходит, когда приходят курьеры и выясняется, что они не собираются уходить, — вот это интересно. Как они разговаривают, почему они все из одного города?

Две ваши первые пьесы, «Человек из Подольска» и «Сережа очень тупой», критики часто сравнивают и говорят, что они похожи. Расскажите про ваши последующие пьесы, в какую сторону вы двинулись дальше?
Вы знаете, у меня получаются такие дуплеты, парные выстрелы. «Человек из Подольска» и «Сережа очень тупой» действительно очень похожи: по структуре, в том числе, по структуре персонажей. А две следующие пьесы, «Свидетельские показания» и «Что вы делали вчера вечером?», совершенно другие, но между собой они тоже похожи по структуре. Даже есть два двойных спектакля — в театре «Практика» идет спектакль, который называется «Человек из Подольска Сережа очень тупой». Это спектакль сразу по двум пьесам, его поставила Марина Брусникина, играют там выпускники школы Дмитрия Брусникина. Там нет перемешивания двух текстов в один. В театре два зала, и на входе зрителям случайным образом раздают браслеты двух разных цветов. Люди с одними браслетами идут в один зал и смотрят «Человека из Подольска», с другими браслетами — в другой зал и смотрят «Сережу». В антракте зрители меняются залами, и актеры по второму разу играют два спектакля. Это очень круто сделано, такой двойной спектакль, получается классная рифма, я бесконечно благодарен Марине и молодым артистам.
А еще есть двойной спектакль по двум другим пьесам, он идет в театре «Современник». Он называется «Что вы делали вчера вечером?», а подзаголовок «Свидетельские показания». Его поставил совсем молодой режиссер Андрей Маник силами молодых актеров «Современника». Одни и те же актеры играют и в одной и в другой пьесе, тексты тоже не перемешиваются. Сначала идут «Свидетельские показания», потом возникает некая пауза, в которой меняется сценография, сцена переоборудуется, и дальше они играют «Что вы делали вчера вечером?».
То есть, это действительно такие парные пьесы. И третья и четвертая пьеса очень отличаются от первой и второй. Если в «Человеке из Подольска» и «Сереже» есть диалоги, как в обычном классическом театре, есть персонажи, которые одновременно присутствуют на сцене и между собой взаимодействуют, то в двух других пьесах мы слышим просто набор монологов. Эти монологи, эти голоса людей друг с другом не взаимодействуют.
Летом у вас в CWS будет проходить очная мастерская по драматургии, вы уже не в первый раз проводите у нас подобную мастерскую. Расскажите о ваших наблюдениях: можно ли научить писать пьесу? На что вы учите своих студентов обращать внимание в первую очередь?
Действительно, у нас сейчас подходит к завершению второй такой курс, и летний интенсив будет уже третий. Хочу сказать, что получаю невероятное удовольствие и радость от этого курса, мне очень нравится работать с нашими семинаристами. Собираются удивительные люди. Все настроены на работу, всем интересно, все принимают очень активное участие в обсуждениях. Я так построил курс, что теория в нем не на первом месте, мы от нее отталкиваемся, но главное в нашем процессе — это обсуждение работ друг друга. Работы пишутся в ходе курса, и это очень полезно. Самое удивительно, что среди участников есть просто удивительные авторы. Люди пишут просто прекрасные тексты. Тексты совершенно разного уровня, но, во-первых, нет каких-то откровенно плохих текстов, а, во-вторых, про некоторые тексты понятно, что они написаны настоящими драматургами.
Можно ли научить писать? Научить — слово, которое вносит какие-то неудачные нотки. Наверное, если взять человека как чистый лист, что-то в него вложить, и чтобы на выходе мы могли бы сказать, что он умеет писать пьесу, — я думаю, что это невозможно. Но человеку можно помочь раскрыть, во-первых, его собственный, уже имеющийся потенциал, а, во-вторых, направить в нужное русло его собственный поиск. Нужно, чтобы у человека были свои мысли, идеи, задумки. Какую-то часть пути он, несомненно, должен пройти сам. А на занятиях мы совместными усилиями должны помочь человеку найти правильное направление, выявить и усилить его сильные стороны, поработать над его слабыми сторонами. Мне всегда хотелось, чтобы на выходе человек написал пьесу и чтобы у него было ощущение, что он сам до всего этого дошел. И чтобы за этим стояла наша совместная работа. И, мне кажется, нам это удается.
А кто ваши студенты? Кто к вам приходит? Это люди похожие или разные? Возраста разного или примерно одинакового?
Вы знаете, довольно разные. Я бы не сказал, что есть один явно выделяющийся типаж. Это разные люли, возраст тоже разный, от совсем молодых (у нас на первом курсе занималась школьница 14-16 лет) до людей пенсионного возраста. Каждый раз есть люди, которые очень глубоко погружены в театр. Они знают и любят театр, очень насмотренные, начитанные, видели дикое количество спектаклей. Я без всякого кокетства могу сказать, что обы раза были люди, которые в театре разбираются лучше меня. Мне кажется, в этом нет никакой катастрофы, потому что пьеса — это все-таки литературный жанр, это литература, а в литературе я, смею заметить, разбираюсь достаточно неплохо. А то, что есть люди, которые в театре разбираются лучше меня, — это хорошо, они задают высокий уровень обсуждения, высказывают много интересных мыслей. Если говорить о гендерном различии — всегда больше женщин, как и на всех литературных курсах. У всех участников без исключения большой интерес к литературе, театру, они хотят чему-то научиться. У многих из них есть амбиции, они хотят стать настоящими профессиональными драматургами.

Как написать книгу, чтобы ее не издали
В издательстве «Манн, Иванов и Фербер» вышло пособие по литературному мастерству с провокационным названием «Как написать книгу, чтобы ее не издали». Заголовок обнаруживает двойной парадокс: во-первых, сама книга была издана и уже тем опровергает свое название, во-вторых, кому же интересно учиться писать в стол? Создали пособие американцы Говард Миттельмарк и Сандра Ньюмен — каждому из авторов принадлежит несколько успешных романов, их эссе выходили в ведущих газетах, наконец, у них многолетний опыт преподавания creative writing в университетах.
В игровой и парадоксальной форме устроена вся книга, предлагающая читателю ряд пародийных примеров вместо прямых указаний, как нужно писать. Это своего рода гид «от ошибки к ошибке». Миттельмарк и Ньюмен формулируют свои правила, но делают это от обратного. Каждую проблему, с которой сталкивается начинающий писатель, они снабжают фрагментами мифического неопубликованного романа, в которых частотные ошибки специально доводятся до гротеска. Читателю расскажут о принципах «сюжета неизданного романа», о том, что поможет «зарубить на корню любое повествование», «как населить книгу унылыми, неправдоподобными, неприятными героями» и «как не продать роман». В таком легком, почти фамильярном стиле, характерном для американских пособий по creative writing, но все еще непривычном для российского читателя, выдержана вся книга. В конце же выносится обнадеживающий вердикт: «Можете спать спокойно: ни одна живая душа не выдержит того, чтобы читать ваш роман. И уж, конечно, не опубликует его».
Точнее было бы назвать получающийся текст «неопубликованным сборником рассказов», поскольку фрагменты не связаны друг с другом и представляют собой автономные истории, пародирующие популярные жанры — детективы, боевики, научную фантастику и т.д. Эти подробно прописанные остроумные скетчи, которых авторы ухитрились сочинить несколько десятков, — одно из главных достоинств книги. Пародии сменяют друг друга, но они выполнены в разных стилях и разными методами, а каждый анти-пример авторы сопровождают объяснением его провальности (далеко не всегда очевидной сразу) и советами по ее исправлению. Юмористические формулировки вроде «Это может создать напряжение, интригу, из-за чего книга может начать продаваться и, не приведи господь, мы заработаем на ней» перемежаются прямыми императивными советами. Органично в текст внедрены серьезные и шутливые контрольные тесты.
Провальность и выигрышность придуманных фрагментов оценивается с точки зрения издателя — авторы говорят не о том, как написать классический роман, а о том, как написать книгу, которая будет продаваться, то есть найдет большую аудиторию. Они в веселой и непринужденной форме учат писать живые, логически выстроенные тексты. Как сообщить истории глубину и многомерность — индивидуальное решение каждого автора.
Написанная еще в 2008 году книга Миттельмарка и Ньюмен оказывается созвучной нашим запаздывающим на пару десятилетий литературным запросам. Да, авторы обращаются прежде всего к американскому читателю (писателю), и не все шутки и привлекаемый культурный фон считываются русской аудиторией. Могут показаться вовсе не обязательными некоторые пародии, например, на порно-романы с подробным описанием всех сексуальных практик или чрезмерное заигрывание со сленгом. Вероятно, непросто было перевести на русский язык и разбросанные по книге языковые и словесные игры.
Однако ошибки начинающих писателей, ставшие главным объектом этой книги, — вещь интернациональная. Как выйти из любительского поля в профессиональное, как научиться писать хорошие тексты, интересные потенциальному издателю и читателю, — этому книга Миттельмарка и Ньюмен может научить, невзирая на хронологическую и культурную дистанцию. Впрочем, в характерной манере Миттельмарк и Ньюмен предупреждают, что если, невзирая на все анти-советы, ваша книга все же будет опубликована, то «вам понадобится наша следующая книга «Как не выжить на гонорар писателя»» с «пошаговыми стратегиями воровства туалетной бумаги из общественных уборных».

Как писать роман: четыре писателя о сумасшедшем рабочем дне Даниэлы Стил
Даниэла Стил — возможно, самый известный романист современности и, без сомнения, самый продаваемый автор из ныне живущих, однако в ее рабочем режиме нет места для цветов и шоколадок. В недавних интервью она посмеялась над тем, что молодые люди настаивают на балансе между работой и личной жизнью, и заявила, что она обычно пишет от 20 до 22 часов в день, а иногда и все 24. Результат: 179 книг за меньше чем 50 лет, которые были проданы суммарным тиражом около 800 миллионов копий.
Некоторые начинающие авторы наверняка просто распрощались с личной жизнью в попытке придерживаться плана Стил, однако многие, вероятно, хотели бы узнать — может, наступило время попробовать что-то менее изнуряющее? Проект The Conversation попросил четырех преподавателей Creative Writing рассказать о своей точке зрения на этот вопрос, а мы представляем перевод их советов.
Лиам Мюррей Белл, Стерлингский университет
Заявление Стил напоминает мне об авторе триллеров Эдгаре Уоллесе, о котором говорили, что он написал роман за один длинный уикэнд. Он удалился в свой кабинет вечером пятницы и не появлялся до утра понедельника, диктуя слова романа своему секретарю и прерываясь только на чашку чая каждые полчаса. Бедный секретарь.
Все, что я могу извлечь из этого жесткого режима, — это то, что понадобится огромное количество чая. Для меня продуктивный день — это четыре часа письма. Четыре часа работы за компьютером, ни на что не отвлекаясь. Этим утром я писал в течение двух часов и смог написать лишь скромные 1000 слов. Однако и это вполне достойный, упорный день. Чтобы с огромным трудом добыть свободные часы для письма, я откладываю подготовку к лекциям, оставляю проверку работ на вечер, полагаюсь на людей, которые сидят с моими детьми. Я делаю все на пределе возможного, чтобы игнорировать даже почту. Когда Стил отвечает на письма — вот что я хотел бы знать.
Бывало — например, на творческих семинарах или под угрозой надвигающегося дедлайна, — что мне приходилось писать в течение шести или семи часов. Но не больше, потому что иначе слова перестают иметь смысл, а клавиша «delete» просто стучит молотком. Я начинаю объяснять сюжет каминной полке и проговаривать строчки диалога с кошкой. Вместо этого я лучше пойду делать что-нибудь еще. Поразительно, как часто ясное представление о тексте приходит когда ты моешь посуду, подстригаешь живую изгородь, гуляешь с собакой. Я знаю, что у многих писателей огромное количество анекдотов или идей для хорошей истории небрежно записано на автобусных билетах. Или же они останавливают машину, чтобы прямо на обочине набросать начало стихотворения.
Оптимальное время работы — четыре часа в день
Нередко во время обеда я ловлю себя на мысли, что обдумываю то, что написал этим утром, или ищу зацепку для сцены, которую напишу на следующий день. Харуки Мураками говорит о том, что для бега на длинные дистанции и для написания романа нужны сходные навыки концентрации и выносливости, и эти усилия нужно быть готовым совершать изо дня в день в течение месяцев или даже лет. В Стерлингском университете мы даже создали специальную исследовательскую группу, чтобы изучить связь между творческим письмом и физической активностью, потому что многие писатели в том числе хорошие бегуны, велосипедисты или пловцы.
Согласно императиву рабочего процесса Стил, каждый день должен быть днем скачек. Но ты не можешь такого выдержать. Моя мантра — это «понемногу и часто», чтобы каждый день набирать обороты. Если тебе удалось написать всего 200 слов сегодня, все равно этих 200 слов у тебя вчера не было. Это может занять пятнадцать минут или шесть часов; в любом случае, это прогресс. Цель не в том, чтобы заполнить страницу как можно большим количеством слов так быстро, как только возможно, а в том, чтобы заполнить страницу правильными словами — сколько бы это ни заняло.
Сара Корбетт, Ланкастерский университет
Прошу прощения, но я должна это сказать — нет никакой формулы, как написать роман (так что не покупайте все эти книги «Как…»). Только работа на износ, выдержка, слепая вера в себя (с ежеутренним побегом от сомнения) и готовность встретить дьявола на перепутье и переиграть его. И писать, переписывать, писать, переписывать, писать, переписывать…
Возможно, это не особо полезные советы для новичка, и я должна признаться, что сама только завершаю свой первый роман — спустя пять лет. Однако вот несколько вещей, которые я извлекла из своего двадцатилетнего опыта преподавания Creative Writing в самых разных жанрах:
- Читайте другие романы. Без этого никак нельзя обойтись: вы должны много читать — со страстью, увлечением и азартом, однако в какой-то момент вам нужно начать наблюдать и затем исследовать, как писатель это делает. Читайте самые разные книги и будьте бесконечно любопытны;
- Практика, практика и еще раз практика. Пишите регулярно, даже если у вас есть всего час вечером или послеобеденное время в выходные. У большинства писателей есть работа, семья, домашние животные, хозяйство, и вы будете удивлены, когда узнаете, сколько всего было написано в перерывах между этими вещами;
- Работайте над своей техникой на всех уровнях детализации: от построения предложений и фразы до выбора слов, создания правдоподобных персонажей, захватывающего сеттинга, динамичных сцен и аутентичных диалогов;
- Пишите о том, что вызывает грусть, провоцирует на поступки, пугает, заводит лично вас; пишите, используя максимум всего себя и свои ощущения;
- Присоединитесь к курсу, организуйте группу;
- Пишите, потому что вам это нравится и потому что вам нравятся новые вызовы;
- Будьте готовы порвать все и начать заново;
- Помните, что писать — это лучшая работа, которая увлекает и очаровывает вас;
- Продолжайте писать…;
- Напишите свои собственные правила.
Так как я написала роман? Медленно — за этот же период я опубликовала два поэтических сборника, много преподавала и наблюдала, как мой сын проходит в школе ступени GCSE и A-level. А также потрошила и переписывала свой текст, предлагала его более опытным друзьям, чтобы они прочитали и дали свои самые жесткие и честные советы, и затем пыталась учесть их, даже если это значило радикальные сокращения и изменения.
У меня получился литературный роман о семье, доме и стыде, но с психологическим уклоном. Героиня и ее история пришли мне в голову одновременно, пока я ехала на поезде домой в Манчестер после встревожившей меня встречи в Уотерстоне. С этого момента начался процесс «раскапывания», как если бы роман уже где-то в мире существовал, и я лишь пыталась медленно, слой за слоем, обнаружить его. Я все еще добавляю одни сцены, а другие вычеркиваю, прорабатываю каждую строчку. Я все еще ищу наилучший способ рассказать эту историю, но я знаю, что уже почти готова отпустить ее, потому что следующая уже на подходе.

Эдвард Хоган, Открытый университет
Писатель и консультант Силиконовой долины Алекс Сучжон-Ким Пан для своей книги «Отдых» (2016) собрал рабочие режимы творческих людей из разных эпох. Из привычек таких писателей как Чарльз Диккенс, Энтони Троллоп и Элис Манро он заключил, что оптимальное время работы — четыре часа в день, и при этом вам нужно рано вставать. Так, Троллоп вставал в 5 утра (слуга приносил ему кофе через полчаса) и писал до 8:30, перед тем как идти на службу в почтовый офис. Работая по такому графику, он опубликовал более сорока романов.
Как писатель с семьей и полным рабочим днем я сейчас следую этому «методу 5 утра», правда, кофе я делаю себе сам. В теории принцип «понемногу и часто» кажется ясным: если ты пишешь 500 слов в день, через несколько месяцев у тебя появится первый черновой вариант. Но на самом деле это не так просто. Мой первый роман потребовал восьми лет, тогда как третий был практически готов за сорок дней. Письмо требует двух состояний мозга: тебе нужен мозг исследователя и рассудительного редактора, но тебе также понадобится и темный хаос творчества. Мой распорядок дня меняется, потому что я еще до конца не придумал, как его организовать. Когда я сделаю это, то, наверное, прекращу работу.
Мне интересен подход Стил. Этот вид погружения, который особенно любят Кадзуо Исигуро и Джесси Болл (утверждающий, что может написать роман за шесть дней), позволяет им сохранить жизненную энергию изначальной идеи.
Пол Шелдон, автор книг, главный герой романа Стивена Кинга «Мизери», описывает, как во время письма он «падает в дыру в странице». Может быть, это тот же вид неудержимой импульсивной энергии, которую испытывает Стил, и потому, вероятно, она упоминает о физической стороне этого процесса. Писатели неохотно говорят об их (довольно редком) чувстве экстремальной сфокусированности, которое появляется, когда они полностью захвачены своей работой. Все эти разговоры о повышенном сердцебиении, потере чувства времени, нахождении в «особой зоне» могут звучать как нечто среднее между йогой и гольфом.
Писательский распорядок — это то, где практические соображения встречаются с более эфемерным вопросом о вдохновении. Ты должен решить, какого рода писателем хочешь быть. Дженни Колган выпускает по две книги в год, и это подразумевает следование специальным дедлайнам — ее романы выходят перед Днем матери и началом рождественского сезона. Письмо — это работа, ежедневное занятие подсчетом слов. Однако, например, Хилари Мантел такая регулярность чужда. Она говорит о «днях потока», когда она даже не отдает себе отчет в том, что она написала, пока не перечитает текст. Но оба автора каждый день сидят за своим письменным столом.
Процесс не-писания столь же важен, как само письмо
Процесс творчества может быть опьяняющим, но чаще всего он достаточно тяжелый. Однако это не то же самое, что работа в шахте. Так что если вы хотите написать роман и считаете, что метод Стил вам не подходит, обратитесь к прославленной и плодовитой детской писательнице Жаклин Уилсон, которая работает около полутора часов в день. В постели.
Дэвид Бишоп, Эдинбургский университет Нейпира
Режим Стил звучит экстремально, но если он помогает ей — пусть будет так. У каждого писателя есть своя собственная оптимальная зона, время и место, где он может генерировать слова, которые когда-то будут готовы для того, чтобы их прочесть. Главное заключается в том, чтобы найти свой собственный подход и осознавать, что он может подойти не каждому проекту.
Некоторые говорят, что ты должен писать каждый день, чтобы стать писателем. Однако письмо — это не просто процесс написания букв на бумаге или на экране. Речь идет о чем-то большем, что позволяет создавать нарративы в воображении. Писатели часто жадны до чтения, хотя всегда есть опасность заразиться стилем или содержанием того, что читаешь прямо сейчас.
То, что нужно написать конкретное число слов за определенный период — тоже миф. Некоторым авторам помогает дневная или недельная цель, однако другие предпочитают посвящать письму определенное время и верят, что слова придут сами собой. Вашему душевному равновесию явно повредит чувство вины за то, что вы не достигли чьей-то продуктивности. Однажды я опубликовал 600 000 слов за один календарный год — но это точно не лучшая моя работа.
Процесс не-писания столь же важен, как само письмо. Не недооценивайте важность разглядывания пейзажа за окном или прогулки. Зачастую самые сложные проблемы в вашей истории могут быть распутаны, только если вы отойдете от письменного стола. Если ничего не помогает, попробуйте заснуть и позвольте вашему подсознанию выполнить эту тяжелую работу за вас. Поразительно, насколько часто отдыхающий мозг может решить проблему, которая не поддается вашему активному размышлению над ней.
Для большинства писателей лучший способ написать роман — это пробы и ошибки: экспериментировать с различными системами, пока наконец одна из них не окажется подходящей. Некоторые авторы создают подробный черновой план как остов для всей истории; другие предпочитают путь открытий, когда в какой-то момент может понадобиться переписать все заново. Кто-то работает в полной тишине, другим нужен фоновый шум, например, музыка. Необходимо дать толчок вашему воображению и общее направление, в котором следовать, однако то, что случится затем, зависит только от вас.
В офисе Стил висит записка: «Чудес не бывает. Есть только дисциплина». Быть писателем не значит проводить 22 часа в сутки за письменным столом, однако Стил права, что чудес не бывает. Если ты хочешь стать писателем, ты должен писать — как бы ты это ни делал. Это непреложный закон.

Нил Гейман. Откуда вы берете свои идеи?
У любой профессии есть свои подводные камни. Например, от врачей хотят получить бесплатную медицинскую рекомендацию, юристов просят разъяснить правовые тонкости, гробовщикам говорят, что их работа, должно быть, очень интересна — но затем поскорее меняют тему разговора. А писателей спрашивают, откуда они берут свои идеи.
Поначалу я отделывался от таких людей быстрыми ответами: «Из клуба «Идея Месяца»», или «Из маленького магазинчика идей в Богнор-Риджис», или даже «От Пита Аткинса» (последнее может показаться непонятным и требует пояснения: Пит Аткинс — сценарист, романист и мой хороший друг, и мы как-то решили, что на такой вопрос я отвечаю, что получил свои идеи от него, а он говорит, что от меня. Тогда казалось, что в этом есть смысл).
Затем я устал от таких не очень остроумных ответов и сейчас говорю людям правду: «Я придумываю их в своей голове».
Людям не нравится этот ответ. Я не знаю, почему. Они расстроены, как будто у меня есть большой секрет, и я по своим тайным причинам не хочу его рассказывать и пытаюсь прошмыгнуть мимо.
Конечно, не хочу. Во-первых, я и сам не знаю, откуда действительно приходят идеи, что побуждает их прийти, и не исчезнут ли они в какой-то момент. Во-вторых, я сомневаюсь, что все, кто спрашивает об этом, действительно хотят прослушать трехчасовую лекцию о творческом процессе. И, наконец, в-третьих, идеи не так важны. Честно. У каждого есть идея для книги, фильма, истории или телесериала.
У любого публикующегося автора бывало такое — к нему приходят люди и говорят, что у них Есть Идея. И, парень, она Сногсшибательная. Она настолько Сногсшибательная, что они хотят, чтоб Ты за Нее Взялся. Предложение всегда одинаковое: они расскажут тебе Идею (выношенную ими с таким трудом), ты запишешь ее и превратишь в роман (что куда легче), и вы сможете поделить выручку пополам.
С такими людьми я веду себя разумно и любезно. Я искренне говорю им, что у меня слишком много идей и слишком мало времени. И желаю им всего наилучшего.
Идеи — не самое сложное. Это лишь часть чего-то большего. Куда сложнее создать правдоподобных персонажей, которые будут делать более или менее то, что ты им скажешь. А самое сложное — просто сидеть и писать одно слово за другим в попытке возвести то, что ты хочешь построить. И сделать это интересным и новым.
Но все же люди хотят знать ответ на этот вопрос. В моем случае они также хотят знать, не приходят ли идеи ко мне во сне. (Ответ: нет. Логика сна — это не логика истории. Попробуйте записать свой сон, и вы в этом убедитесь. А еще лучше расскажите кому-нибудь сон, который показался вам важным: «Окей, я был в этом доме, который также был моей старой школой, и там была няня, и она в действительности была старой ведьмой, и вот она ушла, но остался лист дерева, и я не мог взглянуть на него, и я знал, что если я прикоснусь к нему, то произойдет что-то ужасное…» — и посмотрите, как собеседник будет тупо пялиться на вас). И я не давал прямых ответов. До недавних пор.
Идеи — не самое сложное. Это лишь часть чего-то большего
Моя семилетняя дочь Холли убедила меня прийти на встречу с ее классом. Ее учительница горела энтузиазмом («Все дети недавно придумывали собственные книги, так что, возможно, вы бы могли прийти и рассказать, каково это — быть профессиональным писателем. И поделитесь небольшими историями. Они очень любят истории»), так что я пришел.
Они сидели на полу, я — на стуле, и на меня уставились пятьдесят глаз семилетних ребят. «Когда я был в вашем возрасте, меня просили ничего не выдумывать, — начал я. — Теперь мне за это платят». И в течение двадцати минут я говорил, затем они начали задавать вопросы.
И вот один из них спросил это.
«Откуда вы берете свои идеи?»
И я понял, что должен им ответить. Они еще недостаточно взрослые, чтобы найти ответ самостоятельно. И, наконец, это вполне разумный вопрос, если только тебе не задают его каждую неделю.
Вот что я им рассказал:
Идеи приходят к тебе из мечтаний. Приходят, когда тебе скучно. Они приходят к тебе все время. Единственное отличие между писателями и другими людьми — то, что мы замечаем, когда они приходят.
Идеи появляются, когда ты задаешь себе простые вопросы. Самый важный из них — это «А что, если…?»
(А что, если ты проснулся с крыльями? А что, если твоя сестра превратилась в мышь? А что, если вы все обнаружите, что ваш учитель планировал съесть одного из вас в конце семестра — но вы не знаете, кого именно?)
Другой важный вопрос — это «Если бы только…»
(Если бы только жизнь была такой же, как в голливудских мюзиклах. Если бы только я мог съежиться до размеров пуговицы. Если бы только призрак мог сделать за меня домашнюю работу).
Есть и другие: «Мне интересно…» (Мне интересно, что она делает, когда она одна…), и «Если так пойдет дальше…» (Если так пойдет дальше, телефоны будут говорить друг с другом и вытеснят посредника-человека…), или «Разве не было бы интересно, если бы…» (Разве не было бы интересно, если бы миром раньше правили коты?).
Эти вопросы, как и те, что неизбежно следуют за ними («Хорошо, если раньше миром правили коты, то почему это больше не так? И что они думают на этот счет?»), — и есть один из источников идей.
Идея не должна быть готовым сюжетом, она лишь может стать толчком к творчеству. Сюжеты часто генерируются сами собой, когда вы начинаете задавать себе вопросы, какой бы ни была стартовая точка.
Иногда идея — это человек («Есть мальчик, который хочет научиться магии»). Иногда это место («На краю времени стоит замок — единственное место, где…»). Иногда это образ («Женщина, сидящая в темной комнате, наполненной пустыми лицами»).
Зачастую новая идея заключается в соединении двух вещей, которые раньше никогда не соединялись («Если человек, которого укусил оборотень, превращается в волка, то что произойдет, если оборотень укусит золотую рыбку? А что произойдет, если оборотень укусит стул?»).
Вся литература — это процесс воображения. Что бы ты ни писал, в любом жанре и любой области твоя задача — это придумывать вещи так, чтобы они были убедительными, интересными и новыми.
Но вот у вас есть идея — которая на самом деле является всего лишь чем-то, чего нужно держаться, когда вы начинаете. Что дальше?
Потом вы пишете. Связываете одно слово с другим до тех пор, пока это не кончится, — что бы это ни было.
Иногда это не будет работать или будет работать не так, как вы предполагали. Иногда это вообще не заработает. А иногда придется выбросить все и начать заново.
Я помню, как несколько лет назад мне пришла в голову великолепная задумка для серии комиксов о Песочном человеке. Это была история о суккубе, который дарил писателям, художникам и авторам песен идеи в обмен на определенную часть их жизни. Я назвал это «Секс и фиалки».
Это казалось довольно незатейливым сюжетом, но когда я сел, чтобы написать эту историю, то обнаружил, что она сродни мелкому песку: каждый раз, когда я думал, что уже ухватил ее, она ускользала меж пальцев и исчезала.
Я начинал эту историю дважды и каждый раз доходил примерно до половины только для того, чтобы увидеть, как она умирает на экране.
«Песочный человек» временами — комикс ужасов. Но ни один из сюжетов, которые я написал до этого, не овладевал моими мыслями настолько, как эта история, которую я сейчас собираюсь оставить (вместе с дедлайном, который уже остался в прошлом). Возможно, потому что она наиболее близка к истине. Именно идеи и умение записать их на бумаге, превратить их в истории, делают меня писателем. Это значит, что мне не нужно вставать рано утром и ехать в электричке с людьми, которых я не знаю, на работу, которую я презираю.
Моя идея ада заключается в белом листе бумаге. Или пустом экране монитора. А я смотрю на него и не могу придумать ни одну вещь, достойную того, чтобы ее высказать, ни одного персонажа, в которого люди могли бы поверить, ни одну историю, которая не была бы рассказана до этого.
Смотреть на белый лист бумаги.
Вечно.
Однако я нашел выход. Я отчаялся (это еще один быстрый и правдивый ответ, которым я пользуюсь в случае вопроса «где-ты-берешь-свои-идеи». «Отчаяние». Оно находится рядом со «Скукой» и «Дедлайнами». Все эти ответы верны в какой-то степени). Я взял свой страх, соединил его с главной идеей и написал историю под названием «Каллиопа», которая, как я думаю, окончательно отвечает на вопрос, где писатели берут свои идеи. Она вошла в сборник комиксов «Страна снов». Вы можете прочесть ее, если хотите. И в какой-то момент, пока я писал эту историю, я перестал бояться того, что идеи пропадут.
Откуда я беру свои идеи?
Я придумываю их.
В своей голове.


Ольга Славникова: «Писатель — это такое чувствилище, совокупность острых реакций на мир»
Постоянный мастер Creative Writing School — Ольга Славникова, писатель, лауреат и финалист многих литературных премий, многолетний руководитель Независимой литературной премии «Дебют» и просто замечательный преподаватель. Ее последний роман «Прыжок в длину» получил премию «Книга года», вошел в короткий список литературной премии «Большая книга» и в длинные списки «Национального бестселлера» и «Ясной поляны». Ольга Славникова рассказала о необычном герое своего романа, прототипах, литературном образовании, а также о том, что вообще такое писатель.
 Герой вашей последней книги «Прыжок в длину» — человек, у которого в одночасье рушится вся жизнь. Он спасает ребёнка из-под колёс машины и становится инвалидом, лишается возможности профессионально заниматься спортом. Почему вы решили взяться за такую сложную историю?
Герой вашей последней книги «Прыжок в длину» — человек, у которого в одночасье рушится вся жизнь. Он спасает ребёнка из-под колёс машины и становится инвалидом, лишается возможности профессионально заниматься спортом. Почему вы решили взяться за такую сложную историю?
В литературных мастерских я объясняю, что героя надо сразу ставить в сложную ситуацию, тогда текст будет интересно читать. Нужно, чтобы жизнь героя переломилась в самом начале сюжета. Что касается спорта, тут своя история. Я сама занималась лыжами, была кандидатом в мастера. На одной из тренировок лыжня оказалась плохо подготовленной, я получила травму и не смогла продолжить спортивную карьеру. Спортсмен все время, все детство и юность отдаёт тренировкам и сборам — и в один момент мои труды и усилия пошли прахом, всё было кончено. Сейчас спортсменов с такой, как у меня, травмой восстанавливают, но тогда, в позднесоветскую эпоху, дефицитом было всё, в том числе медикаменты. Я ушла, и это ощущение глобальной пустоты, когда спортивная жизнь оборвалась, толком не начавшись (все главное в карьере лыжника происходит после двадцати лет), жило во мне. Я чувствовала, что это должно быть выписано в прозе. Главный герой романа Ведерников — это я и есть. Его травма ещё и в том, что он вытолкнул из-под колёс ребёнка, который не оправдал жертвы. Жизнь пацанчика не стала качественной заменой жизни спортсмена. На этом и строится весь роман.
Как вы ощущали себя, когда писали об этом?
Когда текст идёт и автор чувствует, что всё получается, — это огромная радость. Это компенсирует всё и лечит все старые раны. Единственный смысл писания прозы — получение такого вот творческого кайфа. Кроме того, литературный герой — очень специфический инструмент, благодаря которому автор понимает больше, чем без него, сам по себе. Казалось бы, писатель придумал героя, «взял из головы», но инструмент работает самостоятельно, герой оживает и «показывает» автору новые, неожиданные смыслы. За живым героем бывает очень интересно следить.
В книге очень подробно описаны и переживания Ведерникова, и его лечение. Как вы собирали материал?
Глобальное переживание провала в пустоту у меня своё. Что касается протезирования и повседневности инвалида-опорника — тут, как и для других моих романов, понадобился сбор материала. Я изучила в интернете практически все, что относилось к теме, нашла дневники инвалидов, разобралась с типами протезов. Потом общалась с мастерами-протезистами. Наблюдала, как протезы подгоняются, как человек на них встает, идет. Сначала чтение, просмотр фото и видео, потом работа в поле — все так же, как и с другими романами. Книга без этих этапов, без экскурса в области, не всякому известные, будет не очень интересна прежде всего самому автору.
Вы говорите, что это ощущение долго жило внутри вас. В какой момент вы решили писать роман об этом? Что стало толчком?
Толчком послужила история, как будто не имеющая прямого отношения к роману. Женщина усыновила ребенка, и в мальчишке скоро стали проявляться качества, не свойственные приемной матери. Что-то совсем чужое и пугающее. Женщина просто не понимала, что с этим делать. К тому же мальчишка отлично знал, что он неродной, ведь усыновили его не малышом, и вел себя агрессивно. Эта история и история спортивной травмы слились в одно: я представила, что атлет на просто потерял ноги, но спас пацанчика, который впоследствии стал практически приемным сыном инвалида. При том, что разница в возрасте между Ведерниковым и мальчиком Женечкой не так велика, чтобы отцовство было оправданно. Кстати, женщина, усыновившая ребенка, тоже не годилась по возрасту ему в матери. Вот так происходит с романами: две истории сливаются в одну, и начинается деление клеток, рост живого романного организма.
Можно сказать, что ваша книга затрагивает социальную тему. Как вы думаете, могут ли такие книги влиять на отношение к инвалидам?
Чтобы это произошло, таких книг должно быть много, а не одна и не две. Тема должна стать трендом. Но я надеюсь, что мой роман будет лонгселлером, то есть не уйдёт из культурного обихода после продажи первых тиражей. И в какой-то дальней перспективе, да, сможет повлиять на общество.
Как автору понять, что из его жизненного опыта подойдёт для книги, а что — нет?
Автор может заинтересовать читателя только тем, что интересно ему самому. Если какая-то история глубоко вас волнует, тогда это то, что вам нужно. Не мы выбираем прототипа, а прототип выбирает нас. Потому что поразившая нас ситуация и человек в ней приходят к нам из гущи жизни. Из фейсбука, из разговора за чашкой чая, даже из книги другого автора. Когда понимаешь, что автор описал ситуацию и не докрутил, а у тебя есть жизненный опыт, идеи, есть что сказать. Просто берёшь и докручиваешь, в этом нет ничего криминального. Весь Шекспир стоит на сюжетах, которые до него многократно использовались. Повторюсь, самый главный критерий — самому автору должно быть жгуче интересно.
У вас в книгах часто появляются герои с прототипами?
Не бывает героя без прототипа или без прототипов. Другое дело, как сливаются реальность и авторская фантазия. Иногда есть доминирующий прототип, и ты понимаешь, что именно с этого человека будешь писать героя. Так было в романе «2017». Там у меня сталкеры Фарид Хабибуллин, Володя Меньшиков, Рома Гусев — это всё реальные люди. Они показаны один-в-один, я ничего не смогла изменить, даже имена и фамилии в тексте настоящие. Но так может произойти только со второстепенными персонажами. Сложнее с главным героем. Там, как правило, несколько прототипов — вот как в фантастике у инопланетянина четыре-пять родителей разных полов. А ещё бывает, что автор написал книгу, сдал в издательство и только потом понял, с кого написал героя. Просто в подсознании сидел некий образ — и ожил в прозе. У меня такое было, и не раз.
Никто не приходил и не говорил: «Так это же я в твоей книге»?
Вы сейчас озвучили опасения практически всех начинающих прозаиков. Авторы боятся, что знакомые и близкие опознают себя в героях, и предпринимают неловкие попытки замаскировать сходство. Из-за этого и проза получается неловкой, как бы левой рукой написанной. Коллеги, не волнуйтесь: на самом деле люди очень редко видят себя в зеркале рассказа или романа. Скорее, примут за свое отражение героя, в генерировании которого никак не участвовали, вообще не имелись в виду. Единственное прямое опознание произошло с упомянутыми выше сталкерами из «2017». Когда книга дошла до Екатеринбурга, мне позвонил Фарид с претензией: почему, мол, я написала, что он охотно дает людям в долг, вот теперь все идут к нему занимать. Я отвечаю: «Фарид, но это ведь правда. Ты зарабатываешь нормально, деньги у тебя есть, почему не дать?» «Нет денег, — сердито отвечает Фарид. — Как только появляются, то сразу у кого-то нужда, ну, я и раздал почти все в долг, а тут книжка твоя». Еще сталкеры опасались, что я своим романом подставлю их под налоговую проверку. Но, как видно, налоговики современной литературы не читают.
Допустим, автор списал отрицательного персонажа со своего знакомого и боится, что тот узнает. Как в таких случаях поступать?
Интересы прозы превыше всего. Надо просто писать и наслаждаться процессом. А потом — будет, что будет. По счастью, люди не стремятся узнавать себя в отрицательных персонажах, по крайней мере, не делают этого публично. И еще: если персонаж негодяй, то и прототип такой же. Он и без «узнавания», сам по себе, создаст столько проблем, сколько сможет. Наладить с ним мирные отношения все равно не получится. Так что не бойтесь, пускайте материал в дело.
Вы постоянно ведете в Creative Writing School мастерские прозы. Что вы получаете от общения с начинающими авторами?
Мои ученики дают мне ценное ощущение моей продуктивности. И просто — мне с ними интересно. Здесь работает не только моя писательская ипостась. Я преподаю, потому что мне это свойственно. Видимо, эту способность я первоначально принимала за предрасположенность писать критику. И создавала статьи с советами, как хорошему автору стать еще лучше. Потом стало понятно, что для обучения нужен непосредственный контакт, и достаточно длительный, и я не столько критик, сколько литературный педагог. Мастерские, мастер-классы — то, что нужно. В «Дебюте» такая работа велась, опыт набирался немалый. И теперь в CWS очень хорошая обстановка. Приходят ученики, многие становятся людьми из моей жизни.
Можно сказать, что это заряжает вас?
На самом деле, ученик только берет у преподавателя энергию. Это абсолютное донорство, и это правильно. Тут и писательская, и преподавательская мои ипостаси работают примерно одинаково. Если у меня есть что отдать, я отдаю. Зарождается проза — не могу не писать. Появляется ученик, способный воспринять и пойти от воспринятого в рост — тут же возникает потребность отдавать, шаманить, совместно креативить. Ты постоянно наполняешься и отдаёшь, и так по кругу. А еще меня ободряет и обнадеживает то, что люди, пришедшие на мастерские, пытаются переломить судьбу. У всех есть профессии для жизни, для зарплаты, так сказать. Но они, будучи предупреждёнными о том, как трудно быть писателем, насколько не монетизирован этот труд, всё равно идут туда, куда не могут не идти. А это свидетельствует, что у людей действительно есть способности. Это говорит об их отваге, а это важнейшее качество писателя.
Какие ещё качества важны для писателя?
Писателем надо родиться, это безусловно. Но как определить, что ты писатель? Всякий начинающий автор подсознательно ждёт, что придёт кто-то авторитетный и, как старик Державин, «в гроб сходя, благословит». Этого не происходит по той простой причине, что о способностях человека судить по начальным работам бывает трудно. Например, моя собственная история. В поздние восьмидесятые вокруг журнала «Урал» сложилась группа молодых авторов. Я не казалась тогда самой способной из всех. Но со временем почему-то именно у меня пошло развитие. И я стала тем, кем стала. Важнейшее качество писателя — вера в себя и в свое будущее. Никто не выдаст лицензию на право быть в литературе. Это право нельзя получить, его можно только взять.
Когда вы начинали, был ли кто-то, кто помогал?
У меня был учитель, его звали Лев Григорьевич Румянцев. Он работал завотделом прозы в журнале «Уральский следопыт». Хороший был журнал, смелый, неординарный. В советские годы там публиковалось то, что по цензурным причинам не проходило в центральных изданиях. А Лев Григорьевич был педагог от Бога. Он возился со мной не год и не два, он действительно меня инициировал. Он учил меня «видеть воображением», правильно сосредотачиваться, не бояться железного посредника — пишущей машинки, но чувствовать сам текст. Это был уникальный человек. Многие его педагогические приемы я применяю на своих занятиях.
Как понять, писатель ты или нет?
Существует только один критерий: может ли человек жить обычную жизнь без писания текста. Если может, если не чувствует недостаточности своего существования, — значит, скорее всего, ему в литературу и не надо. Если же без процесса письма, без «дозы», и все остальное валится из рук — ну, тут уж ничего не поделаешь, способности есть, и они возьмут свое. И дальнейший путь один: надо стать очень хорошо организованным человеком. Предстоит совмещать две жизни: нормальную человеческую, где есть работа, семья, и жизнь творческую, которая тоже требует много времени и сил.
Так что же такое писатель?
С одной стороны, — это такое чувствилище, совокупность острых реакций на мир. С другой — писателю необходимо отрастить толстую шкуру, чтобы выдерживать отказы от издательств, злобные рецензии критиков, испытания второй книгой, неуспехом и успехом. То есть писатель должен быть одновременно открыт на восприятие и закрыт, защищен. А это трудно. Ну, и потом, надо любить людей. Предмет литературы — трагедия и драма. Писатель проводит героя через горести, потери, а часто и убивает в конце. И сердце автора должно облиться кровью, иначе книга не состоится. Даже отрицательный персонаж должен получить от автора долю сочувствия, а то не оживет, останется схемой. Любовь прозаика к своим героям бывает неочевидной. Недавно мы с писателем и критиком Анастасией Ермаковой вступили в переписку по поводу романа «Прыжок в длину». Анастасии хотелось, чтобы Ведерников не погибал в конце, чтобы его счастье с одноногой Кирой не было столь коротким. А действительно, отчего бы не сделать хэппи-энд? А вот не получилось. Почему — тут мы признались друг другу, что обе этого не понимаем до конца. В реальной жизни убийство — жестокость и преступление. В литературе — это акт предельной любви к персонажу, как бы парадоксально это ни звучало. Потому что автор сам становится персонажем и принимает гибель вместе с ним. Потому что так он любит всех гибнущих. В этом высокий смысл литературы.
Нужно ли писателям учиться, записываться в мастерские, на курсы? Или можно и без этого справиться?
Специальное образование для творческих людей — совершенно необходимая вещь. Сейчас есть Литературный институт, есть магистратура в ВШЭ. Но возможностей должно быть больше, и они должны быть по преимуществу бесплатными. Мой курс в CWS — это не теория, это практика, во многом штучная, индивидуальная работа. Но я вижу, что моим студентам-технарям очень бы не помешала общая филологическая база. Можно и самостоятельно стремиться к начитанности, но база дает инструментарий, полноту охвата, навигацию. Кроме того, писатель по роду занятий должен учиться всю жизнь. И не только стилистике русского языка. Проза требует многих знаний из самых разных областей. Предположим, ваш персонаж — летчик, командир гражданского воздушного судна. И много вы понапишете, если не вникнете в технологии, в повседневность профессии? Если не проводить постоянно писательских исследований — рискуете остаться в пределах сугубого быта. Там тоже, конечно, есть о чем писать, но — заскучаете, это наверняка.
Насколько для писателя важны премии, конкурсы?
Литературная премия и любой подобный проект — это информационный повод. К сожалению, сам по себе выход книги — никакой не инфоповод и вообще не событие. А премия создаёт вокруг книги и автора некий внешний сюжет. И награждённый автор чувствует себя более уверенным. Но это и большое искушение, потому что, когда начинается премиальный процесс, автор в него эмоционально вовлекается, засоряет свое сознание, утрачивает свободу. Ему рисуются праздничные картинки награждения, а при самом тяжелом анамнезе он начинает мысленно тратить деньги, которые может получить как лауреат. Вот если бы научиться не вовлекаться, не считать бесконечно шансы… Но это мало кто может, разве что перекормленный наградами любимчик различных жюри. Тяжелее всего «темной лошадке» — малоизвестному автору, включенному в шорт-лист. Но через все это надо проходить, так или иначе. Потому что иного пути к известности не существует.
Вы долгие годы возглавляли «Дебют», главную премию для молодых авторов. Часто встречались вам стоящие работы?
Как правило, восемьдесят процентов конкурсного потока сразу шло в отсев. Но и того, что оставалось в ротации, было удивительно много. Попадались работы просто блестящие и профессионально сделанные. Больше было текстов сырых, но с проблесками дарования. Мы с молодыми авторами работали, насколько позволяли наши форматы, вели их, видели успехи, рост. Опыт «Дебюта» показал вот что: одаренных авторов у нас гораздо больше, чем может воспринять российский книжный рынок и то информационное пространство, которое еще остается за литературой. Иными словами: четверо должно кануть, чтобы пятому достался хоть какой-нибудь ресурс.
Как изменить это?
Единственный большой игрок сейчас на этом поле — государство. Оно должно проводить вменяемую политику в области литературы. По большому счету, книгоиздание не может быть чистым бизнесом. Нужна продуманная система грантов, направляемая не только в издательства, но и непосредственно авторам, чтобы у них была элементарная возможность написать роман, не беспокоясь о пропитании и коммуналке. Следует поддерживать небольшие издательства, выпускающие «художку». Надо расширять, а не прореживать списки литературных премий. Где сегодня «Дебют»? Что ожидает «Русский Букер»? Понятно, что денег нет, а вы держитесь. Держимся. Вот, мои мастерские скоро начнутся. Поработаем продуктивно.

Лиза Лосева. Черный чемоданчик Егора Лисицы
У выпускницы мастерской прозы Ольги Славниковой Лизы Лосевой в издательстве «Феникс» вышла книга под названием «Черный чемоданчик Егора Лисицы». Автор рассказала нам о своей работе.
О чем ваша книга и как она создавалась?
Это ретро-детектив. Художественный текст на документальном материале. Юг России, 20-е годы XX века, пожар Гражданской войны. На Юге окончательно власть большевиков установилась только весной 1920 года. Молодой судебный врач Егор Лисица мечтает раскрывать преступления при помощи новой науки — криминалистики. Неожиданно, Лисица оказывается втянут в стремительный водоворот событий, где в череде жестоких убийств смешались шпионаж и огромные деньги.
Текст написан в форме дневника. Дневника врача — главного героя. У героя есть реальный прототип, даже несколько. Прототипы есть и у некоторых второстепенных персонажей — это семьи Ростова и Нахичевани. Также большая часть географии книги абсолютно реальна. Над текстом я работала около трех лет. Собирала материалы в ведомственных и городских архивах. Вела переписку с семьями врачей, которые оказались за границей после событий 1917 года. Собирала личные письма, архивы ростовских и нахичеванских семей.
Почему вы выбрали жанр детектива, чем он привлекателен для вас как для автора и для вашего читателя?
Лет в 11 я взяла в библиотеке первый детектив, соврала, что для мамы. Это была библиотека санатория, и детективов там было множество. Я его прочла, почти ничего не поняла, слишком много в нем было взрослой жизни, но жанр полюбила.
В случае с моим текстом, была идея объединить исторический роман и жанр детектива. Как журналисту, мне было интересно работать с большим объемом информации, историческими документами. Как читателю, был интересен жанр детектива. И они естественным образом для меня объединились. Несмотря на то, что это ретро-детектив, его события происходят в эпоху не только социальных, но и технических революций. Рождались новые идеи, новый язык. Поэтому и язык книги далек от традиционного «ретро». Чтобы найти верное для моей истории звучание, я ориентировалась на тексты Мариенгофа, дневники и письма Булгаковых. В то же время это жанр. Жанр, который считают развлекательным. Поэтому нужно было не терять динамики рассказа и сюжета.
В сюжете книги есть определенные совпадения с сегодняшним миром. Расскажите об этом.
В тексте совпадения просто пугающие. Начиная с даты — это 20-е годы, как и сегодня, с поправкой на век. До буквальных совпадений. Мои герои оказались в ситуации, когда неизвестно, что ждет на улице завтра. В городе введен комендантский час. Да и днем народу на улицах немного. Их пугают наступлением «нового мира», который и страшит, и манит. А в газетах публикуют самые безумные слухи. Ну и мой герой — врач. А врачи и сегодня главные герои, так вышло.
Помогли ли созданию книги занятия у Ольги Славниковой?
Занятия не просто помогли. Вряд ли я бы закончила текст, если бы не они. Тема сложная. Непросто ее уложить в рамки жанра, без совета или даже взгляда такого тонкого автора, профессионала слова не обойтись. Системная работа дает постоянный стимул писать, не бросить начатое. Помимо этого, работа в компании в мастерских снимает много страхов. Наша группа у Ольги Александровны — это действительно уже группа друзей, мы общаемся и сейчас, их поддержка очень важна. Они точно знают каково приходится начинающим авторам.

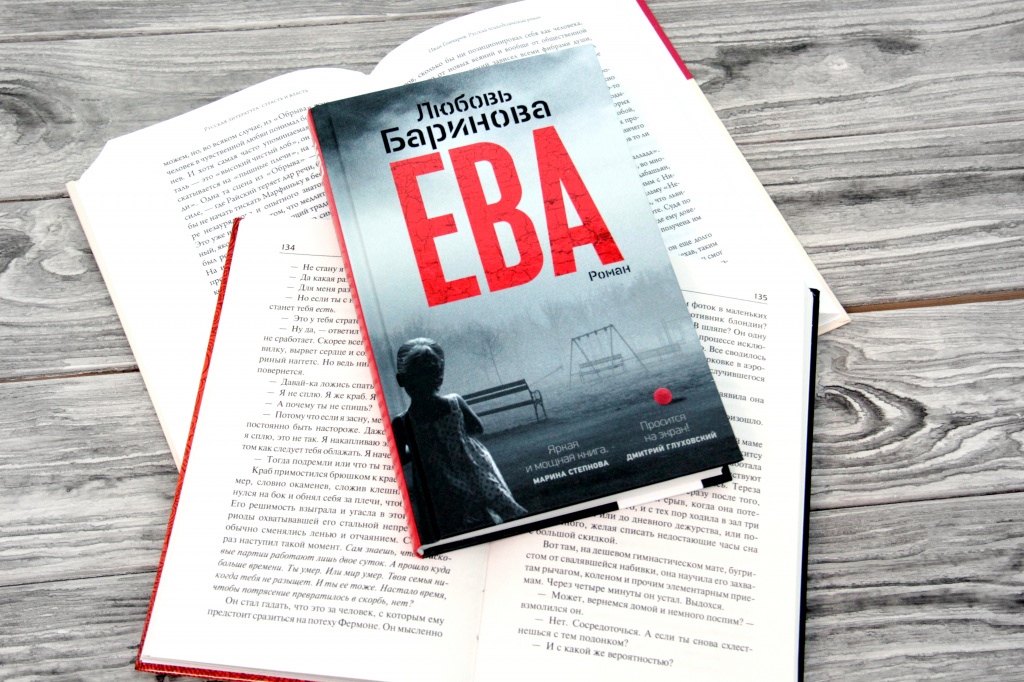
Любовь Баринова. Ева
В редакции Елены Шубиной вышел роман «Ева» Любови Бариновой, выпускницы очной мастерской Марины Степновой в CWS. Автор рассказала нам, как работала над книгой, где писателю брать поддержку и страшно ли читать отзывы на свое произведение.
Расскажите, о чем ваш роман и как он создавался.
«Ева» — роман о человеке, которому приходится делать выбор в неоднозначных этических ситуациях. Когда сестру главного героя Еву убивают, а убийцам удается избежать наказания, он решает сам восстановить справедливость. Но на пути его мести встает трехлетняя дочка убийц… Я писала роман два года. Начала его, когда училась в CWS, на курсе Марины Степновой.
Кто ваш читатель, как сами его видите?
Думаю, книга может увлечь читателей, которых интересует психологическая проза, тех, кто не делит людей на хороших и плохих, тех, кто понимает, что ради любви каждый может оказаться по ту сторону добра и зла. Последние слова принадлежат Ницше, это один из эпиграфов к роману. Кроме того, смею надеяться, роман может понравиться тем, кто любит хороший русский язык.
С какими трудностями вы столкнулись при написании книги? Были ли моменты, когда хотелось все бросить?
Моментов, когда хотелось бросить, у меня не было. История захватила меня саму, герои полюбились, мне нравилось проживать с ними их судьбы. Некоторые трудности вызвала структура романа, но, когда я поняла, как можно выстроить прошлое и настоящее, стало проще. Самым трудным для меня этапом было редактирование. Когда свежим взглядом пробегаешь первый черновик и понимаешь, сколько нужно чистить, обрезать, подгонять — немного грустишь, да. Первый, второй, третий черновик. В этот момент главное — нырнуть в текст, как в холодную воду, работать ежедневно, без перерывов. Иначе в холодную воду придется нырять несколько раз.
Кто вас поддерживал и вообще какого рода поддержка, на ваш взгляд, нужна писателю?
В первую очередь я благодарна за поддержку Марине Степновой — моему руководителю в романной группе. Марина, кроме того, что прекрасный писатель и лучший сейчас, на мой взгляд, стилист, она еще и очень щедрый преподаватель. Щедрый во всех смыслах — и на знания, на время, которое она уделяет ученикам, и на какую-то безусловную веру в тебя. Также на курсах в CWS я познакомилась с замечательными людьми, с некоторыми подружилась. Мы продолжаем общаться, обсуждать тексты, верить друг в друга. Это очень мощная поддержка, я безмерно благодарна своим друзьям за это. Конечно, писателю поддержка необходима. Волшебный эликсир дружеской похвалы и честной объективной критики очень помогает в работе над текстом.
Есть ли прототипы у ваших героев?
Реальных прототипов у героев «Евы» нет. Но, конечно, какие-то детали характера или внешности — результат моих неосознанных наблюдений над окружающими людьми, просмотра фотографий в общедоступных базах, фильмов, картин в музеях. Я не чувствую потребности обращаться к реальным людям или сюжетам из жизни, но ничего не имею против этого. Когда я читаю книгу, мне не важно, как появился у автора герой, мне важен сам герой, сама история. Другое дело, что писатель, который явно использует прототипы, может столкнуться с непредсказуемой реакцией этих прототипов, когда книга выйдет. Тогда, наверное, надо заранее подготовиться к этому.
Что почувствовали, когда узнали что ваш роман выходит в лучшем, пожалуй, российском издательстве прозы?
Это самый легкий вопрос. Радость, конечно! Большую радость.
Уже есть реакция публики и критиков на вашу книгу. Как писателю не бояться отзывов и рецензий?
Да, реакция уже есть. На Livelib, у некоторых блогеров, книга входила в списки ожидаемых новинок. Есть хорошие, есть очень хорошие отзывы, есть предельно негативные, при этом очень эмоциональные. Конечно, отрицательные отзывы ранят, а положительные радуют. Но, сейчас, когда прошло уже больше месяца после выхода книги, я реагирую более или менее спокойно. Мне нравится, что «Ева» задевает, не оставляет равнодушным. Я рада тому, что диапазон шкалы отзывов предельно широкий. Если бы все отзывы были негативными, впору было бы задуматься над собственной состоятельностью, как и в случае, если бы все были положительными. А так получилось, что книга живая. Как не бояться — не знаю, я не боюсь. Тут скорее вопрос — как относиться к критике. Есть писатели, которые не читают критику. Я читаю и нахожу много полезного, есть очень дельные замечания, с которыми я согласна и постараюсь учесть в следующей работе.
Какой совет можете дать писателям, которые работают над свои первым романом и им порою кажется, что ничего никогда не получится?
Получится или нет, вы сможете узнать только, когда допишите, поэтому — пишите!


Мастерская «Литературное мастерство»
Осенью 2019 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую литературного мастерства, которую проводят в CWS молодые писатели, выпускники магистерской программы «Литературное мастерство» НИУ ВШЭ. Представляем работы стипендиатов.
Конкурсное задание
Есть такое поверье, что три самых сложных задачи, с которыми может столкнуться писатель: постельная сцена, эпизод из спортивного матча и прием пищи. Решите одну из них (до 2 000 зн.)
* * *
Вера Русских. Антисекс
Наш киноведческий факультет я всегда считала сборищем аутсайдеров. Ну а как там, скажите на милость, может себя чувствовать человек, слушающий лекции про Антониони и Висконти, пока в соседней аудитории сидят десяток таких вот Антониони и Вискотни. Люди, которым предстояло в жизни делать реальное дело. Собирать овации, переживать провалы, бухать из-за творческого кризиса и отсутствия вдохновения. А нам — лузерам — всего-навсего про это писать и быть свидетелями чужих триумфов. Я понятия не имела, зачем это все было нужно девочкам из моей группы. Кажется, кто-то из них всерьез хотел возродить в России институт кинокритики. Мои же цели были куда более скромными — закрутить роман с настоящим режиссером. Неамбициозно, зато честно. Просто меня со школы тянуло к творческим парням. Даже в седьмом классе, пока все сохли по накачанному тупому физкультурнику, двадцатидвухлетнему Игорю Дмитриевичу, мне нравились всякие фрики, делавшие чудовищно несмешной стендап.
Короче говоря, на попойку по случаю окончания третьего курса я пришла со вполне определенными намерениями. Перед ней — попойкой — был смотр экзаменационных работ с режиссерского факультета и защита наших рецензий на них. То ли хорошая погода и весна сделали свое дело, то ли народ просто расстарался, но почему-то обошлось без двоек и пересдач. Так что все были пьяненькие и счастливые.
Я писала рецензию на фильм «Однажды» Петра Вереженского. Вообще-то, его настоящая фамилия была Вережко. Но режиссеру с такой ходить, ясное дело, негоже. И он стал Вереженским. Говорили, что даже паспорт поменял. Фильм был, кстати, неплох. Негустой на события, с полным отсутствием морализаторств, в меру умными диалогами и простым сюжетом. Там мальчик встречает девочку, и они всю летнюю ночь беззаботно гуляют — заходят в бары, говорят о высокопарной ерунде, крадут ананас из палатки, целуются. В конце — целомудренная сцена секса в парке, которую можно показать даже пятикласснику. В общем, талантливо и с претензией — мне так казалось. Я на первых же титрах придумала, что завершу рецензию фразой: «Этот фильм — как кусок свежего зеленого яблока и дуновение теплого ветра в лицо».
— Твой фильм — как кусок свежего зеленого яблока и дуновение теплого ветра в лицо, — сказала я, садясь рядом.
— А почему зеленого?
— Потому что красное — это приторно. А мне из твоего фильма ясно, что после этой ночи они по своим делам разойдутся.
— Ну да, так и думал вообще. А почему ты мой фильм для рецензии выбрала?
— Честно?
— Честно.
— Потому что ты красивый.
— Понятно.
— Да я просто со школы высоких люблю.
— Ага, понятно. А я наоборот низких.
— Миниатюрных, ты хотел сказать.
— Ну да. Вам, киноведам, виднее как слова подбирать.
— Ага. А знаешь, во мне росту сто пятьдесят пять сантиметров.
— Да?
— Да.
— Ну, может, это тогда? Того?
— Может и это, да.
— Ну пойдем.
В такси мы даже не целовались. Возможно, Петру это казалось слишком изъезженным киношным штампом. В лифте, кстати, тоже. Да и вообще это все мало походило на страсть. Уже на пороге я начала думать: чего приехала вообще?
В квартире было чисто, но бардак. Это лучше, чем грязно и когда все вещи на местах. А вот пахло почему-то ничем.
Сели на диван. Минут пятнадцать молча пили какой-то противный портвейн.
— У тебя там коробка стоит. «Антисекс». Зачем?
— А. Да это кот у меня. Совсем псих по этому делу. Достал орать.
Мне стало ясно, что кот Петра был более чувственной натурой, чем его хозяин. Неясно оставалось, почему в нас уже две бутылки вина, я распустила волосы и вообще всю себя, а мы так и сидим.
— Слушай!
Сердце забилось.
— Давай это, что ли…
Ну наконец-то!
— Посмотрим ченить?
Понятно. Из этих. Извращенец. Сейчас покажет мне свою коллекцию порнхаба.
— Ну вот из моего чего-то, например. Хотя… на хрен это надо. Давай спать лучше.
В целом я уже ничему не удивлялась. На всякий случай разделась сексуальнее обычного и легла в кровать. Петр вырубился секунды за три. Я же долго ворочалась, потом резко картинно поднялась и обхватила себя руками за колени, привалилась к стене.
— Ты че?
— Ну, странно это.
— Че?
— Я, честно говоря, думала, что мы с тобой по-человечески сексом займемся и я уеду, когда мосты сведут. А потом буду весь день переживать, напишешь ты мне или нет. Как обычно, в общем. Как у людей.
— А. Да ты знаешь. Мне иногда кажется, что у меня ранняя импотенция на почве умственного перенапряжения.
— Ой.
— Ну да. Не идет у меня с этим, и все.
— Может, ты просто фетишист какой?
— Какой?
— Да не знаю. Разное бывает. Животные там, старухи, публичные пространства.
— Ну, я не пробовал. Хотя не. Вот курилку на пятом этаже знаешь? Там было дело однажды. То есть, нельзя сказать, что было. Она мне еще тогда крикнула что-то вроде: «У тебя не член, а мертвая грустная гусеница».
— Обидно.
— Не, мне на такое все равно. Обидно мне, когда про кино мое плохо говорят.
— А может тебе бабы страшные попадались?
— Ой, да я тебя умоляю. Вы все одно и тоже говорите.
— Ну и ты нахал.
— Спать давай. Я с этим дипломом так затрахался, понимаешь?
Я, ясное дело, не понимала. Но отстала. Петр засопел, мне не спалось, а мостов было ждать еще минут тридцать. Лежу голая, гляжу в потолок. В ванной истошно орет кот, которому, видимо, не помогает «Антисекс». Думаю — а может, мне просто надо лечиться от нимфомании? Хотя с моим послужным списком в четыре человека…
Внезапно Петр открыл глаза, беззвучно снял футболку, резко меня обнял и интенсивно облапал — и почему русские мужики считают это прелюдией? Спустя семь минут унизительной неритмичной возни произнес: «Ой, как же было хорошо» — и снова уснул.
Ну хоть кому-то сегодня было хорошо, подумала я. Поднялась с кровати, оделась и вышла на улицу. Закурила под козырьком подъезда и пошла домой с одной лишь мыслью: «Фильмы он снимает куда лучше».
* * *
Елена Данилова. Без названия
Меня зовут Лёлик, и мне восемь лет.
Когда мама представляет меня своим подругам, она обычно говорит: «Это Леля. Она у нас круглая отличница».
У папы на случай гостей припасён другой вариант. «Это Леля. Она у нас ест лук как яблоки!» — гордо говорит он.
Поедание лука — это моя суперспособность. Как катание на велосипеде без рук или стояние на голове. Вот вырасту и стану огнеглотательницей в цирке!
Дамы и господа! На арене цирка Алена — неистовая поедательница лука!
Как и все порядочные циркачи, перед выступлением я тренируюсь. Папа нарезает большую тарелку лука, заправляет солью с маслом. Кухня заполняется ароматом, который отпугивает от нас всех домашних. А нам того и надо! Мы с папой поддеваем вилкой кусочки из общей тарелки и отправляем их в рот с сочным хрустом. Кольца лука напоминают мне прошлогоднюю мамину химическую завивку, которая за один поход к парикмахеру сделала маму выше на целых три сантиметра!
На физкультуре в школе я всегда стою последняя. Завивка стала бы хорошим решением, но мама говорит, что маленьким девочкам ее не делают, потому что если химический раствор впитается в нежную детскую кожу, от этого можно поглупеть. А поглупеть сейчас мне никак нельзя, иначе некому будет отстаивать честь школы на городской олимпиаде по природоведению в конце года. Не чемпионат по поеданию лука, конечно, но тоже серьезное мероприятие.
Когда тарелка оказывается наполовину пуста, а сладковато-свежая луковая горечь становится больше похожа на лекарства, приходит время для хлеба. Он лежит на столе и дожидается своей очереди. Хрустящий снаружи и мягкий внутри. Папа говорит, что этот хлеб уже успел проделать путь от завода до рынка, а потом из маминой сумки прямиком к нам домой, но все равно остался тёплым. Наверное, на заводе хлеб такой горячий, что рабочим приходится работать очень быстро, чтобы не обжечься. Потом очень быстрые водители везут хлеб на рынок, а очень быстрые продавцы продают его очень быстрым мамам, а мамы быстро несут хлеб по своим домам. «Как хорошо, что моя мама такая быстрая!» — улыбаюсь я своему кусочку хлеба и заедаю его луком.
* * *
Александр Чернавский. Stuff.
— Поздравляю, сегодня к нам уже из «Яндекса» приходили.
— Счас отзывы гляну…
— Ринат еще рассказывал, как писал — «чаек оставляйте, и нормально все будет».
— Это ноябрь… Надо хотя бы с января что-нибудь.
— Три с половиной рубля, кстати, ты мне еще должен.
— Сегодня какое число?
— Девятнадцатое.
— У нас вот «цены выше среднего», Дэн.
— О, бля, я не знал.
— Это Влад, скорее всего.
— Может, это Саня был?
— На самом деле на Саню это не похоже.
— А Саня, который военный, мог?
— Который в очереди к нам стоял?
— Точно, он мог. Кстати, вкусно тогда было.
— А может этот Женек, лысый?
— Ну, хрен знает…
— А вот эти ребра больше не бери.
— Да там еще осталось!
— Хуюшки. Вчера банкет же был.
— Точно. Как все прошло?
— Да нормально. Бифштексы и люля все ушли.
— А кого готовили?
— Этого… Туриста. Роберт, кажется.
— С татуировками?
— Ага.
— У него же все тело забито этими автографами, которые ему ставили, а он потом забивал.
— Да… Проблема была, вообще-то.
— Я считаю, с собой ты можешь делать что хочешь, если никому это не мешает.
— Он не русский?
— Родился, вроде, в Нью-Джерси.
— Да как наши все. Из идейных.
— А у него что?
— Развод, депрессия, вот это все…
— Ну, без проблем все прошло?
— Так-то да… Но у него живого места не было, даже на голове…
— Череп тоже забит?
— Да сам посмотри, что у него было на голове! Я сфотал на память.
— И так везде?
— Я и говорю. И как такое подавать?
— Да, тут только на повара и надеяться. Он небось все соусом залил. Я сегодня с утра смотрел — литра два ушло, не меньше.
— А на рынок ты теперь скоро?
— Как пойдет, посмотрим. Осталось еще слегка.
— А как гости, все понравилось?
— В конце, говорят, слегка остыло. Одна, такая, говорила: «На кухне сегодня недожар». Но в целом пойдет, чаевые были норм.
— А сегодня что?
— Как обычно, и четвертый зал под резерв, человек восемь будет точно. Надеюсь, всем хватит, а то девочка только завтра будет.
— Да все заебись, я проверял с утра, чего волноваться-то?
— Да никто вроде не волнуется. Даже на суп должно хватить.
— А что у нас с костями, кстати?
— Да как обычно. Они сами теперь приезжают по графику и забирают.
— Много там?
— Да не, он сам был сантиметров сто семьдесят, не больше.
— Ну, гуд…
— А чего сегодня у нас на обед?
— Холодец. По случаю Володя сделал нам.
— Чо-то он как-то уже заветрился.
— Ну он и полежал полдня, типа.
— Ну вот, смотри…
— Да, уже не очень. Но ничего, зато его и давно не было.
— Вкусняшка.
— А то.
— Ну, я курить.
— Ладно, я во второй, проверю, как там…
* * *
Ирина Костарева. Без названия
Удел критика — одиночество, удел гастрономического критика — ужины в одиночестве. Я сижу в столовой с видом на террасу: там, на зеленой траве, — опрокинутые белые стулья, которые ждут тепла. На стене напротив — большое, старое, потемневшее по краям зеркало в тяжелой раме. Стоит мне залюбоваться, как за длинный стол перед ним начинает рассаживаться компания. Одна из них, девушка лет двадцати, садится спиной ко мне, но я хорошо вижу ее отражение в зеркале. Есть в ней что-то, что притягивает взгляд. Когда она говорит, то выставляет узенький подбородочек вперед, щурит глазки и говорит так, будто щебечет птица. Я без труда мог бы увлечься ею. На тарелке передо мной — тонкие красные ломтики говядины. Они ровнехонькие, такие аккуратные, что я не устаю поражаться мастерству повара. А еще у мяса цвета ее губ — коричневый, подкрашенный медно-красным, — и впиваясь в него зубами я испытываю странное наслаждение. Мясо мягкое и сочное — не помню, когда ел такое (мысленно я делаю реверанс заведению и записываю в уме «плюс один»), — молодое, нежное и практически не кровит.
Иногда мне мерещится, что она смотрит в мою сторону, и я прячу взгляд, развозя по тарелке серый перечный соус. У нее такие же глаза — сумеречные, а в них — веселые огоньки, подожженные вином. У соуса нужная густота, с внедрениями крохотных черных перчинок. Я смотрю в соусницу, как в омут, погружаю в разлитую по тарелке лужицу кусочек говядины и смакую нежное мясо.
Официант меняет тарелки, и теперь передо мной два ломика молодого ягненка на кости, вокруг — размазанный по краям тарелки соус цвета спелого апельсина. Сопровождающий ягненка гарнир складывается на моей тарелке в композицию. Длинные пальцы моркови оттеняет густо-зеленый комок шпинатных листьев. Желтая полента — в тон тонкому картофельному кружку. Все такое желтое и радостное, аж противно. Я режу морковь на кусочки, смотрю исподтишка: пару раз я отчетливо видел, как люди за соседним столом, подглядывая за мной, шептались. Страшно хочется пить. Я делаю большой глоток, облизываю сухие губы и подзываю официанта. Вино льется по тонкой стенке бокала, разбивается на донышке брызгами, как волна — о скалы.

Мастерская «Фейсбука недостаточно»
В августе 2019 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую прозы «Фейсбука недостаточно: как классики помогают писать о сегодня» молодых писателей и выпускников магистерской программы «Литературное мастерство» НИУ ВШЭ Сергея Лебеденко и Александры Сорокиной. Представляем работы стипендиатов.
Конкурсное задание
Выполните одно задание на выбор:
- Напишите небольшой текст (до 1 тыс. знаков), который начинался бы с фразы «Мы купили летающий дом».
- Вы едете (вверх или вниз) по эскалатору в торговом центре. Внезапно включается сирена. Что произойдет дальше? Постарайтесь уложиться в 1 тыс. знаков.
* * *
Иннокентий Ким
Мы купили летающий дом. У него были большие окна, паркетный пол и светлые стены. При взлете он немного вибрировал, отчего чайный сервиз в серванте начинал дребезжать. Мама в такие моменты хваталась за поручни — у нее было слишком хорошее зрение и слишком слабые нервы, для того чтобы с равнодушием наблюдать за стремительно уменьшающейся землей. Я же и Ника, моя младшая сестра, вооружившись биноклями, наоборот, с радостью приветствовали каждый взлет. Мы выбегали на балкон и играли в придуманную нами же игру «Найди первым». Искали детский сад, поликлинику, старый дуб, наш старый дом. «Слишком малы они для неба», — говорил отец, когда мы привлекали его к поискам. Мама, заслышав его слова, добавляла: «И мы тоже». Ника смеялась. Когда тебе пять, значимость мира не определяется его размерами.
Дом, взмыв в небо, зависает над сосновой чащей. Я, отец и мама стоим на балконе. В руках у отца бинокль Ники. У меня — лента из ее волос. Мама раскрывает ладони, и наша маленькая Ника блестящими песчинками разлетается по небу.
Люди никогда не малы для неба.
* * *
Владимир Набатов
— Мы купили летающий до-о-ом! — кричали они, бегая под деревом. Летающим домом были две прибитые доски на верхних ветвях ясеня, между которыми были напиханы прутья и ворох желтых и красных листьев. Дом еще не был достроен — было две стены и часть крыши.
— А почему дом — летающий? — осторожно спросила я.
Один из них, худой и ушастый, подлетел ко мне и проорал почти в лицо:
— Девчонки не играют!
— …если не станут мальчишками, — перебил его самый толстый. Он был в коричневом пальто, сидел на нижних ветвях дерева. Худой сразу подхватил идею:
— Тебе нужно пройти испытание!
— Какое? — медленно спросила я. Получилось немного с вызовом, при этом все мои разъехались, и я уже неделю пухла с бабушкой на даче.
— Дать обоссать палец, — ляпнул худой. По-моему, он был самым маленьким из них.
— Остричь волосы наголо, — сказал третий, сгребавший верхний слой листьев. На нем была красная лыжная шапка.
— Убить лягушку, — сказал толстый и добавил: — Нарочно… При всех…
— Пусть выбирает, — сказал тот, что в шапке.
Повисло молчание. Волосы у меня, конечно, жидкие и рыжие, но ими можно огромный лоб прикрыть… Идти искать бедную лягушку… чтоб убить? Наконец я решилась:
— А кто-то из вас делал все это?
Повисла тишина… Может, не стоило так. Выходило «кто не делал, тот не мужик». Могли наврать, перестать общаться.
— Ну… я убил лягушку, — сказал толстый.
— Это правда? — спросил тот, что в шапке.
— Нечаянно…
— Ладно… залезай, — сказал толстый и добавил: — Будешь за маму.
* * *
Валентина Стефаненко
Мы купили летающий дом. Она была без очков, поэтому не могла прочесть подзаголовок. Кто купил дом, почему летающий? Она держала газету в одной руке и протягивала ее прохожим. На другой повисла стопка тех, что еще не разошлись. Всего два часа, и газеты разбегутся по рукам. Она знала, что одни берут ее для кошачьего туалета, другим удобно делать из газеты комочки и сушить обувь, кто-то, может быть, и читает, но в последнее время все меньше людей интересуется тем, что пишут другие. Она заметила это год назад, когда вместо двух часов простояла три, чтобы раздать ту же стопку. Тогда она сделала новую прическу, просто чтобы что-то изменить. А сегодня прочитала, что кто-то купил летающий дом. Вот новость! Продавщица бросила взгляд на мимо проходящего старика и повернула газету так, чтобы все встречные видели заголовок: «Мы купили летающий дом». А теперь возьмите бесплатную газету. Узнайте, кто купил и зачем. А я не могу, я на рабочем месте.
* * *
Алена Леденева
Когда Яхве ступил на движущуюся лестницу, ему показалось, что у него кружится голова. Шел десятый час, проведенный в новом торговом центре «Хэппи Молл» — настоящие извилистые улочки, вымощенные нежно-бежевой плиткой, где из каждого дома-бутика старательно улыбались одинаково одетые, стройные, радушные хозяйки, и это, конечно, было замечательно. Неискренняя радость, но зато сколько старания и порядка, совсем не то, что большой этаж для еды. Что такое многозальный кинокомплекс с технологией «Ультрамакс», Яхве узнать не успел, но его опыта, кажется, было достаточно, чтобы не ожидать чуда и завершить зачет прямо сейчас.
Он задумчиво кивнул, и идущий рядом ученик с облегчением согласился закончить осмотр. Запрокинув кучерявую голову, осмотрел потолки, с легким вздохом скользнул глазами по ряду датчиков, и через мгновение холл наполнился резким тягучим звуком сирены. Раз в несколько тревожных витков звук прерывался подчеркнуто спокойным женским голосом, убедительно просившим всех посетителей покинуть помещение через ближайший эвакуационный выход.
Ученик проследил умиленным взглядом за встревоженной женщиной, подхватившей на руки своего пухлого и неторопливого карапуза, который, кстати, вообще не придал значения всеобщей суете, потому что был слишком сосредоточен на хмуром разглядывании своей ладошки.
Яхве проводил взглядом молодую пару — девушка стремительно сбежала по эскалатору налегке, парень еле успевал за ней, заворачивая по пути надкусанные чизбургеры в хрустящий коричневый пакет.
— Пышные бутерброды! Припоминаю! — с энтузиазмом сказал Яхве.
— Да-да, бургеры, — поправил ученик.
— Такая гадость! — мечтательно улыбнулся Яхве.
Через пять минут они остались вдвоем на опустевшем этаже: только звук их шагов и блестящая, отполированная тишина от супермаркета и до батутного центра на противоположной стороне молла.
— Такой крепкий дом, и все лишь для обладания бессмысленным, — наконец сказал Яхве, — и вкушения пищи, не столь насыщающей, сколь изнуряющей тело.
— Ну почему же, — тут же перебил ученик. — Им здесь спокойно и радостно. Это про чувство безопасности, про возможность отвлечься…
— Вот именно — отвлечься. А я бы не сказал, что твои создания уж слишком озадачены.
— Вы несправедливы к ним, Яхве, — расстроился ученик. — Их жизнь полна сомнений и обид, потому я считаю положительным сдвигом их умение создавать самим себе источники радости и спокойствия, пускай такие примитивные на этом этапе, но эта самостоятельность…
— Дорогой мой, — усмехнулся Яхве. — Это не их, а твоя жизнь полна сомнений и обид. Почему мы каждый раз приходим к одному и тому же? «По образу и подобию». Мы неслучайно оставляем этот критерий в оценке всех курсовых и дипломных. Поэтому пока ты не разберешься в себе, твой проект тоже не станет полноценным и осознанным.
— Вы меня простите, — нахмурился ученик. — Но у меня одна из самых сильных теоретических баз на курсе. Мою физику отмечают все без исключения, а на прошлом конкурсе биосфер…
— Продуманный фундамент, кажется, не отменяет твою обязанность продолжать кропотливо трудиться. И пока в твоей работе будут продолжать появляться такие нелепые ошибки…
В этот момент Яхве поднял с пола пластиковую соломинку для напитков и вопросительно поднял брови. Ученик всплеснул руками, а после ударил себя ладонью по лбу — на курсе он славился экстравагантными движениями, которые сделал своей фишкой. Старшекурсники поговаривали, что он первым придумал жесты — и даже скидывал свою базу передачи эмоций движениями паре приятелей.
— Ну что? Кажется, кто-то в очередной раз поленился, а после понадеялся на авось?
— Забыл, просто забыл! Я помню, мы уже говорили про этот материал. Пока все под контролем, не сомневайтесь. Это пара правок — займет буквально пятьдесят земных лет. Смогу показать уже на днях.
— Лучше готовься к сессии, мой хороший. Я своего решения не поменяю — пока что это тройка. Неопрятно, грубо, бесструктурно. И я понятия не имею, что у тебя там по физике, биологии и химии — тут пусть оценивают коллеги. И чисто от меня — подумай-ка вернуться в искусство. У нас в этом году олимпиада, а ты уже месяцами не касался этой темы. А ведь тут были очень хорошо звучащие вещи…
Ученик молча кивал, уже давно углубившись в свои неспокойные мысли. Напоследок Яхве попросил показать, где здесь можно налить черной сладкой воды — сказал, что такого дрянного пойла не пил с прошлогодней защиты, но там в дипломе такая была литосфера, прости деканат, что уже в первое лето после выпуска все развалилось, а жаль, очень интересная работа, и существа были тихие и приятные.
Он так и растворился в воздухе — тряся картонным стаканчиком и ругая ученика за нечистоплотность.
Ученик остался один. Он прошелся по зеркально-гладкому полу, вглядываясь в свое вымышленное обличие в отражении витрин. Ничего они, конечно же, не понимают в красоте. Ничего они, разумеется, не чувствуют и не знают, кроме своих регламентов, инструкций и учебников. И оценки, оценки свои могут отправить прямо в небытие первым делом. Жизнь вообще не про оценки. И люди. И моя Земля.
А пластик, ну да.
С пластиком надо что-то делать, конечно.

Мастерская литературы young adult
Осенью 2019 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую литературы young adult. Представляем работы стипендиатов.
Конкурсное задание
Написать задумку (или синопсис) рассказа для подростков в любом жанре (реализм, фантастика, фэнтези, мистика). Будущий рассказ должен раскрывать одну из следующих тем:
- первая любовь;
- дружба и предательство;
- школьная травля (буллинг);
- непонимание с родителями;
- принятие себя и своего тела;
- суицид;
- зависимость;
- ЛГБТ.
Объем — не больше 3000 знаков с пробелами.
* * *
Маргарита Тимофеенко
Южный городок, душный и пыльный. Ноги всегда в комариных укусах, кожа липкая, как лента для мух, что болтается перед носом в тесной кабинке управления колесом обозрения. Летом перед выпускным классом Варя — черные кудри, очки в дешевой оправе и лишний, по мнению матери, вес — подрабатывает в парке аттракционов. Жаркие дни ползут по кругу, как чертово колесо. Варя катает детишек с липкими от сладкой ваты руками, но сама ни разу не видела город оттуда, сверху, потому что боится высоты.
Парк, надо сказать, богом/властями забытое место — единственное, где можно работать в выходные, а Варя ненавидит бывать дома в выходные, в квартире, где душно — на кондиционер вечно не хватает денег — и где мать, тоже душная. От матери всегда пахнет рыбой — она работает в рыбном отделе, мать ходит по дому в одних трусах, и обвисшие груди, как две одноглазые рыбины, шлепают ее по выпуклому животу. Мать бьет по рукам, что тянутся за конфетой: «Куда? Ты в зеркало себя видела?», мать не выносит, когда плачут от фильма: «Чего ревешь, не по-настоящему же!», мать ненавидит мужиков: «Все они козлы, Варя, все козлы».
Мужики, мужчины — их Варя тоже боится, почти как высоты. Одноклассницы, кроме двух девчонок с Кавказа, давно уже не девственницы, а Варя ни разу не целовалась. Местная газета подтверждает: «Бойся, Варя, бойся», печатая подробные статьи про маньяка, что отрезает женщинам грудь. В той же газете Варя находит объявление о частных уроках английского. Леся — рыжие косы, веснушки и длинные, по мнению Вари, ноги — второкурсница иняза, приехала на лето к бабушке и подрабатывает репетиторством. Их занятия не похожи на скучные школьные уроки: они слушают рок, рисуют эротические комиксы, учат ругательства и притворяются иностранками. Леся смеется, не стесняясь обнаженных десен, кривляется на фото и прыгает с вышки в море. Леся ничего не боится, ну, почти ничего — только боится остаться в городе из-за больной бабушки, застрять, как мотылек среди мух на липкой ленте, мечтает скорее вернуться в Москву, и почему-то у Вари сжимается сердце, когда она думает, что Леся уедет.
Мать находит комиксы и после «Это еще что за порнография? За что деньги платим?» запрещает Варе встречаться с Лесей.
Ночью девчонки пробираются в парк аттракционов. Варя признается, что никогда не целовалась, сомневается, что ей вообще нравятся мужчины. Леся говорит, что поцелует Варю, если та прокатится на колесе обозрения.
Покачиваясь, кабинка ползет вверх. Вцепившись в сиденье потными пальцами, Варя с закрытыми глазами чувствует, как останавливается колесо. Кабинка зависает на самом верху. Леся убегает, чтобы позвать на помощь, и Варя остается одна — не одна, конечно, вместе со страхом высоты, жизни, себя. Она видит огни порта и полоску моря. Ей страшно, но еще страшнее, что дальше сонного городка она не видит ничего.
Маньяка все-таки поймают, осенью, в сентябре, когда Варя пойдет в одиннадцатый класс. Когда получит пятерку по английскому и запишется на уроки рисования. Когда впервые заговорит с мальчиком.
* * *
Надежда Антонова. Папа, я здесь
В два часа ночи меня разбудил звонок. «Mystic tone», забыл отключить на ночь. Голос незнакомый: «Вы — Артем Николаевич? Вас вычислили». Паника, хочу нажать отбой, не могу, пальцы не слушаются, смартфон смеется, переходя от баса к высоким частотам, экран мигает красной трубкой, номер не определен, мелодия звонка все ближе и ближе, слышу голос Гарика: «Да, сейчас, Артем, просыпайся, соседка звонит, с отцом что-то!»
В больницу на Загородном шоссе лучше ехать по МЦК до Крымской, это если не на машине. Последний раз мы виделись четыре года назад на маминых похоронах. Год назад случайно встретил соседку, узнал про инсульт. Вроде, ходит пока, даже кота в дом притащил, у меня ключи от квартиры, захожу иногда, убираюсь, готовлю. Дал свой номер, немного денег, отказывалась, потом взяла.
Сегодня ночью кот начал орать там, в квартире, да так громко, что я проснулась, на площадку вышла, звоню, не открывает — он хоть и медленно ходил, но сам открывал всегда, ключи для подстраховки дал — захожу, лежит в коридоре, кот рядом орет, мордой ему в лицо тычется, я скорую быстро, увезли, ну а потом уж я тебе позвонила. Ты чего ни разу не пришел? Он ведь ждал, виду только не подавал.
Мы против… Психбольные… Навязывание гендерного равенства носит политический характер… Это психическое и гормональное отклонение…
В шестнадцать я первый раз влюбился в парня. У меня не было неудачных отношений с женщиной, не было насилия, просто так сработало что-то внутри меня. Это длилось два года, я стыдился и ждал, надеялся, что пройдет. Слышал один раз, как в раздевалке два моих одноклассника говорили, что поцелуи лучше сначала отрабатывать друг на друге, чтобы перед девушкой потом не было стыдно. Я отрабатывал на девушках. Потом появился Гарик.
Я рассказал маме. Она долго молчала. Только папе не говори пока. Да и вообще не надо никому… Отец узнал от соседа по гаражу. Тот, игриво подмигнув, весело продекламировал: «Цветы, засушенные в книге, помада в сумке, шоколад, Артем, краснея и волнуясь, приплыл в стройбат». Сосед получил по морде. Артем, это правда? Помню складки на отцовской переносице и желваки на скулах. Мы перестали разговаривать. Он ходил мимо меня и не замечал.
Идет резкий рост преступлений в этом сегменте… И другой момент — убивать стали больше…
Один раз мы сидели за столом, я потянулся за солью, то же самое сделал отец, наши руки случайно встретились над солонкой, он брезгливо отдернул свою, сжал зубы, затрясся и процедил: «Пулю в лоб». Я собрал вещи и ушел.
У нас нет закона об уголовной ответственности за гомосексуальные отношения… Нет такой ситуации, как в некоторых исламских странах, где гомосексуалистам грозит смертная казнь… Однополые отношения не запрещены и за них никого не хватают…
Я надеялся, что меня не пустят в реанимацию. Отец был очень бледный, тяжело дышал, трубки ИВЛ, пульсоксиметр. Он слышит, может реагировать, очень вас ждал. Запах мочи, бактерицидной лампы, медикаментов. Когда он увидел меня, захотелось спрятаться за спинку кровати. Слезящиеся глаза, слабое движение рукой, попытка что-то сказать, кривая полуулыбка. Я стою и как будто бы со стороны наблюдаю за тем, как мой отец, которого я так не называл уже много лет, с которым даже на маминых похоронах мы не подали друг другу рук, сквозь полузатемненную завесу отключающегося сознания радуется моему приходу. Или так только кажется?.. Медленно подхожу ближе. Рука, когда-то мощная и сильная, обмякшей грушей лежит поверх больничного клетчатого одеяла. Неуверенно кладу свою руку рядом с его, аккуратно заняв соседнюю клетку. Очень бережно подныриваю и жду, готовый в любой момент отступить. Блуждающие подслеповатые пальцы слабо впиваются в мою ладонь, успокаиваются и долго не отпускают. Папа, я здесь.
* * *
Вероника Новоженова. Синопсис рассказа «Х/Г олод»
Рассказ об анорексии, о природе этой болезни.
Главная героиня Карина и её парень едут за город, чтобы отметить Каринин день рождения в лесном домике. Там Карина встречается со Зверем (образ зверя — метафора природы/голода/животного начала человека) и Старухой (архетип матери в целом и воплощение Карининой матери — в частности). Карина пытается противостоять им, но проигрывает, лишаясь парня (она его съедает, символически отказывается от искренней любви, не может принять, что кто-то может полюбить ее просто так).
Зверь и Старуха становятся проводниками Карины в мир её детских страхов и травм. Этот мир выглядит как огромный торговый центр посреди пустыни. «Олимп» — так называется торговый центр — населяют нимфетки. Они считают Карину своей королевой. Та наконец получает то, о чем мечтала больше всего — восхищение и любовь окружающих, более того, исполняется ещё одна заветная мечта — Карина может есть всё, что хочет, и не полнеть.
Чтобы остаться в «Олимпе», Карина должна судить тех, кто в детстве причинил ей боль, тех, кто виновен в появлении анорексии. В судной комнате (кинотеатре) она просматривает на большом экране самые неприятные эпизоды из детства и встречается с бабушкой, папой, первым парнем, первой компанией. Она рада наказать их, ненависть к ним растет. Карина раз за разом выносит приговор «казнить». Она не может простить этих людей, поэтому проигрывает: не остается в «Олимпе», не выздоравливает (только прощение ведет к излечению), её раздирает Зверь (который по сути является частью неё).
* * *
Екатерина Петровская
Обычный московский 14-летний школьник Филипп Филинков , которого все называют Филом, живет в благополучной семье. У него есть младшая сестра и такса Шел. Он неплохо учится, хорошо ладит с людьми и увлекается фотографией.
Все меняется, когда Фил переезжает с родителями в новый район и идет в новую школу, где харизматичный школьный учитель литературы Илья Алексеевич Смирнов приглашает его принять участие в школьном спектакле. Илья Алексеевич молод, талантлив, умеет работать с детьми. Он всегда творчески подходит к урокам, дети его обожают. На репетициях Фил знакомится с девочкой Лизой Егоровой и между ними возникает взаимная симпатия. Лиза привлекательна, но не слишком популярна у одноклассников. Она мягкая, спокойная, не конфликтная.
В процессе подготовки к спектаклю Фил все больше сближается с учителем, который оказывает ему знаки внимания и принимает в нем участие. Мальчик проводит с ним все больше времени, бывает у него в гостях, где они обсуждают спектакль, психологию, одноклассников, будущее Фила — все то, о чем он никогда не говорит с родителями и что так важно подростку. Постепенно Фил понимает, что испытывает к учителю нечто большее, чем симпатию и восхищение старшим и талантливым преподавателем. Отношения с родителями портятся. Они кажутся Филу скучными и обыденными, неспособными понять, что с ним происходит. Фил не может разобраться в своих дружеских чувствах к Лизе и с любовью к Илье Алексеевичу. В новой реальности ему приходится врать и изворачиваться, чтобы не обидеть девочку, которая в него влюблена, а также скрывать правду от родителей, но и открыться им он не решается.
Когда отношения с учителем выходят за рамки дружбы, Фил набирается смелости и после уроков просит Лизу остаться в классе. Лиза уверена, что Фил наконец-то хочет признаться ей в любви. Разговор не клеится, Фил путается в словах, говорит Лизе о том, как он ее любит и как она важна для него, но, собравшись с духом, все же говорит правду. Лиза не хочет его слушать и пытается выйти из класса. Фил ее не выпускает. Между ними происходит неприятная сцена. Лиза дает Филу пощечину и убегает.
Ища участия, Лиза делится секретом Фила с подругой, и вскоре об этом узнает весь класс. Терпя насмешки и издевательства, Фил ищет защиты у Ильи Алексеевича, который обещает ему всяческую поддержку. Но во время премьеры спектакля Фил узнает, что учитель уходит из школы. Фил раздавлен, он чувствует, что все его предали и никому верить нельзя. И хотя одноклассники от него отстали, он становится замкнутым и угрюмым. Фотография его больше не интересует, учеба тоже, на уроках он присутствует только физически. Родители и учителя списывают все на переходный возраст. Лиза видит, как страдает Фил, и чувствует свою вину. В конце концов она решает поговорить с ним, понимая, что потеряла в его лице настоящего друга. Фил чувствует, что уже не сердится на Лизу, осознает, что ей тоже пришлось нелегко. Они решают остаться друзьями.

Поэзия. Мастерская Евгении Коробковой и Михаила Эдельштейна
Осенью 2019 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в поэтическую мастерскую под руководством Евгении Коробковой и Михаила Эдельштейна. Представляем работы стипендиатов.
Конкурсное задание
- Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони.
- На небе гаснет косоглазый фонарь провинциального солнца.
- По городу слонялась бездомная луна.
Перед вами три предложения из цикла рассказов Исаака Бабеля «Конармия». Напишите стихотворение, вдохновившись любым из них. Мы не просим вас непременно дословно воспроизводить в стихах бабелевскую формулу. Это может быть и «поэтическая медитация». Объем — от 5 до 25 строк.
* * *
Ирина Костарева
По городу слоняется бездомная луна. На 5 авеню седовласый мужчина с носом-клювом продает стихи за гроши. На обложке тоненькой книжки — ворон. В Гонконге протестующие надевают на себя проекторы, которые «рисуют» на их лицах чужие. Три огромные серые рыбы тычутся мордами в каменный причал в Токио. Я ищу место, в котором со мной что-то произойдет, но происходит только луна.
* * *
Софья Швец
Бездомным иногда быть проще. Ты размагничен и бессрочен, Тебя за краешек полощет Тоска в худом корыте ночи. Неполным иногда быть слаще. Ты — просто скол чужого счастья, Ты сгинешь без вести пропавшим В очередной кошачьей пасти, Тебя не видно и не жалко. Приходит день, глухой и глупый, Клюют асфальтовые галки Рябины сохнущие струпы.
* * *
Платон Гурьянов
Идея слияния с природой проста — Забраться в места, где звеняще ясна подоплёка. До срока я думал, что куст — это ветви куста, Что править конём означает хлестать и лёлёкать. Но, бросившись в луг, осязая дыхание трав, Отринувши страх разбазарить частицу контроля, Почувствуешь волю коня и стремглав Несешься галопом, сливаясь с конем, через поле. Коня усмирив, припадаешь плотнее к корням, Снимаешь узду, и кропит ваши схожие души Смех девушек, шеи обнявших коням, И шепчущих что-то им в чуткие рыжие уши.
* * *
Екатерина Агеева
Мы вылезли из шляпы кинозала: Смешные зайчики и вечно на мели. «Наш мир — большая свалка, — ты сказала, — Так много мусора, куда ни посмотри». И я глядел, как грязный свет меж нами С фонарных горлышек пересекал простра... Хрустела крошкой чипсов под ногами Родная дворникам рифленая листва. Ты шла со мной, неловким и высоким, А сзади следовало, будто бы тайком, Лишь облако — пустая пачка сока, Вчера раздавленная в ночь грузовиком.

Проза для начинающих. Мастерская Ольги Славниковой
В августе 2019 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую прозы для начинающих под руководством Ольги Славниковой. Мастерская проходила в два семестра: с октября 2019 года до апреля 2020. Представляем работы стипендиатов.
Конкурсное задание
Напишите рассказ на тему «Берегись автомобиля». Объем до 4 000 знаков (с пробелами).
* * *
Надежда Ожигина. Селфи с «Ягуаром»
На моей полке среди старых книг стоит модель «Ягуара». XK120, кабриолет, ярко-алого цвета, довольно крупный, один к двадцати четырем. Именно так она выглядит, моя тайная жизнь.
Я словил мечту еще в школьные годы, уныло шагая на первый урок и пиная ненавистный мешок со сменкой, я увидел в витрине плакат: море, солнце и блики на округлых боках, блестящие хромом детали и насыщенный алый лак, притягательный, точно кровь для вампира. Это было красиво. В этом был свой особый обжигающий статус. Машина для юга, для теплого сладкого ветра в лицо, я стоял по колено в грязном месиве снега, реагентов и помоев с проезжей дороги и глазел на чужую знойную жизнь.
К морю выбрался только в студенчестве. Пару суток катал на «собаках», удирая от контролеров, и вдруг — Крым, я свалился у моря и долго дышал, выжимая из легких всю копоть прокуренных тамбуров. Я пропах мазутом и потом, износился душой и одеждой, но вокруг было солнце, так много, словно его выдавали с процентами, набежавшими за всю предыдущую жизнь. И лазоревая глубина, и прокаленный песок, он отдирал почерневший налет, начищая до блеска мое обновленное «я».
Набережная встретила суетой и соблазнами, от которых надежно хранило отсутствие денег. То, что не мог прикупить, я охотно фотографировал, помня правило виртуальной реальности. Все, что запостил в сети, — твое!
Именно там, на набережной, я и столкнулся с мечтой. Мой «Ягуар» с плаката, алый, сверкающий, притягательный атрибут всей этой беспечной шумихи. Я расчехлил аппарат, но у машины уже вертелась бессмысленной белкой девица, пытаясь пристроиться с селфи-палкой.
— О! — восторженно завопила она. — Парень с фотиком! Это круто!
Драные джинсы, белая майка, алые, в цвет «Ягуара», туфли, того же оттенка поясок и очки.
На фоне кабриолета она смотрелась отпадно.
— Может, на телефон?
— Да ладно! Я напишу тебе свой инстаграм, перешлешь.
Фотосессия у «Ягуара», и они дополняли друг друга, девушка и машина. Длинные волосы ласкали капот, под маечкой проступали формы, небрежно касались лобового стекла. Я взопрел, и поклонница селфи одарила меня, чмокнув в щеку алой помадой. Ее губы пахли неведомой ягодой, кожа — солью и эвкалиптом.
Живая, яркая, летняя. Ее звали Ася.
— Пойдем! — приказала она. — Есть еще крутое местечко, ни у кого таких фоток не будет!
Жгучий бездумный день. Скалы и синь, пальмы, галька и фотки, одна за другой, ракурсы и изгибы, волны моря и волны волос, и мороженое на двоих в прибрежном кафе, разговоры и новые кадры, и прокаленный за день, оплавленный поцелуй, влажность и теснота, и стоны, и шорох гальки.
— Классный сложился денек! Жаль, батарейки сели.
— Как тебя отыскать?
— Дурачок! Я записала тебе инстаграм, это сейчас как прописка!
Возвращались мы в темноте. Ася шла босиком по нагретому за день асфальту, крепко сжав в кулаке свои алые лодочки. Я потерянно плелся следом. Можно было позвать к себе, но угла я пока не нашел, поглощенный потоком селфи, а напрашиваться не хотел. Набережная привлекала скамейками, обилием ночной жизни во всех проявлениях, припаркованным «Ягуаром». Он притягивал, как маяк, Ася тоже мечтала о кабриолете, мне казалось, что это роднит нас вернее прочих условностей. Вот она закурила возле машины, запрокинула голову, считая горошины звезд — щедрой горстью по черной небесной простыни. Я готов был ее любить — всю ночь, целую жизнь, но она улыбнулась и небрежно закинула лодочки в «Ягуар».
— День был классный, – сказала мне Ася. — Но целая жизнь — перебор. Фотки пришли, фотограф!
И вдавила педаль, обдав меня ветром, духами и пылью, Ассоль, уставшая ждать чудес, на Алых, хромированных парусах, свободная сама выбирать и одаривать.
На моей полке среди старых книг стоит модель «Ягуара».
И фотография девушки в синих джинсах и алых очках.
Я забрел в ее «Инстаграм», потоптался среди чуждой еды, проектов и вечеринок, в восторженном шуме фолловеров. Но фотки не переслал. Я оставил себе этот день, полный зноя и смеха, соли и близости тел, эти алые губы и блеск «Ягуара», все прекрасные, яркие, точно редкие бабочки, кадры, я их спас от разделывания, препарации, обработки модными фильтрами, от безжалостной публикации в электронной среде.
Я сберег мое море и «Ягуар», мою Асю, ту блестящую, жаркую, южную жизнь.
Мое прошлое и настоящее.
* * *
Анна Жучкова. Берегись автомобиля
Николай Викторович похлопал по крутому боку черный сверкающий автомобиль, открыл и закрыл с мягким чмоканьем дверцу.
— Новейшая разработка с элементами ИИ, выгодные условия по кредиту. — Салонная девушка излучала сияние улыбкой и каждой клеточкой тела.
— Давайте присядем! — придержала она дверцу и скользнула на кожаное сиденье рядом, забыв прикрыть оголившуюся коленку. — Запоминает и повторяет маршруты, координирует скорость, уходит от столкновений. Искусственный интеллект на базе поведенческих навыков лошади — лучший в своем классе. Быстрый, чуткий, мгновенная реакция. Есть еще с интеллектом верблюда — вон, видите, семейный, выносливый. Или подешевле, рабочая лошадка — на базе осла. Но, между нами… — нагнулась она к нему. — Не советую, на морозе не заводится. А вот этот… — Она склонилась над приборной доской, а потом стремительно повернулась к Николаю Викторовичу, оказавшись практически у него на коленях. — Этот выполнит все ваши желания.
Во вторник Николай Викторович был записан к зубному. Встал в дурном настроении, ругнул жену, мрачно повисел над тарелкой с яичницей и с тяжелым сердцем вышел из дома. Единственная радость — «мицубиси-мустанг», сияющий черным боком.
Выехав на трассу, Николай Викторович почувствовал себя увереннее. Самый лучший зверь на этих дорогах — и мой! Что за фургончик дядюшки Мокуса пыхтит, влезая на эстакаду? Сейчас мы его обойдем, р-раз — и до свидания. Кредит выплачивать надо теперь, хотя процент небольшой, даже странно. Ладно, не поедем на море, сэкономим. Как же мягко ты разгоняешься, малыш! Так, скоро поворот, запоминай, обратно сам повезешь, я после пережитого глотну чего-нибудь. Ненавижу эту беспомощность в кресле.
Кр-р-р, пш-ш-ш… Ты чего встал?
Николай Викторович бегал вокруг автомобиля, звонил в службу поддержки, вспотел, изнервничался, опоздал к врачу, отчаялся, махнул рукой, сел в салон, повернул по привычке ключ — и мотор заурчал. Девочки из колл-центра утешали: период притирки к хозяину. Вы не волнуйтесь, все в порядке. Не отказ, не поломка. «Так вот почему процент по кредиту невысок, компенсируют сложность обкатки», — понял Николай Викторович и, довольный, поехал домой.
В конце недели в офисе Николая Викторовича была вечеринка. Главной темой вечера стал «мицубиси-мустанг». Давно Николай Викторович не чувствовал себя таким крутым и успешным, может, и никогда. Казалось бы, просто машина. Но не-ет, это он, он сам нашел информацию, рискнул, сделал правильный выбор! Рыжая Ирочка смотрела на Николая Викторовича не отрываясь, как раньше — на Сергея Петровича. Даже подсела, бокал пустой протянула, налей, мол, и бедром так сладко потянулась в его сторону.
Посадив Ирочку в такси, он плюхнулся в свой «мустанг» и глядя через лобовое стекло вслед отъезжавшему такси думал, что мог бы, наверное, и даже скорее всего… и надо бы как-нибудь… Сама эта мысль уже была умиротворяющей, лестной. Николай Викторович поехал домой, передав управление машине, и даже задремал ненадолго в неге соблазнительных мечт. Проснулся он от остановки двигателя. Вылез из автомобиля и вдруг понял, что не узнает район, но зато видит отъезжающее от подъезда пустое Ирочкино такси. «Черт-те где живет эта Ирочка», — негодовал Николай Викторович, два часа добираясь до дома. А злая жена, в пять утра открывшая дверь, уничтожила последние приятные воспоминания о вечеринке.
«Что же это такое?» — боролся с недосыпом Николай Викторович, лавируя между дачниками на следующее утро. Бар распахнулся и предложил энергетик. «Почему мои планы сбиваются? Что происходит, я же сильный, ловкий, вон, пыльный «фольксваген» остался позади, и «тойоту» сейчас обойду. Я тут самый крутой. Куда лезешь, старая колымага? Смотрите, лузеры, я на такой скорости зайду в поворот, что вам и не снилось». «Давай, — подгонял он «мицубиси-мустанг», жми, мы сейчас всех сделаем. Мы будем мчаться, как дикие лошади по чистому полю. Взлетим на эстакаду, смотри, она ведет прямо в небо! Бл…, ты куда-а-а???»
* * *
Елена Дедова. Без названия
Баба Валя давно мечтала попасть на «Поле чудес». Чтобы однажды в пятницу все жители поселка увидели, как она забирает автомобиль. Пару раз в неделю, когда все уже ложились спать, она расчищала кривоногий обеденный стол и затачивала карандаш, прищурив свои большие зеленые, одновременно близорукие и дальнозоркие глаза. До рассвета чертила она кроссворды и сочиняла красивые письма, которые — она верила — прочтет Леонид Аркадьевич. Что-то подсказывало, что ее анкета должна выгодно отличаться от остальных. Поэтому сначала баба Валя была потомком дворянского рода, всеми забытая и живущая в глубинке. В другом письме она была женой капитана дальнего плавания, который сгинул в море. Настоящий ее муж сгинул в соседнее село Первомайское еще лет двадцать назад, но об этом не обязательно рассказывать на Первом канале.
Иногда она перебирала одежду, занимавшую одну только полку в шкафу, и всякий раз убеждалась, что на передачу ехать не в чем. В деревенском магазине продавался зеленый с пайетками костюм. Всем он оказался мал, и махонькая баба Валя завладела им с большой скидкой.
Но с Москвы никто не звонил и не писал. И вот однажды, совсем рассердившись, она без всякой драмы рассказала в письме правду. О том, что живет всю жизнь в одном и том же старом доме, сейчас — втроем с дочерью и пятнадцатилетним внуком. Что в прошлом году всех ее поросят забрали и сожгли из-за гуляющей по району африканской чумы. Африканской, представляете? Всю зиму потом ели картошку и квашеную капусту. А в этом году сгорела баня, и теперь семья моется в тазике на кухне. Но на жизнь баба Валя жаловаться не собирается, можете не переживать — у людей и похуже бывает. А хочет она только исполнить мечту — выиграть автомобиль. И когда Феденьке исполнится восемнадцать, он будет ездить по поселку на новых голубых «жигулях».
И ей ответили. И вот надо ехать на передачу, а денег нет. Собрав по соседям на билеты и подарки, прихватив худощавого Феденьку, поехала баба Валя в Москву и выиграла автомобиль.
Налог на супер-приз составил треть от стоимости. После съемок баба Валя долго сидела над документами и размазывала тушь по вискам и зеленым штанам. А потом поставила подпись. После уплаты налога она осталась должна всему поселку и даже председателю Первомайского совхоза. Из-за этого следующую зиму семья снова сидела на картошке и квашеной капусте.
Автомобиль занял почти весь двор перед крыльцом. Несколько лет он гнил под широким деревенским небом, не двигаясь с места. Летом Федя укрывал его от дождя брезентом, зимой чистил вокруг него снег. С друзьями он разобрался, что, как и почему работает. Мальчишки полюбили бывать у Феди и дали ему кличку Автомобиль. Произносить ее надо было нараспев, как это делал Якубович. На заднем сиденьи «жигулей» Федя перецеловал многих девочек поселка. В багажнике лежал футбольный мяч, а в бардачке — карточки с покемонами и сигареты. Ключи были только у Феди.
А потом мама встретила давнего школьного товарища, и ключи у Феди забрали. Приезжала мама все чаще пьяная. А как-то осенью и вовсе не вернулась. Наутро их вместе со школьным товарищем нашли на краю Первомайского мертвыми в заведенной машине. Грелись и уснули.
Свой супер-приз баба Валя продала соседу задешево, потому что на похороны нужны были деньги. Ее старый домик вдруг заходил ходуном, наехала дальняя родня, набежали соседи. Кишение жизни по поводу смерти. Сочувствующие один за другим подходили к старушке, отражались в почти прозрачных уже глазах и, не отразившись в ее памяти, уплывали безуспешно искать Федю. А потом все резко стихло. Через несколько дней вечером вышла баба Валя на крыльцо, и таким просторным показался ей двор — как вселенная. А она маленькая, и сил у нее больше нет. Упала на пахучие масляные следы на бетонных плитках и не встала больше.
Еще через несколько дней кто-то выбил у автомобиля все стекла. Ну Федя, кто же еще. Только заявлять на него никто не стал. И Федя из поселка ушел, нашел работу в городе и раздает потихоньку старые бабкины долги. За руль садиться отказывается, друзья зовут его Пешеход.
* * *
Сергей Маслов. Сухие глаза
— Не читала Толстого… Не читала же… Зачем вы все живете, клоуны… Зачем…
Девушка, склонившаяся над старичком, была напугана этим странным бормотанием даже больше, чем видом крови, идущей из рассеченного лба. Слова «Толстой», «зачем», «клоуны» ловко чередовались между собой и казались настолько неуместными и жуткими одновременно, что девушка на миг забыла о том, что же произошло. Спохватившись, ее рассудок поспешно восстановил в памяти случившееся: она повернула на Соляной переулок, проехала несколько метров и увидела худощавого сутулого старичка… Какое-то застывшее лицо-маска, а потом эта маска так неприятно взглянула на нее… Спустя мгновение старичок выскочил на дорогу. Перед автомобилем нелепо подпрыгнул — ноги среагировали не по возрасту упруго, а руки будто не пожелали выбраться из карманов брюк…
* * *
Сергей Федорович трудился в редакции петербургского литературного журнала уже более пятнадцати лет. До этого он читал лекции в университете и занимался репетиторством. В те далекие годы Сергей Федорович выработал своеобразную манеру общения с учениками — проявлял заботу и даже ласку, но сам был окутан холодным сухим воздухом неприступности.
Нынешнему окружению Сергея Федоровича — профессиональным литераторам — импонировал его преподавательский облик. Но вот авторы из «самотека» требовали, пусть и неосознанно, совсем иного отношения к себе. Они выкобенивались как могли — агрессивно защищали свои рукописи, угрожали переделать их в восемнадцатый раз, талантливо передразнивали интонации и темп речи собеседника.
Сергей Федорович с годами нашел интересный алгоритм защиты от подобной назойливости: он выбирал наугад и читал одну страницу из середины рукописи, затем в разговоре с автором пересказывал ее, после чего применял одну из своих «заготовок». Каждая «заготовка» содержала в себе имя какого-нибудь классика XIX века и тонкое снисхождение к попытке автора попасть хотя бы на задворки современного литературно-исторического контекста, корни которого… В общем, интересный алгоритм.
Буквально вчера днем Сергей Федорович отчитывал одну барышню с хищным темным взором и рыжей косой: «Вот у вас на двенадцатой странице N и M стоят лицом к лицу в течение часа в темной комнате, как истуканы… Эдакая любовная сцена получилась… Но, понимаете, это же не про-оза. Не про-оза, понимаете? Вы («заготовка» пошла), наверное, не читали рассказы Толстого. Вы ведь ни черта не читаете. Вас, клоунов, тысячи таких, тысячи… А зачем вы пишете?..»
* * *
Около полугода назад Сергей Федорович почувствовал, что редакторская ноша становится слишком тяжела. Авторов-наглецов все больше, а сил противостоять им — все меньше. Сергей Федорович начал просыпаться ночью от собственного плача. Но поражали его не столько собственные слезы, сколько бормотание, с которым он просыпался:
— Не читают Толстого… Клоуны… Что дальше-то… Дальше-то что…
В последний месяц ночные пробуждения участились, а сегодня ночью Сергей Федорович вскочил с постели с абсолютно сухими глазами. Он понял, что слез больше не будет. Они расхотели рождаться и покидать родные глаза. Пробормотав уже переставшие пугать слова, Сергей Федорович опустился на пол и завыл.
* * *
Утром он шагал в редакцию привычным путем, по Соляному. Рот его был открыт буквой «о», глаза округлены, но брови спокойны — так выглядит пожилая женщина, которую настиг в душном автобусе приступ стенокардии. За рулем автомобиля Сергей Федорович увидел девушку, очень похожую на вчерашнюю хищную барышню. Дикие желания стали приходить одно за другим: броситься на капот, разбить стекло, вытащить ее наружу, раздербанить на клочки, на клочки…
Через несколько секунд Сергей Федорович лежал на проезжей части Соляного переулка и бормотал сдавленным голосом:
— Не читала Толстого… Не читала же… Зачем вы все живете, клоуны… Зачем…
Кровь из рассеченного лба шла весьма охотно, а слез не было. Сергей Федорович еще ночью понял, что его глаза теперь навсегда останутся сухими.

Проза для начинающих. Мастерская Ольги Славниковой
В августе 2019 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую прозы для продолжающих под руководством Ольги Славниковой. Мастерская проходила в два семестра: с октября 2019 года до апреля 2020. Представляем работы стипендиатов.
Конкурсное задание
Пришлите синопсис крупной прозаической формы (до 5 тыс. зн.) и образец прозы (до 5 тыс. зн.)
* * *
Вадим Тарасов. Уроборос
Глава 1. Эпизод 2. Полет Мирона
«Ну чо, когда, говорите, нужно было отдать это тело?» Вопрос саркастично проскользнул в сознание Мирона, оживляя в памяти азарт безнаказанности давно минувших астролет. Ледяной ветер с истеричными воплями царапал лицо и резкими порывами норовил вывернуть его мощные распахнутые крылья. Натруженные маховые мышцы немели от усталости и длительной борьбы с мерзлыми потоками воздуха. Несмотря на это, Мирон снова и снова могучими взмахами загребал под себя облака, выжимая максимум из арендованной телесной оболочки.
В детстве Мирон любил играть на пасеке отца, оборудованной на крыше их дома. Они жили на окраине Аноура-У в особом квартале, где дома были насажены на двухсотметровые сваи, напоминая заросли гигантских одуванчиков. Мирон представлял себя великаном-диспетчером пчел и внимательно следил за их полетами между биоцветами. Семена этих редких растений отец привез с археологических раскопок специально для реконструкции пасеки доисторического периода, в котором эссенсы жили бок о бок с человеком.
Детские воспоминания тут же выветрились, когда крылатая тень Мирона коснулась солнечных панелей на крышах небоскребов родного города, теперь покрытых безжизненной изморозью. Солнце начинало предательски прятаться за горизонтом, в очередной раз оставляя землю на растерзание мерзлоте.
Вид сверху на мегаполис напоминал контурную карту, в которой целые кварталы не успели закрасить. В западной части города возвышался, точно громадный снежный леденец на палочке, воздушный стадион, на котором когда-то выступала любимая эйрбольная команда Мирона «Furious Wings». Мирон долетел до центральной площади с ее пятисотметровой статуей Всеотца, воздевшего крылья над городом. Легенда гласит, что прародитель эссенсов вырвал себе сердце и вставил вместо него солнце, чтобы жить вечно. Поэтому из груди изваяния всегда исходил мягкий золоченый свет. Мирон не раз прилетал сюда на свидания со своей первой любовью Линдой. Ее волосы, переливающиеся бархатно-синим и лазурно-голубым, аккуратные нейро-вены, излучавшие лиловый свет, изящная ложбинка между крыльями и коготки, которыми она впивалась в шею при каждой встрече — все это дарило лелеющую истому внутри.
А в пяти километрах к северу спряталась всемирно известная Долина блажи, куда Мирон регулярно наведывался тайком от родителей. Ему нравилось летать среди стеклянных зданий и подглядывать через прозрачные стены за развратными посетителями этих мест. На одной из крыш такого здания располагался ночной клуб «Слет», куда прилетала мажорная молодежь со всех концов Аноуры-У. Здесь Мирон подпольно продавал собственноручно сделанные нано-чипы по усилению ощущений. Те, кто вставлял такое флэш-устройство в ID-гнездо на запястье, получал шестикратное повышение восприимчивости всех органов чувств. Неудивительно, что товар пользовался диким спросом среди посетителей наземных борделей. Сам Мирон услугами «земляных проституток» никогда не пользовался, так как не выносил омерзительного вида их бескрылых лопаток, пусть и делавших более удобным обслуживание клиентов.
А заказы на новые чипы поступали бесперебойно — Мирон едва успевал распаивать и программировать очередную наносхему. Однажды постоянный покупатель Мирона пригласил его работать в Ви-Корпорацию, искавшую программных инженеров для разработки платформы бестелесной реальности — Витасферы. Мирон согласился, даже не догадываясь, что это спасет ему жизнь астрогод спустя, когда сбудутся самые пессимистичные прогнозы ученых и Планету Эс отбросит на дальнюю орбиту звезды, вызвав страшные природные катаклизмы.
В тот роковой день Мирон работал. Здание Ви-Корпорации располагалось на вершине горы в стороне от Аноуры-У. Мирон заметил, как погода кардинально ухудшилась и под окнами офиса беспроглядные тучи заволокли небо. Дальнейшие ужасающие события он наблюдал из интерактивной телетрансляции. На город налетели ураганы, сталкивая друг с другом сотни авиамашин и летоходов. Со стороны побережья донеслись ужасающие раскаты грома — словно бы небо раскололось на части. Линия морского горизонта, зажатая между стенами небоскребов, стала стремительно подниматься. На город с бешеной скоростью неслись громадные пласты океана, будто его встряхнули, как простыню…
Цунами опрокинуло прибрежные дома и ворвалось на улицы разрушительным потоком, затапливая один квартал за другим. Родители Мирона, жившие на окраине, не пострадали, но их участь была предрешена. Не прошло и часа, как мегаполис, накрытый непроницаемым колпаком из облаков, сковали смертоносные морозы. Стужа стремительно наплывала белой тенью танатоса, с треском обледеняя все на своем пути.
Вот уже недавно бурлившие на улицах потоки воды превратились в лед. Стекла родительского дома потрескались и с дребезгом сломались. Мирон подключился к видеосистеме управления домом, когда пол стал покрываться пупырями изморози. Он успел увидеть грустную улыбку мамы и настороженный взгляд отца, заслоняющего ее крылом, прежде чем они мгновенно превратились в ледяные изваяния.
* * *
Роман Гусев. Фрагмент без названия
Майя с визгом пролетела по льду, как пингвиненок, и остановилась у края полыньи. Она неловко поднялась на ноги, опираясь на свою пластмассовую лопатку, и подошла совсем близко к воде. Стала откалывать лед лопаткой. Льдинка с шапкой снега отломилась и медленно поплыла белым пароходом, гонимая течением реки. Поверх зеленого капюшона Майи был туго намотан шарф, и она ничего не слышала вокруг. У реки не было ни души. Она подняла голову и огляделась. Всюду лежал тяжелый сырой снег, но кое-где уже показалась черная земля, особенно на вершине склона. Внизу из снега беспорядочно торчали ветки, очерчивая русло реки. Тут Майя увидела ниже по течению человека. Он тоже был весь черный и казался просто куском оттаявшей земли или обломком дерева, торчащим из снега. Майя помахала ему лопаткой. Человек помахал ей в ответ. Потом он сунул руки в накладные карманы телогрейки и побрел в сторону поселка. Тут Майю точно током прошибло: «Гутенморг, это же он и есть», — подумала она и побежала за ним.
Родители всегда брали Майю и ее старшую сестру Катрин в свой загородный дом несколько раз за зиму. Особенно если папочка получал свой фокус-покус в конце года. Тогда и у мамочки случалось хорошее настроение. В дом приходил праздник. В новогоднюю ночь сестер ждала целая гора подарков под елкой, под настоящей живой елью, раскинувшей свои пышные лапы в холле. Но открывать подарки до утра было нельзя. В этот год родители пригласили своих соседей с детьми. Пока взрослые шумели внизу, дети заполучили весь второй этаж. Командование взяла в свои руки самая старшая, Катрин. Сначала все дети бесились и играли в прятки. Только Майя не играла. Она всюду следовала за сестрой и помогала ей следить за порядком, чувствуя ответственность как хозяйка дома. К тому же никого из взрослых на втором этаже не было. Только иногда няня Оля заглядывала к ним проверить, все ли в порядке. Когда дети вымотались, родители разрешили Катрин разжечь застекленный камин в спальне. Старшая сестра погасила свет в комнате, и дети сели подле огня. Даже самые шумные ребята, малявки Ваня и Филя, притихли. И тогда Катрин рассказала о Гутенморге.
В темной дремучей чаще глубоко в лесу живет Гутенморг. Тело его покрыто длинной жесткой шерстью, как у волка, на безобразных руках сверкают острые когти, а дыхание такое вонючее, что птица падает замертво в десяти шагах. Но Гутенморг хитер, он умеет принимать человеческий облик, и тогда пропадает даже запах изо рта. Летом, когда все звери радуются теплу, в лесу созревает земляника, а по канавам — дикая малина, Гутенморг спит, забившись в свою тесную берлогу. В его чаще всегда темно и сыро, солнце не может пробиться сюда сквозь густые кроны деревьев. Вход в свою берлогу он затыкает ворохом мокрой прошлогодней листвы, чтобы никто не потревожил его сон. Так проходит время. Вслед за летом наступает осень, листья желтеют и опадают с деревьев, птицы улетают в теплые страны, белки запасают орехи на зиму, бобры чинят свои плотины, и все остальные звери готовятся к холодам. А Гутенморг все спит. Но стоит только первой снежинке коснуться земли, и в тот самый миг Гутенморг распахивает свои желтые голодные глаза и просыпается. Он переворачивается с боку на бок, разгребает когтями вход в берлогу и жадно вдыхает воздух, чуя приближение зимы. А когда ледяной ветер сковывает лед на реке, и в лесу ложится густой снег, он выбирается из своей берлоги. Так и бродит он всю зиму в глубине леса. Только иногда по утрам он оборачивается человеком и выходит на открытые места поближе к селениям, одиноко ходит вдоль кромки леса, приглядывается, принюхивается.
Повстречать Гутенморга — большая удача, ведь он умеет исполнять любые желания. Но редко кому удается признать лесного монстра в обычном прохожем. И только дети с легкостью узнают его. Желания Гутенморг исполняет не просто так, ведь он из тех волшебных существ, что обожают загадки. Ответишь правильно — выполнит одно твое желание, а ошибешься, и он утащит тебя в свою берлогу. Тут уж поминай как звали. Загадки у Гутенморга сложные, не всякий справится. Ходят слухи, что в прошлом году один мальчик из соседней деревни повстречал Гутенморга, и с тех пор никто мальчика того не видел. Видно, загадка оказалась мальчику не по зубам. Потом жители деревни прочесали весь лес вдоль и поперек в поисках берлоги Гутенморга, облазили каждый закуток в округе, но так и не нашли никаких следов.
В начале весны сестер снова привезли в загородный дом. И вот теперь Майя бросилась со всех ног за человеком, возникшим точно из ниоткуда. Он хоть и шел медленно, неловко загребая ногами снег, но ей хватило труда, чтобы догнать его. Наконец она дернула Гутенморга за край телогрейки. Он остановился и, наклонившись, посмотрел на Майю своими желтыми глазами, пронизанными сетью красных прожилок.
— Здравствуй, Майя, — сказал он. — А я за тобой следил. Все думал: заметишь меня или нет. — Голос у человека был трескучий, осипший, так пищат сырые поленья, брошенные в костер. — Но ты очень внимательная девочка. Что ты делала на реке?
* * *
Лилия Кечина. Последний поезд
Нет ничего неуместнее миловидной одинокой девушки на ночном вокзале. Даже летом. Особенно летом. Тем не менее, она выбежала из метро в своей игривой легкой юбочке, шлейфом неся за собой остатки дружеской встречи, с надеждой поскорее сесть в электричку, пока ее беззащитно открытые ноги не стали предметом интереса какого-нибудь подвыпившего работяги, дотянувшего гулянку до последнего поезда.
Накрытая плотным одеялом темноты привокзальная площадь с лоснящимся свежеполитым асфальтом была пуста. Фонарные огни лежали расплющенными светлячками, деля ночное соседство с разлетевшимися за день шуршащими пакетами, измятыми бумажными стаканчиками и обрывками билетов, ожерельем окружившими выключенный фонтан. Такая сонная римская площадь, отдыхающая от шумных дневных туристов. Когда она с ускорением пересекала этот ухоженный пустырь, оглушительный стук каблуков гулко разносился в тишине и мыльными пузырями разбивался о стены близлежащих зданий. Если бы не сосредоточенность на возможной опасности, которую таила в себе ночь, она вспомнила бы какой-нибудь итальянский фильм и нашла бы эту сцену довольно романтичной. Но предательские каблуки выдавали беззащитное одиночество, и невесомая юбка разлеталась на бегу, а потому она предусмотрительно съежилась изнутри, приготовившись дать отпор ночным приставалам, и старательно притворялась невидимой.
Автомат проглотил горсть монет и лениво затарахтел, когда плечо укутало чьим-то дыханием — теплым и влажным, как летний воздух в ожидании ливня: «Красавица, мелочи не найдется?»
Даже если продумал заранее план спасения, в минуту опасности все рассыпается карточным домиком. Даже ты сам. Особенно ты сам. Взглядом она вцепилась в бездушный автомат, непослушными пальцами — в клочок бумаги, который нехотя покидал металлическое нутро.
«Мне бы поесть, красавица, дай десять рублей». — Облако вырвавшегося из гниющего тела запаха обдало ее, отрезав проход на перрон. Поддавшись напору или сжалившись, автомат сдался и выплюнул билет. Она развернулась всем телом и навсегда запомнила зияющий чернотой разрез улыбки на бесполом лице, покрытом корой оспин и наростов. Но первым в глаза бросилось огромное иссиня-фиолетовое пятно — как застарелое красное вино, вместо скатерти разлитое по щеке бездомного.
«У меня ничего нет», — выдохнул сдавленный голос, слишком жалостный и пораженный, когда она ринулась прочь, перебивая каблуками стук сердца.
Уже за углом, где прячется обходная тропинка к перрону, страх уступил место памяти. Улыбка — все, что осталось у нее от отца. Где он сейчас, помнит ли ее, помнит ли себя? «Да спился давно», — отмахивалась мать все годы, пока она спрашивала. Она обязательно нашла бы его, если бы знала кого. Она смогла бы помочь, если бы знала где искать. Даже если он в беде. Особенно если он в беде.
Кажется, решение пришло позже. Уже после того, как обогнув привокзальный киоск она вынырнула обратно к пустынной площади. А может быть никаких сомнений не осталось, когда пара купюр сжалась в ладони. Или еще раньше, когда поблекшая от времени улыбка отца проявилась на чужом, изуродованном жизнью лице.
Твердый звук шагов в тишине станционной ночи, резкий свет фонаря в стороне и даже ее вызывающее одиночество теперь стали союзниками. Где-то с приглушенным далью шумом проносились машины, двери метро выпустили последнего пассажира, подгоняемого поздним часом. Она искала его глазами так же усердно, как минутами раньше отгоняла прочь этот запах, эти спутанные бесцветные волосы и протянутую руку.
Она ждала до последнего, ощупывая взглядом все обозримое пространство и все сильнее сжимая ладонь, пока репродуктор не разрезал темноту. С треском и шипением он объявил отправление поезда. Наверное, в утешение собственному отчаянию она оставила бумажный комок на том самом билетном автомате, возле которого они встретились, и побежала к перрону.
Еще не видя сжимающихся в точку огней последнего поезда, она услышала, как захлопнулись двери, как машинист дал сигнал отбытия и состав со свистом покатился по рельсам. Тогда-то она и осталась по-настоящему одна — девушка в воздушной юбке, которой некуда торопиться. Даже ночью. Особенно ночью.
* * *
Елена Кривоносова. Фрагмент без названия
Артем замер и прислушался: в зале было тихо. Видимо, это его сердце билось чуть быстрее привычного ритма, отчего складывалось ощущение, будто в помещении присутствует посторонний звук.
Парень медленно вдохнул, выдохнул и только затем продолжил идти вдоль стеллажей, направляя фонарик то на одну сторону, то на другую.
Как досадно, что сейчас нет времени хорошенько изучить все вокруг. Артем обожал книги. Корешки, бумага, буквы — все это он мог рассматривать и обсуждать часами. Денег на создание собственной библиотеки не водилось, а родители такое увлечение не очень жаловали, поэтому он частенько торчал в книжных магазинах и личных архивах знакомых.
«Дядя Коля бы обзавидовался», — подумал Артем, минуя секцию кулинарии.
Однако расслабляться и впадать в очарованное состояние совсем не стоило. Артем до сих пор не мог оценить, насколько опасной была эта авантюра. Подумать только — влезть в личную библиотеку великого и ужасного Арчибальда! Уф. Тяжело представить, как алхимик отреагировал бы, попадись ему здесь кто-то из учеников. Удивительно, как Артем смог набраться духу и пойти на это. Еще пару дней назад он бы не поверил, что такое возможно, но сейчас все изменилось.
Артем завернул за последний стеллаж и поднял фонарик повыше. Должно быть, здесь. Карта, нарисованная Димой, слегка размазалась. Неужели от того, что руки вспотели? Артем потер ладони о штаны, затем расправил карту и еще раз сверился. Да, он пришел к нужной секции.
«Антология маленьких черепашек», — прочитал он название одной из книг и чуть не захохотал в голос. Надо же, ведь это была его любимая книга в детстве, кто бы мог подумать, что она окажется здесь.
Каримов продолжил читать названия книг, и постепенно улыбка стала сползать с его лица. Он перечитывал названия снова и снова, лихорадочно бегая глазами от одного корешка к другому.
Вывод напрашивался сам собой, только вот признавать его было жутко. После очередного цикла изучения названий отрицать стало бесполезно — на полке стояли его любимые детские книжки.
Подсознательно зная, что увидит, Каримов опустил луч фонарика чуть ниже и прочитал на пластыре, приклеенном в центре полки:
«Артем Каримов».
Он с трудом удержал фонарик. От увиденного он поперхнулся, будто от еды, проглоченной в спешке.
«Надо успокоиться, надо успокоиться», — говорил он себе, но паника только нарастала.
Тут позади послышались шаги, и Артем бросился наутек, позабыв обо всех мерах предосторожности, но не успел он пробежать и пары метров, как кто-то поймал его мертвой хваткой. От незнакомца пахло жареным мясом и приправами.
— Мальчик, неужели ты думаешь, что сможешь выпутаться из моих объятий? — расхохоталась женщина прямо ему в ухо, сжав еще крепче.
Артем выдохнул и расслабился. Кухарка Лидия Алексеевна не представляет опасности, вот только что она здесь делает?
— Победа, победа, — зажестикулировал он, давая понять, что турнир по объятиям окончен. — Не ожидал от вас такой ловкости и силы, Лидия Алексеевна, — заметил Артем, выворачиваясь из рук кухарки.
— А я не ожидала встретить тебя в библиотеки страшного Арчи, — ответила она. — Все мы полны неожиданностей, правда?
— Я бы не попался, если бы вас здесь не было, — надулся Артем.
— Сложно поспорить, — ответила Лидия Алексеевна. — Прости, что помешала твоему идеальному преступлению. Но раз что-то пошло не так, не такое уж оно и идеальное, верно? — засмеялась она. — На твоем месте я бы была благодарила небесам, что ты наткнулся на меня, а не на хозяина библиотеки.
— А вы-то сами что здесь делаете? — тут же спросил Артем. Видимо, это прозвучало грубо, потому что кухарка уперла руки в бока и смерила его презрительным взглядом.
— Следи-ка за тоном, Каримов, — сказала она, будто щелкнула его по носу. — Я подменяю уборщицу. Однако никто меня не предупредил, что помимо пыли, я наткнусь здесь на ученика с плохими манерами.
— Извините, — немедленно потупился Артем. — Вы же не расскажете никому? — с надеждой в голосе спросил он.
— Я-то не расскажу, — улыбнулась она. — А вот смогут ли твои дружки держать язык за зубами?
— Я здесь один, — машинально ответил Артем.
— Один, — повторила Лидия Алексеевна. — Своих не сдаешь, значит. Ну, правильно-правильно.
— Тогда я пойду, — улыбнулся Артем.
— Ступай, — ответила она и добавила тихим голосом: — Надеюсь, книги тоже смогут держать язык за зубами.
Артем еще раз кинул взгляд на полку и вспомнил о своем открытии. Надо было срочно рассказать друзьям.

Пьесы. Мастерская Дмитрия Данилова
В августе 2019 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в драматургическую мастерскую Дмитрия Данилова Осень 2019 — Весна 2020. Представляем работы стипендиатов.
Конкурсное задание
Напишите мини-пьесу (можно просто диалог) на тему: нищий и неблагополучный человек (не имеющий вообще ничего, безработный, он явно с похмелья, плохо одет, от него разит перегаром, он последние десять лет не работал) уговаривает менеджера банка дать ему ипотеку или просто крупный кредит. Объем — 3000 знаков.
* * *
Анастасия Иванова. Культурный код
Действующие лица:
ЕЛИСЕЙ — немолодой, плохо одетый человек, от которого пахнет перегаром.
МАШЕНЬКА — юная и трепетная девушка, менеджер банка. Скромная и стеснительная.
ОХРАННИК
ВОРОН ФЕДЯ — птица
Маленькое отделение захолустного банка. Скучающий охранник и очень молодая девочка-менеджер с бейджиком «Мария», надпись сделана от руки.
Дверь открывается, в щель, подталкиваемый чьей-то рукой, заходит встрепанный ворон. Оказавшись в зале, он вспархивает, хватает со стола охранника связку ключей и вылетает обратно на улицу. Охранник матерится и бросается за ним. Машенька привстает из-за своего стола и пытается разглядеть, что там происходит. Дверь открывается снова, заходит Елисей. Он достает из кармана пустой, сильно мятый целлофановый пакет из супермаркета и накидывает его на единственную в офисе камеру. «Следят», — поясняет он Машеньке, кивая на камеру, отодвигает стул и садится перед ней. Машенька напугана.
ЕЛИСЕЙ: Здрасьте (смотрит на бейджик), Машенька. Это был Федя. Птица счастья, друг и соратник. А я — Елисей. Как Енисей, только глубже. Кредит хочу, Машенька. На крупную сумму.
МАШЕНЬКА (широко раскрывает глаза, голос дрожит): На крупную? А вам зачем? В смысле — цель? И кем вы работаете?
ЕЛИСЕЙ: Я — великий русский поэт. (Держит паузу). А вы, Машенька, случайно не проститутка?
МАШЕНЬКА (еще больше пугается, краснеет, бледнеет, выдавливает из себя): Я студентка… На вечернем…
ЕЛИСЕЙ: Вот видите, вокруг (он разводит руками) одни студентки. А я, Машенька, хочу читать свои стихи проституткам, как другие великие русские поэты. Вы знаете, насколько это дорого? Бродяги и спирт обходятся намного дешевле. Мне нужна примерно такая сумма (пишет на бумажке, кладет ее на стол, ручку прячет в карман).
МАШЕНЬКА (удивленно смотрит на цифры): Это действительно очень много. А есть кто-то, кто мог бы за вас поручиться?
ЕЛИСЕЙ: Поручиться? Сказать, что я хороший человек? Вы, видимо, считаете меня совсем безнравственным. Я сам, безусловно, в этом виноват. Я объясню сейчас. Проститутки — это крайняя мера. От безысходности, понимаете? У меня была жена — маленькая, тихая. Почти как вы, Машенька, только, простите, прекраснее на целую жизнь. Я приносил ей полные карманы самых лучших слов, которые мог найти. Иногда, правда, цеплялись и слова средние, проходные, но с ними, знаете, как с бездомными собаками. Жалко бывает, не выкинешь. А она всех принимала, всех. И дарила мне в ответ свое тепло. А однажды тепло закончилось. Не только на меня — для себя самой не осталось. Я взял тогда ее холодную руку (берет со стола степлер и нежно прижимает к груди), прижал к груди, и читал, читал ей… Слова, Машенька, — не деньги, только их с собой туда и возьмешь. Я отдал ей тогда все, что смог.
Он замолкает. Маша неуверенно протягивает ему платок. Он смотрит в пол, не видя платка. Она вытирает платком свои слезы и тихонько сморкается. На улице раздается шум, возвращается охранник.
МАШЕНЬКА (склонившись к Елисею, полушепотом): Банк не сможет выдать вам кредит, я сожалею. Но (молчит, собираясь с духом), видите ли, я была недавно в отпуске… Там кое-что было… В общем, я тоже теперь как бы как эти… не совсем, но почти… В общем, вы можете приходить читать мне. Иногда.
Маша вся красная и смущенная, Елисей восторженно на нее смотрит.
МАШЕНЬКА: Они же хорошие? Стихи? (спрашивает обреченно)
Елисей показывает большой палец. В тамбуре появляется охранник. Елисей встает, шумно отодвигая стул, сдергивает пакет с камеры и шагает к выходу. В дверях он сталкивается с охранником. «Следят», — говорит ему Елисей укоризненно.
* * *
Ольга Лушникова. Соловьи тоже чирикают
СЕНЕЧКА — кладбищенский завсегдатый
ВАЛЕРИК — неверный друг Сенечки
ГУЛЬКА — весьма потрепанная и пропитая собака, верный друг Сенечки
ВАЛЕРИАН ПЕТРОВИЧ — имя владельца телефона
ИНОКЕНТИЙ — сотрудник банка
1. Востряковское кладбище. Утро.
Двое мужчин бродят между могилами в отдалении друг от друга и перекрикиваются.
ВАЛЕРИК: Сенечка, здесь ловить нечего, нахер приперлись?
СЕНЕЧКА: Погодь, с вечера где-то по правой копали, должен быть верняк.
ВАЛЕРИК: Колошматит, сука. Зла не хватает, как кошмарит меня.
Валерик останавливается рядом с памятником в виде лежащего в банном халате мужика с бутылкой «Hennessy» в руке. Памятник, отлитый из желтого металла под золото, блестит на солнце. Поют птицы. Валерик присаживается рядом с выглядывающей из-под халата ляжкой мужика, закидывает ногу на ногу. Сидит понуро, не сводя глаз с той части памятника, где «Hennesy».
СЕНЕЧКА: Начина-а-ается! Бухнуть, значит, вместе, а добывать ясен-красен кому. Это мы уже проходили, Валерик.
ВАЛЕРИК: Не трынди, и так тошно!
Сенечка поворачивается к Валерику, и его ослепляет отблеск солнца на памятнике. Он резко отворачивается в сторону и видит могилу, усыпанную цветами и венками. Гулька начинает понимающе поскуливать. Валерик чешет ее за ухом. Гулька замолкает, но махать хвостом не перестает.
СЕНЕЧКА: Валерик, не дохни тут. Мы с Гулькой за водой. Не хер здесь под солнцем сохнуть.
ВАЛЕРИК: Хер ли вас ждать.
Валерик уходит в противоположную от Сенечки и Гульки сторону, направляется к выходу с кладбища, выходит из зрительного зала.
2. Цветочная могила. Почти полдень.
Сенечка копается в цветах, проверяет стопочки, они все пусты. Ищет заначку в венках. Раздается соловьиное пение.
ГУЛЬКА: У-У-У-А-А-А-УЛЬ!
СЕНЕЧКА: Да, Гулька, до соловья тебе далеко, хорош чирикать.
Соловьиная трель звучит глухо, но совсем рядом.
ГУЛЬКА: У-У-У-А-А-А-УЛЬ!
Сенечка находит между венками телефон, разрывающийся соловьиной трелью звонка.
ИНОКЕНТИЙ: Валерьян Петрович, доброе утро!
СЕНЕЧКА: Хорошее имя, успокаивает! И вам не болеть.
ИНОКЕНТИЙ: У меня?
СЕНЕЧКА: У меня! А ты еще не представился.
ИНОКЕНТИЙ: Меня зовут Инокентий, я сотрудник банка, и мы подготовили для вас специальное предложение: два миллиона рублей под 15,99% годовых. Вам оно показалось интересным?
СЕНЕЧКА: А то!
ИНОКЕНТИЙ: Тогда позвольте я продолжу.
СЕНЕЧКА: Валяй.
ИНОКЕНТИЙ: Хм, так вот, если ваш статус за последний год не изменился, то..
СЕНЕЧКА (перебивает): Я стабилен, Кеша, вот уже десятый год как.
ИНОКЕНТИЙ: Валериан Петрович, возможно, я не вовремя, вы немного выпили?
СЕНЕЧКА: Если бы, Кеша, если бы.
ИНОКЕНТИЙ: Хорошо, тогда я продолжу? (откашливается) Если по вашим персональным данным нет изменений, то мы готовы привязать наше предложение к кредитной карте и отправить ее с нашим специалистом в любое удобное для вас время и место уже сегодня.
СЕНЕЧКА: А больше взять можно?
ИНОКЕНТИЙ: Для увеличения кредитного лимита нам потребуется отправить повторный запрос в банк, и мы вернемся к вам с ответом на почту уже завтра.
СЕНЕЧКА: Погорячился, Кеш, два ляма хватит.
ИНОКЕНТИЙ: Тогда давайте зафиксируем время и место встречи.
СЕНЕЧКА: Кафешка у входа на Востряковское кладбище, через час подойдет?
ИНОКЕНТИЙ: Как вам будет удобно, Валериан Петрович. У вас точно все в порядке?
СЕНЕЧКА: Лучше не бывает! Хороший ты парень, Кешка.
Сенечка вешает трубку. Он оглядывает совершенно счастливым взором могилы вокруг. У телефона садится батарейка, и тот отключается.
* * *
Ольга Дерюгина. Без названия
Отделение банка. На стуле перед менеджером сидит неопрятный, одетый в лохмотья человек. В очереди ждут две старушки.
СЕРГЕЙ (менеджер): Паш, ну какой кредит, ты о чём вообще? У тебя же ни СНИЛС, ни ИНН, ни 2-НДФЛ. Место жительства я в заявке как укажу? Автобусная остановка на Малой Грузинской, 5?
ПАША (наклоняется к Сергею): Ты не тормози развитие малого бизнеса, ты послушай сначала…
СЕРГЕЙ (корчит гримасу, отворачивается): Да отодвинься ты, разит как от цистерны со спиртом.
ПАША (придвигается ближе, переходит на шёпот): Короче, есть одна ночлежка за «Сандунами», вчера сижу там на тротуаре, хлебаю муниципальную баланду. И тут из «Сандунов» вываливается мужик и давай меня материть. Да ты, да тебя, да маму твою, всю жизнь ты мне, подонок, переломал, я должен был Ленке детей делать, а ты, мудак, из ЗАГСа её увёл…
ПЕРВАЯ БАБУШКА (возмущённо): Не банк, а зал ожидания!
ВТОРАЯ БАБУШКА (ещё более возмущённо): Я ветеран труда!
СЕРГЕЙ (натянуто улыбается бабушкам, говорит, стараясь не шевелить губами): Паш, ну свали ты уже. Выйду курить — расскажешь.
ПАША: Нет, подожди. Я тебе объясню. Он орал-орал, а я слушал. Мне ж не жалко, болтает, как радио. Минут через десять он успокоился, вроде даже развеселился. Кошелёк достал, суёт мне тысячу, по плечу хлопает. Прости, мол, чёт накатило. А бабы, говорит, все шлюхи. И пошёл. Я сперва офигел, а потом такой: ха! (Выдыхает в лицо Сергею, тот морщится, прижимает к носу галстук). Так это ж я шлюха!
ПЕРВАЯ БАБУШКА (в ужасе): Молодой человек!
ВТОРАЯ БАБУШКА крестится.
СЕРГЕЙ: Паш, ты совсем кукухой двинулся?
ПАША: Шлюха, понимаешь? Для выражения агрессии. Смотри: он меня снял, наорал, заплатил — ему хорошо и мне неплохо. Ведь на нормального человека же не наорёшь без последствий. Нормальный и отвесить может, у него честь, гордость, чувство собственного достоинства. А я эти светские оковы давно скинул.
СЕРГЕЙ (качает головой, беззвучно матерится): Ладно. Хорошо, Паш, отлично, офигенная идея для стартапа, следи, как бы Илон Маск у тебя её не спёр. Триста тыщ тебе зачем?
ПАША: Ну как — представительские расходы. (Загибает пальцы). Помещение снять — не все же готовы у ночлежки за «Сандунами». Дать рекламу, ИП оформить. Вначале придётся бесплатно поработать. Набрать клиентуру. Хочешь, кстати, первым? Вот кто тебя, например, бесит?
СЕРГЕЙ: Ты, Паша. Ты меня бесишь. Последние двадцать минут, не переставая. Сгинь, я тебя прошу. У меня электронная очередь, бабки, вон, с талончиками ждут. (Бабушки с готовностью кивают). Ты щас сходишь в «Дикси» за водкой и рогаликом, ужрёшься в зюзю и будешь на остановке дрыхнуть. А из меня тут эти бабки всю душу вытрясут, потому что пенсия маленькая, коммуналка — большая, а банки совсем оскотинились. Одна за одной, и так до девяти вечера, а потом меня поимеет начальник, потому что кому-то пришлось ждать больше десяти минут. И за эту смену я заработаю сраные полторы тысячи, с которыми в пятницу пойду в бар и тоже ужрусь в зюзю, и может быть тогда смогу оценить твой креатив… (Вздыхает, заметно успокаивается). А сейчас отвали, пожалуйста, а?
Паша пожимает плечами, выходит. На его место садится первая бабушка, начинает кричать на Сергея. Её сменяет вторая. Очередь прибывает. Сергей слушает сменяющихся бабушек поначалу с кислым видом, но постепенно его лицо светлеет.
В конце рабочего дня Сергей выходит на остановку, где всё это время сидел Паша.
СЕРГЕЙ: Тысячу рублей за десять минут, говоришь?
Паша не отвечает. Сергей достаёт пачку сигарет, прикуривает себе и Паше.
СЕРГЕЙ: Я так прикинул — сто у меня на депозите, ещё двести возьму, на себя оформлю. Запустимся нормально, потом, может, кикстартер, то-сё, выйдем на восемь-десять клиентов в день, там можно и штат расширить…
ПАША (медленно выпуская дым через нос): Патент мой.
СЕРГЕЙ: Ясное дело.
* * *
Надежда Карнишина. Без названия
Электронный голос: А331 окно 10
Электронный голос: А331 окно 10
Электронный голос: А331 окно 10
СОТРУДНИЦА БАНКА: А331, окно 10! Девушка! Вы же тут одна сидите! Вы не слышите, что я ваш номер называю?
БЕЗДОМНАЯ: Ой, простите, простите. Туплю. Ночь без сна, от ментов по парку бегала. Почему нельзя летом спать на лавочке?
СОТРУДНИЦА БАНКА: Понятия не имею. Я бы сама спала, хорошо же, свежий воздух. Боже мой, что за запах?
БЕЗДОМНАЯ: Да что такое? «Три топора» вчера пила. Может, от него так отдает.
СОТРУДНИЦА БАНКА: Точно! Вспомнила. День рождения в Крыму. Вот что этот запах напоминает.
БЕЗДОМНАЯ: Ой, а я ведь тоже день рождения праздновала.
СОТРУДНИЦА БАНКА: Вчера?
БЕЗДОМНАЯ: Нет, неделю назад.
СОТРУДНИЦА БАНКА: А мы тогда так хорошо в Крыму отдыхали. Море, звезды, портвейн… Так, а у вас какой вопрос?
БЕЗДОМНАЯ: Кредит хочу взять!
СОТРУДНИЦА БАНКА: На что?
БЕЗДОМНАЯ: На свадьбу! Чего? Удивляешься?
СОТРУДНИЦА БАНКА: Нет. На свадьбу так на свадьбу.
БЕЗДОМНАЯ: Так я пошутила. Какую свадьбу мне? Я десять лет в подъезде дома №6 по улице Мира живу. Слава богу, не прогнали еще оттуда. Мне кредит на смартфон.
СОТРУДНИЦА БАНКА: Хорошо.
БЕЗДОМНАЯ: Даже не спросите, на хрена мне смартфон, когда мне жрать нечего?
СОТРУДНИЦА БАНКА: Зачем? Мне все равно. Наш банк против стереотипного мышления. Ваш паспорт, пожалуйста.
БЕЗДОМНАЯ: Нет у меня паспорта.
СОТРУДНИЦА БАНКА: Хорошо. Вас как зовут?
БЕЗДОМНАЯ: Миронова. Анжелика Миронова.
СОТРУДНИЦА БАНКА: А отчество?
БЕЗДОМНАЯ: Ивановна.
СОТРУДНИЦА БАНКА: Анжелика Ивановна, ага. Какое интересное имя.
БЕЗДОМНАЯ: Да, мама роман “Анжелика” читала, когда была мной беременна.
СОТРУДНИЦА БАНКА: Подождите, я сейчас уточню. (Звонит по телефону). Алло, Миш, тут Анжелика Ивановна. Ага, паспорта нет. Хочет кредит. Что? Сейчас спрошу. (Вслух). Вы ведь точно Анжелика Ивановна?
БЕЗДОМНАЯ: Да, конечно! Зачем мне врать?
СОТРУДНИЦА БАНКА (по телефону): Да! Зачем ей врать? Да похожа она на Анжелику Ивановну. Ага, хорошо. Ладно, так и запишем. (Кладет телефонную трубку). Прекрасно, сейчас заявление заполним и дадим вам кредит.
БЕЗДОМНАЯ: Вы что? Даже без паспорта?
СОТРУДНИЦА БАНКА: Наш банк против бумажной волокиты. Справку с места работы будьте добры.
БЕЗДОМНАЯ: Э-э-э, а у меня нет справки. Я же не работаю. Я же сказала вам, я бездомная. Уже лет десять как.
СОТРУДНИЦА БАНКА: Ну вы ведь что-то делаете, откуда-то берете деньги. Бутылки, может, сдаете?
БЕЗДОМНАЯ: Да кто сейчас бутылки собирает, вы с ума сошли? Это же совсем мало денег! Я пою.
СОТРУДНИЦА БАНКА: Что поете?
БЕЗДОМНАЯ: Да все подряд, хожу по электричкам и пою. В переходе пою, пока меня не погонят.
СОТРУДНИЦА БАНКА: Под гитару?
БЕЗДОМНАЯ: Нет, акапельно.
СОТРУДНИЦА БАНКА: Ладно, я напишу, что вы певица. А сколько получается заработать? Какую цифру мне писать?
БЕЗДОМНАЯ: А что от этого зависит?
СОТРУДНИЦА БАНКА: Сумма кредита.
БЕЗДОМНАЯ: Ой, запишите тогда сто тысяч рублей!
СОТРУДНИЦА БАНКА: Хорошо!
БЕЗДОМНАЯ: Слушайте, вы вообще ничего не проверяете? Всему на слово верите?
СОТРУДНИЦА БАНКА: Ну, у сотрудников нашего банка хорошая интуиция. И зачем вам меня обманывать?
БЕЗДОМНАЯ: Ага, действительно. Зачем.
СОТРУДНИЦА БАНКА: Так, вбиваю. Сто тысяч рублей. Анжелика Ивановна. Кредит на смартфон. Угу. Все, записала.
БЕЗДОМНАЯ: И что теперь?
СОТРУДНИЦА БАНКА: Ничего. Можете идти домой. Или где вы там живете. В подъезд.
БЕЗДОМНАЯ: Подождите… А деньги?
СОТРУДНИЦА БАНКА: Какие деньги? Мы ничего без документов вам дать не можем.
БЕЗДОМНАЯ: А на хрена вот это все было?
СОТРУДНИЦА БАНКА: На хрена? Да скучно мне, Анжелика Ивановна. Очень скучно. Невозможно здесь сидеть. Невозможно слушать все эти запросы на кредит и жалобы, что денег мало. Задолбало. Сил нет. На хрен завтра уволюсь отсюда. Надо жизнь уже менять. И вы меняйте. Ну, невозможно, Анжелика Ивановна, ну вы же женщина, молодая женщина, а от вас так воняет! Ну какие «Три топора»? Эту дрянь пить невозможно же!

Больше позитива
Комикс был создан в рамках интенсива Creative Writing School на ВДНХ в феврале 2020 года. Слушатели мастерской Елены Авиновой и Натальи Осиповой придумывали своего супергероя и создавали про него первую короткую историю.

Гармония
Когда мой чемодан цокнул об асфальт стоянки аэропорта, я проверил, на месте ли паспорт, и уточнил, куда купил билет вчера вечером: в Рим, в Милан, в Турин — мне все одно. Я возьму машину и поеду в какой-нибудь сонный городок, названия которого еще не знаю. Там будет церковь, а рядом с ней, на измученной солнцем площади, дайте угадаю — бар «Централе» с вывеской, выцветшей еще в прошлом веке.
Я все думаю, когда именно это началось. Проматываю в голове последние два года. Иногда ставлю на паузу: здесь вроде ничего, поехали дальше. Хотя, стоп! Отмотаем немного обратно. Вот здесь, видишь? «Видишь?» — спрашиваю я себя.
— Видите? — Сотрудник аэропорта терпеливо указывает на экран, куда выводятся просвеченные рентгеном внутренности моего багажа, и слегка морщится, будто обнаружил опухоль.
— Ах, это. Штатив для фотоаппарата.
Пока я засовывал строптивые вещи обратно в чемодан — зачем спрашивать, если все равно не веришь? — вспомнил ее двухствольную сумочку. Так мы ее называли. На месте ручек — две длинные металлические трубки. Носила она ее редко, но всюду таскала за собой в багаже, обеспечивая регулярное внимание досмотрщиков. Наверное, хотела меня позлить.
В здании аэропорта, похоже, недавно закончили реконструкцию. Теперь оно напоминает перевернутое гнездо, свитое гигантской птицей из случайных обломков стекла и металла. Ну, или серебристую паутину, сплетенную неуемным пауком на фоне неба. Это если продолжать ассоциативный ряд юного натуралиста. В общем, с виду хрупкая, а на деле невероятно прочная конструкция, словно парящая в воздухе — представим слова архитектора.
В какой момент все начало рушиться? Знаете, есть такая игра, называется «Падающая башня». Вы должны вытаскивать по одному деревянному брусочку и стараться не превратить башню в руины. Помню, как она ходила вокруг стола, постукивая указательным пальцем по губам, изображая задумчивость: этот брусок? А может, этот? Угадай тут! Наконец, она делала свой выбор и вся конструкция с грохотом летела вниз. Мы смеялись. Мы были практически счастливы.
Только что сообщили, что рейс задерживается из-за тумана. Я сижу в зале ожидания рядом с выходом на посадку. Мимо гремят тележки, люди плывут с кофейными стаканчиками и картонными лицами. Справа, на стене, сплошь состоящей из окон, показывают рассвет. В самом центре моей головы на деревянной табуретке сидит киномеханик и, покачиваясь от усталости, крутит, крутит надоевший фильм.
Напротив человек с надутым лицом важно открывает и закрывает рот, повернувшись к немолодой остролицей блондинке.
— Что вы, это раньше они были бойцовые. Теперь это компаньон пожилого англичанина, друг джентльмена.
Тогда я заметил английского бульдога, растекшегося у ног мужчины. Унылый вид, обвисшие глаза, выпирающая нижняя челюсть. Это я про бульдога. Про хозяина что говорить. На джентльмена он не похож.
В одном интервью я недавно услышал, что время, проведенное в аэропорту и самолете, словом, день полета — это подарок. Чушь, по-моему, просто потерянный день. Да и перелеты с годами даются все тяжелее, как будто отрастил по лишней паре конечностей, которые некуда складывать.
Бульдог посмотрел на меня скептически. В это время к нашим креслам подошла девушка с чемоданом на коротком поводке, присела на корточки и скормила ему свою ярко-желтую куртку. У собачника теперь было целых две собеседницы.
— Вы знаете, таксе ведь совсем не подходит имя Фиеста! Вот Фрося — да. Или Клементина.
Мы с женой познакомились в бассейне спортзала, куда давали абонемент на работе. Да-да, мы тогда работали в одном журнале, а познакомились, когда были в плавках и купальных шапочках. Она только пришла к нам в редакцию, потому я ее и не узнал.
Первым, что я увидел, были ее ноги. Я плыл под водой с открытыми глазами. Она ходила по дну бассейна на самых кончиках пальцев и раздвигала голубую воду какими-то па.
Потом она рассказала, что училась в хореографическом, но после четвертого класса пришлось уйти из-за плохой выворотности.
— Разве из-за такого выгоняют? — спросил я. Меня-то с журфака дважды чуть не выперли из-за прогулов.
Она писала про моду и была фотографом в нашем журнале, а в свободное время снимала балерин. У меня к тому моменту была своя подводная жизнь. На поверхности я был ведущим специалистом отдела рекламы, а ночами, набрав в легкие побольше воздуха, пытался писать книгу.
Съехались мы довольно быстро. Моя квартира в один вторник стала ее. Она была повсюду: на полочках в ванной, в шкафу, на подоконниках, даже на моем рабочем столе. Ее баночки, ее носки: почему все говорят, что их разбрасывают мужчины? Ее золотистые волосы. Она любила засунуть в них какую-нибудь ерунду: карандаш, там, или фломастер. Ну, вместо заколки, чтобы закрепить прическу. Чем дольше мы жили вместе, тем более странные вещи там появлялись. Значит, думал я, начала доверять мне. В ход пошли колюще-режущие. Однажды она готовила лазанью и скрепила пучок вилкой.
Туман, вероятно, рассеялся, объявили посадку. Длинная очередь переминается с ноги на ногу. Полноватая брюнетка передо мной дергает маленькую дочь за руку так сильно, словно хочет оторвать ее и забросить куда подальше, кричит что-то про злого дядю полицейского. Вот про таких мамаш мы всегда и говорили, когда обсуждали воспитание детей. Конечно, мы хотели быть идеальными родителями. Ну, знаете, такими, после жизни с которыми ребенку не понадобится психотерапия.
Так вот: готовила она, значит, лазанью и скрепила пучок вилкой. А когда сели есть, достала ее и использовала по назначению. Было в ее натуре что-то клоунское, и это ужасно ей шло. Чего я терпеть не мог, так это спорить с ней: она вся становилась розовой и вцеплялась в меня бешеными глазами. Сама она повторяла, что ненавидит споры. Стоит ли говорить, что спорили мы довольно часто и в основном по поводу вещей, в которых она ничего не понимала. Впрочем, даже в этом была какая-то своя, необъяснимая гармония.
Спустя пять лет после свадьбы нас стали спрашивать про детей не только родители. Она училась на дизайнера интерьеров: решила сменить профессию после того, как оформила нашу квартиру. Детей она не хотела: ну когда? Родителей, своих и моих, обвиняла в репродуктивном терроризме. Я был не против ребенка, но террористом прослыть не хотел. Да и думать об этом было особенно некогда. На работе у меня были ответственная должность и куча обязанностей, а в домашнем компьютере — недописанный роман. Я все пытался довести его до идеала, заставить смыслы и предложения ходить стройными рядами, но они постоянно вырывались, убегали и показывали мне языки.
В самолете я оказался втиснут между молоденькой девушкой и хозяином бульдога. Сам бульдог отправился в багажное отделение. Собачник непривычно молчал и выглядел осиротевшим, даже лицо его как будто сдулось. Нас предупредили о возможной болтанке.
— Как тебе имя Марфа? — спросила она однажды утром, вдевая сережку в правое ухо. — Ну это, если девочка будет, конечно. Стой-стой, пока не радуйся!
Беременна она не была, но с этого момента мы решили, что хотим стать родителями. Я говорю «мы», потому что для этого ведь нужны двое. Через семь месяцев она скачала приложение для определения дней, когда успех наиболее вероятен. Еще через три — запретила планировать поездки на эти даты. Через полгода я пошел сдавать анализы. Они оказались вполне нормальными. Не идеальными, конечно, я давно подозревал, что абсолютно средний. Моя книга тому доказательство.
Бывало, у нее резко повышалась восприимчивость к запахам (выкинь свой дезодорант!), затем приходила легкая тошнота по утрам. В двадцатых числах она грохала дверью ванной, и я из кабинета слышал мелкие удаляющиеся шаги. Признаться, эти чертовы двадцатые числа были нашей единственной проблемой. В какое-нибудь дождливое воскресенье после пары попыток разбудить меня к завтраку она забиралась на кровать и прыгала как сумасшедшая, даже грозилась кинуть в меня подушку. Ее останавливал только мой псевдогрозный сонный вид. Мы были практически счастливы.
Турбулентность устроила бурю в моем стакане с томатным соком. Хорошо, я не взял чай или кофе. Соседка вцепилась в поручни. У меня есть друг, который учится на частного пилота. Он говорит, что самое опасное в полете это первые и последние секунды, взлет и посадка. Остального бояться не стоит. Тем более, турбулентности.
— Как тебе имя Арсений? Если мальчик будет?
Она запрыгала, я поймал ее и начал кружить. Мы пошли есть мороженое в кафе за углом. Там были десятки разных видов. Она заказала малиновое, сырное и чесночное и злилась, что официантка на нее пялится: ну да, такие вот вкусы. Я не сказал, что в волосах у нее пилочка для ногтей. Мы были на пороге счастья.
Утром тринадцатого марта (помню эту дату совершенно точно) она сказала, что чувствует себя странно. Не то, чтобы что-то болит, но все-таки. Она и в обычное время была мнительной, а тут шестой месяц. Следующей ночью я проснулся от удара в бок локтем. Она так и знала! Она чувствовала! Мы поехали в больницу. В моей машине был спортивный режим, и я был уверен, что езжу быстрее, чем скорая.
Объявили, что наш самолет облетает грозовой фронт. Мелкая тряска сменилась чередой воздушных ям. Свободное падение гораздо приятнее на аттракционе в парке. Хотя и там я его недолюбливаю. В салоне моргает свет, женщины вскрикивают. Плачет ребенок. Через проход от нас — та брюнетка из очереди. Она улыбается, гладит дочь по волосам и шепчет ей что-то на ухо. Я смотрю на нее, и мне становится спокойнее.
Марфа родилась в срок, здоровой и волосатой. В первый день жизни выражение лица у нее было довольно гневное, но потом это прошло. Через полгода опубликовали мою книгу.
Болтанка закончилась, мы начали снижаться. Облачная пена сменилась зелено-коричневыми заплатками. Когда до земли оставалось несколько десятков метров, самолет оттолкнулся от воздуха и снова устремился вверх: мы пошли на второй круг. Когда пошли на третий, появилась бортпроводница с лицом, застывшим в доброжелательной улыбке, на губах — морковная помада в цвет формы. Она сказала, что наш полет немного затянется. Ничего страшного, просто приборы показывают, что у самолета не выходят шасси. Вернее, выходят, но только с одной стороны. Мы будем летать еще какое-то время, чтобы сбросить топливо. Не стоит волноваться. Я слышал, что шанс попасть в авиакатастрофу примерно такой же, как погибнуть от падения метеорита.
Я все думаю, когда именно это началось. Проматываю в голове последние два года. Иногда ставлю на паузу: вот она сидит в кровати с Марфой на руках и смеется. Вот она закалывает волосы дешевой пластиковой заколкой. Вот она считает, что я отвратительный отец. По ее словам, проблема была в том, что моя жизнь абсолютно не изменилась. Мне же казалось, проблема в том, что изменилась ее жизнь.
Мой друг, тот, который получает лицензию частного пилота, говорит, что самолет может садиться на брюхо и тормозить всем фюзеляжем. Конечно, это гораздо опаснее, чем приземляться в штатном режиме, но лучше, чем садиться без одного шасси. Тогда катастрофа неизбежна. Губы стюардессы заалели в проходе. Они сказали, что мы готовы к посадке. Капитан надеется, что проблема в приборах. Нужно все убрать, обмотать голову одеждой и прижать ее к коленям.
Не думал, что это будет настолько похоже на то, что показывают в фильмах. Диван из коричневой кожи, книги, но главное, конечно, постоянное «что вы сейчас чувствуете?». Наш семейный психолог обожал этот вопрос. Я никогда не знал на него ответа. Она чувствовала гнев, боль, раздражение, вину, усталость и, кажется, еще что-то. Я чувствовал, что кожаный диван довольно скользкий и сидеть на нем не очень удобно.
Я был уверен, что кричать будут похуже, чем во время тряски, но все сидят молча, вернее, лежат, уткнувшись в колени. Соседка схватила мою руку. Ее ладонь влажная и холодная, но она приятнее, чем пластик поручня. Я всегда думал, что день полета — это потеря времени.
В какой момент все начало рушиться? Мы ведь были так счастливы?
Как только самолет перестал катиться, появилась стюардесса с доброжелательным лицом. Она сообщила, что мы успешно приземлились в Милане, что наш полет окончен и что она желает нам приятного отдыха. Через секунду ее морковная улыбка сломалась, и она зарыдала, закрыв рот рукой.
Я планирую взять машину в аренду и поехать в какой-нибудь сонный городок, названия которого еще не знаю. Там будет церковь, а рядом с ней, на измученной солнцем площади — крошечный бар. Мы часто бывали в таком во время медового месяца. Помню, его скучающий владелец всегда кричал «ciao ragazzi», приметив нас вдалеке. В самолете была секунда или даже целая минута, когда я хотел отправить ей сообщение. Не знаю, дошло бы оно, если бы шасси все-таки не вышли и мы разбились.

Гуклук
Конец света начался как по учебнику. Над городом нависла туча, она бурлила и переливалась фиолетовым. Небо задребезжало, и в центре тучи появилась чёрная воронка. Приторно запахло жасмином. Из телевизора завыла сирена: ОКС-Алерт. Окончательный Конец Света все-таки наступил. В двухтысячном пронесло, в двенадцатом тоже, даже в тридцать шестом, когда казалось, без вариантов. Надеялись, и теперь пронесет.
Ольга разбирала вещи в шкафу да так и застыла с футболкой в руках. Раньше она часто пыталась вообразить начало конца: что будет чувствовать, о чем думать. Проникалась трагизмом. А теперь стояла и тупо пялилась на стопку Костиных трусов. В голове мелькали короткие, как титры, бесцветные мысли. Бежать за Степой в школу или ждать дома? Куда теперь столько борща? Волосы так и не покрасила… Одно помнила точно: «С детьми и животными следует явиться в местное отделение Министерства Окончательного Конца Света. Распределение для взрослых можно получить онлайн».
Опять громыхнуло, теперь входная дверь, и в комнату ввалился Костя: потный, красный, очки перекосились, галстук съехал набок.
— Бежим! — крикнул он и упал на диван.
* * *
Марина Львовна, классная руководительница, увидев Ольгу с Костей, зычно гаркнула:
— Степан! На выход!
— Спасибо вам за все, Марина Львовна, дорогая, — сказала Ольга очень душевно. — Вы были нашей любимой учительницей.
— Да ладно. — Классная отвернулась, шмыгнула носом, но быстро взяла себя в руки.
— В МОКС сейчас? За распределением? Попов… Степа, смотри, не опозорь школу! Куда бы ни попал, помни: знания — сила! Будь хорошим товарищем, помогай слабым. Понял? Ну, с богом!
Очередь в МОКС тянулась от самого «Ашана». Дети, недовольные онлайн-распределением взрослые, собаки, коты, кролики в клетках, даже пара попугаев.
Степа остановился.
— А где Чипик?
— Чип остался дома, — ответил Костя уныло.
— Как это дома?
— Мы его забыли. Понимаешь ли, Чип является хомяком, следовательно, в списке наших приоритетов…
— Без Чипика не пойду, — перебил Степа.
— Сыночка, — вступила Ольга. — Бабулечка ждет, дедуля. Пока мы за Чипом, пока обратно — это час! Вообще можем не успеть. Ты же знаешь, не попал в Систему, не подписал — все…
— Знаю, — сказал Степа и сел на землю.
— И ты больше никогда-никогда не родишься…
Степа упрямо мотнул головой.
— Это невероятно! — возмутился Костя. — Он из нас веревки вьёт! Степан! Я сказал, никаких хомяков! И точка!
Костя вернулся ровно через час, таща в руках громоздкую клетку. Степа успокоился: Чип тут, мама-папа тоже и, похоже, успевают до закрытия. Еще через три часа попали в здание и получили заветный номерок — стойка номер шесть.
Зал приемного отделения МОКС был заставлен столами и забит людьми. У столика с табличкой «№6» переминался с ноги на ногу высокий мужчина в деловом костюме.
— Девушка, — взывал он. — Пожалуйста, гляньте, может, можно что-то сделать…
Девушка с собранными в дульку волосами и бейджиком «Консультант Варвара» горестно вздыхала:
— Мужчина, поймите. Мы ничего не решаем. Вот что Система пишет, то и есть. Сегодня женщина отказалась быть звездой. Не хочу, говорит, миллионы лет одна в космосе болтаться. А ответственность? Без звезды нет планет, нет биологической жизни. Скольких подвела… Подписали бы уже? Детей задерживаете. И меня, между прочим, жених ждет. С вином и свечами. — Ее голос дрогнул.
— Вам хорошо, жених, а мне? Ва-ря! Ва-реч-ка! Вслушайтесь только: непостоянный изотоп, продолжительность жизни — одна тысячная секунды! Как же так?! Ну, давайте я вам денег дам, а? Или вот… часы… — Он стал суетливо расстегивать ремешок.
— Странный вы человек. На фига мне часы? Знаете, идите лучше к заведующему, у него связи. Следующий.
Распределение — плевое дело: сдаешь слюну или волосок, ждешь две секунды, получаешь ответ и ставишь подпись в виде отпечатка пальца. Или лапы, если ты, скажем, кот или собака. Или не ставишь. Но тогда все.
Вот и Степа только плюнул в пробирку, а консультант Варвара уже зачитывала:
— Гуманоид. Пол — женский. Продолжительность жизни девяносто три земных года. Берете?
Ольга расцвела:
— Не зря я дочку хотела. Конечно, берем. Да? Степка?
— А есть варианты? — пожал плечами Степа и надавил большим пальцем на экран для подписи. — Теперь Чип.
Варвара нахмурилась:
— Вообще-то, хомяков у второй стойки принимают. Ладно, давай, как там его…
Она вынула Чипа из клетки, выдернула пинцетом шерстинку, поместила в прозрачную коробочку. Собралась озвучить результат, как вдруг вырубило электричество. Зал загудел, чиновники забегали, засуетились, наконец выяснилось: выбило пробки. Починили, загрузили Систему — бах! Снова. С третьей попытки компьютеры все-таки заработали, а вот Система стала подвисать. В очереди за Степой уже детей десять.
— Пойдем, — шепчет Ольга, — к бабушке не успеем!
Степа чуть не плачет:
— Еще раз попробуем. Последний.
Попробовали еще раз, наконец Система выдала ответ.
Варвара недоуменно уставилась на экран.
— Лен!
Подошла Лена, склонилась, зашевелила накрашенными губами:
— Гуклук. Это что такое?
— Понятия не имею.
— А в описании?
— Пусто.
— В словаре?
— Ничего.
— Продолжительность жизни вообще не указана, что ли?
— Не-а. Нажимаю — вырубается. Ошибка?
— Теоретически такое может быть, если во Вселенной не нашлось аналога. Это чье распределение?
— Да вот, хомяка.
— Так а че тогда паришься? Мальчик, твой хомяк будет Гуклуком. Это такой… эмм… Рыцарь… В доспехах. Как Супермен.
— Супермен не в доспехах, — сказал Степа. — Гуклук так гуклук. Лучше, чем изотоп. Или вообще ничего.
И поставил подпись Чипиной лапой.
* * *
К бабушке добрались уже затемно. Дверь открыл дед.
— Где вас черти носят! Мы думали, случилось чего!
— Вероятность того, что несчастье случится за два часа до конца света, равна нулю целых одной стотысячной… — заметил Костя, разуваясь.
— Зануда ты, Костя, ничто тебя не берет, — сказала бабушка. — У меня все остыло уже. Ну, Степик, где они тебя мотали, голодного? Расскажешь бабе кем будешь в новой жизни?
— Мама и папа, — сказала Ольга торжественно, — Степа будет женщиной!
— Хороший мальчик! Долго?
— Девяносто три года!
— Молодец! Значит, будет хорошо кушать, будет сильный и здоровенький! Ну, давайте, моем руки и садимся.
Посреди комнаты стоял большой праздничный стол. Все Степино любимое: блинчики, жареная курица, картошка фри и даже кока-кола. В углу сверкала пушистая и пахучая елка. Степа обалдел:
— Дед, а чего это у нас елка в мае?
— А где май? Декабрь, самый настоящий. Смотри. — Дед отдернул штору. С неба огромными бело-серыми хлопьями валил снег. — То-то, ребята. Давайте, значит, быстренько старую жизнь проводим. Хорошая была жизнь!
Налили, чокнулись, выпили, закусили. Опять налили. И опять. И стало так отчаянно весело, так беспечно, что налили на донышке даже Степе. И Чипику дали понюхать, а потом выпустили побегать по столу. Чип потешно набивал щеки фаршированными яйцами, а бабушка всхлипывала сквозь смех:
— Ой, не могу… Уберите крысу со стола…
О распределении вспомнили минут за двадцать до конца. Уселись вокруг компьютера. Ольга диктовала, а Костя вводил длинные цепочки из букв и цифр. Ольга зачитывала вердикты.
— Бабушка первая. Итак, мама. Ты будешь… Белкой! Продолжительность жизни четыре года. Берешь? Сюда жми.
Дедушка развеселился:
— Вот, Люся, не зря я говорил — мозги как у белки. Все прячешь и забываешь.
— А ты, папа… О, господи. Птеродактиль.
— Что еще за зверь?
— Это, дедушка, динозавр такой. Летучий.
— Да, мне подходит. — Дедушка приосанился. — Птыродактыль.
— Жить будешь сорок с лишним лет. Сказать точно?
— Не надо. Сорок лет в свободном полете… Реванш! — Он подмигнул бабушке.
— Ты, Костя… Будешь… Ой, смотри какое совпадение! Тоже белкой!
— Вот здорово! — обрадовался Степа. — Может, папа с бабушкой встретятся и наконец подружатся.
— Вот уж спасибо, — сказали бабушка и Костя хором.
— А я буду прекрасной принцессой, — улыбнулась Ольга. — Жить во дворце, у меня будет ручной лев и ковер-самолет.
— Правда? — Степа раскрыл рот.
— Увы. Бактерией. Вроде стрептококка.
Все замолчали, стало как-то невесело. «За эти десять тысяч лет продолжительность жизни увеличилась на восемьдесят шесть процентов…» — проникновенно вещал телевизор голосом президента.
— Слушайте, — спохватилась Ольга. — Мы же так Конец Света пропустим! Минута осталась! Быстро разливайте шампанское!
Бахнула пробка, шампанское полилось в бокалы, в тарелки, на скатерть.
— Бог с ней, со скатертью, — заплакала бабушка.
— Отставить сырость! А ну, все обнялись, загадали желание и считаем: Десять!
Погасла елка.
— Девять!
Выключился свет.
— Восемь!
Пол задрожал, посыпалась штукатурка.
— Шесть!
Потолок треснул, из окон брызнули стекла.
— Четыре!
Земля выгнулась, небо загрохотало, воронка стремительно завертелась, засасывая деревья, машины, дома…
— Два!
Степа сунул Чипа в карман, крепко сжал мамину ладонь и зажмурился изо всех сил.
* * *
Гуклук пока совсем ещё маленький, плотный, горячий. Скоро он начнёт расти и остывать. Появятся первые частицы, из них сложатся планеты, звёзды, галактики. На планетах зародится жизнь: бактерии, ящеры, белки. И гуманоиды. Однажды гуманоид посмотрит вокруг, почешет лохматую голову, взглянет в небо и заворочает непослушным языком. «Гуклук», — скажет он, что означает: «Весь материальный мир, безграничный во времени и пространстве и бесконечно разнообразный по формам, которые принимает материя в процессе своего развития.

Дождь в марте
Тусклый свет льётся из зарешеченного окна, мутный — если его потрогать рукой, то рука растворится в нем. За окном громоздится рыхлый мартовский снег, бетонная стена с колючей проволокой уходит к горизонту набухшего тучами неба и сливается с посеревшим снегом, так что кажется, что зоне нет конца. Под окном два охранника бессмысленно долбят мерзлый лёд. Мерзлая погода, мерзлый лёд, мерзлая душа у меня, она, как и небо, готова была бы заплакать, но разучилась, слезы застревают в ней и превращаются в воспоминания.
Я — химик, я всю жизнь работал по специальности. В детстве как-то утром папа разбудил меня и сказал: «Мне повысили зарплату, хочу сделать тебе подарок». Был такой же мартовский день, мы шли по мосткам в ленинградских новостройках, лавируя между котлованами и кучами чёрной земли, дошли до магазина и купили набор «Юный химик». Набор был очень дорогой, я нёс коробку как сокровище, а придя домой немедленно распаковал и приступил к опытам. Химия была завораживающим занятием… Мне нравилось смотреть, как вещества меняют цвета, как они превращаются из одного в другое, даже как мутнеют пробирки — во всем этом, казалось, есть что-то такое чудодейственное, как будто ты можешь управлять природой вещей.
Я поступил в Технологический Институт — самый лучший вуз, где готовили химиков. Стояло смутное время, разваливалась страна, но я учился как сумасшедший и после института остался на кафедре — это было унылое место, туда приходили плохо одетые люди, кипятили воду кипятильниками и пили невкусный чай. Там я познакомился с Геннадием Филипповичем. Как-то раз он пригласил меня к себе в кабинет, включил кипятильник, посмотрел на меня внимательно и сказал: «У меня… есть наработки… технологии… их можно коммерциализировать, сейчас время такое… сами знаете, я долго к вам присматривался, думаю, мы сработаемся». Не хочу об этом дальше — вспоминается другой разговор у меня в кабинете спустя пару лет. «Геннадий Филиппович, — говорил я, стараясь звучать твёрдо, но тон срывался вверх, как у школьника. — Ваши технологии — они уже не ваши. Они мои. Все патенты зарегистрированы на меня. Я обеспечу вам достойную старость, но… вам придётся отойти». Я не ищу оправданий, нет, просто не люблю об этом вспоминать.
В то же время я встретился с Андреем. Он уже тогда был другим — мы носили черт-те что полубандитское, а он ходил в пиджаке и галстуке и сыпал терминами, которых я не понимал — NPV, EBITDA и подобное. Как-то раз мы все крепко гуляли, и он задумал переплыть Неву — срочно надо было к девушке, а я взял и пошел с ним. Неву мы не переплыли, нас быстро забрали в милицию, но я помню, как мы шли по залитому северным солнцем Петербургу, и я чувствовал, и, мне кажется, Андрей чувствовал, что нас с этой минуты что-то связывает, и мы теперь друг друга никогда не предадим.
А потом разразился кризис, и Андрей уехал учиться в Америку. Я вспомнил про него, когда встал вопрос покупки завода, попросил посмотреть отчетность, а он взял и прилетел на следующий день. Я помню этот зимний вечер, мы сидели в ресторане на набережной Волги в Нижнем Новгороде, в глазах Андрея сиял мир по ту сторону океана, он рассказывал нам с партнерами — случайно обогатившимися трейдерами, торговавшими этаноламинами, а еще не брезговавшими паркетной доской и селедкой в консервах, — про то, как мы разовьём этот бизнес, про грядущее IPO, про стратегических инвесторов, которых он знает чуть ли не поименно, и что на все это нужно три года, и у него есть план. «Дорожная карта» — так он выразился. «Мы берём его в компаньоны», — сказал я, и возражений не последовало.
Даже неважно, что ничего этого не состоялось — страна очень быстро стала совсем другой, и мне жаль утраченных надежд, но я все равно рад тем минутам счастья, которые испытывал, когда видел, как на месте жалких советских коробок, треть потребляемой энергии которых шла на их обогрев, вырастали современные цеха, или как появлялись новенькие цистерны с нашим логотипом. Но очень скоро стало понятно, что мы достигли потолка, мы не росли, мы судорожно кидались в разные стороны. «Давай купим швейцарского трейдера», — как-то предложил Андрей. Неужели он уже тогда все предвидел?
И вот тогда нарисовался этот генерал ФСБ. Он подошёл на приеме у губернатора — грузный и лысый, похожий на постаревшего Тараса Бульбу, — и сказал: «Я давно восхищаюсь вашим предприятием, Владимир Николаевич! Самые лучшие показатели по производительности!» Через две недели мне позвонили — генерал готов сделать предложение о покупке завода.
«Завод не продаётся», — ответил я. Как я мог его продать? Я химик, я всю жизнь работал по специальности. Мои предки по отцовской линии были евреи и держали шинок. Приходили австрийцы, русские, потом белые, поляки, красные, кто-то кого-то постоянно резал, а они все держали шинок, пока советская власть его окончательно не реквизировала. Так и мне казалось: этот завод — мой шинок, след в мире, и, если я его продам, я стану ненужным. Теперь я понимаю — жизнь дается нам, чтобы построить лестницу в небо. А мы останавливаемся на полдороге, смотрим на великолепие того, что когда-то сделали, и не идем дальше. И тут лестница падает под собственным весом, потеряв точку опоры.
Неприятности начались сразу же — так одна химическая реакция рождает другую, и уже не установить, с чего все началось. Когда «Газпром» не подписал продление контракта, я поехал в Москву. «Почему? У меня же самый современный завод!» — протестовал я перед начальником департамента. «Ваш завод токсичен, — сказал он устало. — Продайте его, и мы возобновим контракт с новым владельцем». Я был настроен воевать, но Андрей охладил мой настрой. «С кем воевать? — спросил он. — У них есть все. Они помножат нас на ноль и не чихнут. Надо выводить деньги на трейдера в Швейцарию и самим валить при возможности. Пусть им достанется пустая коробка». И я согласился.
Я помню последнюю встречу с Андреем перед самым арестом. Уже выяснилось, что трейдер был выкуплен только на него, что все деньги, которые удалось вывести, достанутся Андрею, а мне — пустая коробка и вероятный срок. «Я вытащу тебя, если что», — говорил Андрей, и я понимал, что ниоткуда он меня не вытащит, что он, в принципе, хороший человек, но так вот сложилось, и вспоминал, как сам обещал Геннадию Филипповичу достойную старость. Перед глазами пронеслось, как много лет назад мы шли по залитому северным солнцем Петербургу, и я физически ощущал, как мертвеет душа и от неё отваливается кусок за куском. Ночью меня арестовали.
Сквозь окно камеры я вижу, как тяжелеет небо и лиловая туча набухает над сереющим горизонтом. Вот уже полнеба залито лиловым, туча растет, полнеет, засасывает в себя остатки мутного мартовского света, как черная дыра, и я сначала вижу, а потом слышу дождь. Я вижу, как струи воды смывают слои грязного, рыхлого, обрушивающегося под собственной тяжестью снега, и земля обнажается, подставляя свои раны струям несущегося потока, словно хочет смыть с себя всю накопившуюся за зиму мерзость. Я слышу, как капли отскакивают от зарешеченного стекла, оставляя на нем похожие на слезы ручейки, и думаю, что, если у меня были бы слезы, они бы лились в унисон с этими ручейками.
И я чувствую облегчение на душе или на том, что от нее осталось, и мне хочется вернуться в начало — в то мартовское утро в ленинградских новостройках, когда мы с папой пошли в магазин и купили мне набор «Юный химик».

Единодушие
Как-то пятьдесят грамм развязали язык моему деду. Четыре или пять поколений — может, больше — передавали истории о бравом предке: следователе уголовного розыска. Он начинал в рядах рабочей милиции, куда его сагитировал комиссар, а дослужился до старшего уполномоченного. Но, вероятнее всего, он был выдуман каким-то совсем древним дедом, так же согретым парой стопок. Где он служил, когда — бог знает, столько приплелось за эти годы. Теряя детали, деды додумывали, докрашивали. Лишь имя хранилось незыблемо, странное для наших мест, не то грузинское, не то занесённое прямиком из Италии — Тито.
Среди историй о славных делах Тито одна выделялась.
* * *
Утро кончилось, в воздухе уже не пахло яичницей.
Тито не спеша опаздывал на работу. В конце улицы, перед ярко освещённым проспектом располагался участок. Следователь был высок, худ, лыс — на что не покусилась природа, регулярно сбривал, возмещая пышными усами. В жару, как сегодня, носил широкополую шляпу. Три верхних зуба в его улыбке сверкали золотом.
Когда улица сузилась до пары метров, Тито поднял взгляд к бельевым верёвкам. Одну заселили пелёнки; пересчитав их, он отметил, что малыш у недавних новобрачных из второго подъезда переходит от количества к качеству. Ниже тянулась бахрома носков — старая Клара выражала заботу о муже; завтра повиснут трусы — пять чёрных и пара тёмно-синих с якорями.Тито учёл и ревнивую жену в окне четвёртого этажа — из года в год взглядом вела мужа от их подъезда до гостиницы, где он служил.
Лишь вчерашний вечер омрачал утро.
В конце дня пришло известие о смерти двух подозреваемых в карманной краже. Оба отрицали вину, а жертва кражи — нервная гражданка — сомневалась и хотела одного: чтоб ей вернули кошелёк, который постовой обозвал уликой и забрал. Усадив обоих щипачей в служебный грузовик, постовой поехал в участок, но при выезде на проспект перестарался с газом и вылетел на трамвайные пути, где его подмял пузатый вагон и нехотя потащил, скрипя металлом.
Собственно, настроение Тито омрачало то, что уже не затеять любимой игры — глаза в глаза: не раскусишь воришек, как умел только он — взглядом.
Тито желал знать, а судил далеко не всегда.
Миновав проходную, он направился к себе.
В воздухе участка повис ропот: тесная низкая камера в конце коридора была забита под завязку. Недовольные, простые с виду горожане жались друг к другу, как в переполненном транспорте. Обычно за решёткой томились пара-тройка небритых жуликов, один непременно прогуливался. Залюбовавшись нынешним аншлагом, Тито так и вошёл бы в закрытую дверь кабинета, если б изнутри её не отворил помощник.
Костя — молодой ещё, недавний фронтовик, с узкими полосками усов и строгим пробором, — нехотя начал свою полную писанины карьеру, однако быстро вошёл во вкус и смело советовал Тито применять новаторские методы ведения следствия. Его дедуктивное рвение утомляло настолько, что Тито взял за правило раз в день грозить увольнением.
На столе Кости росли стопки бумаг. Стол Тито пустовал, чтоб было просторнее закидывать ноги, лишь с краю пылился стакан с карандашами: Тито вертел их меж пальцев, тормоша мысли, иногда ломал, но бумаги не касался никогда. Помимо прочего в обязанности Кости входило следить, чтоб стакан не пустовал.
Кинув шляпу на голую вешалку, Тито сел, почесал лысину, хоть та и не чесалась. Перед глазами стояла переполненная камера — дождавшись, пока вернётся помощник, он вынул из стакана карандаш.
— Костя, что там?
— Убийство в трамвае.
— Опять трамвай… Эти оттуда? — кивнул он на стену.
— Все до одного.
— Так… Опознали?
— Капчан Марат Игнатьевич. Только девятнадцать исполнилось. С завода ехал — уволили. Утром. Я узнал. Он документ в тряпке с собой носил.
— Пьяный?
— Разило порядочно, ждём вскрытия. По виду из этих. — Костя глянул на шкаф: торец украшали портреты угрюмых граждан с номерами. — Судимость год назад — хулиганство, мордобой, два месяца. Сирота. Из тюремной характеристики: склонен к пьянке, к играм, вспыльчив. Всё.
— Что — прямо в трамвае?
— Да.
— А вагоновожатый?
— Он и вызвал наряд. Его Ватман допрашивает. Уже час, наверное.
— При чём здесь Ватман?
— Говорит, скучно.
Тито сломал карандаш пополам и по очереди швырнул обе половины в фикус над головой Кости, затем уточнил:
— Сколько их там?
— Двадцать один. Не считая вагоновожатого и беременной — она в больнице. Упала в обморок, решили не рисковать.
— Этих хватит. — Тито пристально оглядел помощника. — Не понимаю, Костя, что вы такой неаппетитный? Работы предостаточно.
Костя пристыженно опустил глаза.
— Они молчат.
— То есть?
— С их слов выходит, что убийства никто не видел. Кто в окно смотрел, кто отвернулся, кто уснул.
— Что, все?
— Как один. Проверьте сами.
— Когда ж они сговорились? — озадачился Тито. Припомнил ропот камеры, но даже если они успели пошептаться перед допросом — мало, ничтожно мало времени сойтись в общем решении, неудобном для двух десятков незнакомых людей. Тито откинулся на спинку стула, сплёл пальцы. — С чего такое единодушие?
— Сочиняют, кого на что хватит. Но убийства! — Костя поднял палец. — Убийства никто не видел.
— Как убили? Если шилом, оно возможно.
— В том и штука — ножом в горло, по рукоятку. Там кровь фонтаном лила. Троим рожи умыло, а они божатся, что увидели только как он с ног валился. Прямо между рядами лёг.
Тито недоверчиво оглядел помощника.
— А всех взяли?
— Всех. Вагоновожатый когда по тормозам дал, двери заклинило. Им деться некуда было — наши ломом двери разжимали.
— Здорово.
За окном по проспекту, стуча колёсами, проехал трамвай. От греха подальше Костя спрятал в стол свои брошюры. Приняв скорбный вид, он перебирал в уме всё, что сделал, и не находил ошибки.
Тито отмер, облокотился о стол и начал раскручивать маховик больших пальцев.
— Так… так… А что нож? Отпечатки сняли?
Костя помрачнел гуще.
— Отпечатков нет. Только убитого, сильно смазанные, и ничьих больше. Ей-богу, всем отделом смотрели.
— Смазанные? Значит, стёрли. Вы ж не намекаете на самоубийство? Чей нож, установили?
— Его. Ножны на груди висели, как раз впору. Нож самодельный, такие работяги себе на станках делают. Острый как бритва.
— Так и был в горле?
Костя кивнул.
Встав, Тито упёр руки в стол и опустил голову. Городок был мал и спокоен — окраина. Самое острое дело последней недели — хищение трёх ящиков мороженого, за последние месяцы — поджог соседского сарая, кражи на складах, несколько пьяных драк, в одной из которых, вероятно, и участвовал этот Марат. Худшее, что случилось за последние несколько лет — похищение сына управдома, благо, нашли. А тут столько крови средь бела дня.
— Костя… Что они всё-таки говорят? Показания сходятся?
— Левая половина трамвая в левые окна смотрела, правая — в правые. Кто близко — на часы, или отвернулся, или спал стоя… Ничего внятного. Вагоновожатый увидел, что сзади неладно, дал по тормозам, а там уж труп.
Тито поднял лицо и подмигнул помощнику, почти радостный, как ребёнок от новой игрушки.
— Отчего они врут?.. А? Ведь понимают, что мы понимаем, что врут.
— Так, может, нет! Последние исследования показали, что страх, например, влияет на человеческую память. Что, если… — Костя полез за брошюрой.
— Нет, нет… Нет… Место осмотрели? Досмотр? Протокол?
— В трамвае ничего — на полу семечки да билетики. И с этих ничего — добропорядочные, как домашний скот. Вот протокол.
Костя положил руку на довольно толстую папку. С этого и следовало начать, но сегодня Тито решил пойти — увидеть их глаза, а уж после смотреть в бумагу.
— Ладно. Давай глянем, на что это похоже.
Хрустнул пальцами, накинул китель.
В камере царило оживление. Судя по тону, переговоры обернулись спорами, но с появлением людей в форме ропот стих. Взопревшие разгорячённые лица нацелились в следователя.
Тут были и два уголовных, хорошо знакомые — ошарашено жались по углам. У решётки скопились подушки, авоськи, абажур, детская коляска и прочий багаж, такой же безобидный, как его обладатели.
Тито указал дежурному на замок и, не дожидаясь, представился. Внутри он подождал, пока толпа расступится, шагнул в центр круга и начал:
— Господа, наметилось происшествие. Заключение ваше вполне уместно в период расследования по уголовному, подчёркиваю, делу. Не распускать же вас с такими ценными сведениями. Да?
Тишина и неподвижность. Лишь уголовные глумливо лыбились. Мужчин была треть — рассредоточились, следили за осанкой, пожилые переглядывались, трое школьников соблюдали молчаливый восторг.
Тито повысил тон.
— Свидетель!.. Пребывает в особых отношениях с законом. Для закона свидетель — это не только ценные сведения, но и потенциальный преступник, скрывающий их. Вот вы. — Тито обратился к мужичку в панаме, на что тот рефлекторно отступил. — Вы свидетель?
— Пардон, — замялась панама, — не улавливаю вопроса.
— Отчего же, всё предельно уловимо. Вопрос, собственно — почему?!
И Тито медленно обошел живое кольцо, вглядываясь в лица, в глаза: воры, грабители какое-то время ещё держали его взгляд, но эти, честные простые люди, вяли сразу. Косте они, конечно, врали. Не докончив и первого круга, Тито опустил лицо и принялся вдумчиво, словно в уединении, повторять своё последнее «почему», умещая три слога ровно в два шага.
— Почему вы все врёте? — прозвучало под финал второго круга.
Не меняя скорости, Тито вышел из камеры. Когда и тень его утекла из-под решётки, от кабинета донеслось:
— Костя, по одному.
— Имя.
Толстяк отсчитал три слова.
— Вы пьяны?
— Немного.
— Что ж с утра-то?
— С вечера… предыдущего… товарищ следователь, — доложил толстяк и икнул.
Его щетинистое лицо осунулось, под левым глазом зрел синяк — ещё не обрёл всей глубины цвета.
— Откуда украшение? — Тито обвёл кончиком карандаша круг у своего левого.
— Медаль за твёрдость позиции.
— Кухонные бои… Ясно. Ну, выкладывай.
— Ехал к товарищу.
— Такому же? — не сдержался Костя.
— Претензии? — Толстяк плавно обернулся. — Я не хулиган. Могу себе позволить, когда сочту нужным.
— Что произошло в трамвае?
— Товарищ следователь, нет слов. Обидно даже. Всё ускользнуло.
— Где вы находились? — Тито припустил официального холода.
— Дрейфовал у прохода.
— Так ты всё видеть должен был! — тут же сорвался Тито.
— Должен. Но отвернулся. Глядь, а он лежит… И эта кровь… Я и не запомнил ничего толком…
— Не запомнил… — Тито перебирал по столу пальцами. — Холодный душ и неделя за пьянку восстановят память?
— Нет у вас права. Я безобидный гражданин, выпиваю сугубо культурно.
— Ты это после докажешь. Будешь говорить, или пойдём долгим путём?
Толстяк вскинул подбородок, призывая остатки доблести, чуть подумал, прежде чем решиться.
— Нечего добавить.
— Костя, оформляйте курс лечения, и следующего.
— Имя? Ваш ребёнок?
— Мой.
— Замечательно. Сколько ему? Пять?
— Шесть.
— Чудно.
По манерам, по зрелой строгости ей хотелось дать около тридцати пяти, но истинный возраст был меньше — Тито учёл цвет лица и усталый взгляд, вечные украшения домохозяйки. Женщина усадила сына на колени и сжала его кулачок.
— Работаете?
— В жилтовариществе на улице Яля.
— Замужем?
— Разведена. А это при чём? — спохватилась она, краснея.
— Бесполезных сведений не бывает. Итак, что случилось в трамвае? — ласково начал Тито.
Приподняв бровь, она затаилась. Сын, худенький мальчик с лицом отличника, весь извертелся — тёр и тёр колено, закусывая губу. Не выдержав суеты, она одёрнула сына:
— Сядь ровно! Мама устала.
Но на вопрос так и не ответила.
— Гражданочка…
— Ровно сядь!
— Гражданочка, замечу вам, что молчание или дача ложных показаний являются преступлением. Серьезным преступлением. А у вас… — Тито запнулся, точно забыв, как называется то, что сидело на её коленях. — Вы мать.
— Мы смотрели в окно. Ничего не видели.
— Где вы сидели?
— С правой стороны.
— Близко к центру?
— Примерно.
— Может, слышали что-то?
— Не слышали… Суета, но ничего такого.
— Какого «такого»?
— Особенного.
— Вы, извините, не оглохли на время поездки? — Тито навис. — Что за игры?!
— Я не желаю продолжать разговор в таком тоне.
— Сынок, — смягчился Тито. — Ты что видел?
Мальчик оставил колено и повернулся к маме: та кивнула, наклонив голову в сторону следователя.
— Я смотрел в окно.
— В окно… Замечательно. И что ты там видел?
Не ожидая такого развития, мальчик смутился, но Тито недолго торжествовал.
— Окно, — заявил врун, и его лицо просветлело.
— Имя?
Мужчина ответил со всем достоинством.
— Род занятий?
— Профессор энтомологии.
— Замечательно. Спрошу вас наперёд, профессор — вы полагаете, можно врать в вопросах науки? — Не дожидаясь ответа, Тито продолжил: — Умышленное сокрытие правды, как и дача ложных показаний — серьёзное преступление. Полагаю, вы в курсе. Но всё же… чтоб освежить.
Лицо профессора выражало надменную кому, но лоб его украшала шишка, и нагрудный карман был порван: надменность смотрелась жалко. Диалог он вёл крайне скованно.
— Итак, вы являлись пассажиром злополучного трамвая?
Профессор кивнул.
— В трамвае произошло убийство?
Ещё кивок.
— Что ж, Костя, — кинул Тито через стол, — версию самоубийства исключаем. Наконец нормальный свидетель.
Досада ещё сильнее проступила на лице профессора.
— Я лишь имел в виду, что человек умер… Ничего более.
— Бросьте. Вы дали внятный ответ, — улыбнулся Тито. — Что видели? Не тяните.
Профессор распрямил плечи, уложил ногу на ногу.
— Я вниз смотрел — засыпал почти… Потом суета…
— Подробнее. Не экономьте.
— Помню рукоятку ножа у этого… покойного… Чёрная резина и набалдашник в царапинах.
— Когда вы её впервые увидели?
Профессор на секунду провалился куда-то и из этого небытия произнёс откровенную ложь:
— Впервые — когда тело выносили из трамвая.
— М-да… — промычал Тито. — А суета вам, значит, показалась неинтересной?
— Я на какое-то время потерялся.
— Долго ж вы себя отыскивали, профессор.
— Я опоздал повернуть голову. Он уже лежал, его обступили.
— Откуда синяк на лбу? Что с карманом?
Профессор снова изменился в лице и выдал явно заготовленное:
— Ударился о поручень трамвая, когда тот качнуло. Карман порвал ещё до того.
— О поручень ударился… Такие поручни с кулаками. Костя, следующего.
Прохаживаясь между дверью и окном, Тито почти не глядел на сероглазую красавицу с растрёпанным букетом роз. Вторя предшественникам, она умалчивала правду. Левую щеку от уха до подбородка вспахал ряд царапин — несомненно, следы шипов её же букета. Она морщилась от боли, с лица, предвещая слёзы, не сходил стыдливый румянец.
— Как вы полагаете, Костя, какому чувству под силу сплотить людей? — рассуждал Тито.
— Любовь? — промямлил помощник, не сводя глаз с девушки.
— А в количестве больше двух? Чему так преданно будут служить два десятка незнакомых людей? С чего, чёрт возьми, эта солидарность?
— Что вы сказали, профессор? Прошу прощения, товарищ следователь, — очнулся Костя.
Тито сменил собеседника.
— Скажите, милая моя, отчего у вас моська изранена?
Та залилась слезами и сквозь рыдания принялась клянчить адвоката.
— Насколько понимаю, вы — вагоновожатый злополучного трамвая?
— Так точно. Я…
— Давно на этом маршруте?
— Четвёртый год. Я только…
— У вас слух хороший? Зрение?
— Бог миловал. Вы лучше…
— Итак, начнём!
— Наконец-то, гражданин следователь, кто-то мне объяснит, как всё было.
Следом Костя ввел роскошную даму с таким глубоким декольте, что следователь сходил открыть форточку. Левую сторону её челюсти украсил синяк — комментировать дама отказалась.
После была беседа с семейной парой: оба в годах и в непримиримых поисках виноватого, у обоих по распухшему лбу. Он заявил, что на момент трагедии читал книгу, хотя с собой не оказалось даже газеты, за что она немедля припекла его «кретином».
Трое школьников молчали с начала и до конца — эти были готовы к любым пыткам.
Ближе к концу привели студента с расквашенным носом; как и остальные, мямлил о суете. Глядя на него и оценивая количество травм на совокупность пассажиров, Тито рассудил, что одна догадка красиво укладывается меж углов несговорчивых фактов. Она одинаково легко объясняла и случившееся, и эту невероятную сплоченность.
Осталось понять, кто решился и пошёл до конца.
Последней ввели древнюю старушку.
— Спасибо, милый, слушай господа нашего, и всё у тебя будет ладно. — Этими словами она проводила на место кислого Костю — его желудок не принимал обеденной пустоты.
Старушке было под семьдесят. Глаза сияли безумием, а нагрудный крест давал понять, на какой почве: сам крест отсутствовал, его роль исполнял Иисус, разведя руки и уйдя вниз невероятно длинными ногами. Высеченный из зелёного камня, он был заметен на светлой кофте не хуже ёлки в снежном поле.
Старушка сложила руки в жесте молитвы и тем самым пригвоздила Тито к креслу.
— Ну, что же… Как вас зовут?
— Ева-Мария, голубчик. Через дефис.
— Мы учтём. Ну, рассказывайте. Вы же ехали в трамвае?
— Да. В церковь.
— Славно. Значит, врать не приучены. Ну, говорите.
— Товарищ следователь, я молчу из последних сил. Я всё сейчас расскажу.
Огибая стол, Костя подошёл к Тито и сунул записку: «Пришла сводка насчёт этой Евы-Марии… Её усыновили: отец — католический священник, мать — монашка. В общем, она того… неделю как из пансионата для душевнобольных». Последние слова были подчёркнуты. Тито мысленно приобщил эти сведения к ходу беседы, и голос Евы-Марии вновь привлёк внимание:
— …И тогда я увидела ангела. Истинно, то был ангел в белом, с огнём в волосах, и он мечом поразил вурдалака!
— Есть там ещё кто?
— Только если по второму кругу, — притих помощник.
— Однако… Негусто, негусто.
Мучаясь голодом, Костя с трудом ковылял взглядом по тексту очередной брошюры о психологических аспектах допроса.
— Шеф, а что, если они не врут? Надо изменить тактику. Вот, послушайте…
Он ещё сомневался — не принимал поголовной лжи. Тито же видел — каждый из двадцати боялся, сидя напротив его стола, что и должен испытывать на допросе лжец. Но за скудостью показаний уличить кого-то в частном вранье не удавалось — не вменишь же на суде, что вот этот, подлец, отвечая на вопросы, уводил глаза.
Живот Кости рычал, но Тито, не замечая ни чужого, ни собственного голода, бродил меж окном и дверью. Одного за другим уже подозреваемых, а не свидетелей, он ставил на место убийцы и ждал, на кого отзовётся камертон интуиции. Тот молчал. После первого круга допросов следовало немедля учинить второй, но Тито чуял, что его проницательность в полуобморочном состоянии.
— А что с трамваем?
— Отогнали в депо. Хотите, я слетаю — осмотрю ещё раз? — Надежда окрылила Костю, он раскинул руки и завис над столом трапецией.
— Вы и тут пригодитесь. В депо я сам наведаюсь. Дайте протокол досмотра.
Костя вручил пухлую папку, тем самым усадив Тито за стол, и взялся ходить вместо него. Бегло пробежав глазами листок за листком, следователь так и закрыл бы папку, если б последний лист не сковал его.
«Строгова Марта Корнелиевна.
Жен., рост — выше среднего, рыжая.
На седьмом месяце. Состояние неопределённое, тяжёлое — госпитализирована.
Белая юбка, белый жакет, белые перчатки; зонт от солнца».
Листок был крайним: со Строговой начали, после чего её увезли, а следом принялись за остальных.
— Ева-Мария была честна, как библия, — процедил Тито, поднимая злые глаза на помощника. — Перчатки, Костя, на ней одной во всём трамвае были перчатки.
— Ну да… Длинные такие, по локоть.
— Пустоголовый! — Папка шлёпнулась о стол. Выбегая из кабинета, Тито кинул: — Сегодня же тебя уволю!
* * *
Марта уже проснулась на взводе.
Ещё не было семи, когда встал Петя — из коридора неслась беготня. Он неугомонно добивался чего-то в этом по-прежнему чужом для них городе, а ей казалось, что всё не так плохо. Порой эта суматоха в муже расслабляла, как шум моря или треск огня, но не сегодня. Марта еще только села на кровати, а изнутри уже жгло не соглашаться, отстаивать своё не пойми что.
Временами в ней просыпалось такое упрямство, такая рысь — стенам было неуютно. Да вдобавок её положение. Впрочем, характер проявился задолго до беременности. Достаточно вспомнить детство — один случай, в подлинность которого никто не верил, а зря.
Мама учила пришивать пуговицы, но Марта не слушалась — делала по-своему. Мама настаивала — так пуговица не удержится, нить следует пускать иначе. Марта противилась, мама зверела, урок обернулся нервотрёпкой. Собрав шитьё, мама ушла, заметив напоследок, что хозяйки из Марты не выйдет. Час спустя дочь явилась к ней — тайком стащила из шкатулки иглу и нить. В слезах и кровоподтёках, Марта продемонстрировала, как хорошо держится эта проклятая пуговица на её бедре, пришитая её методом.
По мнению доктора, характер Марты и повлиял на то, что беременность текла неспокойно: уже на первых месяцах диагностировали тонус матки. Любые волнения были под категорическим запретом. Доктор и вовсе настаивал на домашнем заточении, только Марта не соглашалась — свои дневные прогулки она компенсировала, подолгу отлёживаясь после, но, если ходьба укачивала ребёнка, то в покое он просыпался и не давал отдохнуть.
Вернувшись из туалета, она села у зеркала расчесаться. Утреннее подплывшее лицо ещё не заострилось, румянец не созрел. Борясь с волосами, Марта отмечала, что снова хочет в туалет, что ноет спина и нет сил терпеть, как изнутри толкает под правые рёбра. Её и тошнило, и мучил голод.
Упрямая ножка в последний раз пнула ребро и перестала. Если и было время поесть, то сейчас. Петя уже доканчивал омлет, когда она зашла на кухню. Вместо приветствий он заявил:
— Я еду с тобой.
— Оставь.
Речь шла о визите к врачу. Марте и вовсе мечталось исключить его из дневного расписания, но что поделать.
— Что за «оставь»? Я хочу поехать.
— Не начинай. Я сама.
— Ну, в самом деле. — Привыкший встречать сопротивление, Петя так и не привык смиряться сразу. — Я поеду.
Со вспотевшими ладонями, с жаждой крика у самого горла Марта основательно вдохнула и на выдохе спросила:
— Скандала хочешь?
Петя поёжился. Чуя близкую бурю, с которой он, как ни старался, раз в месяц имел дело, решил отступить — всё равно будет как она сказала. Омлет кончился, тянуло курить, что при Марте было исключено.
— Я сейчас надену всё белое, стану очень красивой и поеду одна. Не трепли нервы, иди, не забудь сигареты.
Так ничего и не съев, Марта отправилась в туалет, а оттуда в спальню — до выхода оставалось чуть меньше получаса. Ребёнок проснулся, когда она во второй раз колдовала у зеркала, но по-настоящему заявил о себе во время поисков перчаток, без которых с недавних пор Марта не ездила в трамвае, а сняв, ещё долго, тщательно мыла руки.
Петя зашёл напоследок: он погладил её по голове, она уткнулась ему в живот, он спросил, что она будет делать, когда вернётся, она пожала плечами.
Выйдя из подъезда, она проверила, ничего ли не забыла, спряталась в тени зонтика и медленно зашагала к остановке. Вдалеке ожил колокольчик трамвая, донёсся знакомый перестук, а следом — хлопок выстрела и радостный визг детворы. К низким проводам поднялось облако воробьёв. Вагоновожатый, протиснувшись в узкое окно, матерился на всю улицу.
«Проклятые дети», — подумала Марта, гладя живот.
Мужчин в трамвае было мало. По лучшим местам расселись бабушки-матрёшки, неподалёку мать держала за руку тощего сына, была дама со смелым декольте, был студент, профессор. Через сиденье ворчала семейная пара. На площадке заметнее остальных была девушка с букетом роз — улыбалась, не могла надышаться из пышных бутонов. На те же цветы с вожделением уставился пьяный толстяк, его голова качалась в такт трамваю, точно в шее не было костей.
Против Марты устроилась ветхая старушка с большим зелёным крестом поверх кофты — приглядевшись, Марта распознала в нём распятого Иисуса. Сама старушка смотрела сквозь Марту и сквозь трамвай.
Хотелось пить, и хоть Марта сидела в тени дамы со шляпой, ей было душно — солнце так нагрело крышу трамвая, что лицо обдавало жаром. Марта слазила в сумку, оторвала от пучка мяты лист и, положив его на язык, прикрыла глаза.
Что-то разбудило её, сама не поняла, что. В воздухе повис испуг.
Посреди площадки ничком растянулся студент: книги его разлетелись, на брюках серело пятно подошвы. Пассажиры пятились. Этот, новый, встал памятником у дверей вагона и сплюнул. На нём была куртка, заляпанная маслом, кофта в пятнах, толстые штаны и высокие солдатские сапоги — всё дышало слепой силой. В лице выделялись скулы, глаза сидели глубоко и близко, голову облепили сосульки рыжих волос. Опуская взгляд, Марта вздрогнула — из его груди, почти из шеи, если смотреть снизу, торчал нож. Приглядевшись, различила ножны — ремень охватывал плечо.
Студент вскочил, кинулся к обидчику, но тот сунул под нос нападавшему кулак и победил окончательно. Он был пьян, но собран, как бывает, если спирт разбавить злобой один к двум; оглядевшись, он сообщил сквозь зубы что-то вроде: «Уроды, ненавижу», — Марта не разобрала.
Двери закрылись, трамвай качнулся и лениво пополз. Внутри у Марты так и сжалось: ребёнок внимал — она чувствовала, как в него уходят нити нервов, как ее тревога бьет по нему.
Пьяный толстяк, совсем недавно поедавший глазами чужие розы, добродушно обратился к трамвайному тирану:
— Слушай, зачем бить, оно и так болит.
На этой философской ноте он подался навстречу — прямой удар откинул его на место. Мужчина кое-как устоял и, не отнимая руки от глаза, заметил:
— Будет фингал.
Девушка с букетом отшатнулась. Как змея, зачарованная дудкой, залюбовалась злыми кулаками. Увидев это, их обладатель медвежьей хваткой вырвал розы и стеганул ими по девичьему лицу.
— Вылупилась, паскуда.
Марта сжала челюсти. Люди шарили друг по другу глазами в поисках героя. Видя, что отпора не будет, вурдалак расправлял плечи шире.
Следующей жертвой стала дама с декольте: как на своё, он уложил пятерню на её грудь и поиграл пальцами. Та всполошилась, дала пощёчину и была смята ударом в челюсть. Падая, ухватилась за нагрудный карман сидевшего рядом профессора. Профессор, до того делавший вид, что ничего не замечает, с укоризной глянул на злодея, как на шкодливого ребёнка, за что удостоился плевка в ухо и шишки на лбу.
У Марты заныло внизу живота. Эту тянущую боль доктор определял как проявление тонуса и советовал немедленно лечь и расслабиться. Вдобавок ей захотелось по-маленькому.
«Предлагал же Петя — поедем вместе… Нет! Надо характер показать… — горевала Марта. — А если этот урод перегнёт палку? Если я не выдержу? Мне этого нельзя!.. Я что-то чувствую…»
Через силу усмирив мысли, Марта заметила, что пальцы её до боли скованны — расслабила их, но забыла, что сжимает сумку: та не удержалась на сведённых коленях и шлёпнулась на пол. Тут вурдалак и приметил ангела — как её было не углядеть, красивую, в белом, с огнём в волосах? — но он не торопился.
Живот мешал поднять сумку. Марта пыталась, но стало ясно, что стоит хоть чуточку сдавить мочевой пузырь, и… Блаженная старушка подала сумку, похлопала Марту по руке и прибавила:
— Бог за всеми приглядывает.
Она-то спиной сидела, не видела.
Парень в солдатских сапогах двинулся между рядами сидений. Теперь уже было не разобрать, выпивши он или злоба опьяняла, зато стал заметен проваленный нос с тупым вздёрнутым кончиком, стали видны нитки грязи в складках шеи и веснушки, обсыпавшие сухие руки. Он шёл, заглядывая в лица, — вместе с остальными пытался отыскать того, кто возразил бы, чтоб развернуться основательно, и не находил.
Стальной набалдашник рукоятки ножа качался маятником — заворожил Марту, ненадолго даже унялся гнетущий спазм в животе, и тут-то хлынули странные мысли: «Куда людей бьют ножом? В живот? Наверно, в живот… но куда? Живота много, можно в куртку попасть — и удара не выйдет. И что у него под кофтой?.. Боже, Марта… О чём ты думаешь… А куда бы ударил Петя?»
Семейная пара, сидевшая через ряд от Марты, сбежала ко вторым дверям, но трамвай чуть прибавил скорости, и их повело назад. Столкнув их лбы до звона, вурдалак зашагал дальше, отвешивая по обе стороны прохода сухие пинки.
«Может, в глаз? Если не промазать — всё сразу и кончится. Но в глаз ещё попасть надо!.. Боже, боже…» Боль в животе натягивалась струной на неведомый колок. «Ведь так и бывает… Так и бывает — носишь до последнего, но несколько таких минут, что-то рвётся, и…»
Старушка ласково гладила крест и еле заметно качала головой в такт какой-то неслышной музыке.
«Ударить в сердце?.. Там и одежда, и рёбра, и сердца там нет… Вот, так и рвётся… так и рвётся… Петя…»
Вблизи он оказался откровенно молод — и двадцати не было, что совсем удручило Марту: она помнила этот возраст — лихой, без вина пьяный.
Бледная мать утрамбовала сына в угол сиденья. Не понимая, как это всё должно разрешиться, он смотрел из-за неё, как из-за баррикады, на остальных и видел одно смятение. Наконец он не выдержал, вынырнул из-под материнской руки и крикнул в сторону солдатских сапог:
— Ты…
Сапог пнул его в колено, мальчика подкосило. На вид ему было лет пять.
Марта сглотнула и подняла глаза, стараясь взглядом предупредить о своём характере. Вурдалак ответил на той же ноте, а углядев округлый живот, покачал пальцем, словно напоминая, как аккуратна она должна быть.
От этой мелочи сложность ситуации мгновенно прояснилась, как если на время отвлечься от игры — тогда её правила становятся до смешного условны. То, что минуту назад не дозволялось, что Марта лишь опасливо пробовала на вкус, утратило табу. Она раздвоилась: первая просилась в туалет и надеялась, что поможет кто-то другой, вторая дышала ровно и ни в чём не нуждалась — только б немного удачи. И обе мигом сошлись на том, что сейчас главнее вторая.
Солдатские сапоги подошли вплотную и развернулись. Вурдалак стоял справа от Марты, глядя в ту же сторону, что и она — против движения трамвая. Повеяло духом машинного масла вперемешку со спиртом. Лица Марта больше не видела, а только ждала момента.
Старушка переменилась в лице, будто узрела демона.
Покачнувшись, похихикав себе под нос, нарушитель спокойствия опустил два пальца на плечо Марты и пошёл ими к её уху, а подойдя, принялся отодвигать преграждающие путь золотистые локоны. Но когда указательный уже готов был коснуться мочки, трамвай притормозил — кто-то не к месту перебежал пути. Вурдалака повело назад, и Марта поняла — это её удача. Правой рукой прихватила стальной шарик — нож по инерции покинул ножны, а когда его владелец, сопротивляясь инерции, толкнул себя вперёд, Марта лишь повела рукой, как отталкиваются от воды. Железо плавно вошло в горло — что-то там лопнуло, брызнуло, и нож покинул руку Марты.
Во рту мешался комок — надавив на него, Марта ощутила вкус мяты. Затем её толкнуло под рёбра, она попробовала вдохнуть глубже, но вместо этого всё померкло.
* * *
Под крышей больницы Тито снял шляпу, как поступал, оказываясь под церковным сводом: больничные стены рождали суеверную покорность.
— Что вам? — пробухтела уборщица, елозя по полу шваброй.
— Я следователь. Мне…
— Хоть генерал. Не следите тут.
— Мадам, мне нужна некая Марта Строгова, — сурово доложил Тито, уперев кулаки в бока. — Она беременна. Возможно, это поможет.
— Во второй корпус, выйдете и направо, в арку.
Стараясь шагать помягче, Тито вышел. В родильном отделении он сильнее прежнего ощутил неловкость и, чтобы поскорее разрешить дело, без стука вошёл в ординаторскую.
— Прошу прощения…
— Почему без стука? — отчеканил человек в халате, сделал полуоборот на стуле и первым делом глянул на ноги просившего. — Обувь какая грязная.
— Товарищ доктор, я не здешний. Я следователь. Мне необходимо видеть некую Марту Строгову.
— Строгову, — глубокомысленно повторил человек в халате, поднимая очки на лоб. — Строгова отдыхает. Не стоит её беспокоить.
— Товарищ доктор, уверяю — не доставлю ни малейшего волнения. Пара вопросов, не более. Если желаете, в вашем присутствии.
Доктор поскучнел. Ко второй половине дня он устал и размяк. Он не желал ни этих прений, ни покидать того единственного места, где порой имел возможность вздремнуть.
— Триста девятая. Пять минут, не больше. Я проверю.
— Благодарю. Можете быть спокойны.
Под дверью триста девятой палаты шептались две медсестры. Тито подступил к ним.
— Вам что? К жене? Приём до часу.
— Я по иному вопросу. Скажите, вы сегодня дежурите? — спросил Тито как можно тише.
— Я, — нахмурилась одна из женщин. Было неясно, чего ждать от этого, с грязными башмаками.
— К вам поступила некая Марта Строгова?
— Да, утром.
— Она вся в белом была?
— Да, кажется.
— И перчатки?
— Да, длинные, до локтей. Левая в крови.
— В крови. — Тито прищурился.
— У ней обморок случился. Кровь носом пошла.
— Вы это лично видели или с её слов?
— М-м… — Медсестра замялась, чуя, что разговор серьёзнее, чем она ожидала. — Не помню.
— Под носом кровь была?
— Вроде, нет.
— И где они?
— Кто?
— Перчатки.
— Муж увёз.
— Ах, муж, — согласился Тито. — Разумеется.
Медсестры переглянулись, а следователь уже ни в ком не нуждался. Приоткрыв дверь палаты, он глянул на ряд коек и без труда отыскал рыжие пряди на белоснежной подушке.
— Здравствуйте, барышня. — Тито вдавил шляпу в грудь и представился.
Марта медленно кивнула.
— Не беспокойтесь, никаких тревог, — сходу заверил Тито.
Она не поняла… Ни каким лицом его встречать, ни вообще как понимать этот визит — против неё два десятка свидетелей, а этот тип, следователь, утверждает, что тревог не будет.
— Хотите услышать с моих слов? — не выдержала Марта.
— Боже упаси. Ясно как день, что все вы, включая ваших… м-м… коллег по трамваю — свидетели самоубийства. Иное исключено!
Марта окаменела. Какая-то основа в её уме поплыла, и на дрожащих нервах она скомканно, сипло прокричала:
— Издеваетесь?! Чего вам? Правосудия?
Помня слова доктора о покое, о пяти минутах и о том, что тот придёт и проверит, Тито отступил и сжал поля шляпы. Однако всякие сомнения, что это она — отпали, а значит, для себя, что хотел, он выяснил.
— Боже упаси, боже упаси… Я желал лишь одного — знать, как вы себя чувствуете.
— Нормально.
— Ничто не угрожает?
— Нет. Два дня покоя — и отпустят домой.
— Вот и славно, — выдохнул он и попрощался.
* * *
К тому моменту, когда дед кончил рассказ, его стопка раз шесть поднялась над столом: графин наполовину опустел, дед сидел краснолицый, расплывшийся. Умолкнув, он помрачнел, точно был готов заплакать, спрятал лицо в руки и долго сидел не шелохнувшись.
В окне густели сумерки. Я уж понял, что история не кончена, и сейчас, если деду хватит желания, он довершит. Набравшись сил, но медленно, оттягивая щеки, спустил руки по лицу, замер взглядом на корешках книг позади меня и тихо признался:
— Это мне не дед рассказал. Я дедов не знал… война. Бабка рассказала, а ей её бабка. Баба Марта. Фотокарточка сохранилась. Хочешь глянуть?
Апрель 2020

ЗУВ
Еще десять минут назад Даниил рассматривал портреты на стенах лаборатории. Сквозь века и годы горделиво и обескураживающе глядели на него прославленные ученые: их высокие лбы, выдающиеся носы и уверенные подбородки несли печать величия. Даниил то весь сжимался под этими образами, вглядываясь в свое лицо в глянце монитора в поисках признаков все той же печати, то смело и отчаянно бросал им вызов, захлебываясь восторгом предстоящих изобретений. Еще пять минут назад он проделывал рутинный обряд снятия показаний с ЗУВ-60: изменял угол наклона исследуемого элемента, нажимал кнопку запуска, следил за тем, как наполированные алюминиевые чаши, нанизанные на тонкие стержни и все вместе напоминавшие свалку парусников, приходили в движение, вращались и замирали, прислушивался к своим ощущениям, делал запись в электронном дневнике. Еще одну минуту назад он, обжегшись чаем, резко поставил чашку на стол, вызвав небольшую вибрацию, которая и стала причиной сбоя всех настроек прибора. Еще несколько мгновений назад Даниил заскулил, представляя, сколько времени займет обратная настойка. А секунду назад Даниил нажал на кнопку.
Все знают, что с помощью «Зеркального ускорителя времени» возможно «промотать» время вперед всего на шестьдесят секунд. Вот уже более десятилетия ученые со всего мира бьются над тем, чтобы понять принцип работы этого устройства и найти способ управлять «перемоткой», но безуспешно. А все потому, что ЗУВ-60 был создан совершенно случайно. Ученые проводили эксперименты с системой вогнутых зеркал в поисках альтернативного источника тепла, и сразу после запуска новой установки их вдруг настигло ощущение внезапной смены момента времени с таким же внезапным «обретением» памяти о том, что за этот момент времени произошло. Устройство, обзаведшееся корпусом и кнопкой пуска, после уменьшения до двух квадратных дюймов своих ускоряющих свойств не утратило и нашло широкое применение в медицине, но для бытовых задач — привет, капитализм! — явилось неоправданно дорогостоящим. И хотя ни сами создатели, ни другие ученые так и не смогли пролить свет на способ действия ускорителя, все они сходились во мнении, что ЗУВ работает именно благодаря расположению, пропорциям и углам наклона каждого элемента в его конструкции, и докопаться до истины возможно только путем перебора всех параметров, а это — неисчислимое множество комбинаций. Журналисты уже окрестили этот процесс «Большой научной гонкой».
Даниил нажал на кнопку и мгновенно оказался у входа в здание НИИ с осознанием того, что прошло два месяца. Ошеломленный, он поспешил в лабораторию, снял все мерки, зафиксировал. Даниила бросило в жар, голова шла кругом, грудная клетка раздувалась, требовалось больше воздуха. Он открыл окно, положил прибор на стол, дважды обошел вокруг. Занес руку и снова нажал на кнопку: рука дрогнула, и нажатие получилось коротким — плюс два дня. Значит, количество ускоренного времени зависит от интенсивности нажатия кнопки. Он подумал о матери и отце, о своих старших братьях — теперь-то они будут воспринимать его всерьез, о научном руководителе и… Даниил посмотрел на коллективный портрет изобретателей ЗУВа и подумал, что его начальство не позволит ему, простому лаборанту, заполучить все лавры, и ему придется довольствоваться ролью одной из голов на теле институтской гидры. Но что больше всего угнетало Даниила (он только сейчас осознал и прочувствовал эту мысль), так это то, что в этом открытии нет его заслуги — ЗУВ не поддавался законам логики, он подыгрывал только случаю. Золотой венок триумфатора сполз с головы Даниила, растворился в воздухе. Даниил не смог бы прожить оставшуюся жизнь, зная, что за самое выдающееся свое достижение он должен быть благодарен… чашке чая. Нет, он не так прост! Судьба подкинула ему подсказку, но достичь величия он сможет сам! Ему всего лишь двадцать семь! И, подгоняемый жаждой научных подвигов, Даниил нажимает на кнопку.
На стене все те же портреты — это он попросил их сюда перевесить, но лаборатория другая — большая и современная, и он точно знает, что на двери написано его имя. Он глядит сквозь толщу времени и видит, как три года назад, так и не достигнув успехов в исследованиях, он настроил одну из «мачт» лабораторного ЗУВа точно так, как в его ускорителе. Он повторил всего одну конструкцию, но это увеличило скорость «перемотки» до четырех с половиной минут. Не было ни одного научного журнала, который не написал бы о нем. Десятки письменных и устных интервью, приглашения на лекции и конференции — вокруг завертелись события, лица. Да, его успех не был продуктом его ума, но он решился на эту хитрость, потому как ему безумно хотелось отхватить хотя бы кусочек славы, попробовать ее на вкус — для начала, ведь великое открытие еще впереди! Тщеславие робким быть не может — Даниил нажимает на кнопку.
Ему тридцать два. Ноги утопают в песке, холодные волны щекочут ступни. Он стоит, обращенный спиной к океану. На пляже молодая женщина возится с маленьким ребенком: она склонилась над ним, и шляпа закрывает ее лицо, но Даниил знает, как она выглядит. Из зыбкого тумана проступают родинка на левой щеке и цепкий взгляд: когда она смотрит на него, она будто видит самую его душу. Даниил помнит, как познакомился с ней, как женился, как родился их сын, но также он помнит, что за все это время уютного счастья не сделал в своей лаборатории ничего стоящего, его все еще звали на интервью, но уже не так часто, как раньше, а в последнее время он и вовсе стал отказывать — вопросы о новом материале вызывали у него озноб. Дважды в неделю он читает лекции в местном университете, дважды ведет практические занятия, вечера он проводит с семьей, а все остальное время — бесплодно — в собственной лаборатории. Но открытие близко — он знает, он чувствует. Даниил смотрит на своих жену и сына, он очень хочет подойти к ним, коснуться их, но любопытство зудит, толкает, не знает препон; оно безжалостно сбрасывает вниз все, что дорого; оно нападает, оно подчиняет, оно нажимает на кнопку.
Ему тридцать девять. Сонмы ЗУВов разбросаны по всей лаборатории, их брюшки вспороты, изнутри торчат металлические стержни и каскады зеркал. Стены, окна и даже портреты заклеены чертежами, исписанными цветными маркерами. На мониторах нервными изломами бегут графики. Даниил не спит уже больше суток. Он раздраженно нажимает на кнопку.
Ему сорок пять. Жена устроила праздник в честь его юбилея, а он задержался в лаборатории, на звонки не отвечал. Она страшно ругалась, бросалась грязными словечками, выворачивала наизнанку их брак, потом собрала вещи и вместе с детьми уехала к маме. Он сидит в отцовском кресле: это все, что от него осталось — бездарное наследство, как и вся отцовская жизнь. Он вспомнил похороны — четыре года назад: мать такая заплаканная и старая, накануне братья весь вечер упрекали его в том, что он пропускал все семейные обеды, которые устраивал отец. Какие стремления были у его старика? Чего он хотел от жизни — поглощать еду в кругу семьи и копошиться в своем саду? Там его и хватил удар, среди роз и компоста. Может, ему тоже обзавестись садом? Даниил прикладывает холодный стакан с алкоголем к горячему лбу, закрывает глаза, нажимает на кнопку.
Ему пятьдесят, пятьдесят пять, шестьдесят. Воспоминания приходят не сразу: до того, как они полностью вынырнут из потока времени, всего секунды, но Даниил уже успевает оценить обстановку, изумиться, задать вопрос. «Как может быть, что он сдался?» Он оставил исследования и переключился на изучение сверхсильных магнитных полей, ему уже давно предлагали это сотрудничество. «И что-то из этого вышло?» Даниил достиг некоторого успеха в этом партнерстве — несколько научных статей, два патента. «И это все?» Сыновья навещают его раз в месяц — у них глаза матери, такой же впивающийся взгляд, они глядят ему в душу и видят там… разочарование. «А что же ЗУВ?» Время от времени Даниил уединяется в своей лаборатории — он перенес ее в правое крыло дома — и изучает старые чертежи, бесстрастно препарирует устройства, меняет углы наклона, вносит данные в компьютер. Даниил вдавливает кнопку.
Убаюкивающе и нежно колышутся в нем воды покойной радости. Годами копошился он в своей лаборатории — измерял, фиксировал, разбирал, и наконец в его саду из вогнутых зеркал и стержней созрело золотое яблоко. Галереей в его памяти пронеслись: научная работа, дебаты, признание, международная премия. Его ум породил что-то новое, доселе неизвестное науке. Он смог, он сделал, он открыл! А сегодня университет, где он читал лекции, устраивает прием в его честь. В ожидании вечера он сидит в высоком кожаном кресле и смотрит на вереницу портретов над камином. Он думает о том, как блаженно рассматривал их, когда они висели на стенах лаборатории — сорок лет назад или пять минут назад. Теперь их взгляды не кажутся ему высокомерными, сейчас они смотрят на него как на равного, достойного занять место среди них. Он представил свой портрет в самом центре этого пантеона: старик с выразительными бровями, подернутыми сединой, и упрямыми складками у рта. Он вспомнил, как воодушевленно жали ему руку и хлопали по плечу его сыновья после церемонии вручения, как блестели их глаза, полные гордости и восторга. Он не смог полностью разгадать принцип работы ЗУВа, но он положил этому начало, сделал великое одолжение этому миру, вывел «Большую гонку» на новый уровень. Подобно Данко, он вырвал свое сердце и осветил им путь научному сообществу. Он снова ощутил знакомый зуд, его грудь раздулась и все тело словно завибрировало: «А сколько еще сердец в его груди?» Он достает ЗУВ, и в самом уголке его сознания зарождается мысль: он стар, и это нажатие может стать последним — вспыхивает и сразу гаснет. Даниил нажимает на кнопку.

Касса
Н.П.
Никто никуда не шёл, все стояли полукругом возле разрытой могилы и гроба, зависшего над ней на подъёмнике. И «Вечную память» не пели: священник уже сказал своё последнее слово, цветы отодвинули вбок, за свежий холмик, и все ждали, когда гроб наконец опустят и можно будет подойти с горстью земли. Денис машинально покрутил головой и снова заставил себя думать о бабушке. Кто-то тронул его за плечо. «Поедем со мной. — По голосу он узнал дядю Костю. — Поможешь разобрать мамины вещи».
Машина свернула направо, на грунтовую дорогу, и почти сразу из-за деревьев показался знакомый кирпичный дом. Во дворе ещё стояла скамейка, на которой двадцать лет назад сидели бабушка с родителями, провожая Дениса в университет. С тех пор он успел поработать в нескольких больших фирмах, дорос до замдиректора. Встретил Катю, родился Славик, потом Женечка. Его дни были до отказа заполнены интересной работой, улыбками детей и ласками жены, брызгами моря в совместных путешествиях, в общем, всем, кроме счастья — для него просто не оставалось места.
Так было, пока не появилась Лена. Уже потом, после трех месяцев почти ежедневных встреч, среди которых лишь несколько длились часы, а остальные пролетали, как машина скорой помощи по запруженному Кутузовскому проспекту, было забавно вспоминать, как мироздание подталкивало их друг к другу: через случайные встречи у друзей, цитаты, мелодии, до смешного совпадающие сообщения в соцсетях, перекликающиеся друг с другом через месяцы, иногда — годы. Не видеть её было пыткой, думать о ней — необходимостью такой же, как для диабетика инсулин. Денис знал, что они с Леной будут вместе, но сейчас их путь только начинался, теряясь во временной дымке за скандалами, переездами, разводами и тому подобными вещами, о которых было невозможно заставить себя думать. Жизнь его напоминала гонку на каноэ, причём одна нога стояла в одной лодке, а другая — в другой, и плыли они в разные стороны.
Тетя Надя была в гостиной. Она сидела за столом, заваленным бумагами из стоявшего тут же широченного комодного ящика, и разбирала их на три неравные кучки. «Я вам предлагаю разделиться. — Она подняла голову. — Костя пусть идёт в мамину спальню, там стол еще недоразобран, а ты, Денис, — в гостевую с секретером. Все счета выбрасывайте, фотографии оставляйте, письма откладывайте: их немного, разберём после все вместе. Всякие пустяки можешь оставить себе на память».
В гостевой Денис сразу узнал комнату, в которую бабушка посылала его играть одного, когда была занята: это случалось нечасто, но саму комнату он запомнил хорошо. Скорее, даже не комнату, а огромный секретер черного дерева, в рост человека, на каждом ящике по две замысловатые бронзовые ручки — слева и справа, а в центре — ещё и курчавая бронзовая голова. Денис вспомнил, что в верхних ящиках были какие-то бумаги, журналы, вроде бы, «Ридерз дайджест», а самый нижний всегда был заперт. Но теперь тётя дала ему ключ: стоило вставить его — несколько физиологично, прямо в рот курчавой голове — и три раза провернуть, крышка ящика с тягучим скрипом подалась вперёд.
В комнате стоял полумрак, и Денис не сразу понял, что в ящике почти пусто, только в углу стояла квадратная, неожиданно тяжёлая коробка без надписей. Внутри лежал прибор, до странности напоминавший игрушечную кассу из ИКЕА: множество кнопок разного размера — правда, без надписей, лишь на одной были традиционные «on/off» — и продолговатое окошечко. Посмеиваясь, Денис нажал на кнопку включения: как он и ожидал, ничего не случилось. Он пробежал пальцами по остальным кнопкам и уже собирался было отставить коробку, как окошечко вспыхнуло синим, и женский голос откуда-то из середины прибора сказал: «Отпечаток подтвержден. Можно делать покупки».
Денис остолбенело смотрел на кнопки. На них появились надписи: «деньги», «мужество», «страдание», «удача», «счастье». Были и другие, но Денис их не замечал, уставившись в одну точку. Минута прошла в полной тишине. Наконец, Денис хмыкнул, зашевелился и нажал на кнопку «деньги». Она тотчас же подсветилась, и голос сказал: «Укажите имя получателя». Та же надпись появилась и в окошечке. Денис снова застыл, потом прокашлялся и сказал: «Папа».
В окошечке закрутились компьютерные песочные часы. Это было бы смешно, если бы не мерное, чуть хриплое дыхание и сгущавшаяся темнота, в которой на безумных глазах Дениса плясал синеватый отблеск. Но почти сразу часы сменились на надпись «-1 год», а голос сказал: «Стоимость — один год жизни заказчика. Подтвердите отпечатком». Самая нижняя кнопка слева призывно замигала.
Денис выдохнул и ухмыльнулся. Наверняка это все дедушкины шутки, сделал в своей конструкторской фирме ящик для развлечения бабушки. Ящик говорил в точности как дед, когда его спрашивали о работе. Денис положил большой палец на мигающую кнопку.
Окошечко снова вспыхнуло, а голос пропел: «Спасибо за заказ! Время выполнения — одна неделя», и прибор снова превратился в мертвую серую коробку. «Пожалуй, этот агрегат можно счесть всяким пустяком», — подумал Денис и спрятал коробку себе в рюкзак.
В следующую среду, уже в Москве, Дениса слегка прихватило. «Сердце, наверное», — подумал он, набирая номер знакомого терапевта. После осмотра тот выписал ему таблетки от давления и сказал, покачивая головой: «Ну, теперь нужно всю жизнь пить. Зная тебя, я ждал, что ты придешь. Но, думал, попозже, через год-два». А тем же вечером позвонила мама. Семья была в отъезде, Денис сидел один на кухне, заканчивая бутылку амароне, и ужасно скучал по Лене. «Представляешь, папе подарили на работе лотерейные билеты, и один выиграл! Два миллиона! Нам как раз хватит на дачу».
Денис опустил руку с телефоном, схватился за бокал и выпил его залпом. Потом вскочил и побежал в комнату, нашел рюкзак и вернулся с коробочкой. «Отпечаток подтвержден, добро пожаловать», — раздался тот же голос. Денис не раздумывая ударил кулаком по «страданию» и крикнул в окошечко: «Сергей!..», а потом зачем-то уточнил: «Ленин муж». На этот раз часы на экране крутились дольше, сменившись надписью «-5 лет». Денис судорожно схватился за кнопку с отпечатком, затем отбросил прибор и потянулся за бутылкой.
Прошёл ещё месяц. По утрам у Дениса стала болеть спина, с каждым днем все сильнее. Предлагали операцию, но он пока отказывался. Лекарство от давления пришлось поменять, и теперь за завтраком его ждали четыре разноцветных таблетки. Будущее с Леной манило и страшило одновременно, как морская гладь, на которую смотришь вниз с тридцатиметровой скалы. И вот тоска стала настолько нестерпимой, что как-то, уложив детей, Денис высказал Кате всё начистоту. Она слушала, внешне спокойная, но бледневшая с каждой минутой, и когда Денис замолчал, смахнула рукой, не глядя, все с прикроватного столика и швырнула в Дениса его рюкзак. «Я вернусь через час, и тебя здесь быть не должно», — выкрикнула она и хлопнула входной дверью.
Денис расстегнул рюкзак и набрал номер Лены, свободной рукой копаясь в бельевом ящике. «Все открылось, я ухожу». На той стороне молчание сменилось длинным выдохом. «Я тоже. Сегодня Сергею предложили должность в администрации президента. С его принципиальностью… — Денис словно наяву увидел, что Лена поежилась, подняв брови, как греческий мим, — сколько раз его сердце останавливалось от этого на долю секунды! — В общем, у него все устроилось, мне здесь делать нечего. Через полчаса я буду где обычно».
Денис закинул рюкзак на плечо и снял с полки знакомую коробочку. Включив её, несколько секунд он смотрел на экран, а затем нажал «счастье» и прошептал: «Для нас с Леной». Коробка сразу же отозвалась: «Стоимость неизвестна, при недостатке баланса возможен фатальный исход». Денис задумался, покачиваясь на пятках. Достал смартфон, посмотрел на последнюю фотографию Лены — она сидела на диване в маленьком темно-зеленом платье, и глаза её сияли от счастья и невыразимой свободы, потом вспомнил заплаканное лицо Кати и хлопнувшую дверь. Наклонившись лицом к самому экрану, так, что нос был в сантиметре от кнопок, он отчеканил: «Без тебя справимся!» Потом ещё раз вдавил «счастье», крикнул: «Катя и Сергей!», не глядя ткнул большим пальцем в кнопку с отпечатком и швырнул коробку в окно.
* * *
Спрятав в карман пачку сигарет, Катя подошла к подъезду. Рядом со скамейкой у входа что-то отсвечивало синим. Подойдя поближе, Катя увидела коробку, покрытую сетью трещин, сквозь которые угадывалась медленно тускнеющая надпись: «+25 лет». Пожав плечами, она выпрямилась и достала из сумочки зазвонивший телефон. «Кать, это Андрюха, твой одногруппник, помнишь меня? Ребята дали мне твой номер, я по работе в Москве. Очень хочу тебя увидеть», — скороговоркой выпалил смутно знакомый мужской голос. Катя глубоко вдохнула и сказала: «Привет, конечно, помню. Приезжай прямо сейчас. Малый Факельный, 22, третий подъезд».

Метаморфоз
— Всё равно я буду первой! — весело заявляет она, наспех глотая горячий чай.
Мы сидим в пустом кафе. Я всматриваюсь в её бледное лицо и вижу страх, притаившийся в глубине расширенных зрачков. Я очень хорошо её знаю. И ещё я знаю, что кроме неё у меня больше никого на свете нет. В буквальном смысле.
Мы давно могли жить в одном доме, благо все дома теперь свободны, но соблюдали просьбу Инструктора и жили раздельно. Телефонная связь, как ни странно, ещё работала. Газ, электричество, водопровод — пока всё как раньше, как будто ничего не произошло.
— Хорошо, — тихо отвечаю я и отворачиваюсь.
За окном идёт густой снег. Мы молчим. Теперь Лика изучает меня, я спиной чувствую её пристальный взгляд.
— Может, ты передумала?
Я невольно вздрагиваю. Остаться одной? Здесь? Это ещё ужаснее, чем то, что должно произойти. Затем обе мы нервно смеёмся: нам передумать нельзя. Невозможно.
— Давай договоримся, — глухим голосом говорю я, глядя в окно, — завтра ты переезжаешь ко мне. И к чёрту Инструктора с его правилами и протоколами эксперимента. Я хочу быть рядом, когда всё начнётся.
— Конечно, — беззаботно соглашается она.
* * *
Целый день Лика не отвечает на звонки. Это совсем на неё не похоже, и тревожное чувство усиливается с каждым часом, концентрируясь в солнечном сплетении. Кругом — пустота. Впрочем, как и внутри меня.
Закрадывается предательская мысль: меня просто бросили. Я осталась совершенно одна в этом пустом замерзающем городе. Наконец, не выдержав, я плетусь через пять кварталов по заснеженным улицам.
Лика выбрала очень большой новый дом, лифт парализован, почти бегом поднимаюсь на верхний этаж. Толкаю незапертую дверь и не разуваясь влетаю в спальню.
Так и есть, не успела. Процесс уже начался.
То, что лежит на кровати, уже не напоминает человека, скорее, мумию. Теперь спешить некуда. Впереди несколько часов ожидания, если верить Инструктору.
Отопление здесь не работает. Иду на кухню, ставлю чайник. Возвращаюсь с кружкой крепкого сладкого чая и сажусь в кресло у окна. Разглядываю большую белоснежную куколку на кровати.
Итак, она первая. В своём стиле. «Всё равно я буду первой!» — С этой её фразы и весёлого взгляда с хитрым прищуром обычно начинались все истории, в которые мы с Ликой попадали. Она бросала вызов, а я всегда его принимала: «Это мы ещё посмотрим!»
Мы не соперничали, просто ей нужна была моя поддержка, ощущение плеча рядом, а меня завораживали её энергия и устремлённость, она всегда точно знала, чего хочет.
На столе — папка с контрактом. Я знаю содержание, сама когда-то подписала такой же, но беру его ледяными пальцами и пытаюсь сосредоточиться на прыгающих строчках: «добровольное согласие»… «испытуемый не имеет претензий в случае»… «генетический метаморфоз обеспечивает»… Подпись Никника. Как давно это было.
* * *
Инструктор появился в нашем детском доме почти год назад. Большой, лысый, усатый, в нелепых роговых очках. Белый халат поверх изящного костюма. Цепкий взгляд из-под густых черных бровей. От него исходила уверенность хирурга.
Всех построили — оказалось, что на медосмотр. Никто не осмелился спросить, для чего всё это.
Через неделю нас двоих вызвали к директору. Лысый в халате на этот раз казался совсем другим — он бегал по кабинету мимо Никника и просто лучился счастьем. В руках он сжимал очки и коричневый портфель.
— Николай Никитович, дорогой, это же редкая удача! Сразу два кандидата! Я этот материал два месяца ищу по всем городским школам и вот на тебе, нахожу сразу двоих! Вы увидите, это будет настоящий прорыв, вы ещё ахнете, когда мы получим результаты. Да весь мир ахнет. Это же потрясающие возможности. Нельзя упустить такой шанс, человечество нам этого не простит! Нам просто необходимо получить первый метаморфоз. Да и японцы могут обскакать, не мы одни копаем.
Маленький, худой и тихий Никник сидит не в своём директорском кресле, а у окна на стуле. Он молча поворачивает седую голову, когда лысый в очередной раз пробегает мимо него.
Наконец, Никник тихо спрашивает:
— И что надо делать?
Лысый на ходу извлекает из портфеля какие-то бумаги и хлопает их на стол.
— Подписывайте! Вы же за них несёте ответственность.
Никник долго трёт переносицу и изучает написанное. Мы с Ликой осторожно переглядываемся, я пожимаю плечами.
— Ну, раз уж там всё согласовано… — говорит Никник и достаёт из кармана авторучку.
— Дорогой мой! — снова начинает бегать по кабинету лысый. — Не просто согласовано, а настоятельно рекомендовано, я бы даже не побоялся сказать — приказано. При-ка-за-но! — по слогам повторяет он.
Никник какое-то время не реагирует, на нас он вообще не смотрит. Тогда лысый меняет тон и с какой-то тоской почти шепчет:
— Ты пойми, у них есть хотя бы такое будущее. По нашим оценкам ионосферу Земли сметёт начисто уже через пару лет, а может и раньше. Ты же понимаешь, что это означает. А тут такой шанс.
Никник вздыхает и что-то пишет. Лысый вытирает со лба пот и наконец поворачивается к нам:
— Ну, барышни, теперь у вас начинается новая жизнь!
* * *
Новая жизнь начинается в тот же день с приёма каких-то таблеток, впрочем — сладких на вкус, и это радует. Строго по графику, минута в минуту. Следит за этим новая медсестра, в остальном мы продолжаем свою обычную жизнь. Только после отбоя, когда стихают последние шаги в коридоре, мы начинаем вполголоса гадать, во что вляпались и какие такие радужные перспективы перед нами открываются. Сейчас мне становится даже смешно от того, что за нелепые варианты мы обсуждали!..
Через неделю за нами приезжает лысый и забирает из детского дома — теперь уже навсегда. Отчетливо помню ослепительное майское солнце и городской парк с фонтаном, а над кустами сирени — две бабочки. Из окна автомобиля мы любуемся городскими пейзажами и пытаемся понять слова лысого. Постепенно калейдоскоп его фраз начинает складываться в целостный узор, и мы, забыв про городские пейзажи, ошалело смотрим друг другу в глаза. Всё, приехали.
Когда машина останавливается перед глухими зелёными воротами с военной охраной, лысый говорит:
— Пока поживёте здесь, а через недельку я перевезу вас в город. Я буду навещать вас. Просто постарайтесь выполнить все рекомендации. Если что-то пойдёт не так — немедленно звоните мне, пока есть возможность. Да, зовите меня Инструктор.
* * *
Меня будит негромкий звук. Подскакиваю, опрокидывая на пол остатки чая, и бросаюсь к кровати.
Кокон по всей длине разошёлся узкой трещиной, и оттуда выглядывает тонкое полупрозрачное крыло. В утренних лучах солнца оно переливается всеми цветами радуги. Невероятно. И невозможно прекрасно. Я невольно рассматриваю свои пока ещё руки. Будет ли у меня так же?
Через пару минут изящно и почти бесшумно та, что ещё недавно была моей лучшей подругой, бегло пройдясь по мне фасеточными глазами, поднялась над кроватью и даже не взлетела, а как-то сразу оказалась там — прошла сквозь оконную раму и стремительно исчезла в буране.
Спустя несколько часов всматриваюсь в своё отражение в старом зеркале. Это точно я? Ни о чем не жалею. Ничего не боюсь. Секунду любуюсь серебристым крылом. Чувствую свою силу. Просто неимоверную мощь. Холодные снежные хлопья успокаивающе проносятся мимо. Кажется, впервые я тоже знаю, чего хочу.
* * *
Из школьного учебника мифологии:
«К примеру, один из устойчивых мифов описывает якобы наших создателей в виде существ, называемых гуманоидами, не умеющих летать и не обладающих иммунитетом перед космической радиацией. Конечно, с научной точки зрения такие организмы не могли бы выжить на Земле, к тому же, сложно представить, как примитивный разум смог создать одну из самых совершенных во Вселенной цивилизацию чешуекрылых».

Мыши
Бабушка Лена очень любила Вовку. Она отвоевала его после развода своего сына с невесткой, и с пяти лет Вовка постоянно жил с ней. Баба Лена Вовку баловала, прощала шалости и взрывной темперамент и все жалела, что он растет без мамы (и как-то нелогично забывала, что сама была тому причиной). К восемнадцати нескладный прежде Вовка вырос и возмужал, превратился в интересного молодого человека с лихими русыми кудрями, с прямым и надменным взглядом и небольшой, подстриженной по моде бородкой. Он умел говорить эмоционально и убедительно. Девушки на него заглядывались. Бабушку он любил, хоть и относился к ее навязчивой опеке с легкой долей презрения.
Вовка окончил институт и нашел работу: так, не слишком интересную, не всегда денежную. А вот жена Вовки, тонкая, шустрая, кареглазая Алена, напротив, была очень интересная. Она была из тех девушек, которых не назовешь красавицами: вроде, и нос великоват, и волосы обычные. Но вот подведет она глаза, накрасит губы яркой помадой, замотает как-то по-хитрому шарфик, и все мужчины на улице на нее заглядываются. Вова женой очень гордился.
К этому времени бабушка Лена начала сдавать: после инсульта согнулась вся, ходила с трудом, красивое широкоскулое лицо похудело, щеки обвисли, шея покрылась густой сеткой морщин. Есть не хотела, собралась помирать. Баба Лена жила одна в большой двухкомнатной квартире на первом этаже сталинского кирпичного дома. На семейном совете решили, что Вова с Аленой переберутся к бабушке и будут за ней ухаживать, а бабушка оформит на Вову завещание. Вова поправлял непослушные кудри, улыбался и басил:
— Конечно, мы переедем и будем ухаживать! Она же мне была как мама!
Поначалу все шло хорошо. Своими силами сделали ремонт. Вовка зарабатывал деньги и покупал продукты, красивая Алена навела в квартире порядок и уют; бабушке помогали. Но потом, как это часто бывает в семьях с разными поколениями, пошли разногласия. Вова с Аленой жили весело, часто приходили друзья, на кухне пили вино, играли на гитаре, пели песни, хохотали. Бабушку это веселье раздражало, она обо всем докладывала по телефону сыну или подругам, ворчала, что ее обижают и что ей нет места в собственной квартире. Родственники Вову и Алену ругали, обзывали пьяницами и эгоистами. Приходили домой, когда их не было, пересчитывали пустые бутылки.
Дальше — больше. Начали ругаться — громко, скверно. Вовка напирал на бабушку с кулаками, красный весь от злости, ругался басом. Она боялась, смотрела снизу вверх на него жалобно, отвечала противно, визгливо. И жаловалась, жаловалась, жаловалась! К тому же у нее начались старческие причуды: не разрешала убирать в своей комнате и, как Коробочка, обрастала старьем и мусором вокруг своей кровати. Видела плохо, и потому все вокруг расставляла так, чтобы можно было нащупать. Справа стояли крупы в пакетах и сахар в банках. На тумбочке — лекарства. Слева — прикроватный столик, за которым она ела, на нем валялись хлебные крошки, пакетики из-под чипсов, какие-то замусоренные коробочки и фантики. Гардероб был забит старыми платьями и оставшимися от покойного мужа рубашками тридцатилетней давности. На полке лежали две обувные коробки с носками — для штопки и теми, что еще ничего. В углу — чистящие средства и шампуни. Вдоль стены — бесконечные книжные полки с собраниями сочинений Чехова, Диккенса и Жюль Верна, которые давно никто не трогал. Алена пробовала было разобраться поначалу, но, услышав от бабушки, что она хочет все своровать и вообще криворукая, обиделась и перестала помогать вовсе.
Бабушка Лена страдала. Молодые перестали пускать ее в туалет, потому что пачкает. Поставили ей в комнату биотуалет. Потом запретили появляться на кухне, когда они там ели и когда приходили гости:
— Баба Лена, ты целый день одна дома! Поешь сама пораньше. Дай нам, наконец, пообщаться спокойно! Никакой личной жизни из-за тебя!
Одинокая, в окружении сотни ненужных вещей, у телевизора, покрытого толстым слоем пыли и оттого показывающего плохо, лежала она на кровати, вздыхала, слушала через стенку, как затягивали они свои новые, незнакомые ей песни, как хохотали над анекдотами или шептались — наверное, о ней, старой дуре. Потом полночи не могла заснуть, плакала.
Теперь они к ней почти не подходили, а она не выходила при них. Из ее комнаты выползал запах: смесь запахов старого, плохо помытого тела, мочи, лекарств и каких-то сладких конфет — батончиков, наверное, которые она так любила. А однажды, возвратившись с работы вечером и включив в коридоре свет, Алена взвизгнула: мимо пробежала шустрая серая мышь и нырнула прямо под дверь к бабушке. На полу отпечатались грязные следы бабушкиных тапок и мерзкие следы маленьких лап. Из комнаты доносился все тот же тошнотворный запах, а еще — она это явно услышала — старческое бормотание под нос, и какое-то шуршание, и, кажется, писк.
В тот же вечер Вовка, приняв сто грамм для храбрости, схватил рулон мусорных пакетов и решительно толкнул дверь. Бабушка сидела на кровати и подкармливала сыром двоих мышат. Крупа просыпалась на пол. При виде Вовы бабушка встала с кровати, пошатываясь. Так и смотрели друг на друга с минуту: он — огромный, красный от злости, бешеный, она — маленькая, скрюченная, дрожащая.
— У-у, развела гадюшник, мышатник, свинья сумасшедшая, свинья, все выкину!
— Не тронь, не дам, стой!
Он ударил ее по лицу наотмашь и оттолкнул на кровать, чтоб не мешала. Падая, она ударилась об угол и вскрикнула. Потом рот скривился как бы в улыбке: «Вова?» Она сползла на пол, розовая тонкая струйка потекла из уголка рта. На крики прибежала Алена, увидела тело, закрыла лицо руками: «Господи, Вова!» Мышь подбежала и села бабушке на лицо, а длинный хвост ее попал прямо в бабушкин рот.
Врачам скорой сказали, что пришли домой и нашли бабушку мертвой. Бабушка старая, ходила плохо, голова кружилась часто. Да и вообще с головой у нее было не очень в последнее время, сами видите. Поверили. Разбираться никто не стал.
* * *
Через три дня на похоронах Вова пил водку и со слезами вспоминал, как она подарила ему первый велосипед и как учила на нем кататься. Жалел горько, что ссорился с ней в последнее время по пустякам и не успел попросить прощения. Качал головой, поправлял волосы нервно и все повторял:
— Она же мне была как мать!
Алена гладила захмелевшего мужа по спине и тоже плакала.
* * *
Домой вернулись поздно, сил не было, поскорее добрались до своей комнаты и легли спать. Ночью Вова проснулся — болела голова, страшно хотелось пить. Прошел на кухню и залпом выпил два стакана воды из-под крана. Сейчас он отчетливо слышал звуки — шуршание и громкий писк. Казалось, кто-то изо всех сил скребется в дверь. И тот самый ненавистный бабушкин запах — он стал намного сильнее, от него просто мутило. Подумал: «Странно, не могли они так быстро расплодиться. Завтра надо выкинуть все к чертовой матери и санэпидемстанцию вызвать». Включил свет, дрожащей рукой толкнул дверь в ее комнату. В комнате на полу, там, где она в последний раз упала, копошились мыши маленькие и крупные. Множество мерзких грызунов. Мышиная стая повторяла контур ее тела, и на секунду Вове показалось, что бабушка все еще лежит там, в комнате, а они облепили и поедают ее тело. Потом они увидели его. Писк усилился. Сотни глаз-пуговок злобно уставились на Вову. Они стали собираться в одну кучу, быстро лезли друг на друга, и вот уже огромный мышиный монстр, пищащий, живой, шевелящийся, двинулся на Вову. На миг ему показалось, что монстр этот фигурой напоминает согнутую бабушку. Он закричал, бросился прочь и попытался захлопнуть дверь, но поздно — монстр протиснулся в коридор, повалил его на пол, сотни маленьких тварей вцепились в тело, жадно его кусая. Последнее, что видел Вова — мышиное войско направлялось к спальне, туда, где спала красивая Алена.

Мэй-дэй
На мгновение Диана чувствует себя центром, вокруг которого вращается яхта, шторм, весь мир. Правой рукой она держится за мачту, а левой отчаянно ищет, за что ухватиться. Веревки, опутавшие ноги Дианы, норовят сдернуть ее с палубы. «Правило трех конечностей, — проносятся в ее голове слова капитана на инструктаже. — Чтобы не улететь за борт, вам нужно держаться за лодку тремя конечностями».
Яхта взмывает на кромку высокой волны, и когда мир опять опрокидывается, Диана краем глаза замечает что-то и инстинктивно оборачивается. «Только не лицо, — по привычке думает она, — только не бей в лицо». Чем ей прилетает, она не успевает понять. Холодный соленый вал накрывает ее, моментально облегчая боль от удара, и она теряет сознание.
«Моя жена» — так Платон называл Диану на людях. Сначала ей нравилось. Моя жена то, моя жена се — мило. Со временем это стало раздражать. Но Платону было удобно, чтобы окружающие считали ее женой. Он всегда делал так, как было удобно ему. «Знакомьтесь — моя жена Диана, — говорил партнерам Платон. — У нас все пополам и полное доверие друг другу».
Диана была оформлена генеральным директором во всех его бизнесах. Она даже не считала, сколько их, и вопросов не задавала. Ей давали подписать генеральную доверенность, и, выйдя от нотариуса, она получала какой-нибудь подарок: колье «Тиффани», сумку «Биркин», поездку на горнолыжный курорт в Альпах. Они с Платоном жили в трешке на Цветном бульваре, у нее была платиновая кредитка, она перемещалась по городу исключительно на «Мерседесах» и «Лексусах».
Они познакомились на инновационном форуме, о котором Диана узнала в паблике «для перспективных девушек». Ее последние деньги ушли на билет и эпиляцию. Уезжать с форума одна она не планировала. Платон выделялся среди хлыщей с масляными глазами, как один облаченных в костюмы «с искрой», и засаленных айтишников, не способных смотреть кому-либо в глаза дольше двух секунд. Он был хорошо, уютно одет — в свитер крупной вязки, грубые ботинки и мягкие выбеленные джинсы. Диане захотелось прижаться к нему, вдохнуть запах его туалетной воды, зарыться в его свитер. Она подсела к нему и попросила ручку, затем, глядя из-под норковых ресниц и занижая тембр голоса, поинтересовалась его мнением о выступлении очередного спикера, но, к ее разочарованию, он отвечал рассеянно, что-то читая в телефоне. Диана была одета не по погоде и, дослушав, попросила подбросить ее до метро — хоть какой-то будет толк в крайнем случае. Тогда он наконец рассмотрел ее черные глаза, губы, шелковое платье-кимоно, сапоги-чулки на шпильках и согласился. «Поплыл, московский мальчик», — решила она. Он галантно помог ей надеть пальто и по пути на парковку, как ей казалось, ловил ее взгляд, а когда она садилась в машину, внимательно изучил ее острые худые коленки.
Платон тогда довез Диану не до метро, а почти до общежития на окраине Москвы. Она назвала адрес неподалеку и не разрешила проводить ее, сказав, что живет у родственников, строго чтущих традиции, и не может пригласить его в гости. Платон водил ее по ресторанам, через пару недель подарил новый телефон (она тут же продала старый и купила зимние сапоги), а спустя месяц предложил переехать к нему. Она собралась за один вечер, вещей в общаге у нее было совсем мало. Платон был вежливым, заботливым, предвосхищал ее желания. Он помог ей срочно оформить загранпаспорт, забронировал билеты и гостиницу на Новый год, спросил, есть ли у нее водительские права.
Управлять машиной, кататься на велосипеде и плавать Диана не умела, за границей не бывала, не играла в компьютерные игры, не видела ни один фильм, который обсуждали Платон и его друзья, и не понимала половину слов в их разговорах. За три года в Москве у нее появилась одна подруга — Маша, ее полная противоположность, голубоглазая блондинка с белесыми ресницами. С ней было удобно ходить в рестораны: они эффектно оттеняли друг друга, и мужчины оглядывались на них, знакомились, угощали.
Машу выворачивает за борт. Вокруг все раскачивается, не на чем задержаться взглядом. Она вспоминает, как ее рвало на выпускном в школьном туалете после выпитой под лестницей водки, и стыд смешивается со страхом выпасть в черную затягивающую воду. Когда устрицы, мидии и вино уже в море, ее продолжает тошнить желчью.
Ветер и волны швыряют Машу из стороны в сторону, и она так вцепляется в борт, что выдирает длинные ногти, нарощенные в мамином салоне. Она выбралась на палубу с жилетом для Эльдара и теперь мечтает спуститься обратно, но не может шевельнуться. Когда на яхту обрушивается огромная волна, Маша закрывает глаза и представляет, что все это ей снится и вот-вот закончится.
Саша на полусогнутых выбирается из каюты в кубрик, упирается одной ногой в шкаф, а руками держится за полки и стол. Он очнулся, когда его приложило о переборки. Только это смогло вывести его из привычной алкогольной отключки. Он замечает признаки сотрясения — головокружение, тошноту. Чувствует, как из раны над ухом течет кровь.
По радио Саша слышит какие-то переговоры, но не понимает языка и не знает, как ответить. Когда на инструктаже капитан объяснял, что нажимать, в Саше была почти бутылка виски. Он видит ноги в проходе, узнает кроссовки Платона и татуировку на лодыжке — свернувшегося змея.
Идеей отправиться в недельное плавание под парусом загорелся Платон. У одного из его инвесторов была своя небольшая яхта в греческом порту и капитанские права. «Он и в регатах участвовал», — важно пояснял Платон. Капитан яхты выслал документы для виз, и все закрутилось: Платон пригласил лучшего друга Сашу, а Диана — институтскую подругу Машу, к которой прилагался ее жених Эльдар.
Сперва Платон пообещал покрыть любые расходы, потом сказал, что Олег, капитан яхты, ему должен и устроит им неделю круиза вокруг Греции бесплатно, но, когда визы были оформлены, оказалось, что на яхту надо скинуться по несколько сотен евро с каждого. Саша, который вечно сидел в долгах и жил с мамой и сестрой, вложиться не мог, и его поездку оплатил Платон. Маше и Эльдару пришлось раскошелиться. Точнее, конечно, Эльдару.
Перемены настроения Платона Диана объясняла Маше уклончиво: то что-то не клеится в их общем с Олегом проекте, то у Олега плохо с деньгами, а стоянка в Греции не дешевая. То просто у Платона характер такой, он же Близнецы.
Платон твердил, что в Греции еда стоит копейки, алкоголь в дьюти-фри сметал целыми полками, бегал от кассы обратно к батареям бутылок и кричал на весь магазин: «Мужики, я всех угощаю! А “Джека”-то мы взяли? Нам не хватит, пацаны, вы чего? Неделя на лодке, мы же со скуки помрем! Девчонки вон сухенького набрали полтележки! Девчонки, за борт выпасть не боитесь?» Он каламбурил, смеялся, дергал всех за одежду, обнимал Сашу и Диану, радовался как ребенок. Его веселость передалась остальным, несмотря на то, что шутил он над всеми, кроме себя. На кассе выяснилось, что его валютная карта не проходит. Да, у него много карт, но курс по рублевой будет космическим. «У кого еще есть евровая?»
Валютная карта с нужной суммой была только у Эльдара. «Эльдар, дорогой мой друг, я тебе перекину денег онлайн, когда доберемся до нормального интернета! Спасибо, что выручил!»
Пить начали в такси до марины, где их ждала яхта. Первым глотком халявного виски Саша от жадности чуть не подавился. Дальше он помнил огни порта и яхты, на которой что-то со стеклянным звуком стукалось. Его аккуратно провели по трапу, передавая с рук на руки, и усадили на рундук. Мутный тип, представившийся Олегом, провел инструктаж. Дальше была узкая маленькая койка в каюте, больше похожей на шкаф, и Сашу сморил сон.
Эльдар старается остановить бешено крутящийся штурвал, чтобы выровнять яхту. Он видит, как она то зачерпывает воду одним бортом, то заваливается на другой, почти переворачиваясь. Видит Машу, свесившуюся за борт, но не может до нее дотянутся и оттащить, боясь оставить руль. Видит Диану, распластавшуюся на палубе как ящерица, что-то кричит ей, но голос отказывает ему. Минуту назад он видел, как Олега смыло в море, но все же отчаянно надеется, что тот сейчас вынырнет, поднимется на борт, и скажет ему, что делать. Громадная черная волна обрушивается на Эльдара, но он не выпускает штурвал, настолько его руки одеревенели от холода и страха.
Олег открывает глаза и видит чистое голубое небо. Он дрейфует на спине в спасательном жилете, и вокруг, насколько можно видеть, нет ни земли, ни кораблей, ни его лодки, ни обломков. Не помня, как очутился за бортом, он осматривает себя — в ноге торчит обломок, видимо, краспицы. Олег касается его, и вместе с болью сразу возвращается память. Шторм, спасательные жилеты, оставив Эльдара за штурвалом, он передал координаты по аварийному радиоканалу, но услышали ли его? Приняли ли сигнал бедствия? И где яхта теперь? У него нет ни рации, ни передатчика, ни сигнального пистолета — все осталось на лодке. Есть лишь часы яхтсмена, подарок бывшей жены, со встроенным барометром, компасом, глубиномером, GPS… Олег замирает. Если сигнализация «человек за бортом» в часах сработала как надо, если лодка уцелела и пассажиры выжили, они смогут найти его по навигатору. Он выдыхает. Нет, конечно. Они ведь не умеют пользоваться яхтенным навигатором, и у них нет никаких шансов без капитана разобраться, как вести судно. Единственная их и его надежда — на сигнал SOS, который он послал. Если спасатели найдут их, то найдут и его. Если, если… Он закрывает глаза, его ждут часы под палящим солнцем без возможности укрыться. Из раны потихоньку вытекает кровь.
Олег познакомился с Платоном на свадьбе с первой женой в середине двухтысячных. Он так и не понял, кому и кем приходится этот компанейский парень. Платон как тамада развлекал всех, устраивал какие-то спонтанные конкурсы, громко кричал «горько», даже похитил невесту и, изображая одноглазого пирата, требовал у Олега выкуп. Олег швырялся деньгами, денег тогда было — лопатой греби. У него были контракты на поставку стройматериалов в подмосковном городе-спутнике. Олег взял «мерина», вставил фарфоровые зубы, купил трешку на Цветном, съездил и на Мальдивы пару раз, и в Куршевель — ощутил кайф богатства после голодного челябинского детства. Жену он выбрал из сестер своих, правильных пацанов. Сделал предложение «по красоте» — подарил ей «Ауди», каких-то сумок и цацек набрал. Купил дом в Подмосковье — детей воспитывать, тещу перевезти. А сам продолжил вкалывать — надо было расширяться.
И тут появился Платон. Они вроде как уже были близко знакомы со свадьбы, и Платон был не левый, не чужой тип, и сходу начал предлагать, куда можно зайти и во что вложиться, и знали его многие — в дорогих ресторанах его узнавали за соседними столиками, здоровались, хлопали по плечу. Для угрюмого, замкнутого Олега, который поднялся на старых, проверенных школьных и армейских связях и никого в Москве не знал, связи Платона были очень ценными.
Диана приходит в себя от резкого толчка, захлебываясь соленой водой. Она висит над водой вниз головой, запутавшись в снастях. Отплевываясь, она кричит, кричит до хрипоты, даже когда кто-то принимается ее освобождать. Диана опускается на палубу на четвереньки, и ее рвет морской водой. Она оглядывается на того, кто ее вытащил, и видит последнего, кого ожидала, — Сашу, Сашкá, лузера и алкоголика. Диана обнимает его ноги и плачет. Не понимая, что делает, она хочет стянуть с него штаны, но ее снова тошнит. Она ложится на спину и смотрит в небо — на нем ни облачка, оно такой яркой и прозрачной голубизны, что Диана начинает смеяться. Потом она вспоминает о Платоне.
Аккуратно придерживая Диану за талию, Саша ведет ее к лестнице вниз. Там, между штурманским столом и двигателем, в доходящей до колен воде плавает Платон, невидящими глазами уставившись через люки на то же небо. Из его груди торчит нож.
Заметив тело, Диана сползает по лестнице и кидается к нему, но вдруг ее охватывает отвращение, страх заразиться — он же труп, он гнилой! Она оступается, судорожно выбирается обратно на палубу и падает на рундук, на котором они сутки назад пили, глотали скользких устриц и махали уходящему берегу.
Эльдара, в отличие от Дианы, трупы не пугают, он видел их много на практике в мединституте. Отец Эльдара «поступил» его на стоматологическое отделение, чтобы сын пошел по его стопам, стал стоматологом-хирургом и со временем возглавил семейный бизнес — сеть клиник. Никакого желания учиться, а потом работать с отцом у Эльдара не было, но его никто спрашивал. Единственной пользой от высшего образования стало умение решать вопросы. Из-за знакомств отца он был накоротке с многими преподавателями и мог договориться и о повышении оценки, и о том, чтобы закрыли глаза на плагиат, на постоянные пропуски, — для себя, для одногруппников, для младших курсов ко всеобщему удовольствию. Эльдару знания были не нужны, зато он понимал, кого можно брать на работу, — тех, кто никогда к нему не обращался. По окончании института он открыл свою собственную небольшую клинику, не взяв у отца ничего, и очень этим гордился.
С Машей Эльдар познакомился случайно — снял помещение для клиники дверь в дверь с салоном красоты Машиной мамы. Маша часто забегала туда «почистить перышки», как она выражалась. Эльдар, московский армянин в третьем поколении, кавказцем себя не считал, но привык к тому, что девушки относятся к нему с опаской. Поэтому Маша, которая просто и открыто, без кокетства улыбалась ему, привлекла его внимание сразу. Эльдар позвал ее на кофе, рассказал о себе, о стоматологии, о клинике. Потом порадовал какими-то эклерами и капкейками ее маму и всех сотрудниц салона, дал им корпоративную скидку — небольшую, но приятную.
Эльдар ко всем умел найти подход, поэтому скоро строгая Машина мама, обычно шарахавшаяся от «черных», стала называть его Эльдарчиком и спрашивать, православный ли он. «Православный, конечно», — сказал он и начал носить крест. По телевизору в салоне красоты нон-стоп крутили сериал про семейное счастье в русско-армянской семье, и мама Маши растаяла окончательно. Эльдар принял этот сигнал и посватался, зайдя с козырей: Машиному отцу он поставил полный рот красивых израильских имплантов вместо отживших свое коронок. Свадьбу собирались сыграть в Тайланде, Маша видела много красивых фотографий оттуда и представляла себя с цветами в волосах в белом «марлевом» платье.
Эльдар отпихивает тело Платона от приборной панели, снимает рацию и тихо говорит в нее: «Mayday, Mayday!» 1. Ответа нет. Он наугад жмет на кнопки и кричит: «Help us! We have injuries! And a dead man!» 2 — английские слова сами выскакивают из памяти. Эльдара трясет, и он снова обеими руками с силой отталкивает труп как можно дальше, но через несколько мгновений его приносит обратно. Эльдар сдается и поднимается к остальным.
Саша с синяком в пол-лица сидит рядом с Дианой и машинально, как кошку, гладит ее по голой спине. Раньше Саша не позволил бы себе такого. Платон никогда не разрешал трогать свое. «Зато чужое брал без спроса», — думает Эльдар.
Маша сидит напротив, подобрав под себя длинные ноги в синяках и ссадинах. Она и сейчас выглядит как победительница экстремального конкурса красоты, ее заплаканные глаза стали ещё выразительнее.
Эльдар идет к штурвалу, пробует провернуть его, но ничего не происходит. Он не понимает: то ли руль сломался, то ли управлять просто нечем — мачты больше нет.
Саша встает и просит оцепеневшую Диану подвинуться. Он открывает рундук и достает непочатую бутылку виски. Все смотрят на нее, даже Диана выходит из прострации. Саша пожимает плечами и говорит:
— Я всегда делаю нычки. Надо ж догнаться, когда все выпито.
Он откручивает крышку, и Диана цепким звериным движением вырывает у него бутылку, отпивает и кашляет. Глотнув еще, она возвращает виски Саше. Он укоризненно смотрит на нее и отхлебывает.
— Не, я все понимаю, ты вдова, тебе можно…
— Да какая я вдова, — хрипит Диана. — Я теперь крайняя по всем статьям.
— Скажешь, что не знала ничего, подпись твоя подделана, обманули тебя. Глазками похлопаешь, губки надуешь, — ухмыляется Саша.
— Вы о чем сейчас? — Маша протягивает руку за бутылкой.
Эльдар протестующе мычит, но Маша не обращает на него внимания.
— Ни о чем, Маш, не заморачивайся, это по бизнесу, — отмахивается Саша.
— О чем, о чем. Хватит дуру строить, Маш. Платона больше нет, и бизнесов нет, и денег не будет. А на мне долги останутся, — объясняет Диана. — Так что клиника твоя, Эльдар, мне пригодится.
Маша, морщась, делает глоток, вытирает рот рукой и спрашивает:
— В смысле пригодится?
Глядя на море, Эльдар произносит:
— Надо пустить сигнальную ракету. Она вроде под лавкой там внизу должна быть, Олег говорил на инструктаже.
— Пускать ночью надо, — встревает Саша. — Я играл в один симулятор, там ночью надо было пускать. Чтоб тебя нашли.
— А как быстро находили? — спрашивает Маша.
— Зависело от погоды, от ветра, там, от твоего местонахождения… Если в Тихом океане, то могли долго искать, а рядом с берегом быстро…
— А мы далеко от берега? — перебивает Диана.
— Ну, мы вчера весь день шли, потом ночь, шторм под утро начался, кажется. Не знаю, как далеко нас отнесло. — Он поворачивается к Эльдару: —Ты знаешь?
— Нет. Пока мачта не сломалась, я пытался выправить лодку, ну как машину, типа чтобы ровно стояла. Дальше нас волной накрыло, и больше я ничего не помню.
— А Платона кто-нибудь вчера помнит? — спрашивает Диана.
Все молчат.
Маша хнычет. Эльдар замечает, что у нее выбит зуб. Он подходит к ней, поднимает ее голову, просит открыть рот — профессионально, без нежности. Она послушно открывает.
— Двойки нет, тройка, четверка и пятерка шатаются, — диагностирует он, шаря по ее рту.
Маша прикусывает его пальцы и воет от боли, но не отпускает, пока Эльдар не дает ей пощечину.
— Надо что-то делать, пока мы все тут с ума не посходили, — ворчит он.
Маша начинает бить его по волосатым ногам — неуклюже, ладонями плашмя.
— Вставим тебе зубы, не истери! Что будем делать с телом?
— Хочешь от него избавиться? Ты совсем, что ли? — вскидывается Диана.
— Мы все окажемся под подозрением, — Эльдар пожимает плечами.
— А если он просто напоролся на нож во время шторма?
— Ты себя сейчас слышала? — Эльдар насмешливо смотрит на Диану. — Может, ты его убила?
— А может, ты? — парирует она. — Хотел вернуть клинику и воспользовался случаем.
— Ребята, давайте не ссориться, — Саша жадно отхлебывает, и струйка виски течет по его подбородку. — Давайте подумаем, кому это выгодно.
— Тебе это выгодно, — быстро отвечает Диана. — Тебе надоело, что Платоша, твой родной, дорогой дружок, использует тебя, крадет твои идеи. Тебя единственного на палубе не было.
— А ты умная, смотри-ка! Я-то думал, ты вообще не врубаешься ни во что. Ты же все время с этими своими нарядами носилась, ноготочки-масочки, а ты у нас, оказывается, умная! — Саша выпрямляется, опять прикладывается к бутылке и будто нарочно икает. — Но ты не думай, я давно привык, Плотва всегда такой был. Мы же с первого класса за одной партой сидели. Списывал он, конечно, ну да, а что такого? Я тогда отличником был, все учительницы меня любили. За глаза, правда, знаешь как называли? Сын голытьбы. Сын дворника и сторожихи. Но вырастет Ломоносовым, если не будет лениться. Думали, я не… не понимал.
— Диан, забери у него виски, — говорит Эльдар и садится рядом с Машей.
Саша прижимает к себе бутылку, Диана наклоняется и протягивает руку, но он не отдает, отпивает еще и продолжает:
— Ну и что, что батя — дворник, правда? Плотва так всегда говорил. Сашок, говорил, ты не ссы, я тебя в обиду не дам, если что. Но если не дашь списать, то скажу, что ты тоже дворником хочешь стать. И что Ленка тебе нравится, будет сторожихой твоей, когда вырастет, и вы поженитесь. Так что Ленка на тебя смотреть даже не будет. Лады, договорились? Чего там задали-то? И реально не давал меня в обиду, никому. Ну, учителя понимали, смеялись, спрашивали: вы до университета вместе сидеть будете? Вечно оценка одна на двоих будет? Платон своей головой думать никогда не научится? Ну, так и вышло. В универ вместе поступали, в один, я ему дал списать на экзамене, мне оценку занизили, когда увидели. Но он сказал мне, что если я не поступлю, то в армию вместе пойдем. Батя тогда уже от цирроза умер, Плотва мне, считай, как брат был, старший… А в универе я узнал про биржи эти, торги, разработал модель, систему придумал. Ну и как-то деньги пошли. Платон предложил бизнес вместе создать, и я решил, куда я без него, он же мой лучший друг.
Саша начинает беззвучно плакать. Диана наконец отбирает у него виски и отпивает сама.
— На жалость только не дави. Суть одна — ты придумывал, а Платон брал и делал, будто идея его изначально. А чтобы тебе духу ни на что не хватало, он спаивал тебя. Нет? — Она болтает бутылкой перед его носом, на котором висит слеза. — Может, достало тебя, что он тобой помыкает, и ты по пьяни его зарезал?
— Он что, одним мной тут помыкал, что ли? — всхлипнув, кричит Саша.
— Это да, власть над людьми он любил. Меня бил, ее трахал. — Диана кивает на Машу. — У него все было схвачено.
Маша вздрагивает и косится на Эльдара, но он не реагирует.
— Ты что, знал?
— Знал, конечно, — устало отвечает Эльдар. — Но мне после той смерти было похер. Мне в последнее время вообще все стало похер. — Он отворачивается от Машиного взгляда.
— К-какой смерти? — Саша снова икает.
— Меня полгода назад попросили зуб вырвать, — глухо отвечает Эльдар. — Там мужик был, начальник какой-то у этих дорожников новых, которые плитку в Москве перекладывают. Он по рекомендации привел ко мне в клинику жену свою и сказал, пусть, мол, оперирует ваш главный хирург. А по документам я же главный хирург. Обычные хирурги, девочки мои с золотыми руками, его не устраивали, ему начальник был нужен. Я решил, чего там сложного, такие клиенты жирные пошли — может, он всех своих дорожников приведет мне вместе с женами и детьми. Ну и удалил ей зуб, но повредил гайморову пазуху, а там воспаление. Я вроде гной откачал, но там столько крови было, все залило. Она вести не могла, я ее домой сам отвез на ее машине и скорую не стал вызывать, чтобы муж не узнал. Думал, заживет. Так же всегда бывает. А она умерла от заражения крови через четыре часа.
Эльдар замолкает и берет у Дианы бутылку.
— И ты ко мне прибежала в ужасе, что Эльдара твоего сейчас закроют, — с презрением говорит Маше Диана. — «Спроси у Платона, вдруг он может что-то сделать». Я и спросила. И он смог, отмазал его. Не знаю, кстати, как.
— Как-как! А ты как думаешь?! — восклицает Маша. — Чтобы от следствия откупиться, Эльдар все сбережения вынул. Но этого мало было, тогда он машину продал, а я — мамины украшения. Потом дорожник стал наседать, пришлось квартиру нашу новую продать, а родительскую, которая была на меня оформлена, заложить.
— Не поняла, а твою-то квартиру почему?
— Да потому, что у папаши своего Эльдар ничего попросить не может, стыдно ему! — орет Маша. — Так, значит, ты и клинику отдал?
Она замахивается на Эльдара, но тот перехватывает ее руку.
— Я думал, пронесло, — говорит он. — Но в какой-то момент появился Платон и сказал, что дело опять откроют и я сяду лет на двадцать, если клинику ему не дам под залог какого-то кредита.
— Всех за яйца держал крепко, — усмехается Диана. — Ну, а ты-то что, подружка? Сама к нему в койку прыгнула, или это тоже часть сделки была?
— Нравилась я ему, — с издевкой бросает Маша и выпрямляется. — Он говорил, трахаюсь я гораздо лучше тебя, а ты фригидная, не даешь ему.
Диана сгибается от смеха, давится, у нее из носа идут соленые сопли.
— Тупая ты сука, — утершись, говорит она. — Я ему давала, где он хотел, как он хотел и сколько он хотел, и еще добавки просила. Пока не залетела. А он сказал: ты что, специально? Хотя кончал всегда куда хотел, вообще не думал об этом. Куда, говорит, нам детей, иди на аборт, уколют тебе в плечо укольчик, и все, проехали. Считай, я тебя простил. После этого у меня как отрезало. Я как увидела всю эту кровь и шматки, которые из меня вываливались, так сказала себе: накоплю, сколько смогу, и свалю.
— Так ты его убила? — повторяет вопрос Эльдар.
Диана медлит.
— Мне бы решимости не хватило. Он как-то подобрел в последнее время, обещал, что мы скоро по-настоящему поженимся, заведем детей. И я ждала.
— Поверила ему? — неожиданно трезво изумляется Саша.
— Да, — признается Диана и опускает голову на руки, ее локоть соскальзывает с колена, и она складывается, будто марионетка без ниточек.
— А я ничему не верила уже, — тихо и зло говорит Маша. — Он бы нас не отпустил. Никого.
Зыбь с мягким плеском качает лодку, безветрие после бури кажется мертвым.
Вдруг начинает трещать рация. Эльдар кидается к ней и жмет на все кнопки подряд, пока не прорывается голос, русский голос: «Капитан вызывает команду “Трикстера”, капитан вызывает команду «Трикстера”! Ответьте!»
Эльдар кричит: «»Трикстер» на связи! Мы тут…. Олег, это ты? Это Эльдар!»
— Да, я. Все живы? Передайте ваши координаты, они горят на навигаторе.
Эльдар ищет координаты, но навигационная панель не работает.
— Координат нет! Меня слышно? Нет координат! И у нас один погибший, убитый то есть, Платон.
Олег не отзывается. Рация молчит.
Заходящее солнце освещает лодку — красиво, как на открытке. Четверо неподвижно сидят на палубе. Пустая бутылка виски валяется у их ног.
Когда сгущаются сумерки, Эльдар приносит сигнальный пистолет и стреляет. Красная ракета улетает высоко в темное небо и вспыхивает. Все, кроме Маши, провожают ее взглядами. Ветер приносит рев мотора.
— Что мы скажем полиции? — спрашивает Диана.
— Дилемма заключенного, классический случай, — отвечает Саша, едва открывая рот. — Будем все всё отрицать, и тогда доказать ничего не смогут. Если, конечно, отпечатки на ноже смыло водой.
Олега подбирает катер спасателей. Они сразу вызывают полицию, такой порядок. Он связывается с «Трикстером», сигнал на радаре засекают, и его уводят, не дав договорить. Прожив последние три года на яхте, Олег знает о морском праве достаточно, чтобы не строить иллюзий. Если на судне кто-то погиб, посадят капитана, он отвечает за всех. Но Олег рад, что это именно Платон, хотя боится, что неправильно услышал, очень боится. Там был еще один парень, лучший друг Платона — то ли Александр, то ли Антон.
Платон часто таскал Олега знакомиться с нужными людьми в дорогие спортивные клубы. Олег так и не понял, как правильно играть в гольф и сквош, а яхтингом заболел. Полюбил это ощущение — ночная вахта, только он и море. Сдал на права, купил яхту, начал вывозить жену, но приобщить ее не получилось из-за морской болезни. Олег развелся и вскоре женился на администраторше яхт-клуба — пацаны не поняли. Платон успокаивал: «Не ссы, не нужны тебе твои партнеры, мы с тобой свой бизнес откроем, продадим твой, добавим моих денег, купим фермы и будем майнить биткоины, вложимся в биохакинг, в криозаморозку, в вечную жизнь. Твой щебень, песок и бетон никому не упали уже, нужно жить будущим, как сверхлюди, как Илон Маск». А Олега и бизнес, и вся эта московская грызня перестали интересовать. Он оставлял Платона управляющим и уходил в море. Однажды запросил отчеты и счета — оказалось, почти все бизнесы убыточны. Позже он выяснил, что и недвижимость переоформлена на Платона, включая квартиру на Цветном бульваре. Хотя бы дом в Подмосковье ему не достался: первая жена Олега при разводе не отдала, зубами вцепилась тогда, умница. Олег поделился новостями со второй женой, и та быстренько развелась с ним, но он этого почти и не заметил. Его занимало другое — как отомстить Платону.
Олег с перебинтованной ногой сидит на полу единственной камеры в полицейском участке маленького приморского городка. Мимо него проводят Сашу и Эльдара, он всматривается в их лица и улыбается:
— Значит, не послышалось, сдох, сука. Простите меня, парни, я специально на шторм нас повел. Думал, улучу момент, сброшу его за борт пьяного, да не успел. Ну, хоть не зря отсижу. За такое не жалко.
На допросах все пятеро молчат.
Апрель 2020
- Mayday (произносится «мэй-дэй») — международный сигнал бедствия в радиотелефонной (голосовой) связи, аналогичный сигналу SOS в радиотелеграфной связи (с использованием азбуки Морзе).[↑]
- Помогите нам! Мы ранены! И у нас погибший! —англ.[↑]

Остановка по требованию
Был обычный летний вторник, похожий для Жеки на все остальные дни недели. Он уже предвкушал, как вернется домой, откроет скрипучую калитку, достанет из холодильника бутылочку холодного пива и сядет с ней на крыльце, как отец спросит свое традиционное «что на работе?», и, закурив папиросу, примостится рядом, как старый пес Пират приковыляет тяжелой походкой, и, вздохнув, ляжет у их ног.
Но перед самым концом рабочего дня его вызвал к себе хозяин. Он сидел в стеклянной конторке, отделявшей его от пространства строительного магазина. Здесь он мог наблюдать за всем, что происходит в зале. Хозяин долго мялся, вытирал платком потную лысину и мясистую красную шею. Потом, тяжело дыша, принялся распинаться о тяжелых временах и нестабильной обстановке, о высоких налогах и проверяющих компаниях. Жека чувствовал себя неуютно: хозяин не смотрел на него, он склонился над столом, заваленным бумагами, отчего Жеке казалось, что с ним разговаривает лысина. Жека разглядывал странный мячик в сеточке, который вертела в руке лысина.
«А это стрессбол. — Хозяин, видимо, почувствовал его взгляд. — Помогает при нервах». Он надавил на мячик, и тот превратился во множество мелких шариков, похожих на виноград. Жека усмехнулся и по своей дурацкой привычке шмыгнул носом. «М-да, — промычал хозяин. — Но ты все понял? Значит, к сентябрю подыскивай себе работу». Жека кивнул и вышел из кабинета. Он долго стоял в нерешительности, не зная, что делать дальше. Слова медленно обретали смысл. С сентября он безработный. Найти что-то подходящее в их краях было практически невозможно, и ему очень повезло продержаться на этом месте целый год.
Стрессбола у Жеки не было, поэтому он купил по дороге две банки пива.
Старый, перекошенный набок автобус еще советской эпохи, как всегда, был забит под завязку. Жека с трудом в него втиснулся и, будучи маленького роста, уткнулся прямо в огромные груди стоявшей рядом женщины.
«Молодой человек, — громко заверещала она, — напились, так ведите себя прилично». Жека попытался высвободиться из грудастого плена, но сзади напирали, и он только усугубил свое положение.
«Следующая остановка «Бобры», по требованию», — любезно сообщил механический голос. Вот уже сколько лет Жека каждый день проезжал по этому маршруту, и ни разу за все это время здесь никто не сошел. Остановка всегда была пуста, и автобус, не замедляя хода, пролетал мимо. Всем было известно, что в Бобрах жизни нет. Сам не понимая, почему, может, из-за того, что за Бобры стало немного обидно, Жека нажал кнопку. У водителя раздался звонок, он по инерции проехал мимо остановки, и Жека уже было подумал, что не судьба ему нарушить привычный уклад, но автобус возмущенно выдохнул и резко затормозил. Все пассажиры разом замолчали и удивленно уставились на Жеку. Двери открылись, водитель приподнялся, чтобы получше рассмотреть странного пассажира. Жека протиснулся к выходу и выбрался наружу. Он с вызовом посмотрел на удалявшийся автобус, потом открыл банку с пивом и закурил сигарету. Бравада постепенно прошла, по сути, он повел себя глупо, тем более, что рейс был последним. Придется ловить попутку.
Жека огляделся: домов поблизости не было, только лес со всех сторон. Зачем здесь вообще сделали остановку? Чуть правее он увидел поросшую травой грунтовую дорогу — все же, кто-то ездил. Он не был по природе своей ни любопытным, ни любознательным, но уж такой, видимо, выдался вторник, и Жека решил проверить, что там дальше. После строительного магазина с его вечными запахами краски и лака в лесу дышалось по-особенному свободно. С каждым шагом обиды и страхи оставались где-то там, далеко, в городе, а лес успокаивал ласковым шелестом: «Все будет хорошо, потому что по-другому быть не может». Жека сам не заметил, как прошел километров пять, а то и больше. Пора было возвращаться. Но тут на пригорке он увидел дом, а рядом с домом — фигурку человека. Тот помахал ему рукой. Теперь уже неудобно было не подойти. Домик оказался совсем крошечным, почти по самые окна вросшим в землю, серого цвета давно не крашенного дерева. Стекол в одном из окон не было, и его аккуратно забили фанерой, зато во втором, где стекла еще оставались, можно было разглядеть белые тюлевые занавески и горшок с геранью. Да и сами хозяева выглядели под стать дому. На вид обоим можно было дать лет сто. Бабушка — вся сгорбленная, со скрученными артритом пальцами. А старик — худой и сморщенный, как урюк.
— Я не там вышел, — шмыгнув носом, как бы извиняясь проговорил Жека.
— А мы тут любым гостям рады, — нараспев протянула бабушка.
Они пригласили Жеку внутрь. В избушке стоял запах безнадежной чистоты и абсолютной бедности. Жека в нерешительности замер на пороге.
— Как же вы тут живете совсем одни? — не удержался Жека.
— Да как мы живем? Нормально, — улыбнулся беззубым ртом старик. — Только вот без электричества худо. Как три года назад дерево, того, упало, так его и нету.
— Может, чаю? — предложила старуха.
— Нет, что вы! — Жека не знал, куда девать банку с остатками пива, он чувствовал себя неуютно и неловко. — А как же с продуктами?
— Так у нас же и куры, и коза, и картошку пока содим, и моркву, — все так же улыбался дед. — Почтальон пенсию приносит и, там, муки, сахара, макароны.
— А как же без телефона? — не унимался Жека.
— Телефон-то дочка прислала, да только зарядить-то его негде, электричества нет.
Посередине комнаты, у стены, огромной жирной насмешкой стоял древний телевизор на ножках. Сверху его бережно накрыли белой накрахмаленной салфеткой.
— Может, вам нужно чего?
— Да что ты, сынок! — Старуха всплеснула руками, но, подумав, добавила: — Разве что, батарейки, а то радио не можем слушать, не знаем, что в мире происходит, а скоро же олимпиада.
«Олимпиада» она сказала смешно, вместо первого «а» произнося «я».
Жека вышел из дома. Два толстых рыжих кота грелись на закатном солнышке и провожали его долгими немигающими взглядами.
«Как же так, как же так, — все повторял он. — Ведь я каждый день, и все мы каждый день проезжали эти Бобры».
онлайн-курс Марины Степновой «Язык и стиль: как писать хорошо»

Очередь
Оля включила телевизор: беззвучный экран выдавал очередную порцию кровавого американского кино — высокий дом рушился из-за влетевшего в него самолета. Оля с вялым интересом следила за киношной катастрофой и вдруг поняла, что это вовсе не фильм, а репортаж с места события. Она впилась глазами в экран. «Нет. — Первая мысль была отчаянной. — Нет! Пожалуйста, только не сегодня! Сегодня ничего не должно произойти плохого!» И сразу же стало стыдно: там люди гибнут, а она думает только о своем.
Оля ждала Антона на блины. Часть напекла, другую держала в тесте, чтобы испечь свежих. Рисовалась уютная картина: она хлопочет у плиты, подкладывает Антону на тарелку узорчатые блинчики, он перекидывает их с руки на руку, чтобы не обжечься, ест, жмурится от удовольствия… А тут эта катастрофа.
Вышло так, как она и боялась: Антон пришел мрачный и отстраненный. Вместе поели, молча посмотрели страшные репортажи.
— Ну, я пойду.
— Иди, хорошего вечера.
Наносная улыбка, щелчок дверного замка и слезы, сидя на полу в коридоре. Не остался. Опять одна.
Они познакомилась при весьма необычных обстоятельствах. Это было лет пятнадцать назад. В ту холодную зиму Оля часто пропускала занятия в архитектурном — иногда из-за простуды, а иногда просто неохота было ходить на скучные лекции по физике или сопромату. Участковая Галина Петровна охотно давала справки, даже когда Оля была здорова, но жаловалась на придуманное недомогание.
Утром она отправилась в поликлинику за очередным больничным. Надела голубой лыжный костюм, белые сапожки, шапку и варежки — получилось хорошо, этакая снегурочка размера «L». На улице ее увидела и подхватила на своих «жигулях» Светка, ехавшая в ту же сторону.
Около окошечка регистратуры стояла только хмурая девушка в черной кожанке. Она записывалась к хирургу, и Оля отметила, что названный ею адрес находится совсем рядом с ее домом.
Девушка повернулась и что-то спросила у высокого парня, только что зашедшего в вестибюль. Оля одобрительно посмотрела на него: модно, но сдержанно одет, лицо красивое, но не слащавое, голос уверенный, надежный. В общем, мужчина что надо, просто мечта, а не мужчина. Усмехнулась себе и забыла.
Оля взяла талончик, отправилась по долгим коридорам в недра поликлиники и села у кабинета в ожидании приема. Она размышляла о своих сложных отношениях с Н., вступивших в критическую фазу, когда в проеме показался тот самый парень из холла. Он встал в паре метров от Оли и бесцеремонно ее разглядывал. Ей стало неловко, и она отвернулась. Парень постоял минут пять, ушел, и Оля поняла, что эта встреча ее взволновала.
В тот же вечер она позвонила Светке и рассказала про странного парня.
Подруга обнадежила: «Знаешь, я думаю, это был Антон, я однажды была у него с Ильей как раз в том доме, про который ты говоришь. А девушка, наверное, его жена. Они давно разъехались, но она, вероятно, сейчас здесь. Хочешь, познакомлю? Скажу Илюшке, чтобы пришел с ним ко мне».
Через неделю Светка устроила вечеринку, и всё закрутилось. Интрига с гляделками разъяснилась очень просто: Антон проезжал на машине мимо шедшей по улице Оли, обратил на нее внимание и очень удивился, когда увидел ее оказавшейся в поликлинике раньше него. Потому и пошел искать у кабинета — чтобы удостовериться, что это именно та самая «снегурочка», которую он приметил на улице.
В первый же вечер выяснились удивительные совпадения, что так часто преследуют новобранцев любви: оба курили одинаковые сигареты, предпочитали армянский коньяк красному вину и слушали одну и ту же музыку, которую в те времена мало кто знал — Эл Ди Меола, Пэт Мэтэни, «Кинг Кримсон». Имя Роберта Фриппа, названное ею между делом, собственно, стало пропуском и вечной бронью ее места в его особенном мире, куда стремилась попасть, казалось, каждая женщина, а попала только одна — Оля.
Стремительный роман, вылившийся в несколько страстных ночей и столько же скандалов с Н., который мгновенно понял, что теряет Олю, так же быстро и закончился. Антон разбирался с женой и только что неожиданно родившимся сыном — собственно, к хирургу он и возил жену после кесарева сечения. Оля переживала, тихо сделала аборт и отошла в сторону.
У каждого покатилась своя жизнь. Оля становилась модным и высокооплачиваемым дизайнером, Антон затеял большой бизнес с поставками дерева. Иногда они виделись: то на концерте издалека помашут друг другу рукой, то на перекрестке поморгают фарами.
Через несколько лет он позвонил и предложил встретиться. Сердце встрепенулось, и Оля приехала. Посмотрели Феллини, послушали джаз, жарко все это обсудили, и она вернулась домой. Эти встречи стали частыми. Олю они ставили в тупик: Антон общался с ней как с самой любимой женщиной, но не прикасался. «Что ж, наверное, надо подождать, — томясь, думала Оля. — Зачем торопить события?» Вскоре Антон рассказал ей о своей новой пассии: с женой он к тому времени уже окончательно расстался.
— Представляешь, она продает медовую косметику, такая милая.
У «медовой девушки», как прозвала ее уязвленная Оля, был наперсточный рост, надежные кукольные локоны, поджатый рот и бульдожья хватка сетевого маркетолога. При встрече она попыталась продать Оле капсулы прополиса, а потом обиженно молчала, когда Антон и Оля с наслаждением обсуждали что-то сложное музыкальное. «Я, между прочим, люблю песни «Абба»», — вдруг невпопад сказала «медовая девушка». Антон умилённо на нее посмотрел, и Оля поторопилась уйти.
Их встречи продолжались. Антон позвал Олю с собой в Питер — на золотую свадьбу родителей. В двухместном купе поезда, когда они выпили бутылку «Хеннесси», он прилег рядом с ней, и ей показалось, что сейчас они наконец обнимутся и уже больше никогда не разомкнут рук. Но вместо этого Антон завел основательный разговор о мужчинах и женщинах. Он сетовал, что с женщинами невозможно равенство, что отношения с ними можно строить лишь по принципу «ты мне — я тебе». «Только ты, Оленька, — лучшая!» — на том и заснул.
В доме родителей Антон представил Олю как давнюю подругу, и мама изучающе, а папа — одобрительно смотрели на нее во время застолья. Гостей было много, спали вповалку на полу. Под утро недоумевающая Оля заметила характерное шевеление одеяла по соседству — там расположился Антон, теперь уже с миниатюрной брюнеткой, чьей-то сестрой или сватьей.
Она вернулась одна. Антон остался с новой пассией на выходные. Когда приехал, позвал в баню за город. Он многообещающе улыбался и сулил что-то особенное, не уточняя деталей. Оля предвкушала скорое счастье и чувствовала себя, как тот человек в очереди за дефицитом, который наконец-то дошел до прилавка и готов получить вожделенный товар.
Но поездка вышла скомканной. Антон был хмур и напился, и два обнаженных тела, лежавших ночью рядом в постели, не коснулись друг друга.
Они продолжали общаться: слушали музыку, ездили на озеро и за грибами, жарили шашлыки на даче, отмечали дни рождения, но все реже: Антон стал много пить, дела в его фирме ухудшились, он часто уезжал, но еще более был занят с бесконечными женщинами, «дерьмовочками», как она их называла. Все крошечные, как на подбор, молоденькие, необразованные, они представлялись ей какими-то зверьками или пупсами, которыми он тешит свою плоть. И казалось, еще немного, и он наконец обернется лицом к той, которой так восхищался, называя единственным настоящим другом. К той, которая ждет.
Но очередь Оли не стояла на месте, а, скорее, постепенно сдвигалась назад. Перед ней в жизнь Антона влезали все новые и новые любовницы, жены и случайные женщины, просто подошедшие по размеру. Некоторые рожали от него детей.
Оля поняла, что больше не в силах этого терпеть. Подвернулся выгодный долгосрочный контракт в Праге, и она уехала.
* * *
Блестя лысиной, длинный, одетый в телогрейку носильщик подвез свою желтую тележку к нашему вагону, и я поспешно отступила в тень тамбура, потому что узнала в нем Антона. «Черт, откуда он взялся здесь, в Тобольске? — неприятно удивилась я. — Надо же было поехать в эту командировку за тридевять земель, чтобы первым встретить именно его!»
Выходившие из вагона люди замешкались, и я смогла понаблюдать за объектом моей долгой любви издалека. Антон больше не выглядел брутальным красавцем, каким мог бы оставаться и в глубокой старости — есть редкая порода мужчин вроде Шона Коннери или Хэмингуэя, которые с годами становятся только привлекательней. Он обрюзг, ссутулился, в движениях появилось какое-то мельтешение. Я не видела его лет семь. Заблокировала в соцсетях после того, как он завалил меня своими откровенно слабыми, агрессивными стихами, лившимися из него нескончаемым широким потоком Ниагарского водопада.
Излечившись от той мучительной любви, когда Антон, изумляясь, восхвалял меня, как единственную женщину, с которой можно дружить, я поначалу сохраняла с ним теплые отношения и продолжала быть свидетелем его бесконечных связей с маленькими женщинами. Его последняя, совсем молоденькая жена с оперным именем Травиата познакомилась с ним через службу знакомств — в поисках подходящей мини-фактуры он ими не брезговал — и быстро схватилась за редкий шанс выудить из потока бесперспективных объявлений красивого и богатого «папика». Да, представляете, я назвала его так! А ведь из всех моих мужчин именно он был самым интересным и каким-то очень полноценным человеком. Антон все делал основательно и безупречно, чем бы ни занимался. В музыке разбирался, как профессор консерватории, да и сам был отличным гитаристом. Образование — мединститут, работа — крупный бизнес, выросший из любви к дереву. Выучил просто так, для себя, испанский, о чем я бы и не узнала, если бы случайно не спросила его, кто может перевести для меня нужные документы. Перевел с ходу сам, оставив меня в совершенном изумлении: как можно знать язык и никому об этом не рассказывать?
Последний брак Антона изменил его окончательно: джаз сменился на шансон, французский коньяк — на водку, Москва — на Сибирь. Там его подставили партнеры, он залез в долги и все больше пил. Иногда звонил мне и в пьяном угаре признавался в любви, что не вызывало во мне ни радости, ни торжества. А потом полились стихи, и я вычеркнула его имя из списка знакомых. Наше общение прекратилось, я знаю, навсегда.
Менее всего мне хотелось выходить на перрон и общаться с Антоном, но деваться было некуда, и я, низко опустив голову, начала спускаться. В эту минуту какой-то пассажир из соседнего вагона подозвал носильщика, и Антон отошел.

Пружина
«Несовершеннолетняя пермячка погибла под колесами автомобиля, выехав на проезжую часть на велосипеде…»
— Когда вы впервые почувствовали натяжение? — спрашивает Губарев, мой психотерапевт.
— Когда родился сын.
— Это был первый виток?
— Да.
Тогда я впервые остался с девочками один. С Надей, требующей омлет «как у мамы». С Кристиной и её любимым платьем, которое случайно прожег. Галя лежала на сохранении. Потом были экстренные роды и отделение для недоношенных. Я боялся за сына. Помню его в кувезе. Он лежал прозрачный, весь в трубках. Маленький инопланетянин, а не ребенок. Я стоял рядом и старался не дышать.
— Он будет жить?..
Я хотел добавить «полноценно». Слово больно царапнуло гортань.
— Состояние вашего сына стабильно.
Прошел месяц. Казалось, Галя навсегда застряла в бесконечной череде больниц. Наконец, она вернулась. Я ждал, когда станет как раньше. Долго. Почти полгода. Потом привык.
— Когда затянулся второй? — Губарев смотрит на меня поверх очков.
Я хожу к нему больше месяца, но никак не могу распознать второй виток моей личной пружины. А ведь за это время я узнал о пружинах всё. О медных, стальных, титановых. Пружинах сжатия и растяжения. Иногда они выстреливают. Бывает, медленно расправляются под саунд из «Молчания ягнят». Изредка ломаются пополам. Такое бывает под гидравлическим прессом. Это прямой путь к самоубийству.
— Сосредоточьтесь, — требует Губарев.
— Лёве было девять месяцев. — Я зачем-то вру про возраст сына. Цифры вязнут в моей памяти дохлыми мухами. Чтобы извлечь их оттуда, надо изрядно повозиться пинцетом.
— В тот день я вернулся домой поздно.
Лёва истерил в детской. Ему вторила Кристина. В прихожей на обоях расплывалось чернильное «Надя».
— Это нормально. — Галя выглянула из кухни. — Это нормально, Олег, понимаешь? Ей пять.
Я только пожал плечами.
— Ты молоко купил?
О подоконник ударились первые градины.
— Ты не просила.
— Ага, как же! Я тебе писала в ватсап! Ты вообще понимаешь, как сложно с тремя детьми в магазин сходить?! Одень всех, коляску без лифта спусти, сумки тащи! И я всего лишь попросила тебя купить мо-ло-ко! Ты понимаешь вообще, о чем я говорю?! Сложно, что ли, перед выходом в телефон заглянуть?!
— Сейчас схожу.
— Сходит он! Да ты видел, что снаружи творится?! Кошмар!
Я развернулся к двери.
— Внутри тоже кошмар…
— Вы произнесли это вслух? — Губарев удовлетворенно кивает. — Вам стало легче?
Вслух? Нет. Конечно, нет. Я этого не сказал.
— Хорошо… Вспомните самый острый момент ваших отношений с женой.
— Переговоры. Да… Это были переговоры.
Мой телефон рвали на части одновременно в трёх мессенджерах.
«Олег Павлович, уточните дату поставки».
«Олег, документы завтра в офис подвезти?»
«Курьер с накладной выехал, встретишь?»
— Олег, поменяй Лёве подгузник. Сейчас.
Галя всегда добавляла это «сейчас», когда просила меня о чем-то.
— Папа, она мне фломастер не отдаёт!
«Олег Павлович, срочно уточните дату!!!»
— Олег, ты оглох? Лёва плачет. У меня суп на плите!
— Папа, ну папа!!!
Я сидел за кухонным столом и рылся в рабочей почте в поисках клятых дат. Галя поставила передо мной кружку. Помню её лицо. С таким выражением подливают мышьяк богатому дядюшке.
— Дальше, — торопит Губарев.
— Она забрала у меня из рук телефон и утопила в чае. В зелёном. Моём любимом.
— Что сделали вы?
— Я? Поменял подгузник.
— М-м… Как у вас было наедине? Вы бывали наедине?
— Наедине — это значит, вдвоем? Без детей? — уточняю я.
Нет. Кажется, нас всегда было пятеро.
— Хорошо, давайте вернемся к тому самому дню. — Губарев что-то записывает в блокнот.
Снова. Мы возвращаемся к нему каждый сеанс.
— Я усадил Лёву в коляску, — начинаю. — Он вырывался и орал. Мы тут же стали центром детской площадки.
— Идём домой. — Я старался говорить тихо. — Пора обедать.
— Не хочу! — Надя топнула ногой и показала мне язык.
— Не хотю! — повторила Кристина.
— Мама уже звонит.
В кармане назойливо жужжал телефон.
— Не хочу! — Надя вскочила на велосипед.
— Что было дальше? — подталкивает меня Губарев.
— Я попросил её остановиться. Трижды.
— А она?
— Свернула с тротуара.
— Что вы почувствовали в тот момент?
— Как выстрелила моя пружина.
— Олег, вы пытались догнать велосипед?
Надя ехала медленно, ускорилась у самой дороги. Я бы успел.
— Нет.
— Причина?
Сглатываю вязкий комок.
— Она. Меня. Не послушалась.

Самый странный день в жизни Саши П.
Он смог открыть глаза, когда ведьмы уже подлетали к Лысой горе, готовясь припарковать метлы у серых скрипучих деревьев и вспыхивая диким хохотом и болотными огнями то тут, то там. Телефон уже несколько минут вибрировал, грозил утру симфонией и одновременно призывал владельца к подвигу. Каждый вечер Саша П. тщательно выбирал, кто из классиков откроет ему двери в следующий день. Шестое чувство подсказало — на этот раз идеально подойдет Мусоргский.
Не найдя ни жены, ни тапочек, он босиком побрел в ванную с беспокойным смартфоном в руке. Телефонный ведьминский шабаш был в полном разгаре, поэтому Саша П. вздрогнул, увидев в полутемном коридоре глаз. Он внимательно смотрел на Сашу П. из узкой дверной щели. «Ну что, брат, выходи на кухню, пойдем есть, что ли», — фальшивым бодрым тоном сказал Саша П. глазу, выключил будильник, полный ведьм, и неловко почесал бороду.
Глаз на мгновение скрылся, и пока Саша П. был в ванной, маленький и светло-лохматый человек просочился на кухню целиком. Он забрался на стул прямо в пижаме, спиной к коридору, подогнув одну ногу под себя, и стал делать вид, будто важнее красной машинки в его руках нет ничего на свете. Хотя при этом одно ухо его напряженно торчало и неумолимо вело тело за собой, разворачивая левый бок в ту сторону, откуда слышались шум воды и еще плеск другой воды, более короткий, а потом стук зубной щетки о стаканчик: сейчас выйдет…
«Красивая машинка, мама подарила?» — Саша П. медленно и тихо сделал несколько шагов из ванной в сторону лохматого. Он провел четыре года жизни сына на работе и сейчас пытался наладить контакт с внеземной цивилизацией. «Ты», — прошелестел мальчик. Саша П. в ответ чуть громче, чем надо, загремел сковородками: «Яичницу будешь?» «Мама всегда делает кашу». «Сегодня я за маму, но в комплекте со мной идет яичница». «Ладно». — Машинка вильнула, прервав ровный путь от одного угла обеденного стола к другому.
Следующие полтора часа у Саши П. прошли в борьбе с бытом: яйца скрывались в недрах холодильника, как партизаны в белорусских лесах, потом, с трудом найденные, убегали липкой желтой дорожкой на плиту, соль сыпалась аккуратным первоснежьем, покрывая сразу все, ложки скакали, вилки падали, любопытная машинка, осмелев, утюжила ножку стола прямо от пола туда и обратно, только ножи не вступили в этот безумный шабаш непокорных: их Саша П. решил на всякий случай не доставать.
Как они оба оказались в коридоре у двери, причем уже сытые и одетые, Саша П. не понял. Да, из-под зимних штанов сына торчал край пижамы с мишками, а из обуви они нашли только валенки. «Погружение по полной, хоть бы обувь оставила». — Отдышавшись, Саша П. двумя движениями раздраженно вытряхнул из бороды на пол яичный желток, взял в руки новенький синий велосипед и подтолкнул сына к выходу.
На улице было более пасмурно, чем обычно. Небо висело низко, тучи ходили слоями, прикрывая одна другую и не позволяя солнцу даже на секунду разделить их сплоченный отряд. Ветер будто чуть сильнее, чем всегда, гнал по улице мятые бумажки. Или это было лишь ощущение — Саша П. прислушивался к себе, запустив руку в хипстерскую бороду, но понять не мог. Деревья были не деревья, кусты — не кусты. Нет, все на своих местах, но в то же время странно. Словно жизнь провалилась в расщелину между зимой и весной, и этот март никогда не станет апрелем, а уж июлем — тем более.
Саша П., его сын и велосипед стояли и молчали на краю велосипедной дорожки. «Санек! Че, пацана выгуливаешь?» — К ним подошел Петрович, сосед по подъезду, на шее у него сидела чумазая девочка и выстукивала марш из «Звездных войн» на козырьке папиной бейсболки. «Умыть не смог. Зато не в пижаме», — мысленно отметил Саша П. И тут до него дошла вся странность бытия: на улице не было женщин. Совсем.
Простой офисный менеджер 24/7, Саша П. перехватил руль велика поудобнее и огляделся. Неподалеку коляской с орущим младенцем раздраженно брал штурмом бордюр владелец шиномонтажа Сергей, еле слышно приговаривая себе под нос: «Маша! Мы так не договаривались! Не договаривались!». За небольшим сквером, далекий и оттого почти призрачный, но толстенький дедушка тяжело и низко прыгал по асфальту перед маленькой внучкой. «Классики», — всмотревшись, угадал Саша П. Другой дед, военный пенсионер, просто дремал, уронив руку с газетой «Звезда» на колени, в то время как его внук тихо доедал песок из формочки. Иногда этот добрый мальчик делился добычей с девочкой, задумчиво мерявшей лужу зелеными короткими ботиночками. Ее крепкий и лысый папа бегал по краю площадки туда-сюда, бормоча в телефон заклинания: «Капусту в средней зоне лопатить?.. А на пятаке кто? Кто на пятаке?.. На пятак шайбу, парни… и в домик, в домик заноси ему!» Шла видеотрансляция чемпионата России по хоккею. «Спартак» привычно проигрывал «Динамо».
Саше П. внезапно стало неуютно и одиноко, как бывает только в конце февраля без шапки. Не отрывая взгляда от хоккейного болельщика, он где-то внизу нащупал сына, и так никуда не уходившего, подхватил его под мышки, посадил на велосипед. Проигнорировав робкое «я сам», Саша П. взялся за руль и как глупую лошадь потащил куда-то всю конструкцию. Он искал женщин. Он надеялся, что хотя бы в соседнем дворе от них что-то осталось. Детские валенки соскальзывали с педалей, Саша П. нервничал, тащил велосипед с сыном еще быстрее, серая грязь летела из-под колес, ладонь мальчика быстро пересекли красно-белые линии — так сильно он сжимал машинку в кармане правой рукой, левой изо всех сил держась за блестящий синий руль.
В соседнем дворе женщин тоже не было. Ни вредных бабушек, ни молодых мамочек, ни студенток, ни бизнес-вумен, ни уставших учительниц, ни счастливых поваров, ни уборщиц, ни кассиров, ни парикмахеров, ни секретарш, ни-ко-го. Ни следов, ни запаха. Двор заканчивался большой улицей, по краю которой в сплетенной монохромной дымке гари, пыли и туч шли вдалеке мужские тени с колясками. Некоторые фигуры были с двумя, а то и тремя детьми. Даже с такого расстояния Саша П. ощущал подавленность большинства теней. Это было видно по их очертаниям: вялым, тусклым, почти пунктирным. Веселыми были только те редкие абрисы, у которых в сетчатых багажниках колясок лежали алюминиевые банки. И ни одного женского силуэта среди мужского однообразия. Саша П. рывком развернул велосипед, сын сильнее сжал машинку.
Когда они вернулись в свой двор, то обнаружили Петровича без сил растекшимся по лавке вместе с бейсболкой. Его дочь раскачивалась на канате и хрипло орала: «Детский паскет!» Он вяло бормотал: «Какой-такой пакет?» «Детский паске-е-е-т-т!!!» Петрович с надеждой шептал: «Паркет?? Шкет? Конфет? О, Санек, помоги, а? Какой такой пакет у нее? Час уже орет!» Саша П. посмотрел на девочку, готовую залиться слезами, потом на беспомощного Петровича, и ему стало страшно. Кукушкой вскрикнул телефон: «Вас добавили в родительский чат группы «Пчелки-2020″». Саша П. с трудом вспомнил полосатое насекомое на двери в детском саду. Кажется, пару раз он отводил туда сына. А вдруг… Он трясущимися руками открыл «пчелок». Алексы, Петровичи, Димасы, Волчара и Танк2030. И ни одного сообщения, кроме ссылки на новую пивную у метро. Кто теперь расшифрует девочку? Соберет деньги на шторы? Споет колыбельную? Страх постепенно перерастал в ужас, Саша П. не двигался, он видел только канат, который мерно раскачивал девочку, голова у него кружилась, готовая вместе с ним упасть в натуральный женский обморок.
Его сын положил велосипед на асфальт, и, шлепая валенками по лужам, подошел к Петровичу: «Дядя Петрович, она говорит — Университетский проспект». «Что?» — Петрович собрался в кучу на лавочке. «Университетский проспект. Там площадка лучше». «А-а-а, поняа-атненько!» — Радостный отец засуетился, рванул с каната немытую дочь себе на шею и помчался рысью в сторону Университетского, за два квартала от двора. Саша П. скользнул взглядом за ним, зацепившись за далекого дедушку с классиками. Тот, бросив девчачье занятие, мастерил рогатку, а внучка чертила мишень. «Спартак», кстати, проиграл. Болельщик непонятно откуда достал линейку и пошел мерить лужи вместе с мокрой до колен дочерью. Серега устроил младенца в багажнике между ящиком с инструментами и спортивной сумкой и прямо там надевал ему памперс. Солнце умудрилось протиснуться на пару минут сквозь ряды мрачного противника и гуляло лучами по всему этому мужскому царству.
«Папа, научи меня кататься». — Голос сына окончательно вернул Сашу П. из апокалипсиса в реальность. Саша П. вспомнил, что на свадьбе вообще-то обещал жене быть героем. Всю совместную жизнь. Внутри у него зазвучали тромбоны из Мусоргского. Он сдернул с сына дурацкие валенки, поставил его ноги в носках на педали и, осторожно придерживая велосипед за багажник, велел держать равновесие. Через пять минут сын уже ехал сам. Саша П. бежал рядом, а навстречу им несся таджикский дворник Махмуд, грохоча ржавой садовой тачкой, в которой размахивали руками и заливались хохотом его шестилетние близнецы Эмомали и Пахлавон.
Саша П., помахав дворнику, на бегу достал телефон, быстро набрал жену — поделиться восторгом, но уже на третьем протяжном гудке вспомнил, что она женщина. И что вместе с другими женскими особями она исчезла, растворилась, улетела на шабаш, на Луну, да черт знает, что с ними произошло. К нему подъехал абсолютно счастливый сын, оттолкнувшись от мартовского асфальта грязным полосатым носком: «Папа, а мама вечером придет?» «Не знаю, сынок, с женщинами какая-то напряженка случилась, — честно сказал Саша П., по привычке растерянно почесав бороду. — Но мы будем ждать. Давай ноги в валенки и кто дальше плюнет?» «Давай!» «А вечером ведро мороженого и капитошками в прохожих пуляться?» «Да!» «И до ночи Индиану Джонса смотреть!» «А кто это — И… и… жонс?» «Неважно. Главное — где бы тетеньки наши ни были, они этого точно не выдержат. Прилетят обратно как миленькие!» Саша П. засмеялся чистым детским смехом, задрав бороду в сумеречное небо, а потом быстро нашел в телефоне «We are the champions» и настроил будильник на завтра. Никто не знает, каким будет следующее утро, но что они с сыном чемпионы — с этим уже никто не поспорит.

Третий лишний
— Мама, уберите псинку! — рявкнул следователь Щекотов и тут же пнул за дверь чихуахуа с перемазанной кровью мордой. Младший лейтенант Костин рассматривал яркие собачьи следы, но каждый раз упирался взглядом в угол комнаты.
— Скорую надо. — Костин споткнулся о бутылку и сел на край кровати. — Мама не в себе.
— Дочь-то в себе была? И где чёртовы криминалисты? — Щекотов расстегнул браслет и почесал руку под часами. — Потом нас спросят, не быстро ли закрыли дело.
— Она сама себя? — Костин сморщился, услышав свой жалобный голос. — Молодая, красивая такая…
— Как ты меня бесишь! — Щекотов сплюнул на пол и растёр носком кроссовка. — Иди на кухне посиди.
— Мам, свари кофе, не успеваю, — крикнула Лиза, третий раз за утро исчезая в ванной. Всё идеально: персиковая помада, растушеванные тени, немного румян. Только эта безобразная переносица… От неё краснота переползала и на лоб, а нос припух. Но прыщ оставался на месте. Лиза протёрла спиртовой салфеткой руки. Выдохнула. Сжала ногтями складку кожи — и струйка гноя брызнула на зеркало. Но где-то глубоко по-прежнему каталась упругая горошина. Избавиться, избавиться от неё, иначе через несколько часов опять вздуется огромный пузырь. Лиза скрипнула сжатыми зубами, выступили слёзы… Остановилась она, когда пара красных капель докатилась до подбородка. Макияж пришлось переделывать. На лбу, несмотря на тучу пудры, выступала сукровица.
— Проколом? — робко спросила Аня. Она работала в бухгалтерии недавно, и Лиза её опекала.
— Какое там! Фигак — и всё. — Лиза изобразила движение, которым рекламный папа отрезает себе докторскую колбасу. — И антибиотики в инъекциях.
— Бедняжечка! — Вечно худеющая Ирина Олеговна, как хомяк, грызла юбилейное печенье. — Где твоё спасибо, что мы тебя к врачу отправили?
— Спасибо! — Лиза и чувствовала себя благодарной. — Не подумала бы, что головная боль и прыщ связаны.
— Да рог это был, а не прыщ! — Аня похлопала подругу по плечу, первая вынырнула из кухонного закутка и села за рабочее место. — Единорожек ты наш!
— Вы послушайте, как я в хирургии лежала! — Лиза посмотрелась в зеркальце. Лоб был крест-накрест заклеен повязкой. — Соседки — пять бабок категории восемьдесят плюс, все с геморроем. Каждый вечер рассказывали, у кого от чего муж умер.
— Илья Германович, он что? — Ирина Олеговна хлюпала чаем перед монитором.
— Звонил, когда лежала. Говорит, жалко такой красоты, найду тебе пластического хирурга. Потом перезванивает, говорит, нашёл. Правда, специалист по груди. Как думаете, это намёк?
Так и прохихикали всю пятницу. При первых признаках головной боли Лиза глотала таблетку. Она надеялась, что Илья захочет встретиться после работы. Но чуда не случилось: пятницы он проводил с сыном. Так что весь вечер Лиза искала в интернете парикмахера, который сделает ей супер-чёлку. Повышенное внимание ко лбу ни к чему, не к такому вниманию она привыкла. Уснула Лиза рано.
Снилась больница. Соседка по палате стояла над ней, спящей, и говорила: «Ты ж погляди, красавица… А на лице выросло, что у меня на жопе!» Лиза проснулась со странным чувством, что это не сон, а воспоминание. Ещё откуда-то пришла мысль, что бабка эта замужем никогда не была и умершего от рака простаты мужа выдумала, чтобы от других не отставать.
Голова потрескивала. Лиза потянулась к тумбочке за таблетками и нащупала колючий блистер. Пустой. «Суточную норму выпила, потерплю». В ногах посапывала Корюшка. Лиза коснулась маленького тельца. И её, точно тяжёлым ватным одеялом, накрыло робостью, желанием нравиться — сильнее собственного. А ещё голодом. И глубинным страхом быть съеденной. Лиза отдёрнулась и схватила телефон. «…индейцы-тольтеки вывели чихуахуа с практической целью: их ели».
Лиза провела рукой по лицу, наткнулась на как будто немного сдвинувшуюся повязку. «То ли щёки — утюги, то ли руки ледяные». Пытаясь успокоиться, она подумала о маме. И увидела, как мама спит: плечи подёргиваются, вздрагивают руки. Почувствовала и слабость маминого тела, и досадные синяки, которые она сажает последние несколько месяцев, теряя равновесие в самый неподходящий момент. Это БАС, и она не знает.
Лиза зашла в мамину комнату, погладила беспокойную руку и вернулась в кровать. Слёзы застряли где-то на полпути. В сознании мелькали смазанные кадры. Аня портит Лизин отчёт, пока та в больнице. Ирина Олеговна мусолит в главке Лизин роман с директором. Илья Германович проводит выходные с сыном и бывшей женой. Такие мелочи, но мама…
Лиза решила подумать о чём-то приятном. В тумбочке — путёвка на Гоа. «Слетаем с мамой. Песочек, море…». Но утешающая картинка не появлялась. Перед глазами плясали мумбайские трущобы и толпы грязных детей, играющих на свалке. Тающие ледники, погодные аномалии, наводнения. Боль и горе, которые вот-вот всё затопят.
— Корюшка, всё плохо? Вообще — всё? — Чтобы видеть собеседницу, Лиза подвинула собаку на полоску света от фонаря, проникающего между штор. В руки брать её не хотелось.
Тесную шапку головной боли пора было снимать. Лиза полезла в сумку за таблетками — не нашла. «На работе забыла». Даже халат не накинув, доковыляла на кухню, достала из холодильника бутылку коньяка, которая стояла открытой с маминого юбилея. От нескольких глотков стало чуть легче. Лиза села на табурет и прислушалась к себе: литавры в затылке, темени и висках заиграли тише и как-то мажорнее. Солировал тамтам в переносице. Лизе казалось, что шва нет. Что на его месте — открытая кровоточащая рана, которая только расширяется. Страх, что под повязкой растёт какое-то инородное тело, усиливал накатывающую тошноту.
Лиза метнулось в ванную. В зеркале — огромные испуганные глаза, в них — секундная радость обострившимся скулам. От вида своего лба Лиза забыла, что её подташнивало: под повязкой явно улавливалось шевеление. Она подвигала бровями. Нет, шевеление не подчинялось мимике. Нетвёрдым шагом Лиза вернулась в спальню и, продолжая прихлёбывать коньяк, уселась за туалетный столик. Откинулась на спинку стула, закрыла глаза, пытаясь расслабиться.
От боли отрезал поток незнакомых ощущений: ветер прямо в лицо — свободный полёт парапланериста; подложенный в штанишки ягель щекочет попку якутского малыша; аммиачный вкус китайских столетних яиц; удушье от сохнувшего индонезийского табака; сухое трение кожи питона о шею. Затем — лопающиеся виноградины между пальцами ног, финальные схватки, аюрведический массаж поясницы, облегчение от вправления вывихнутой руки. И новая волна: прикосновения рыб-докторов, объедающих псориазные корочки; рвота кровью; мужской оргазм; мокнущая мозоль от гэта.
Эта дикая парестезия выматывала. Лиза мысленно выбрала боль. Хотелось отклеить повязку, но она не решалось. Пластырь около правой брови отошёл сам — так сильно что-то шевелилось.
— Корюшка, рыба моя золотая! — Лиза хлопнула себя по коленке, и собачка подбежала и потянулась к хозяйке. — Тебе тоже не нравится моё украшение?
Корюшка коротко рыкнула и лизнула Лизин нос.
— Сейчас уберём эту фероньерку! — Скомандовав сама себе, Лиза пошла за спиртовыми салфетками. Она разложила на туалетном столике нож для бумаги и самый маленький кухонный, маникюрные ножницы, клещи и отвёртку. Собралась с силами и одним движением сорвала пластырь. Кромки шва разошлись, кожа растянулась и оформилась в тонкие розовые веки. Остатки хирургических нитей свисали, напоминая редкие ресницы. Из переносицы строго смотрел ясный голубой глаз.
— Я не хочу спасать российских политзаключённых, Иркутскую область — от ВИЧ, океан — от пластика, мир — от коронавируса и глобального потепления. Я даже знать об этом ничего не хочу. — Лизу трясло от рыданий. — Я хочу быть как раньше, беззаботной молодой девочкой. Счастливой девочкой!
Лиза выпрямилась. Она смотрела в зеркало. Глаз — на неё из отражения. И из души. Учил: «Нет, как раньше — нельзя. Ты уже знаешь и будешь знать больше. Будешь видеть. Будешь страдать. Будешь действовать».
— Хочешь действий? — Лиза прилипла к бутылке. Вытерла слёзы и выбрала клещи. Примерилась. Зажала. Начала прокручивать.
— Всё у меня ещё будет. Хорошо будет. Что-то я вижу, да. Мама — в светлом месте, санаторий, что ли. И любовь… Кто-то меня любит. Вот же — сидит на краю этой кровати. Ресницы как у девочки, родинка над губой, взгляд добрый. Ему меня что, жалко?..
Лиза выдернула мерзкий глаз и стряхнула на пол. Она чувствовала, что возвращается к себе. Накатывала усталость, хотелось отдохнуть.
— Корюшка, что ты там ешь?
Лиза засыпала на стуле под собачье чавканье.

Труп одуванчика и генеральский полутруп. Рассказ о двух делах сыщика Мошкина
Почему так неприятно умножение
К тридцати годам Ваня Мошкин имел маленькую должность, маленькое звание и маленький доход, поэтому никто не удивился тому, что его жена спуталась с хиромантом. Просто однажды, дождавшись мужа со службы, Нюра так и заявила, что, дескать, их судьбоносные линии расходятся, а с Шур Шурычем, хиромантом, они сходятся. Мошкин ещё тогда подумал, что у супруги перестройка мы́шления дала неправильный фазовый сдвиг. В школе милиции учили стрелять первым, но вверх. А в американских фильмах — во врага.
Вечером Мошкин и Нюра сидели на диване без покрывала в проходной комнате двушки стандартной солнцевской пятиэтажки и выясняли то, что выяснять было не надо. Из кухни, надеясь развлечься, пришлёпала собака редкой породы, чтобы посмотреть на действо. Вместе с ней пришёл запах съеденных накануне щей. Он вызвал у хозяев ненужный в таких случаях аппетит. Мошкин и Нюра посмотрели на собаку с длинными, как кухонные полотенца, ушами и сглотнули слюну. А она смотрела программу «Время» и смиренно принимала неизбежность повышения роли человеческого фактора. Все, включая пса, понимали, что в гласности собакам не место.
— Ну, — сказал Мошкин, втянув голову в плечи, — меня сейчас вырвет от вашей херомантической подлости. Заявляю, не таясь: как только ты заснёшь, я тебя излюблю.
Мошкин не сказал «насмерть», но жена услышала «насмерть»: муж — хоть и маленький, но сыщик. Все его клиенты в подобных ситуациях чикали ножами жён, как повара — салат в первом кооперативном кафе на Кропоткинской.
— Мошкин! — закричала жена, вращая зрачками.
Оба — и Мошкин, и Мошка, стайная гончая по кровяному следу породы бассет-хаунд, — посмотрели на неё с той печалью, с какой смотрят живые существа на почти мёртвых. От греха Мошкин заперся в ванной, но, увидев в зеркале сморщенное от переживаний лицо, пошёл доставать дедовский наградной вальтер.
Ночью Мошкин спал не с женой, а с другом. Роль друга досталась пистолету. «Вот я голодный, а друг холодный, хорошо, что не наоборот», — решил Мошкин.
Назавтра, в субботу, с утра пораньше Мошкин заявился в тёмную хиромантскую, расположенную на первом этаже соседнего дома, и спросил Шур Шурыча напрямую:
— Вот вы стали любовниками, а если все так будут поступать, кто тогда после перестройки человеками сделаются?
Подлец сидел за заваленным всякой эзотерической хренью дубовым столом и молчал, опустив голову, тщательно изучая свою левую ладонь с неожиданно прервавшейся линией жизни. За его спиной на стене светились сквозь ультрафиолетовые фильтры армейские прожекторы. Распространяемый ими жар выбивал пот из посетителей для того, чтобы Шур Шурыч запросто работал. У Вани намокли с трудом найденные без жениной подсказки носки, и он решил что-нибудь сделать. С хиромантом, с женой, с собой — неважно. Главное — не сидеть просто так без семечек. Однако, его размышления были прерваны телефонным звонком. Шур Шурыч, немало удивившись, подозвал Мошкина (тогда Мошкин всегда докладывал, куда направлялся). Дежурный сообщил, что его вызывают на дело с убийством. Ура! Наконец-то убийство! До этого Мошкина к подобным делам не допускали. Он поразмыслил и решил, что один труп хорошо, а два —лучше, и с помощью вальтера взял хироманта с собой.
«Господи, если кому-то можно убить, то почему мне нельзя?» — думал Мошкин, пока чёрная прокурорская «Волга» с сиденьями из жёлтого дерматина везла его в Чоботы. Одновременно он получал от генерала по телефону звуководящие наставления. Мошкину надлежало за два часа, то есть до прибытия криминалистов, выявить злодея или злодейку, устранив тем самым ненужные нервы из дачного отдыха начальства. Дело ответственное, и если поставленная задача вовремя не решится, то Мошкина не возьмут в милицейский кооператив при главке. Шутка. Ха-ха! Генерал смеялся собственной шутке так громко, что его смех услышал сидевший рядом водитель. По выражению его лица Мошкин понял, что тот его жалеет. Как говорится, спасибо и на этом.
Через десять минут старший лейтенант Мошкин с хиромантом входили в трёхэтажный кирпичный особняк с металлической дверью, в котором располагался массажный кооператив «Лечение одуванчиками». В доме жили три одуванчика, убитая — видимо, главный одуванчик, и охранник Олег. Последний — крепкий сорокалетний мужчина с телячьим взглядом — открыл им дверь и пропустил внутрь. Мошкин с Шур Шурычем прошли вслед за ним в просторную гостиную с пафосными колоннами по углам и белым роялем посередине. Возле камина лежал женский труп c обычной в таких случаях лужицей крови возле головы. Собственно, сама картина убийства явилась Мошкину в самом незамутнённом виде: несчастную толкнули, и она, ударившись о край мраморной плиты, прекратила связь с жизнью. Где раньше грелись у камина, придётся мёрзнуть от трупа, некстати подумал Мошкин и вздохнул.
Перед ним встали два вопроса.
Первый — когда?
Судя по всему — примерно час назад. В это время Мошкин бегал по квартире и искал пару для первого носка.
Второй — кто? Кто-то из девиц-одуванчиков или охранник?
Первый одуванчик — Зина, высокая статная шатенка двадцати пяти лет. Второй — Зоя, среднего роста блондинка двадцати двух лет. Третий — Зухра, маленькая брюнетка девятнадцати лет. И Олег. С его опроса Мошкин и начал.
Он попросил Шур Шурыча поработать с руками одуванчиков, а сам прошёл в комнату Олега вместе с хозяином.
Вспотевший (почему?) охранник утверждал, что с шести утра сидел на стуле возле входной двери. В дом никто не входил, и никто не выходил. В восемь пятнадцать он обнаружил то, что обнаружил. Конфликт с убитой? Да, был, как и у всех остальных. К нему приехала повидаться мать. Так эта сука, извините за выражение, не разрешила ей пройти на территорию. Конспирация, видите ли! Так мать и ждала его на лавке возле переделкинской церкви целых шесть часов. Хорошо, что дождалась. Хорошо, что перед тем, как испить свою жизнь, заглянула в его. А то бы он себе не простил. Убитой было тридцать семь. Все знали, что её родили сразу без сердца. Но он её не убивал. Кто убил? Кто убил? Да любой одуванчик.
— А не холодно было сидеть на улице?
— Нормально…
Они вернулись в зал и накрыли труп простынёй, чтобы он понапрасну не мёрз.
Время поджимало, а Мошкин не хотел остаться без халтуры и заработка. Поэтому он включил музыку и пригласил Зину на танго. Она танцевала нервно, крутила головой, часто моргала и не попадала в такт.
— Как вы можете? — вскрикнул или, скорее, взвизгнул вдруг Олег. — Пусть она… — Он кивнул в сторону камина. — Несмотря на жару и остывает. Но она — человек, хоть и находится в трупном состоянии.
Чтобы не потерять пульс событий, Мошкин не стал отвечать охраннику. От Зины пахло жареной курицей, чесноком и духами. Она с семи утра готовила угощение для пятилетнего сына, который живёт с бабушкой в Переделкино. Из-за того, что мадам не разрешала часто видеться с ребёнком, Зина с ней постоянно ругалась. Все это слышали и знали, поэтому скрывать было бы бесполезно. В гостиную до того, как всех позвал Олег, она не выходила. Кто убил, не знает.
— Расскажите, а что вы готовили? — Мошкин посмотрел Зине в глаза, и она, не выдержав, отвела взгляд, но моргать перестала.
— Гедлибже, ну, это курица такая, тушится в сметанном соусе, с чесноком и луком.
— Про чеснок я уже понял.
— Думала, духи всё перебьют, — сказала, покраснев, Зина. — В общем, я раскалила сковороду и стала ложить куски кожей вниз. Пока она жарилась, я готовила соус — в курином бульоне развела сметану и муку. Тут, главное, без комочков…
— Стоп. А чеснок вы в соус кладёте?
— Нет, прямо в тушку…
Можно ли раскрыть преступление на голодный желудок? Прямо издевательство какое-то!
Шатенку сменила уверенно танцующая блондинка Зоя с запахом оливкового масла. Она встала в шесть утра и сразу отправилась в бассейн, где и плавала, пока её не позвали сюда. Старая карга заставила её прервать беременность, поэтому Зоя её ненавидела, но чтобы из-за этого убивать…
— Кто мог убить? Конечно, Зухра. Старуха стуканула родным, чем она тут занимается. Братья приезжали — резать хотели. Еле отбили.
— Почему вы такая бледная?
— Ох, от бассейна, наверное.
— Может, не стоит столько плавать?
Зоя пожала плечами и пошла меняться с Зухрой, но та категорически отказалась подходить к камину, у которого Мошкин вытанцовывал подозреваемых. Он прочитал решительное «нет» в её чёрных округлившихся глазах и не стал настаивать. Вместо танго они поднялись в комнату Зухры, где она показала пейзаж, над которым работала всё утро.
— Вам наверняка уже растрепали про то, как я хотела уйти, а мадам позвонила брату отца, он в Москве живёт, а тот передал в аул родителям. Теперь меня зарежут как барана. Честно сказать, убить её хотела, но не убила.
— А почему у вас на рисунке горы? Здесь кругом сосны.
— Я так возвращаюсь на родину.
Внизу у окна, в кожаных креслах сидели Шур Шурыч, Зина и Зоя, и сосредоточенно колдовали над женскими ладонями, и с вниманием рассматривали какую-то точку — или запятую — на руке шатенки Зины.
— Ну, что скажешь? — спросил Мошкин помощника.
— Во-первых, — докладывал дрожащим голосом Шур Шурыч, — у всех четверых имеются квадратные образования. У Зины и Зухры они примыкают к линии жизни, а у Олега и Зои — к линии судьбы.
— И что квадрат означает?
— Он означает, что человек находится или в больнице, или в тюрьме, или в монастыре и не может оттуда выбраться.
— Ну, правильно. Они здесь как в тюрьме жили. Что ещё?
— У всех девушек глубокая и широкая линия жизни, сложные узоры на основании большого пальца, где находится самый большой бугор ладони, и на втором возвышении ладони, расположенном ниже основания мизинца. А у мужчины — длинная прямая линия сердца без ответвлений.
— Так что, он — убийца?
— Этого не определишь. — Шур Шурыч вымученно улыбнулся.
— Можешь сказать, кто убил? — Мошкин скрестил руки на груди.
— Нет… — очень тихо ответил Шур Шурыч.
— Тьфу ты, господи! — Мошкин посмотрел на часы, пытаясь остановить время. — Вот ты всё больше про общее. А в чём они все различны?
Хиромант задумался, глядя на то, как сыщик сжимает и разжимает кулаки. И в тот момент, когда Мошкин решил достать железный аргумент, выдал:
— Мягкостью. Они различаются мягкостью. Самая грубая — и это естественно — у Олега, потом Зухра, потом Зина. Самая нежная — у Зои.
У Мошкина заколотилось сердце, и он замер в предвкушении. Вот-вот удача клюнет.
— Так у блондинки, ну, у Зои не сморщенная ладонь?
— Вовсе нет. Очень мягкая и гладкая.
Мошкин упёр руки в бока и съязвил:
— Ни хера ты своей херомантией не можешь! А я могу!
Пятнадцать секунд, чтобы набрать номер генеральской дачи.
— Товарищ генерал, докладываю: убила Зоя.
— Ты мне, Мошкин, не по именам, по именам я их не помню. Ты мне по цвету волос.
— Так блондинка. Блондинка убила.
— Точно она?
— Точно она! Соврала, что в бассейне два часа плавала, а от этого, сами знаете, кожа морщится, а у самой гладкая… Уверен на сто процентов!
— Порадовал, Мошкин. Как говорится, дырявь погон для звёздочки.
— Спасибо, товарищ генерал!
— Ну что, Шур Шурыч, хоть ты мне не схиромантил как надо, настроение умножать зло у меня пропало. Остановимся, пожалуй, на одном трупе.
Хиромант с радостью согласился.
Вернувшаяся жена накормила на всякий случай Мошкина свежими щами. Ел он молча, потому что думал над перестройкой, гласностью и особенно над умножением. То есть, над ускорением.
Окно с видом на Нескучный сад
После триумфа Вани Мошкина в Чоботах смерть урчала в его животе голодным котиком всякий раз, как его вызывали на «деликатес». Так генерал Акулов называл свалившуюся на голову какой-нибудь известной персоне неприятность, требовавшую деликатного разрешения. «Социалистическая законность, — говорил генерал, — может иногда и подвести, если её вовремя не развести здравым ментовским подходом». Он ценил Мошкина за настоящий ищейский нюх, и «деликатесы» с убийственной направленностью доверял только ему.
Вот и сегодня некий военный генерал вместо Кремля отправился в Голицынский корпус Первой Градской на предмет реанимации после мощного отравления.
— Это мой дружок! Мы с ним так дали жару! В своё время. — Глаза генерала Акулова увлажнились, и он отвернулся от Мошкина, представившего себе двух пузатых мужиков на вороных конях с шашками наголо.
— Теперь кто меня в нюансы посвятит? — Генерал Акулов кивнул на включённый телевизор «Рубин» с репортажем с девятнадцатой партконференции, который смотрела вся страна. — Мне охота знать, куда подует властный ветер.
«Хорошо быть генералом и думать о всякой фигне, — подумал Ваня. — Пока ты капитан, надо думать о продуктовом заказе».
Отравленный генерал жил в двадцать четвёртом доме на Ленинском проспекте — как раз у Нескучного сада. Нескучный сад Ваня любил: и название, и осины, и берёзы, и развалившийся грот, и весёлый овал пруда, и застрявшее в листве солнце, и небольшую опушку, куда школьником ездил играть в настольный теннис.
Отказавшись от машины, Мошкин вышел из насквозь прокуренного здания ГУВД на Октябрьской, перешел на другую сторону площади и сел в троллейбус тридцать третьего маршрута.
Чтобы не скучать и не думать о том, как подбросить труп жены, которого ещё нет, на место преступления, Ваня стал считать обгонявшие троллейбус машины. Не набралось и полсотни — на третьей остановке, улице Стасовой, пришлось выходить.
У нужного подъезда стояла чёрная «Волга», из которой навстречу Мошкину вылезли три здоровых мужика и один худой, все в серых костюмах. Стало слышно, как из автомобильного приёмника словопадом выливается доклад генсека. «Выслуживаются или прислуживаются?» — задался вопросом Мошкин. Худой оказался у «конторских» главным. Он представился Александром и объяснил, что руководства «трёшки» и «пятки» сцепились за право раскрыть преступное отравление боевого генерала.
— Когда расцепятся? — Мошкин надеялся, что гэбисты не пустят его в квартиру и он сможет погулять в парке на законных основаниях.
— Пока Горбачёв не кончит и не даст команду. Сам понимаешь, кончает он долго. Часа три у тебя точно есть.
— Чего кончит-то? Перестройку? — пошутил Ваня, но худой даже не улыбнулся. — Чего говорит-то?
Александр посмотрел на сморщенный мошкинский нос и ответил:
— Говорит, что облик надо менять.
— Кому? Ельцину?
— Какому, на хрен, Ельцину! Социализму!
— Тогда дело дрянь.
— Я тоже так считаю, — сказал Александр и сел с товарищами в машину. Дверцы «Волги» закрылись, прекратив доступ к словоблудию.
На нужном этаже два хлопца в таких же серых костюмах, как их сослуживцы внизу, пропустили Мошкина в четырёхкомнатную квартиру.
Антикварная мебель, подлинные картины на стенах, японский телевизор «Сони» — всё как положено. Гостиная, большая кухня, спальня, кабинет хозяина и маленькая комната домработницы — есть где разгуляться. «Минимум сто метров, — подумал Ваня. — И для трупа жены место найдётся, тьфу ты, господи!» Окна спальни и кабинета выходили во двор и на Нескучный сад, а остальные — на проспект, поэтому Мошкин устроился в генеральском кабинете (письменный стол, шкаф из дуба, два кожаных кресла, портрет хозяина, запах коньяка и «Мальборо»). Для начала он пригласил на допрос всех участников вместе. Это были:
— во-первых, генеральша, жена Вера — тридцатилетняя фифа, строящая из себя аристократку;
— во-вторых, домработница Рая — сорокачетырёхлетняя женщина с таким уставшим лицом, как будто она не пыль в квартире протирает, а шпалы укладывает на проходящей по соседству кольцевой железной дороге;
— в-третьих, пятидесятилетний повар Алессио, по-приятельски одолженный хозяином у владельца кооперативной пиццерии в соседнем доме.
Оказалось, что генералу поплохело сразу после завтрака, за которым он:
— выпил бутылку «Боржоми» и стакан кефира;
— съел яйцо всмятку и бутерброд — чёрный хлеб и сливочное масло;
— выпил чашку кофе со сливками и заел его канноли.
Канноли приготовил тот самый повар Алессио.
После чего генерал закатил глаза, свалился со стула, и у него изо рта, как у припадочного, полилась пена. Ему повезло — скорая приехала быстро. Медицина промыла вояке желудок, сделала укол и срочно отвезла в операционную. В общем, у генерала появился шанс выжить, тем более что накануне ему удалось выжрать втайне от жены пятизвёздочную бутылку. Правильно говорят: алкашам везёт. Вот к чему гласность привела: никто не скрывает, что командир — горький пьяница.
Мошкин слушал говоривших, сутулился, восседая в генеральском кресле, кое-что записывал в зелёную копеечную тетрадь в клеточку с гимном СССР на обратной стороне. Изредка он смотрел через чистые стёкла аристократического окна на Нескучный сад. Он мечтал о том, что кто-нибудь убьёт кого-нибудь именно здесь, в этом прекрасном парке с мягкой землёй. И тогда можно будет избавиться от жёниного трупа запросто. Ах, как бы он тогда на радостях поиграл в настольный теннис или шахматы в их клубе или покатался бы на лодке… Завёлся бы в Нескучном саду маньяк! Мошкин бы его поймал, и в «МК» бы написали: «Превозмогая боль личной утраты самого дорогого для него человека, капитан Мошкин разоблачил Нескучного маньяка!» Ваня даже самодовольно улыбнулся и сделал грудь колесом в ожидании щелчка фотоаппарата. Но вместо ожидаемого звука раздался кашель повара, вернувший Ваню в генеральскую квартиру.
Мошкин отпустил прислугу и остался с генеральшей.
— Почему вы ничего не ели за завтраком? — спросил Мошкин, любуясь её красивой фигурой и курносым носом. Если бы у его жены Нюры был бы такой нос, то он бы простил ей измену с хиромантом и не стал бы убивать.
Вера элегантно опустилась в кресло, закинула ногу на ногу, перехватила взгляд Мошкина и спрятала оголённые колени под полой шёлкового халата с драконами. От неё пахло сладкими французскими духами.
— У всех же разный режим. Я сижу на часовой диете и раньше двенадцати ничего не ем. Только пью морковный сок. В моей семье были приняты совместные трапезы, в первой семье Вани (Господи, почему он оказался генералу тёзкой?) не было такой традиции. Они вместе трапезничали, только когда были гости. Когда мы поженились, мне было двадцать лет. Думаете, я могла поменять хоть одну его привычку? Вначале переживала по этому поводу, старалась приучить мужа, но со временем избрала другую тактику. Когда он ест, я просто сижу рядом с ним, мы беседуем, что-то обсуждаем…
— Скажите, кто здесь прописан?
— Постоянно — мы с мужем, временно — Рая, ну, наша домработница…
— Я понял. А ещё кто?
— Никто. Правда, Ваня хотел сына своего прописать. От первого брака сын. Но потом передумал. Я знаю, о чём вы хотите спросить — общих детей у нас нет.
— Он что, вас бьёт?
— Нет, что вы!
По тому, как Вера моментально побледнела и вздрогнула, словно стряхивая напудренный аристократизм, Ваня понял, что она врёт.
— Вы на кухню часто ходите?
— Ну, как часто? Раза два-три в день.
— Спасибо. Пока у меня всё. Пойду искать вашего кулинара.
Они вместе вышли из кабинета, Вера направилась в спальню, а Ваня — на кухню, где вместо повара оказалась домработница. Она стояла перед окном и дымила в открытую форточку. Увидев Ваню, Рая вынула левой рукой сигарету изо рта, отвела её в сторону и спросила, тыча указательным пальцем в грудь:
— Я, в смысле, мне идти?
— Нет, мне нужен Алессио.
— Он в туалет пошёл.
— Когда вернётся, пусть явится в кабинет.
Прошёл час, а Ваня допросил только одну подозреваемую. Он тяжело вздохнул и погладил ладонью заболевший под тяжестью урчания живот. Сад заскучал и стал заглядывать в окно «нескучной» квартиры: интересно, кто из этой троицы — убийца?
Повар оказался наполовину русским, наполовину итальянцем — немцы угнали его мать к себе в Германию, откуда она перебралась на Апеннины и вышла замуж за отца Алессио. Она с детства разговаривала с ним по-русски, читала книги и стихи, поэтому он хорошо понимал и говорил. Правда, сознался он в этом не сразу, а минут через пятнадцать, когда Мошкин поймал его на враках. Он стал читать итальянцу русские стихи, и осмысленный взгляд лгуна выдал его с потрохами.
— Мой московский бизнес — партнёр захотел порадовать генерала, а я не мог отказаться от выгодного предложения. Он мне сказал: «Алессио, дружище, сделай генералу пирожное, чтобы он наконец забыл об оружии!».
Чтобы успокоиться — клюёт, клюёт удача! — Мошкин сжал кулаки и попросил повара описать процесс приготовления этих самых пирожных.
— Аллора, чтобы сделать сицилийские канноли с рикоттой…
— Что за зверь такой?
— Сыр такой сладковатый.
— Вы его здесь готовили?
— Нет, получили из Италии. У нас поставки…
— А остальное? Тоже из Италии?
— Нет, здесь. Аллора, вчера вечером я приготовил тесто для трубочек каннола. Смешал муку, сахар и корицу. Потом нарезал маргарин на кусочки как горох. По центру сделал круг и вбил желток. Аллора, добавил немного нашего вина, уксуса и воды.
— Так, стоп! Уксус и воду тоже с собой принесли?
— Зачем? Это же не дефицит. Попросил — и мне дали. Аллора, я все это перемешал до однородного теста и месил руками на деревянной доске пятнадцать минут. Завернул его в тряпку и оставил в холодильнике до утра. Вернулся сюда в шесть утра. Достал тесто и разделил его на три части. Теперь внимание: я раскатал каждую часть настолько тонко, что через неё можно смотреть и видеть контуры крупных предметов. Потом посыпал мукой и вырезал круги с помощью принесённой миски.
— Миска ещё здесь? — спросил Ваня и хрустнул пальцами.
— Здесь. — Алессио быстрым движением вытер пот с ладоней о цветастый фартук. — Аллора, завернул тесто в трубочки, а концы склеил яичным белком. Трубочки варил в кипящем масле, святая Мария, первый раз в такой ужасной газовой духовке — где их только делают? — и аллора, мне это удалось! Они получились золотистые! Начинку я сделал из подсушенного сыра рикотта и сахара и натёр туда лимон. В семь я заправил канноли начинкой и посыпал тёртым шоколадом и миндалём.
— Так вот почему никто не удивился запаху миндаля! — Мошкин расправил плечи и поднял подбородок. — А зачем уксус в тесто добавляют?
— Аллора… — Алессио слабо улыбнулся. — Как это по-русски… Для клеёности.
— Клейкости? Хорошо, я сейчас опрошу домработницу и освобожу вас от своего присутствия.
Разговор с Раей ничего не дал — она повторила в точности то, о чём говорила вместе со всеми. Мошкин задумался и перешёл в гостиную, включил телевизор. Седой оратор вещал с трибуны КДС:
— Говорят, что у нас нет мафии. Я утверждаю, что она у нас есть. Может, не сицилийская — там стреляют. Но тут тихо, ежедневно тянут и разоряют государство. И сделать что-то очень трудно…
«Здравствуй, мальчик Бананан, — подумал Мошкин, выходя из квартиры. — Ты бы ещё «Ассу» вспомнил». Оба сотрудника в серых костюмах вопросительно на него посмотрели. Мошкин показал на выпирающую из внутреннего кармана рацию ближнего к нему гэбиста и кивнул в сторону двери генеральской квартиры.
Через две минуты Александр с тремя другими поднялись на этаж. Ваня поприветствовал их легким кивком и сказал:
— Итальянец — не повар.
Александр шумно вздохнул и посмотрел вверх.
— Откуда знаешь?
— Вот ты, майор, бывал на Сицилии? — Мошкин демонстративно вскинул брови и продолжил: — А если бы бывал, то знал бы, что в канноли по-сицилийски уксус добавляют не только для клейкости теста, но и для того, чтобы трубочки получались с пузырьками. Это знают все сицилийцы и все итальянские повара. Дон Карлеоне, и тот знает, а Алессио — не знает.
— Понял! Ну, брат, с меня, как водится, флакон. Что предпочитаешь, водку или коньяк? — спросил Александр с сияющими глазами.
— Всякое предпочтение ведёт к разочарованию, ибо наверняка вызвано буржуазным предрассудком.
— Во как! Кто сказал?
— Ленин в письме Троцкому. Раньше скрывали, сам понимаешь. Теперь гласность открывает смыслы. Так что давай то, чего не жалко.
— Замётано!
Заодно замели и Алессио, и источающие миндальный аромат сицилийские канноли.
Мошкин с телефона в коридоре позвонил Акулову и доложился о поимке злодея, не забывая отслеживать передвижения женщин.
Вера выпила рюмку коньяку и засобиралась к мужу в больницу. Выйдя в коридор, она глухим голосом произнесла:
— Рая, запиши меня в парикмахерской на маникюр.
— Так маникюр запретили, Вера Николаевна! — Рая потёрла левой рукой шею. — Из-за СПИДа.
Хозяйка вздохнула и ушла. Рая взяла мусорное ведро и тоже вышла из квартиры. Мошкин догнал её на лестнице и поддал ногой ведро так, что оно ударилось о чугунную батарею. Отходы рассыпались по ступенькам. Рая охнула и прижалась к стене. Мошкин вынул из-за пояса вальтер, погрозил им домработнице и присел на корточки, дулом разгребая сор. Его привлекла свёрнутая рулоном и связанная бечёвкой газета: оказалось, что пропахшая миндалём «Правда» скрывала скелет селёдки с целой головой, пустой коричневатый пузырёк и левую резиновую перчатку.
* * *
— Ну, колись, герой, как ты догадался, что это не повар? — Генерал Акулов сощурил глаза и похлопал Ваню по плечам.
— Я рассуждал так, товарищ генерал. Допустим, убийца хотел отравить генерала печеньем. Для этого ему было бы необходимо внести изменение в рецепт, то есть добавить яда.
— Допустим.
— Я опросил повара и понял, что он приготовил канноли строго по рецепту. Значит, он не убийца. Яд подлил кто-то из женщин.
— Молодец! Проси награду, но учти — майора я тебе сейчас дать не могу. Придётся потерпеть.
— Мне бы продуктовый заказ — рис, крупа, гречка, мука, масло…
Из генеральского заказа изъяли икру, а остальное отдали Мошкину. Он вручил жене продукты и наказал сделать гречневую кашу с молоком. Через полчаса он ел кашу и смотрел сквозь немытые стёкла родного окна на улицу Главмосстроя. Мошкин думал о том, что хорошо, что он пока не ухлопал Нюру, потому что варить гречку ему было лень. Пока.
Апрель 2020

Шав-Шав
«Шав-шав идет! Шав-шав!» — дразнили мальчишки и разбегались в разные стороны. Павло закрывал рукой странную трубку в горле и пытался что-то кричать им в ответ. Голос хрипел, шипел и шавкал. Но он существовал, так же как существовали ухватистые руки, колющий взгляд, резкие перекрестия морщин, острого носа и линии рта, из-за которых его лицо казалось решетчатым. Многие в Фёдоровке считали его живучим, иные — почти бессмертным.
Голос снова зашавкал, но уже другое: «Хроська! Жарь яишню». Фрося заметалась между курятником и хатой, и уже через пять минут на сковороде громко шкворчали тонкие шматы сала, а дрожащие руки разбивали над ними яйца одно за другим и выставляли на стол мутную бутыль. Фрося помнила первую и главную заповедь: к яишне полагается самогон. Вторая заповедь гласила: собрала на стол — тика́й отсель.
Павло запер за женой дверь. Самогон успокаивающе шоркнул по дну глиняной кружки. Поминай день субботний, кажись, так? Нет, сегодня, вроде, среда. Павло давно перестал следить за днями недели. Еще с тридцать второго. Тогда им запретили покупать хоть что-то на стороне, а они уже начали пухнуть от голода: Фроська, сыны, матерь с батькой. Неожиданно появился человек, и несколько фёдоровских, среди которых был Павло, отдали ему деньги, чтобы он тайком купил по мешку муки на каждого в соседней Мингрельской. Все же были свои, но нашелся иуда. Тому человеку — пулю в лоб прямо на огороде у председателя колхоза, Павло — десять лет сталинских лагерей. Лес уходил в небо, и когда он поднимал голову, чтобы разглядеть верхушки, шапка падала с головы. А по ночам он с остальными по очереди катался по еще горячим углям костра, чтобы не околеть.
Решетка морщин на лице стала резче. Кружка снова наполнилась до краев. Как в сорок втором под Сталинградом. В тот год зеки уже могли выбирать: отбывать дальше или идти на передовую с последующим освобождением.
Винтовку ему не дали — не достоин. Выделили лопату и приказали рыть траншеи. Снег там был совсем не таким, как на лесоповале. Он лился тяжкими красными реками в траншеи, обжигал и оглушительно ревел. Павло высунул голову, и тут же что-то нестерпимо горячее и колкое заткнуло ему горло.
Он надсадно закашлялся, схватился рукой за трубку, снова налил себе. Обоз, небо, тоже попавшее в плотное окружение, стальные рейховские орлы повсюду. Не вырваться. Горло ему починили поляки, и там навсегда прописалась эта тонкая изогнутая трубка. Теперь он мог сносно дышать и даже как-то говорить, если на время затыкал ее рукой. Только голос выходил шавкающим, да и ни к чему он пленному.
Шталаг в Восточной Пруссии. Шталаг под Мюнхеном. Шталаг в самом Мюнхене. Шта? — словно дразнил его усатый энкавэдэшник и ровным разборчивым почерком записывал ответы Павло: попал в окружение и был взят в плен в селе Дубовый Овраг, что под Сталинградом, с фашистами не сотрудничал, освобожден в апреле сорок пятого, добирался домой через румынскую границу… Плотный дым махорки окружал Павло, выедал глаза, и усы энкавэдэшника росли, все больше напоминая усы Того, Главного. Павло кашлял, затыкал трубку, продолжал отвечать шавкающим голосом на вопросы.
Фильтр он прошел, и земляки в него снова уверовали. И Фрося тоже.
Павло вскочил, нашарил под лавкой охотничье ружье. Со стола на него глазела давно остывшая яичница.
— Хроська!
Фрося знала, что будет дальше. Низко пригнувшись, она побежит по огороду, Павло начнет беспорядочно палить то в клубнику, то в кур, а по ногам Фроси будут струиться липкие ягодные ручейки, на груди или на лице нальется лиловый синяк. Потом он уснет и не увидит, как она отмывает ноги, прижимает к синяку алюминиевую ложку, подбирает все-таки подстреленную курицу, гладит по голове одного из внуков, приехавших на каникулы из города, и на его вопрос: «Ба, почему ты терпишь?» — отвечает: «Цэ мий чоловик».
Синяки сойдут быстро, забудутся. Из той курицы Фрося наварит кастрюлю борща. Павло будет осторожно хлебать этот дымящийся борщ с холодным островком сметаны посередине, стараясь не греметь ложкой и жадно прислушиваясь. А из старенького радио шипящий голос начнет ему рассказывать, что из космоса вернулась Терешкова, что кубанские хлеборобы решили перевыполнить нормы по сбору зерна, что в стране все спокойно.

Весна
Не наступалось ей.
Никак не подняться было в то утро с постели,
Тело разбило усталостью многолетней.
Только грачей предупредить забыли —
Они прилетели.
Мнутся в прихожей февральской теперь,
Мечту о тепле лелея.
Зябко ступают по мерзлой траве
И не ропщут, ищут —
Солнца в недельной каше,
Хлеба в дыре асфальтной.
Весна поднимается нехотя, ворчит,
Тяжело ступая:
«Ну, как обычно…
Почему, обалдуи, опять грачам не сказали!»

Весна на старте
Весна на старте. Я — на финишной прямой. Она вот-вот ворвётся, я боюсь сорваться: Не справиться, не выдержать, взорваться И снова оказаться не весной, А вне. В каком-то дне демисезонном, Резиновом, как новенький сапог. Не спать! Бежать к свободе голых ног И мыслей. По оттаявшим газонам.

Весна, конечно, свое возьмет…
Весна, конечно, свое возьмет,
Но как научиться ждать.
Как медленно движется мартовский лед,
Темнеет под ним вода.
Остановись на мосту и смотри:
Зима закрывает счет.
Ворочаются ноябри, декабри,
Сколько их будет еще.
Делал что должно и пел как мог —
за то и держи ответ.
На перекрестке кривых дорог
Жди невечерний свет.
На перепутье весенних ветров
И оловянных волн —
Шаг в отражения, дальний кров,
Последний земной поклон.

Если вы думаете…
Если вы думаете,
Что весна
Нужна только влюбленным,
Вы ошибаетесь.
Сильнее всего
Весну
Ждут дворники.
Весна освобождает их
От лопат и ведер с солью,
От меланхолии и насморка.
Теперь если они и поднимутся на крышу,
То не для того,
чтобы бить лед,
А чтобы бить чечетку,
Петь романсы
И смотреть на звезды.

К весенней радости сырой аперитив…
К весенней радости сырой аперитив,
Наш март ни капли не благочестив:
Лицом к лицу мы не разглядываем лица,
И льётся всё, чему положено пролиться.
И жидкости, и время — всё опять течёт,
И рыба радужная разбивает лёд,
Мы не больны, но мы лежим в постели,
И золотится мёдная струя взамен капели.
Не рубль серебряный, а медный грош
Горит гормя над нашим медным веком,
Но в нём есть мы, хотя бы этим он хорош,
Мы тоже хороши — играет в нас просекко.
Стихов серебряных на полке том стоит,
Я планы на шестнадцатое строю,
Но голос внутренний: «Остерегайся ид!»
И муха полусонная садится на обои.

Март
Март отменяет любые планы, откладывает свидания,
Закручивает драмы. Полирует отчаянье.
Меняет серый на серый —
Все положенные 300 оттенков
С понтона вселенной.
Бывший кот домашний и бывший солдат усталый
Смотрят сон на репите, что вот они встанут с дивана
И вместо неба с грачами и мокрой земли
Увидят кухню родную,
Где ждут их свои.
И выпадет снег последний, и понесут тюльпаны,
И спрыгнут самоубийцы в ледяные каналы,
И кто-то в последний раз пьяный сломает закрытую дверь,
И когда весь мир будет падать —
Вот тогда и придёт апрель.

Потом начнет сползать, как шкура
…Потом начнет сползать, как шкура
С вареной курицы, зима.
И объявления на столбах,
И штукатурка на скульптурах
Предскажут скорую весну.
Но март обманет. Поутру
Всё так же будет снег лететь,
И ветер басом завывать,
И тучи проползать угрюмо.

Шестое марта
Шестое марта, кот яростно лижет шерсть.
Касперский проспал атаку коронавируса.
По сводкам из шести заболевших умирают шесть.
Но объявили, что все отлично и, может быть, выкрутимся.
В провинции Хубей, говорят, собаки едят людей,
с криком падает доу джонс, но держатся российские акции.
В супермаркетах заканчиваются туалетная бумага и клей,
необходимые для мумификации.
Сорок третий день эпидемии, утро, темень, но без-
головый дворник долбит лед, нет чтоб дома сидел в испуге.
Ему б предать доверившегося начальника ДЭЗ
и отсиживаться спокойно в девятом круге.
Кашлянувшего в автобусе, я думал, вышвырнут на ходу,
но смалодушничали, и он вышел на Парке Культуры,
Я лежу в постели, пью чай с малиной и жду.
Я здесь навсегда, я меряю температуру.

«Они просто бросили и предали меня…»
В марте 2019 года Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим написал письмо на имя главы Калининградской области Антона Алиханова, где выразил обеспокоенность тем фактом, что исторический Медовый мост и здание Музея янтаря в Калининграде с 2018 года украшены фигурками домовых, или, как их называют иначе, хомлинов.
А РПЦ и коммунисты против!
Представитель РПЦ отметил, что в российской культуре есть много персонажей, способных привлечь в Калининградскую область туристов «без отбрасывания региона к темным векам язычества и примитивного славянского национализма». «Просим вас услышать нашу обеспокоенность по данной проблеме», — сказано в письме.
Депутат калининградской облдумы от КПРФ Екатерина Королева поддержала мнение представителя РПЦ и попросила провести проверку законности размещения фигурок на памятниках истории и культуры «Медовый мост» и «Музей Янтаря».
На Медовом мосту в Калининграде сидит дед Хомлин (от слова Home — дом), а бабуля Хомлин — у входа в Музей янтаря. Забавные фигурки сделал художник и скульптор Андрей Следков. Всего планировалось установить семь подобных изваяний.
Автор эскизов и идеи размещения фигурок домовят Наталия Шевченко рассказала РИА Новости, что после жалобы епископа Калининградского и Балтийского Серафима и вызванного ею резонанса продолжение проекта приостановлено.
«Планировалось, что следующая фигурка должна появиться на очень известном в городе месте. Но из-за этой шумихи мы не можем сейчас устанавливать хомлина, хотя он даже готов. Мы хотим все сделать по-доброму, переждать какое-то время, не отвечать на провокации», — поделилась мыслями Шевченко.
Многие калининградцы высказались в поддержку домовых, даже запустили в соцсетях флешмоб в их защиту. Люди начали публиковать фотографии фигурок хомлинов на Медовом мосту у Кафедрального собора и возле здания Музея янтаря с хэштегом #нетрогайтехомлинов, выступая таким образом против возможного демонтажа 15-сантиметровых бронзовых скульптурок.
«С таким успехом можно попросить вычеркнуть Бабу Ягу, Фиксиков… и много кого еще. Чистой воды пиар авторов обращения. Наш город становится интересным, уютным, красивым…» — написал один из пользователей под фотографией хомлина в «Инстаграме».
«Они сразу же полюбились как жителям, так и гостям города. Они поднимают настроение, вызывают улыбку и очень хорошо получаются на фото… В кои-то веки в Калининграде появилось что-то действительно милое, осмысленное и приятное взгляду», — пишет другой пользователь «Инстаграма».
Житель города Дмитрий Янков повесил веселому дедуле янтарные бусы с янтарным крестиком. Он пояснил, что, возможно, так персонаж, сидящий возле изначально католического собора и в нескольких метрах от синагоги, обретет статус «межконфессионального символа, просто туристического объекта, центра притяжения для детей».
Между тем, проблема притеснения домовых в России далеко не нова. Уже не первое десятилетие люди ограничивают их в правах.
«Пожалейте сироту бесприютную!»
Вспомним, кто такие домовые. Домовой у славянских народов — домашний дух, мифологический хозяин и покровитель дома, обеспечивающий нормальную жизнь семьи, плодородие, здоровье людей, животных. Нужны ли они в наше время? Положа руку на сердце, признаем: нынче деятельность домовых практически перестала быть актуальной.
Формированию и поддержке здоровых отношений в семье помогают психологи и психотерапевты. Дома и квартиры охраняют надежные системы сигнализаций. Уборку помещений осуществляют сотрудники клининговых компаний. Тепло в доме поддерживается благодаря газовому и электрооборудованию. Фактически функция домовых в городах сведена к присмотру за домашними животными.
Благодаря такой оптимизации людского быта среднестатистический домовой остается без средств к существованию, коими для него, в первую очередь, являются продукты питания. Действительно, люди в большинстве своем перестали подкармливать потерявших авторитет покровителей очага, оставлять им молоко, кашу и прочие лакомства. По сути, обрекли хомлинов на вымирание.
Многие домовые мигрируют в отдаленные деревни и села, но и там научно-технический прогресс не дает им возможности вести полноценную деятельность и, следовательно, получать за свою работу достойное вознаграждение.
След тянется еще с советских времен. Многие помнят бездомного потомственного домового Кузю. В 1984-м году он выступил с громким призывом: «Пожалейте сироту бесприютную! С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просыпа… Недосыпал, в общем!»
Заявления и протесты Кузи, звучавшие и позже, в 1985-м, 1986-м и 1987-м годах, получили широкий общественный резонанс. Повсеместно цитировались лозунги: «Домовые мы. Счастье в дом приносим», «Работать буду по совести. За хозяйство не бойся», «Я не жадный, я домовитый!», «Кто не работает, тот понарошку!»
К счастью, благодаря освещению в СМИ жизни и деятельности Кузи, ему удалось найти хозяев и обрести дом. Однако с конца 1980-х годов прошлого века о нем практически ничего не известно. По непроверенным данным и слухам, сегодня Кузьма является одним из негласных лидеров несистемной оппозиции людям, отвергающим хомлинов.
Работы нет, но вы держитесь
Разумеется, нельзя отрицать, что работа домовым — это призвание, а для зарабатывания на пропитание есть шанс отыскать, как утверждают некоторые политики, «массу других прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше». Они уверены, что современный энергичный хомлин способен найти дополнительный заработок. Например, пойти в бизнес.
В самом деле, мы наблюдаем и такие примеры: в попытке получить хоть какие-то дивиденды домовые, в частности, предоставляют свое имя ряду компаний. Скажем, известно об их успешном сотрудничестве с крупной сетью «Домовой» — это магазины товаров для дома, открытые в некоторых российских городах. Или о коллаборации с компанией «Домовенок», предоставляющей услуги по уборке помещений.
Встречаются, однако, и случаи нелегального использования имени домовых в названиях магазинов. К сожалению, владельцы отдельных компаний, понимая, что хомлины не имеют возможности отстоять свои права в суде, даже не задумываются о том, какой серьезный материальный и моральный ущерб им наносят.
И всё же, в первую очередь этим хозяйственным и семейным существам нужно не бизнес-партнерство, а внимание и забота со стороны людей. Им также очень важно применять свои многовековые знания и опыт на практике. А люди напрочь вытесняют домовых из своей жизни.
Парадоксальная ситуация: ни в сети магазинов «Домовой», ни в клининговой компании «Домовенок» не работает ни одного домового. Не кажется ли вам, что это то же самое, как если бы, например, в нотариальной конторе не присутствовало ни одного нотариуса, а в отделении полиции не значилось бы ни одного полицейского?.. Неужели действительно целая прослойка нашего общества обречена на вымирание?
Робкий шаг в Г.А.В.Н.Э.
Некоторое время назад притесняемое социальной системой меньшинство из России рассчитывало на поддержку со стороны толерантной Европы, в частности, Великобритании. Однако оказалось, что у западных сородичей противоположные проблемы. Европейские домовые эльфы, или домовики, наоборот, перегружены работой и находятся буквально в рабстве у своих хозяев-людей.
Доподлинно неизвестно, откуда именно прибыли в Европу эльфы, однако речь идет о нелегальной трудовой миграции из неблагополучных в социальном и экономическом отношении стран. Оказавшись в бедственном, практически безвыходном положении, многие домовики, не зная, на что идут, согласились служить в семьях состоятельных британцев. В результате попали из огня да в полымя.
Домовики-мигранты плохо знают английский и о себе говорят в третьем лице. Хозяевам это на руку: искаженная речь подчеркивает зависимое положение эльфов в обществе. Одежды у них нет: в знак подневольности домашние рабы носят наволочки, лоскутки, разные тряпки. Денег за работу им тоже, разумеется, не платят. Покинуть господский дом без разрешения они не могут, а за невыполнение приказа хозяина эльфу приходится даже истязать себя.
Так, секретарю-переводчику международной неправительственной организации Amnesty International («Международная амнистия») Джоан Роулинг однажды довелось наблюдать момент самобичевания домового эльфа Добби в городке Литтл Уингинг в графстве Суррей, по адресу ул. Тисовая (Privet Drive), дом 4. Вот как описала она впоследствии этот случай:
«Добби… вдруг, прыгнув на подоконник, стал яростно биться головой об оконную раму.
— Гадкий Добби! — кричал он при этом. — Мерзкий, гадкий Добби! ˂…˃ Добби обязан наказать себя. ˂…˃ Добби сказал плохое о своей семье… ˂…˃ О своих хозяевах… Добби — домовой эльф, его участь до конца дней жить в одном доме, служить одной семье…»
Роулинг уже много лет наблюдает за жизнью и деятельностью домовиков-нелегалов и всячески старается их поддерживать. Так, именно по ее инициативе скандально известная правозащитница Гермиона Грейнджер основала в 1994 году Г.А.В.Н.Э. — Гражданскую Ассоциацию Восстановления Независимости Эльфов. В некоторых российских СМИ название также переводят как З.А.Д.Э. — Защита Автономии Домовых Эльфов. Оригинальная аббревиатура – S.P.E.W.: Society for Promotion of Elfish Welfare.
Главной целью организации стало освобождение домовых эльфов от рабства и предоставление им равных с людьми прав. Манифест организации Гермиона Грейнджер предложила озаглавить как «Движение за Прекращение Возмутительного и Жестокого Обращения с Дружественными Магическими Созданиями и Борьбу за Изменение их Правового Статуса».
К сожалению, через год организация была закрыта. Положение домовых эльфов за прошедшие с тех пор два с лишним десятка лет не изменилось.
«Я защищал дом, как мог…»
Но вернемся в Россию. Весной 2019 года российская кинокомпания «Трио Фильм» выпустила проект «Домовой». Режиссеру Евгению Бедареву и операторам Андрею Кузнецову и Сергею Политику удалось получить согласие хомлина, живущего в одной из квартир в сталинской высотке на Котельнической набережной, на съемки фильма о нем. Тем самым авторы рассчитывали привлечь внимание общественности к проблемам главных домашних духов.
«Домовым когда хорошо — когда в семье царит мир», — объясняет Домовой, попросивший не называть его имени, и рассказывает собеседнику свою трагическую историю:
— Я вот с первой семьей, помню, жил душа в душу… Всегда был уют, доброта, порядок. Я им во всем помогал…
— И что пошло не так?
— Они уехали, а я остался.
— А ты чего не поехал? Кочевряжился?
— А меня не позвали. Домовые могут переехать только тогда, когда их приглашают. Мы так устроены… Я искренне надеялся, что они вернутся… Этого не произошло. Они просто бросили и предали меня.
На глазах Домового видны слезы.
— Потом появились следующие. Затем еще одни хозяева. Я верил, что смогу подружиться с ними и жить одной семьей, но это оказалось невозможным. Люди становились все хуже и хуже, а из-за них становился хуже и дом. Мы с ним связаны.
Домовой рассказывает, что он и его соплеменники часто вынуждены жить в энергетически загрязненном жилье, и существование становится особенно невыносимым.
— Если в доме ссоры и ненависть, он как будто покрывается плесенью. Ее не видно, но она пропитывает стены, как зараза. Если бы люди задумались, они давно бы поняли, что сами виноваты во всех своих проблемах. Я не мог допустить, чтобы в мой дом пришла болезнь. Я хотел, чтобы в нем было тепло и светло. Чтобы все было по-человечески. Я защищал дом, как мог.
Из наблюдения за жизнью Домового, принявшего участие в проекте компании «Трио Фильм», можно узнать о том, как в современном обществе люди манипулируют хомлинами: держат их при себе в корыстных целях, даже задаривают «конфетами и монетами», а в случае ненадобности изгоняют из квартир. Разумеется, существа вынуждены принимать ответные меры: они пугают и мучают жильцов, портят вещи и мебель и вообще всячески вредят людям.
Но, к сожалению, силы неравны.
«Мы не злые. Домовые добрые, мы дома защищаем», — говорит анонимный герой проекта.
Только кому это надо…
Эпилог
Еще один маленький хомлин появился в Калининграде на набережной исторического флота возле музея Мирового океана в июле текущего года.
«Ночью мы установили фигурку внучкá наших хомлинов на набережной, его можно найти у носа корабля «Витязь», он сидит в «бумажном» кораблике. На наш взгляд, это получилось очень символично. Уже сейчас интерес к нему огромный, нам приходится дежурить и просить гостей близко не подходить к окрашенному парапету», — рассказала РИА Новости инициатор проекта Наталия Шевченко.
Оставят ли этих существ в покое, или антидомовая кампания, граничащая с откровенной травлей, будет продолжена – вопрос открытый…
Статья подготовлена на основании текстовых, фото- и видеоматериалов, размещенных в открытом доступе в Интернете. Все события и герои не вымышлены, любые совпадения не случайны. Во время работы над данной статьей ни одного домового не пострадало.

Святая радость
— У Band of Holy Joy концерт в Горбушке!
— Когда-а-а-а?
В первый раз сумасшедших англичан, играющих альтернативный рок, привезли в 1990-м. С поправкой на местные вкусы промоутер московского концерта выставил у них на разогреве «Крематорий», тогда очень популярный и ничем не похожий на лондонскую группу. После выступления у гостей столицы, опекаемых Артемием Троицким, началась культурная программа. В университетское общежитие на проспекте Вернадского их притащил наш приятель — журналист Олег Пшеничный. Мы, компания первокурсниц филфака, к числу утонченных ценителей британского инди-рока не принадлежали, строго говоря, вообще ничего не знали о нем. На концерте не были, но, без усилий заполучив экзотическую компанию, да еще в хороводе известных имен, чуть не лопнули от детского восторга. Началась настоящая жизнь! Только бы не сон! Утром следующего дня взъерошенный солист группы Джони в широченных штанах бродил босиком по общежитскому коридору, плохо соображая, где он находится и главное — почему.
ДСВ — «Дом студента на проспекте Вернадского», могучая 22-этажка на высоких бетонных лапах, место, где клубилось много разного народа, не имеющего прямого отношения к учебе на четырех гуманитарных факультетах МГУ: юридическом, историческом, филологическом и философском. Даже по меркам вольного студенческого быта того времени явление живых рок-англичан — событие ошеломляющее. Мы часто вспоминали их. В коллективном воображении юных филологических дев веселая и вполне безумная пьянка превращалась в миф то ли о прекрасных принцах, то ли об инопланетянах, возникших из ниоткуда и в никуда растворившихся.
Но необещанного, оказывается, тоже три года ждут. Июнь 1993-го, концерт в Горбушке — второе пришествие группы The Band of Holy Joy в Москву.
Как настоящие фанаты, мы едем в ДК имени Горбунова. Ужасно волнуемся, чувствуем себя избранными, посвященными. Гадаем, понимает ли кто-нибудь масштаб происходящего? В одном вагоне с нами благообразное семейство: бородатый папа в очках с задумчивым животом, в меру элегантная мама и мальчик лет десяти-одиннадцати. Эти точно не в курсе — скучные, взрослые, обычные. Только Holy Joy заиграли, тот самый папа подскочил и задвигался под музыку причудливыми, хаотичными зигзагами, а мы, не веря своему счастью, таращились на наших англичан. Меланхоличного барабанщика Билла, сосредоточенно отбивающего ритм, не узнать: так расплылся и гораздо печальнее своей версии 90-го года. Новенький скрипач красив до невозможности. Вокалист Джони хнычет и шепчет в микрофон. По-моему, музыки мы почти не слышали.
Включили свет, немногочисленная публика потянулась к выходу, а мы вчетвером остались в пустеющем зале. Самая бойкая из нас, Наташка Карпова, двинула за кулисы:
— Надо пойти поздороваться!
— Ты с ума сошла?!
— Это глупо, они не помнят нас.
— Что ты им скажешь?
Пригодилась фотка, украденная на память три года назад.
Мы переминались на площади перед ДК, а Карпова все не выходила из здания. Подъехал автобус, какие-то люди заносили в него аппаратуру, а потом музыканты стали рассаживаться между кофрами с инструментами. И мы бочком-бочком тоже зашли.
Наташка была очень убедительна. Наверное, она все решила еще за кулисами.
— Они едут в Минск. Мы только проводим их на вокзал.
На платформе кочевым музыкальным народом молчаливо дирижировал продюсер тура литовец Витаутас. Англичане шумною толпою грузились в вагон, белорусская проводница неуверенно спросила насчет билетов.
Глаза Карповой горели, она была прекрасна. Она все решила еще за кулисами.
— Они зовут с собой. Поехали! Я одна не смогу. Танька, прошу тебя!
Трио дружно подхватило:
— Танька, поезжай! Мы бы и сами, если б могли. Давай!
С собой — ни денег, ни документов, ни вещей. Я проклинала свою податливость.
Мы зашли в купе.
— Девчонки!
В Минске нас ласково, будто старых знакомых, приветствовал пухлый, добродушный парень. Holy Joy принимали как официальных посланцев английской музыкальной культуры. Их поселили в центре города: пышно драпированные шторы, полированная мебель, белизна накрахмаленных скатертей и завтраки-пиры с красной икрой. Патлатые музыканты в мятых джинсах и растянутых майках в декорациях советского шика. Про когнитивный диссонанс мы тогда еще не знали. Опекали и развлекали англичан прогулками по монументальному городу-герою, застольями, разговорами о высоком. И кульминация — концерт в огромном зале, забитом счастливой публикой.
Среди веселых, умных, свободных, талантливых парней двусмысленность нашего положения растворилась почти без остатка. Долгий и невозможно прекрасный день и ночные бдения после концерта на грани между явью и галлюцинацией. Гостиничный коридор, укутанный ковролином, и мы на полу со скрипачом Крисом о чем-то увлечено треплемся. Номера нараспашку, почему-то голый звукорежиссер, испуганно оглядываются люди в пиджаках. Не вспомнить, о чем говорили, о чем смеялись, только ощущение полноты, переизбытка, чреватого эмоциональным токсикозом после пробуждения.
Тур продолжался. Следующая точка гастролей — Питер. Я делала вид, что хочу вернуться в Москву. Неловко жить за чужой счет, нехорошо так надолго уходить в отрыв, ну погуляли и хватит. Не хватило.
В поезде «Минск — Санкт-Петербург» случился единственный в моей жизни концерт в вагоне-ресторане. Начальник поезда, узнав, что везет музыкантов, попросил уважить простых тружеников железных дорог. Парни играли битлов и роллингов, проводники и проводницы отплясывали с небелорусской страстью. До последнего державшийся невозмутимо Витаутас, размахивая майкой, забрался на стол, устоял на нем и дал жару. Ночью состав разгоняется до приличной скорости, но электрогитары и электроскрипка перекрикивали стук колес и порывы ветра, бьющего в открытые окна.
Питер встретил неприязненным похмельем, а как же иначе, на то и Питер. Мрачные представители рок-тусовки повезли группу на саунд-чек в знаменитый ДК имени Кирова. И все это деловито, молчаливо. Отодвинутые от музыкантов, мы вроде возвращали себе субъектность: купить трусы, сходить в Эрмитаж, говорить и молчать по-русски. Мы пытались вспомнить себя и переварить произошедшее.
Holy Joy выступали в компании лютых ленинградских панков: «Нож для фрау Мюллер», «Автоматические удовлетворители» и кто-то еще. Унылая нищета ДК, шприцы в туалете, полупьяные-полуобдолбанные зрители — ужасно хотелось бежать не оглядываясь от физически ощущаемого питерского безумия. До начала концерта мы успели поспорить с красавчиком Крисом о Раскольникове. Плевать было на Родиона Романовича с Федором Михайловичем вместе, но уже с Минска мы с Наташкой сознательно или подсознательно соперничали за его расположение. За нашим спором внимательно и грустно наблюдал барабанщик Билл.
Прогулка по разведенному мостами Питеру, можно сказать, триумфально увенчалась визитом в ночной клуб. Дамы в вечернем и бандиты в смокингах замолчали при нашем появлении. Нищие студентки никогда бы не прошли фейс- и дресс-контроль, но к этому моменту мы уже были в майках The Band of Holy Joy и с ощущением как минимум принцесс. В воспоминании почему-то оборванный звук внезапно замолчавших скрипок. Но, кажется, в этом споре памяти и воображения нет ничего из реальности, кроме торжествующей над любыми конвенциями свободы.
Мы ночевали в какой-то адской то ли общаге, то ли квартире в Купчино. Было холодно, было жарко. Один бесконечно длящийся поцелуй с Крисом. Мы ушли с Карповой, когда англичане спали. Не хотели сентиментальных прощаний и нелепых объяснений в любви. На туалетной бумаге написали искреннюю и восторженную записку о незабываемых днях, о счастье, о радости и наверняка о чем-то еще важном — не помню.
Тускло рассвело, мы брели через бурьян и пустырь к трамвайной остановке и плакали. Плакали, все понимая. И не желая понимать. Обратную дорогу в Москву почти все время молчали.
— Не хочется никому рассказывать, раздергивать на слова, жесты, истории. Заболтаем, и ничего не останется самим.
Приблизительно так сказала Наташка. Конечно, мы не удержались. Болтали, рассказывали, повторяли снова и снова. И в этих рассказах всегда был один очень важный для меня эпизод. Мы садимся в автобус у ДК Горбунова, барабанщик Билл смотрит внимательно и печально и говорит:
— Я тебя помню.

Слово свободы
Мысль изреченная есть сила. Знаю, у Тютчева не так, но ведь в любое понятие мы вольны вкладывать тот смысл, который нам кажется верным и уместным в данную минуту. В конце концов, так и рождаются дискуссии, а в них — истина.
Будучи хилой, болезненной девочкой, над которой в школе издевались все, кому не лень, с возрастом я усвоила одно главное правило, которого стараюсь придерживаться до сих пор: слабый — не значит беспомощный. Допускаю, что даже при ранней тяге к писательству и гуманитарном складе ума (если такое явление и вправду существует, хотя, думается, любой приличный нейропсихолог сейчас рассмеялся бы мне в лицо), все же именно это жизненное чутье прежде всего остального вывело меня на дорогу журналистики.
Сказать свое слово в любой ситуации (пусть даже она не касается меня напрямую, и пусть мое humble opinion совершенно ничего в этом деле не изменит) всегда представлялось мне очень важной возможностью, задачей и, подчеркну особо — правом. Правом, которое, думала я, у меня никогда не отнимут. А еще я думала, что в нашей стране меня сложно чем-то удивить.
По данным международной правозащитной группы «Агора» за 2018 год, около ста человек в России получили реальные сроки за активность в интернете: 18 были осуждены в 2015 году, 32 — в 2016-м и 48 — в 2017 году, в том числе пять человек — с принятием принудительных мер медицинского характера (иными словами, их поместили в психиатрическую клинику).
С каждым годом количество уголовных дел за публикации в сети увеличивается. Кого-то судят за мемы, которые правоохранителям почему-то не показались смешными, кого-то — за посты, репосты и лайки. Даже добавление «запрещенной» аудиозаписи сегодня может стать поводом для возбуждения уголовного дела.
Мария Мотузная, Егор Жуков, Даниил Маркин, Михаил Листов, Евгения Чудновец, Евгений Корт, Аня Павликова, Маша Дубовик — это лишь несколько имен, которые сегодня на слуху благодаря мощному общественному резонансу и бесчисленным публикациям в СМИ. Лишь несколько имен людей, которых интернет объединил в самом плохом смысле этого слова, многим сломав не только карьеру, но и жизнь. На деле же их гораздо больше — тех, в чьем деле фигурирует роковая статья 282. Приглядимся к ней поближе.
В УК РФ эта статья появилась еще в 1996 году и в исходной редакции носила название «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды». Статья предусматривала две степени ответственности. В первой части говорилось о том, что, если противоправные действия совершались публично или через СМИ, виновному грозил штраф, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на срок от двух до четырех лет. Вторая часть гласила: возбуждение розни, совершенное с применением насилия или угрозой его применения, организованное группой или с использованием служебного положения наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
В 2002 году Госдума приняла законопроект «О противодействии экстремистской деятельности», а вместе с ним и некоторые поправки в Уголовный кодекс. В частности, было дано определение понятию «экстремизм» и введен запрет на нацистскую символику. В рамках этих же поправок у статьи 282 появились две «младшие сестрички:» 282-1 («Организация экстремистского общества») и 282-2 («Организация деятельности экстремистской организации»).
Работа законотворцев здесь казалась законченной, и больше десяти лет эти статьи никто не трогал. Они спокойно ютились на страницах Уголовного кодекса и никому не были нужны. На самом же деле — терпеливо ждали, пока с них смахнут пыль.
8 декабря 2013 года это сделал Владимир Путин. Президент подписал крупный блок поправок в УК РФ, которые вновь изменили облик статьи 282. Отныне она стала называться «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Очевидно, что формулировка стала более размытой: что понимать под унижением достоинства и о какой именно вражде идет речь? Потрудимся заглянуть в сам текст закона.
Там мы увидим следующее:
1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»,
— наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) организованной группой, —
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Есть и другие статьи, подобные этой, которые довольно легко «привязать» к различного рода действиям, особенно если речь идет о действиях в интернете. Мне нравится называть их «статьями-хамелеонами»: 205.2. («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»), 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и, конечно, моя любимая статья 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», более известная как статья об оскорблении чувств верующих).
Вдобавок ко всему прочему 28 июня 2014 года появилась статья 282-3 («Финансирование экстремистской деятельности»).
Давайте же теперь сопоставим все вышеперечисленное с реальным правоприменением и посмотрим, как статья 282 и ее «сородичи» используются на практике.
Один из первых ярких прецедентов, на которые стоит обратить внимание — приговор, вынесенный 35-летнему жителю Барнаула Сергею Панарину. 31 мая 2015 года Московский окружной военный суд, руководствуясь ч. 1 ст. 205.2, приговорил Панарина к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Причем прокурор требовал назначить два года лишения свободы, но судья «перевыполнил» это требование.
Каким же образом Сергей Панарин оправдал терроризм? По версии суда, он сделал это в 2012 году, когда репостнул на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» небольшое эссе. Следствие решило, что в тексте «содержались выпады против действующей власти и мимоходом затрагивались представители народов Кавказа».
Приговор вступил в силу, и Сергей отправился в колонию. Там он провел три года бок о бок с людьми, реально причастными к террористической деятельности. Так, по словам Панарина, вместе с ним срок отбывал уроженец Татарстана, активно размещавший в интернете ролики с пропагандой ИГИЛ (запрещенной в России организации, как непременно стоит отметить). Примечательно, что этого человека суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы, а Панарин за репост чужой публикации получил на полгода больше. К слову, сам автор поста отделался штрафом.
Дело Сергея Панарина было одним из первых случаев, когда человек получил реальный срок за пост в интернете. Дальнейшее же напоминало снежный ком.
2 марта 2015 года. Смоленск. Статья 20.3 КоАП.
Журналистку газеты «Реадовка» Полину Петрусеву суд признал виновной в пропаганде и публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики. Поводом стало то, что в январе 2015 года девушка разместила во «ВКонтакте» фотографию родного двора времен немецкой оккупации. На фото виден флаг с изображением свастики. Суд назначил наказание в виде штрафа.
7 июля 2015 года. Саратов. Статья 282.
26-летний Константин Сычев приговорен к 6 месяцам колонии-поселения за то, что с 2013 по 2014 годы размещал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» «аудио- и видеозаписи экстремистского содержания, которые могли способствовать возбуждению ненависти по национальному признаку».
20 февраля 2016 год. Екатеринбург. Статья 282.
Мать-одиночка Екатерина Вологженинова приговорена к 320 часам обязательных работ за публикацию стихотворения Анатолия Марушкевича «Кацапы» и изображения украинской девушки, сопровождавшегося подписью «Смерть московским оккупантам». Также суд постановил уничтожить ноутбук Вологжениновой.
5 мая 2016 года. Тверь. Статья 280.
Суд признал инженера-электрика Андрея Бубеева виновным в экстремизме за репост картинки, где изображен тюбик зубной пасты с надписью «Выдави из себя Россию». Суд избрал в качестве меры пресечения 2 года 3 месяца колонии-поселения.
3 ноября 2016 года. Зеленоград. Статья 282.
Выпускник колледжа, абитуриент Евгений Корт признан виновным в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства из-за того, что сохранил (!) у себя в альбоме во «ВКонтакте» картинку, на которой националист Максим Марцинкевич, более известный как Тесак, изображен держащим за грудки Александра Пушкина. Суд приговорил Евгения к году колонии-поселения, позднее приговор был изменен на штраф в размере 200 тысяч рублей. В Московский лингвистический университет, куда он сдал экзамены, его так и не приняли.
Дабы окончательно не увязнуть в этом потоке абсурда, перейду к завершающему аккорду — одному из наиболее «эффектных». Нарушив хронологию, обратимся к делу Андрея Касаткина, о котором сейчас мало кто помнит: может быть, считают, что по сравнению с отмотавшими срок он легко отделался.
27 сентября 2013 года суд приговорил 27-летнего жителя Самары Андрея Касаткина к принудительному лечению в психиатрической больнице из-за картинки, под которой он поставил лайк и сохранил на своей личной страничке. На рисунке изображен мультипликационный персонаж в клоунской маске, напоминающий героя советского мультфильма «Шайбу, шайбу!». Вместо клюшки герой держит в руке топор, а подпись под картинкой гласит: «Бери топор! Встречай гостей с гор». По мнению следствия, действия Касаткина были «направлены на возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц по признакам национальности и происхождения».
Поистине безумным выглядит тот факт, что картинку Касаткин сохранил еще в феврале 2012 года, и лишь 10 декабря в дверь к нему постучали. В квартиру бесцеремонно ввалились сотрудники полиции в сопровождении понятых, системный блок у Андрея тут же изъяли. Так он узнал, что в отношении него возбуждено уголовное дело.
То, что помимо Касаткина злополучный рисунок лайкнули и сохранили еще несколько сотен человек, суд не заинтересовало. Зато психиатров очень заинтересовала информация о том, что подсудимый — инвалид третьей группы и уже проходил лечение в неврологическом диспансере сразу по возвращении из армии (Андрей переживал из-за того, что его не дождалась любимая девушка).
В итоге судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым. Постановлением федерального суда Промышленного района города Самары Андрей Касаткин был направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа.
Минимальный срок пребывания в психбольнице на принудительном лечении — полгода. По истечении этого срока созывается врачебная комиссия, которая определяет, стоит ли оставлять пациента в клинике для продолжения лечения. Это как рулетка: ты можешь выйти из «дурки» спустя шесть месяцев, можешь провести там еще год, два, три, а можешь не выйти никогда. В своих интервью Касаткин не раз говорил, что после одного раза в диспансере предпочел бы тюрьму.
Дальнейшую судьбу Андрея мне установить не удалось.
Истории таких, как он, похожи друг на друга до мелочей. Почти все осужденные за активность в интернете рассказывали журналистам о том, что рано утром к ним вламывался чуть ли не целый наряд полиции, квартиру обыскивали, технику изымали, близким и им самим угрожали, в некоторых случаях применяли силу.
Жертвами чего пали все эти люди? Несовершенной законодательной системы? Произвола чиновников на местах? Безалаберности депутатов? Или каждого из них случайным образом зацепили жернова гигантской неутомимой мельницы, готовой перемолоть все, что попадется ей на пути?
Изучая историю «экстремистских» статей и поправок к ним, я то и дело возвращалась глазами к датам. Примечательно, что основной блок поправок, повлиявший на дальнейшее судопроизводство по этим статьям, был принят в 2013 году — аккурат в разгар протестного движения в стране. Что это, как не прямой сигнал о том, что власть смастерила отличную дубинку, которой правоохранители и суды теперь радостно машут из стороны в сторону?
Недавние громкие дела, фигурантами которых стали Егор Жуков и другие оппозиционно настроенные молодые ребята, четко говорят об одном: ситуация меняется. Становится хуже.
Обвинения, с самого начала кажущиеся смешными и нелепыми, выливаются в реальные штрафы и сроки. Ломаются жизни, рушится будущее, а самое страшное — затыкаются рты. «Как же может заткнутый рот быть страшнее порушенной жизни?» — спросите вы. Очень просто. Когда замолкает рупор, идущая за ним толпа постепенно начинает редеть. Так побеждают тираны.
У Льва Толстого есть замечательное высказывание: «Всякая мысль, выраженная словами, есть сила, действие которой беспредельно». Очевидно, запрет на мыслеизъявление — не проблема одной эпохи и одного поколения. Тем не менее это проблема — до тех пор, пока власть сосредоточена в руках тех, кто больше всего на свете страшится мыслей и слов.

Тетя Катя
Тетя Катя мне, конечно, никакая не тетя. А просто соседка — их с мужем огород граничил с нашим, то есть бабушки и дедушки. Мужа ее, дядю Колю, все называли Завхоз, такая была у него должность при совхозе. А тетю Катю потому называли Завхозова.
— Кто это там заходил?
— Да это теть Катя Завхозова.
Тетя Катя частенько забегала проведать мою лежачую бабушку, рассказывала новости, от чая всегда отказывалась.
Очень худенькая, изборожденное морщинами лицо с заостренными чертами, добрые, слезящиеся от старости глаза. Сколько ее помню, она всегда улыбалась — тихой, иногда немного грустной улыбкой. Одевалась она как все бабушки в деревне: юбка, кофта, передник, чулки в рубчик или, если прохладно, гамаши, на голове платочек, на ногах галоши.
Муж ее, Завхоз, напротив, был крепким и громким, особенно когда поддаст, а это случалось с ним часто. Фуфайка, картуз, мясистый нос на красноватом лице. В хорошие дни он весь излучал добродушие и угощал нас, детей, яблоками. Но бывали и дни плохие, когда крик его и ругань были слышны даже на нашем дворе. Сдается мне, тяжко тогда приходилось тете Кате, хотя, она никогда не жаловалась.
— Как дела, теть Кать?
— Да ничаво. У Русский Брод завтрева поеду.
— На рынок?
— Да не, у больницу.
Уже несколько дней тетю Катю мучила боль в грудной клетке, порой и вздохнуть было тяжело.
— Теть Кать, а что ж такое?
— Да упала…
В поселке больницу оптимизировали, то есть закрыли. Остался только дом престарелых, где жили одинокие беспомощные старики. Теперь, чтобы получить медицинскую помощь, нужно ехать в райцентр — час езды на автобусе. Чтобы успеть на автобус, встать надо пораньше: управиться по хозяйству, а потом еще километра три до остановки, с бугра на бугор, опять под горку, через мостик, и опять в гору через лесок, а там и Центральная усадьба, уже по прямой дороге до остановки. Автобус уходит ровно в семь и ждать не будет.
— Теть Кать, ну как, сходила к врачу?
— Да сходила. Сказал к хирурху идти. Таперь у среду поеду.
Больница открывается в восемь. С автобуса к началу приема никак не успеть. Пока дойдешь — там уже очередь. Тетя Катя просидела в очереди. Когда наконец попала к терапевту, тот отправил ее к хирургу. Там тоже очередь, но снова ждать нет никакой возможности — обратный автобус ровно в час, и другого сегодня не будет.
Транспортное сообщение с поселком тоже оптимизировали. Если раньше автобусы ходили по такому же расписанию, но каждый день, то теперь по будням только в понедельник, среду и пятницу, ну и на выходных. Но в выходные больница закрыта.
— Теть Кать, ну что, попала к хирургу?
— А как же, попала. Сказал, на рянхен идти. У пятницу поеду.
В пятницу рентген показал, что у тети Кати сломаны два ребра.
Когда Завхоз умер, тетя Катя перестала падать и ломать ребра, но жить одной стало слишком тяжело. Она оставила свой дом, в котором прожила почти всю жизнь, и перебралась на Центральную усадьбу, в дом престарелых.
Поговаривают, дом престарелых тоже собираются оптимизировать.

Три ложки альмагеля
Ложка первая. Дед
Дома у меня было две обязанности: вытирать пыль и гулять с дедом. Деду семьдесят, мне в семь раз меньше, каждый день мы гуляем вдоль обычной воронежской девятиэтажки с красными балконами. От первого подъезда до второго, от одного мусорного бака до другого, шестьдесят метров вперед, шестьдесят метров назад. Дед длинный, худой, лицо — костистое, нос — крупный, морщины — глубокого залегания. Пальцы у деда желтые от махорки, катаракта уже изъела один глаз и подбирается ко второму, скоро все будет кончено — он быстро слепнет, но пока дед еще щурится от солнечного света.
В мешковатой куртке, ушанке, он шаркает ногами по асфальту. Воздух синий, прозрачный, воробьи как бешеные снуют под ногами, дерутся за кусок булки, лед присыпан песком. Я держу деда за руку и еду рядом в раскатанных на ледяных дорожках сапогах.
Дед с бабушкой ругались каждый день. Бабушка была доброй, но властной, громкой и заводилась с полуслова. Она делала все тяп-ляп, а дед был большой аккуратист. Бабушка родилась в дворянской семье, в детстве навидалась раскулаченных и всей сутью ненавидела эту коммунистическую шайку, а дед дрожал подбородком: «Не смей так говорить, Вера!»
Однажды мы смотрели по телевизору какое-то шоу вроде «Городка». По сцене скакал Ленин, из спины у него торчал топор. Почему-то это казалось нам с бабушкой очень смешным, и мы буквально заходились на пару от хохота. Дед плохо понимал, что происходит, так как видеть уже не мог. Но мы с бабушкой всегда пересказывали ему картинку. Услышав про Ленина с топором в спине, дед закипел: «Это оскорбление истории, вы две дуры». Хлопнул дверью и вылетел в кухню.
Ночами у деда была бессонница, поэтому он лежал как фараон и думал. Днем дед слушал радио или рассказывал мне то, что придумал ночью. У деда была язва, поэтому иногда он сочинял про доброго Альмагеля. Реже — вспоминал истории о том, как он воевал. Еще реже — о своем детстве. Некоторые эпизоды дед повторял чаще других. Как однажды на войне он лег плашмя, а немецкий танк проехал поверх, не задев его. Как отец отговорил его бить татуировку, так как с ней не возьмут в разведчики. Как в 20х годах по улицам ходили мороженщики с тележками. В бидонах, обложенных льдом, таились пломбир, крем-брюле. Но главное — это тонкие, диаметром сантиметра три, кружочки вафель с именами на них: Саша, Миша, Лида. Самой большой удачей было купить мороженое со своим именем. У деда было редкое для того времени имя — Олег, и ему везло редко.
На фотографии конца 20х дед ушастый, немного растерянный мальчишка. Видно, что принял для фотографии серьезный вид, приосанился, но улыбку до конца стереть не успел, ее тень проворный фотограф успел запечатлеть. В конце 40х дед уже чубатый, кудрявый, всегда в гимнастерке, блестит бляха ремня. На единственной фотографии конца 90х дед в парадной форме и орденах, лицо перепахано морщинами, на глазах бельма, во взгляде — горечь и достоинство.
У деда была цепкая память, но возраст сильнее памяти: люди с черно-белых фотографий растворяются во времени, годы погружаются в небытие — не удержать. Однажды утром дед плакал, оттого что забыл, как звали его сестру.
Дед много рассказывал про своего отца, хирурга-акушера. Как тот принимал роды при лучине в деревенских избах. Как воевал в Первую мировую и был награжден орденом святого Владимира.
— Однажды мы сидели, — вдруг почти кричит дед, — разговаривали и услышали глухой удар и звон стекла в другой комнате. Побежали туда, мать лежала на полу в глубоком обмороке, вокруг были осколки большого зеркала. Отец привел ее в чувство. «Мы больше никогда не увидимся», — заплакала мать, — «никогда не соберемся все вместе». Так и получилось, через несколько дней началась война, меня забрали на фронт.
В день, когда он впервые рассказал про зеркало, я ворочалась и долго не могла уснуть. Передо мной проносились зеркальные осколки, льющиеся из латунной рамы, бледное красивое лицо матери деда. Прошло восемь лет, сменились век и тысячелетие. Все это время дед старел, слеп, пережил инфаркт, все громче слушал радио, все чаще отказывался выходить на улицу. В соседнем подъезде жил хромой кот Пират. Когда он клянчил еду, он поджимал больную лапу, и только камень тогда мог не дрогнуть и не подать бедняге объедков. Так и дед, когда бывал в хорошем настроении, он видел, какие иссиня-черные перья у вороны, как они полыхают на солнце. Когда деду было тоскливо, он вытягивал руки впереди себя и ходил по квартире, натыкаясь на реальные и мнимые препятствия. Проклиная изжогу, он по десятку раз таскался на кухню пить соду и собирал все дверные косяки в квартире, которую давно выучил наизусть.
К купанию деда мама готовилась заранее. Знала, что дед будет ныть, что вода то горячая, то холодная. По-бабьи взвизгивать, как будто она облила его кипятком, если сделать напор чуть сильнее. Будет или мешать ей и вертеться на дне ванной, или стоять столбом — не повернуть его. Дед жилистый, сухой, старый, но кажется, что кожа всё равно велика ему и обвисает. А еще ногти — особенно на ногах — желтые, твердые, как пластины какого-то доисторического, давно окаменевшего ящера. Если долго размачивать в горячей воде, их можно хоть как-то одолеть.
Старел не один только дед. Незадолго до своей смерти бабушка перестала нас узнавать, начала убегать из дома.
Один раз мы с дедом долго искали ее, я бегала по подъезду, плакала, помчалась на улицу — все тщетно. Когда вернулась, дед все еще метался по квартире и кричал: «Вера! Вера!» Потом я заметила вещи на полу рядом со шкафом, заглянула — бабушка была там, просто сидела в шкафу и читала какой-то женский роман, бормоча себе под нос. Когда дед понял, где она, он странно дернулся, будто его ударили по лицу, и ушел в другую комнату.
Потом бабушка слегла. Они уже не ругались с дедом. Она тихо лежала на кровати маленькой иссохшей мумией, черты лица ее заострились, дед днями напролет сидел у нее в ногах и молча слушал радио.
На следующий день после бабушкиных похорон деда решил забрать к себе мамин брат. Дядя Сережа — полковник и служил в закрытом городе. Тогда мы все стояли у подъезда, растерянные, о чем-то говорили. Дед подошел к машине, сел за руль, что-то долго изучал на приборной панели. Вернулся довольный: «Сереж, ты уже сотку отмахал!». Дядя Сережа улыбнулся: «Пап, ты как это разглядел?». «Да, солнышко упало на счетчик», — отмахнулся дед. Я снова подумала о коте Пирате.
Через неделю после похорон я собиралась на свидание. Темный платок через все зеркало мешал мне накраситься. Дернула за край, и вместе с платком поплыла амальгама и со звоном осыпалась вниз. Вздрогнув, я увидела осколки и сразу вспомнила бледное красивое лицо моей прабабки и сорок первый год.
Так и случилось, мы больше не увиделись. Через несколько месяцев дед умер — ушел догонять свою невыносимую жену. Деда похоронили на военном кладбище с оркестром — офицер, он был бы доволен. Дядю Сережу в скором времени перевели в Москву, теперь попасть в тот город, где лежит дед, нельзя. Когда я не могу уснуть, то думаю о добром Альмагеле и пломбире с именами.
Ложка вторая. Отец
В холодном ноябре 84 года, через несколько дней после моего рождения мы с мамой едем в девятиметровую коммуналку, а отец едет к родителям в просторную трехкомнатную квартиру. Ему нужна тишина, он поэт.
Мой отец — поэт. Это даже вслух произносить неловко. Он пишет детские стихи, у него уже вышел первый тоненький сборник в Воронежском издательстве. Мой дед тоже поэт, и тоже детский. Моего отца зовут Аркадий Григорьевич, а деда — Григорий Аркадьевич.
Эту традицию должна была продолжить я, но родилась девочкой, и меня назвали Катей. В честь его матери. Когда я чуть подрасту, а родители давно разведутся, мама расскажет, что бабушка Катя сумасшедшая, у нее шизофрения. Мама скажет, что она сошла с ума, потому что красавец-дед много гулял и ходил налево. Я еще не знаю, что значит ходить налево и представляю, как во время прогулки дед все время загребает влево, и это так бесит бабушку Катю, что она сходит с ума. Я изо всех сил стараюсь ходить как можно ровнее.
Вот мне десять лет, у меня есть дружок Гришка, его отец учился с моим на одном курсе филфака. Когда мы ругаемся, Гришка шипит мне в лицо: «Я знаю твое настоящее имя и всем его расскажу. Тебя зовут Катя Пресман!» Вообще у меня мамина фамилия, но следующие несколько дней, месяцев, лет я пытаюсь примерить это имя на себя: Ка-тя Прес-ман, Ка-тя Прес-ман.
У меня есть фото, где мне около года, я сижу между отцом и дедом. У обоих красивые породистые лица, но дед смотрит хитро, а отец серьезно. У него высокий лоб, зачесанные набок волосы и рубашка в клетку. У меня большие желтые ботинки. Фотография черно-белая, но я знаю, что ботинки именно желтые. Мама говорила, что у нее были сандалии для меня, но эти двое так забили ей голову, что она забыла меня переобуть.
Вместе с фото в шкафу я нахожу письмо маме о том, что отец ушел в магазин за рыбой. Все письмо было разрисовано цветными скелетиками рыбок и стишками про то, как полезен фосфор и как его дочь будет расти крепкой и здоровой, только попробовав ту рыбку, которую он добудет в магазине.
В другом стишке, вырезанном из газеты, речь о маленькой Кате, которая отдала свое пальто гипсовому горнисту в парке. Скоро я встречу этот сюжет в Мэри Поппинс и узнаю его.
Мне тринадцать, и я параноидально хожу в музей живописи имени Крамского. Там нет ничего, кроме холодных гулких коридоров и старух в шалях, охраняющих сирень на стенах. Я уверена, что встречу там отца. Я видела его последний раз, когда еще не умела запомнить, поэтому внимательно вглядываюсь в лица взрослых мужчин. Иногда на улице или в троллейбусе мне кажется, что я узнаю его, но нет, нет.
Мама как-то сказала, что отец боготворит Евтушенко. Тогда я не знала, что Евтушенко — старый павлин в разноцветных рубашках, и выучила чилийскую поэму Голубь в Сантьяго и еще три десятка стихов наизусть.
Я давно нашла его номер и иногда звоню ему, но горло всегда схватывает спазм, и я не могу ничего произнести.
В семнадцать я пришла на его 55-летний юбилей — одинокого, никому не нужного поэта, члена Союза писателей России. Он стоял на сцене и бодрым старческим голосом читал очень плохие стихи. Я подошла за автографом, взяла его за руку и вложила ему в ладонь скомканную записку с номером телефона и объяснениями. Он не позвонил.
Еще через пять лет я все-таки позвонила, мне были нужны копии его документов. Он долго думал, тянул время и в итоге попросил меня захватить на встречу свой паспорт — мало ли что. Паспорт не понадобился — он узнал меня сразу. Он осунулся, постарел еще больше, и было непонятно, почему этот чужой, плохо одетый и, похоже, переживший инсульт старик — мой отец. Поговорить не получилось, он пришел с какой-то теткой, отдал мне копии документов и с упорством продавца Amway всучил мне свою новую книгу со словами: «Глянь, какая толстенькая».
Мы больше не виделись. Иногда я набираю в гугле «Скончался Аркадий Пресман», ничего не нахожу и так понимаю, что он жив.
Я чувствую в себе ровно половину еврейской крови и знаю, что, когда зажигаешь субботние свечи, нужно говорить: «Борух Ато Адой-ной».
Я придумываю стихи для сына. Когда у Дани отрастают волосы, они падают на одну сторону, открывая высокий лоб. Тогда мне кажется, что мой сын похож на деда, которого он никогда не узнает.
Ложка третья. Сон
Белый вязкий холодный туман съел все вокруг: землю, море, небо. Угадывается только силуэт дымящего баркаса и слышно, как жалобно кричат чайки.
Длинный худой мой дед в черном драповом пальто и пыльной шляпе кормит надоедливых птиц, отрывая куски от батона, который он достал из чемодана. Чемоданчик небольшой, в руку, вытертая коричневая кожа обита по краям железными скобами. Одна чайка носится от куска к куску, никак не может отнять у товарок.
Дед смеется: «Дура, ты, дура. На, лови!»
Дед бредет в белом тумане, чайки кричат ему вслед. В городе падает снег, медленный, густой, торжественный. Дед идет мимо двухэтажных деревянных домов, мимо окон с наличниками. Фонарщик еще не прошел, но и сумерки еще не спустились — то самое время на границе светотени, четыре часа пополудни. В футляре из огня гремит и сверкает новенький трамвай, из него гроздьями торчат гимназисты.
А деревья белые, ветви тяжелые, гнутся к земле. Снег вьется, роится, и его все больше. На крыльце одного из домов сидит старик, его понемногу заносит снегом, а над дверью козырек стекает ледяными струями.
Дед мой достает хлеба, достаёт бычков в томате, достает стаканы, разливает мерзавчик, крышкой чемодана прикрывая трапезу от тяжелых хлопьев. «Ничего, Аркаша, ничего», — говорит он. Выпьем сейчас и зайдем в дом, ничего. — На бутылке надпись через пузатый бок: «Альмагель».
Через четыре ступеньки дверь плотно закроется, фонари зажгутся, и снег еще долго будет падать в желтом слюдяном свете.

Элизабет Кюблер-Росс. Теория и практика
Элизабет Кюблер-Росс была психиатром, пионером в области изучения предсмертных переживаний, создательницей концепции психологической помощи умирающим больным. Именно с работы доктора Кюблер-Росс в США началось массовое движение за создание хосписов, медицинских центров для умирающих и их родных. Её книга «О смерти и умирании» стала бестселлером в США. Помимо своей первой и самой знаменитой работы она написала более 20 книг, в том числе «О горе и переживании горя», «Дети и смерть», «СПИД: последний вызов», «Живи сейчас!», «О жизни после смерти». «Жить, пока мы не попрощаемся». В 1999 году журнал Time назвал имя Кюблер-Росс среди ста самых выдающихся мыслителей ХХ столетия.
Кюблер-Росс родилась 8 июля 1926 года в швейцарском Цюрихе. Ещё будучи в начальной школе она написала в своём дневнике, что хочет быть врачом и исследователем и найти смысл жизни. Во время Второй мировой войны Элизабет была волонтёром в госпиталях. После войны в составе «Международной добровольческой службы во имя мира» ездила по Европе, помогая восстанавливать разрушенные войной деревни, школы, поставляя еду и первую медицинскую помощь. Посетив концлагерь Майданек в Польше, она была потрясена изображениями множества бабочек, нацарапанных на стенах бараков. «Почему люди перед смертью изображали бабочек?» — спрашивала она себя. Впоследствии эти бабочки стали для Элизабет символом души человека, которая покидает тело при смерти, как бабочка покидает свой кокон. Её отец был категорически против изучения ею медицины. Считал, что она должна работать секретаршей в его компании. Она не сдалась, и в 1957 году всё-таки закончила медицинский факультет университета Цюриха. Выйдя замуж за сокурсника-американца в 1958 году — переехала в США. Там она начала стажировку в психиатрии. По окончании специализации в 1963 году Элизабет направилась в Чикаго и получила место инструктора в университете.
Ещё во время стажировки Кюблер-Росс обратила внимание на отношение медицинского персонала к умирающим больным. Врачи были настолько озабочены тем, чтобы продлить жизнь больного, что просто избегали говорить с пациентами о возможности смерти. Также не было принято сообщать больному о его смертельном диагнозе. Кюблер-Росс начала общаться с умирающими, слушала их исповеди. Она поняла, что больные хотели, чтобы к ним относились как к личностям с их сложными чувствами и внутренним миром, а не как к списку медицинских диагнозов. Доктор пришла к выводу, что необходимо сделать все, чтобы последние часы и минуты жизни пациента были прожиты с достоинством, без страха и мучений. А для этого необходимо заранее готовиться к смерти, думать и говорить о ней как о естественной и неотвратимой составляющей жизни. Так появился курс лекций и семинаров о предсмертном опыте, в которые она включала интервью с больными.
В 1969 году вышла книга «О смерти и умирании». В книге Кюблер-Росс предлагает пять стадий эмоций, переживаемых умирающими людьми:
1. Отрицание. Когда больной узнаёт о смертельном диагнозе, он входит в состояние оцепенения и шока. Он говорит себе: «Это не может случиться со мной, это ошибка».
2. Гнев. Больной злится и обвиняет кого-то или что-то в том, что с ним происходит. Это может быть возмущение работой врачей, ссоры с родственниками, ненависть к здоровым людям.
3. Торг. Попытка заключить сделку с судьбой, отложить неизбежное. Например, он говорит: «Если диагноз не подтвердится — брошу курить». «Прошу только дожить до того времени, как дети закончат школу».
4. Депрессия. Больной понимает, что ничего нельзя изменить и испытывает отчаяние, состояние подавленности, потерю интереса к жизни.
5. Принятие. Больной смиряется с состоянием. Он говорит себе: «Я прожил интересную и насыщенную жизнь. Теперь я могу умереть».
Считается, что при встрече с неизбежной смертью люди проходят через большинство из этих стадий, правда, не всегда в предложенном Кюблер-Росс порядке. Позже Кюблер-Росс расширила свою модель и включила в неё также чувства, испытываемые при потере близких людей.
Вначале работу Кюблер-Росс критиковали. Считали, что эмоции больных зависят от множества причин, в том числе от окружающей среды, и не могут возникать строго по плану. Говорили, что эта теория получена не научным, опытным путём, а путём интерпретации доктором разговоров с больными, и поэтому сделанные ею выводы — субъективны. Но со временем теория получила широкое признание в медицинских кругах. Специалисты, работающие с умирающими больными, поняли, что теперь у них есть средство лучше понять пациента и теория стала для них путеводителем в сложном лабиринте эмоций, испытываемых больными.
В 1969 году журнал Life опубликовал статью о Кюблер-Росс, тем самым дав доступ к её учению широкой публике. Кюблер-Росс решает оставить преподавательскую работу в университете. Она стала ездить по стране, пропагандируя своё учение и проводя семинары.
На поздних этапах карьеры Кюблер-Росс стала говорить о жизни после смерти и писала, что смерти вообще нет, а есть переход из одного состояния в другое. Она считала, что люди, которых она интервьюировала перед смертью, посещают её после кончины, разговаривают с ней, оставляют записки. Друзья и коллеги предполагали, что наблюдавшая столько отчаяния и боли Кюблер-Росс тронулась умом и потеряла связь с реальностью. Это разрушило её репутацию в медицинских кругах. Но среди широкой публики она была очень популярна. У неё брали интервью, приглашали на телевидение, узнавали на улице.
На своих семинарах Кюблер-Росс учила, что люди умирают, когда они выучили все свои уроки в школе жизни, после того как они научились и научили всему, чему должны были научиться и научить. То, как человек встречает смерть, во многом зависит от качества прожитой им жизни. «Лучше сделать много ошибок, чем не жить вообще», — говорила она в одном из интервью. Самыми несчастными из умирающих, по ее словам, были люди, которые не прислушивались к своим мечтам.
Ещё одно её неоднозначное высказывание — о раковых заболеваниях, где она затрагивает тему своей смерти, опубликовано в книге онколога Барри Брайна «Рак и сознание»: «Рак не должен быть кошмаром. Рак может даже превратиться в благословение! Без него больше людей доживали бы в домах престарелых в состоянии полного старческого маразма, без речи и без движения после инсульта — немые и парализованные. Если бы я выбирала, как умирать, я не предпочла бы быструю смерть, например, в результате сердечного приступа. Я не считаю это идеалом. Ваша семья просто не успеет приспособиться к потере. Вы не успеете закончить все свои незавершенные дела. У вас не будет времени убрать свой рабочий стол».
В одном из своих интервью она высказалась на тему своей собственной смерти так: «Надеюсь, что, когда я буду умирать, меня, по крайней мере, отпустят домой, где я смогу выпить чашку кофе и выкурить сигарету»?
В 1995 году, после нескольких инсультов, Кюблер-Росс оказалась прикованной к инвалидному креслу. В таком состоянии она прожила девять лет, до своей смерти, сидя на веранде в доме сына в Аризоне. Кто-то считает, что она умерла именно так, как мечтала: дома, в кругу друзей и близких, под шум телевизора и крики играющих в комнате внуков. Она не хотела быстрой смерти, но быть прикованной к инвалидному креслу долгие годы стало для неё тяжёлым испытанием. Посетители со всего мира приезжали к ней. Было много журналистов, которых интересовал один вопрос: как мировой специалист по смерти реагирует на свою собственную скорую смерть. Её находили раздражительной, уставшей, полной боли. Журналист CNN определил реакцию Кюблер-Росс на скорую смерть как «очень человеческую» и неожиданную для женщины, которая разработала модель «принятия смерти». Её критиковали за то, что она не следовала стадиям, которые всю жизнь проповедовала. Телеведущая Опра Уинфри приехала в Аризону взять у доктора интервью и спросила, переживает ли она пять этапов горя, о которых так много писала. Кюблер-Росс ответила, что она надолго застряла на стадии гнева. Ни отрицания, ни торга она не испытывала. Она сравнивала себя с самолётом, который вышел на взлётную полосу, но так и не взлетел. В автобиографии, написанной в этот период, Кюблер-Росс называла смерть восхитительным и положительным переживанием, а продолжительный процесс умирания — кошмаром, отмечая свою физическую беспомощность и зависимость. Писала, что должна учиться терпению, смириться и принять ситуацию, в которой оказалась. Утверждала, что если выучит этот последний урок, то сможет наконец покинуть своё тело, как бабочка покидает кокон. И тогда будет свободна от боли, страхов и забот, свободна как прекрасная бабочка.

Вебинар с Мариной Степновой «Прототипы героев»
20 мая 2020 литературные мастерские Creative Writing School совместно с Ridero провели открытый вебинар с писателем Мариной Степновой «Прототипы героев: можно ли сделать из живого человека текст».
На вебинаре мы обсудили:
— можно ли брать героев для книги из жизни;
— как писать об исторических персонажах: только правду или с долей вымысла;
— какие моральные издержки могут ждать писателя на этом пути («меня посадят или просто побьют»)?
Вебинар прошел в рамках онлайн-встреч «CWS Будильник» с мастерами Creative Writing School – писателями, филологами, журналистами. Онлайн-встречи помогают слушателям разбудить в себе внутреннего автора и сделать занятия творчеством регулярными.
CWS Будильник: не проспи вдохновение!