Август 2021
Роман Дарины Стрельченко «Земли семи имён»
Аяд
Белая Полоса
Венецианская рапсодия
Верочка
Виднее издалека
Дикий зверь и саамские панки
Запах детства
Красивый инвалид
Кривая дорога. Жизнь
Летнее время
Мёд
Острава
Тапочки
Эксперимент
Первый воздух
Семена
Бегущая по строкам
Борат: случай украденной идентичности
Важные вещи
Границы на замке: рассказ одинокого солдатика
Заголовок жизни
Зерно и бабло
Ира или Гальфиря
Как Фил Найт превратил увлечение спортом в сверхприбыльный бизнес
Как я не стал поэтом-песенником
Кинезиотерапия
Мечта?
Мони Нильсон и её шалости
Не говори пока никому
Сгореть дотла, как Птица Феникс. Две жизни Шэрон Стоун
Сексуальное насилие над женщинами: как бы есть и как бы нет
Семейное древо (Предания, вымыслы, факты). Степан
Случай на море
Спасти бессловесного Рэйна

Максим Амелин: «Поэт, как птица — перестает писать, когда «выпевает» центр пения в мозгу»
В фейсбуке это состояние называют словом «неписец». А что это такое — знает каждый поэт и прозаик. Не пишется, не работается.
О поэтическом «неписце» мы поговорили с гостем поэтической мастерской Creative Writing School, поэтом, издателем и ведущим специалистом по русской поэзии Максимом Амелиным. Максим рассказал, как справлялись (или не справлялись) с подобной ситуацией русские поэты и предложил свои пути выхода из кризиса.
Максим, у тебя есть классная птичья теория про поэтический кризис: поэты перестают писать, потому что, как птицы, «выпевают» центр пения…
Про птиц мне мой друг, светило нейронно-мозговой биологии, рассказывал. Оказывается, у птиц в мозгу есть центр пения. Весной они весь центр пения выпевают, и там все до единой клетки отмирает. А потом птицы летят на юг, где центр пения отрастают заново, и тогда они прилетают снова и снова поют…
Эту «птичью» теорию можно легко переложить на поэтов: по той же причине многие пишут в молодости, по той же причине первые поэтические книги самые удачные. Первый текст, первая книга создаются на таланте, на центре пения, а дальше необходимо набирать мастерство, потому что центр пения, очевидно, иссякает.
Как набирать-то?
А у всех по-разному. Все мы хомо сапиенс и не можем быть вечно молодыми. Есть поэты романтического склада, которые «выпевают» свое и живут потом недолго. У моего поколения таким поэтом был Борис Рыжий, запоздалый постсоветский романтик: последний год перед смертью он ничего не писал, и это обстоятельство могло как-то повлиять на его решение уйти. Иссяк центр пения, человек испугался: вот ты пел-пел и вдруг, как рыба, не можешь двух слов связать.
Но есть поэты другого склада, более… классицисты, что ли. Они живут долго, меняются на своем творческом пути. Причем на Западе таких поэтов больше, чем у нас.
Что делать, когда пришел неписец? Сидеть и ждать, когда центр пения отрастет?
Надо помнить, что нет большого и серьезного поэта, у которого не было бы периода «не-письма». Возьмите Тютчева, Ходасевича. Пушкин не писал несколько лет, и у него поэтическая птица улетала куда-то. Поэты переживают это время по-разному. Одни молчат, а другие могут сочинять иронические стихи. Мандельштам, например, пять лет своего неписания сочинял смешные тексты: «Антология античной глупости», «моргулеты», цикл шуточных стихов про переводчика Александра Моргулиса:
Старик Моргулис зачастую Ест яйца в всмятку и вкрутую. Его враги нахально врут, Что сам Моргулис тоже крут.
И что потом?
А потом — поэт меняется. На примере Мандельштама хорошо видно, как менялась его поэтика: Мандельштам 1910-х годов, 1920-х и 19-20-х — это вообще три разных автора.
Как тебе удается писать стихотворения по пять лет? Взять, к примеру, твое знаменитое уже стихотворение, посвященное смерти товарища во время взрыва в метро в 2004 году.
Но это больше относится не к «неписанию», а к форме. Я пять лет думал, как его написать. У поэтов ведь есть способы, как писать о войне, существует богатая традиция военной лирики. А вот теракт — это экстраординарное событие. Как о нем писать, если у тебя погиб там друг? Какие слова подобрать? Непонятно. В итоге я вышел на форму развернутой эпитафии.
Чем заняться в период молчания
Наверное, в период молчания можно было бы и поучиться чему-нибудь?
Хорошо, чтобы поэт был готов к новым песням. Все идеи висят в воздухе и никто не знает: а вдруг к вам придет «Божественная комедия», а вы терцинами не владеете. А если новый «Евгений Онегин» свалится, а вы не знаете, что такое онегинская строфа? Человек, допустим, никогда не писал музыки, а к нему пришла симфония Шостаковича. Хоть в дурдом ложись, если не знаешь нотной грамоты.
Ну не знаешь и что, пропала симфония?
Почему пропала? Идея — она такая, не поймаешь — перейдет к другому. Не зря же у нас так много поэтов одного стихотворения: то или иное хорошее стихотворение мог написать большой поэт, а написал малый. Ион Деген тому пример.
Дурацкий вопрос: насколько важно быть голодным, чтобы идея лучше шла. Известная же фраза: поэт должен быть голодным.
Может, что-то в этом есть. Я читал старинный индийский трактат, где один индус пишет, как поэт должен жить. Там подробно расписан распорядок поэта, и из сегодняшнего дня это выглядит чудно. Написано, что поэт должен жить на всем готовом при дворе вельможи или князя, должен смотреть на красивое не смотреть на уродливое. У него должен быть сад с прудами и с лебедями. Более того, там расписано, сколько раз ему нужно питаться. А для мужчин еще предписывается распорядок общения с женщинами.
Про женщин ничего не сказано?
Про женщин наши переводчики не перевели, но наверняка что-то было. В Индии не считали, что поэты должны быть только мужчины, как раз наоборот, у них «атман» беспол, поэтами могут быть мужчины и женщины, вопрос только к постижении огромного количества наук связанных с поэзией: 8 основных и 64 вспомогательных…
Я вообще заметила, что ты часто продвигаешь и рекламируешь восточные поэтические практики.
Да потому что индусы докопались до невероятных вещей. Возьмем их знаменитую «Ригведу». Это десять гимнов, где каждый гимн обращен какому-то божеству, а один гимн-загадка, который не обращен ни к кому, но при этом все знают, что это гимн речи. В тексте происходит интереснейшая вещь. «Речь» у индусов это «вач», и это слово рассыпано слогами: там много слогов ва-, -ач, -чва. Когда гимн заканчивается, где-то в третьем глазу читателя собирается слово «речь».
Мне кажется, такие фишки невозможно понять в переводах.
Это правда, сейчас индусы целиком и полностью ушли в языковые игры, перевести и понять их «поэтическое мясо» невозможно, но мы можем наслаждаться подходом. Поэтика-то потрясающая. Меня в свое время потряс великий индийский теоретик Анандавардхана (он у нас переведен, кстати), написавший, что поэтический текст — это такая шелковая ткань, за которой что-то видно, но не точно. Анандавардхана считал, что задача поэта сделать так, чтобы поэтическое находилось не внутри текста, а ЗА ним. Когда человек читает текст, у него должно нечто новое собраться, но не с первого прочтения а с третьего-пятого.
Вот этот элемент вынесенности за текст — поразил мое воображение.
Что-то похожее немецкие романтики придумали: нельзя говорить любовь-ненависть, а нужно выражать это через другие ассоциативные ряды. У нас на онлайн-курсе по поэзии даже есть такое задание: напишите стихотворение о любви, не используя слово «любовь».
Европейская традиция, ведущая начало от античности, — она явленная. Работать на полутонах, действительно, начали романтики: говорить не те слова, выражать чувства, не называя чувства. Но индусы стали делать это гораздо раньше, еще до нашей эры.
Между строфами должна пролетать молния
Что можешь сказать о нашей теоретической традиции?
А наша поэтическая теория эстетически не особо разработана. Что говорить, если у нас великий критик — Белинский. (Я считаю это беспредел, когда люди глухие к поэзии являются главными ценителями поэзии). Но один из интереснейших трактатов написал Державин. Эта штука называется «Рассуждения о лирической поэзии или об оде», и там на примере больших од рассказывается, как лирическое стихотворение устроено. Главная мысль состоит в том, что между строфами должна пролетать молния. Державин говорит, что надо выбивать строфы ударом молнии. Из А следует не Б, а сразу Д. Происходит пропуск.
Это что-то вроде того, что Мандельштам назвал «мышлением опущенными звеньями»?
А никто ничего другого не изобрел, просто метод усложняется со временем. Как ужать огромную державинскую оду на 180 строк в маленькое лирическое стихотворение на 16 строк? Первым это сумел сделать Тютчев, выбивая звенья, а уже у него научились все. Так устроены стихи из сборника «Тяжелая лира» Ходасевича. Так устроены стихотворения Мандельштама.
Что запоминается в поэзии? Эмоция, которую ты испытал от прочтения нескольких строк. Стихотворение должно поражать, иначе всякое «делание стихов» обессмысливается. Нужно же понимать, что огромное количество стихотворений пишется ежесекундно. Об этом Самойлов писал:
В этот час гений садится писать стихи. В этот час сто талантов садятся писать стихи. В этот час тыща профессионалов садятся писать стихи. В этот час сто тыщ графоманов садятся писать стихи. В этот час миллион одиноких девиц садятся писать стихи. В этот час десять миллионов влюблённых юнцов садятся писать стихи. В результате этого грандиозного мероприятия Рождается одно стихотворение. Или гений, зачеркнув написанное, Отправляется в гости.
Самойлов — не мой автор, но это стихотворение очень точное.
Можешь посоветовать какую-то литературу для чтения в период молчания?
Есть масса всяких книг, написанных о поэзии. Я прочел много и понял, что, в принципе, в большинстве переписывается одно и то же из того, что было в «первичных» книгах. Список таких «первичных» книг я составил, они разные и касаются эстетики, не техники. Все это можно прочесть за месяц. С удовольствием поделюсь.
Фото © Anatoli Stepanenko, 2017
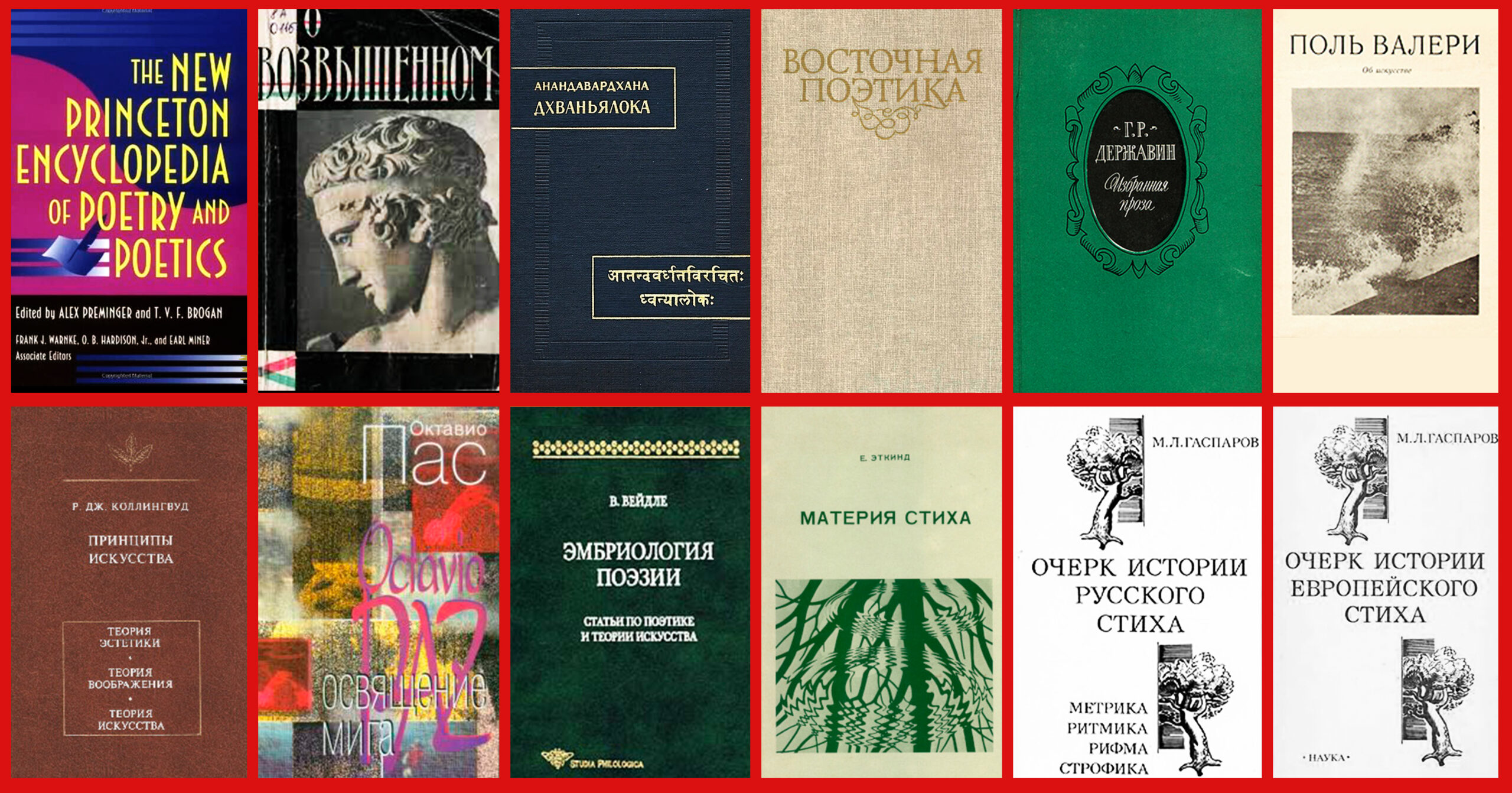
Максим Амелин. Топ-12 главных книг о поэзии
Перед вами список лучших книг о поэзии, который специально для читателей «Пашни» составил и прокомментировал ведущий современный поэт и теоретик литературы Максим Амелин. «Есть масса всяких книг, написанных о поэзии, — говорит Максим. — Но, прочитав огромное их количество, я понял, что в большинстве переписывается одно и то же». Список можно прочесть за месяц и большая часть доступна в интернете по первому клику.
1. The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Princeton University Press, 1993
Эта книга много раз издавалась, в ней 1500 страниц, но необязательно читать полностью. Можно скачать и пользоваться: там, хотя и поверхностно, но собрано все о мировой поэзии. Хотя бы буква, но написано про каждую поэзию мира. А про античность — так и совсем неплохо написали.
2. Псевдо-Лонгин. О возвышенном [трактат]. М.-Л.: Наука, 1966
Базовая вещь, с которой нужно начинать. Псевдо-Лонгин — это имя, данное анонимному греческому писателю I—III веков н. э. Его трактат совсем небольшой, меньше 50 страниц, но очень важный для эстетического понимания того, что есть поэзия.
3. Анандавардхана. Дхваньялока (Свет Дхвани). М.: Наука, 1974
Великий индийский поэт и теоретик литературы, живший в I веке нашей эры. Его знаменитая работа называется «Дхваньяалока», что переводится как «Свет отзвука». Этот «дхвани», то есть «отзвук» он считал душой поэзии. В «Дхваньяалоке» есть разные сравнения поэзии, в том числе то, что потрясло меня. Автор говорит, что поэтический текст — это такая шелковая ткань, за которой нечто видно, но не точно.
4. Восточная поэтика: Тексты, исследования, комментарии. М.: Восточная литература, 1996
Это единственная книга, которой нет в Интернете. Но я очень рекомендую найти ее у букинистов, она была издана большим тиражом и стоит всего 150 рублей. В книге рассказано не только про индусов, но и про китайцев, корейцев. Очень интересно описана теория персидских заимствований, где заимствования называются криминальными терминами: что-то вроде «разбой» — это когда человек сплагиатил. «Ограбление» — это фанфик по-нашему… и таких смешных градаций огромное количество.
Все эти представления заставляют иначе посмотреть на нашу поэзию и понять, как вообще работают стихи.
Сам я нашел «Восточную поэтику» случайно на Цветном бульваре. Открыл и обомлел. Эту книгу у меня брала поэт Инга Кузнецова, а потом вернула с многочисленными закладочками.
С тех пор я решил покупать везде, где только найду, и дарить друзьям-поэтам. Они очень благодарят.
5. Державин Гавриил. Рассуждение о лирической поэзии, или об оде // Державин Г. Р. Избранная проза. М.: Советская Россия, 1984. С. 273—344, 386—392
Наша теория о поэзии не особо разработана, я вам скажу. Но я считаю, что из русских исследователей один из интереснейших трактатов написал Державин. Первая часть этого трактата — потрясающая. На примере больших од Державин рассказывает, как устроено стихотворение. Причем ученые так и не нашли, на какие источники он опирался. Похоже, что все это — его уникальные разработки!
6. Поль Валери. Об искусстве. М.: Искусство, 1976
Постструктуралисты все мудрят и заумствуют, но между тем, все понимают, что просто и понятно все то же самое выразил Поль Валери. Великий французский поэт много рассуждал о поэзии, и эти рассуждения в виде эссе великолепны.
Та же книга выходила в 1993 году на какой-то туалетной бумаге и у нее был немного иной состав, но тоже очень интересно. Ясно и доступно.
7. Коллингвуд Робин Джордж. Принципы искусства. М.: Языки русской культуры, 1999
Коллингвуд вообще-то английский историк, но он любил поэзию и в свободное время занимался эстетикой поэзии. Третью часть книги можно не читать, а вот в первых двух он говорит о поэзии так, как никто. Коллингвуд «от противного» рассуждает, чем НЕ является поэзия: магией, например, пятым, десятым. Так автор приходит к тому, что есть поэтическое.
Английский ум. Абсолютная логика. Рекомендую.
8. Вейдле Владимир. Эмбриология поэзии. М.: Языки славянской культуры, 2002
Еще одна книга, о которой я довольно поздно узнал, потому что она, хотя и выходила по-русски, но особо никому не была нужна. По сути, это спор с формалистами, хотя Вейдле и сам использует формальные методы. Вейдле обращает внимание на внутреннюю, звукосмысловую структуру поэзии. Автор немного вязкий, медленно подходит к сути, рассказывая как будто случайные истории из жизни. Что-то там в его жизни происходило одно, другое, третье, а потом вдруг — раз— и открывается невероятное.
Кстати, Вейдле общался с Ходасевичем, и в книге можно узнать некоторые идеи Ходасевича.
9. Пас Октавио. Освящение мига. СПб.: Симпозиум, 2000
Знакомый незнакомый автор, большая часть идей которого у нас известна в пересказе Бродского. Пас — мексиканец, политик, дипломат. Он получил Нобелевку, вслед за Бродским, написал чуть ли не двадцать томов о поэзии и, кстати, тоже «сошел с ума» на индусах.
В отличие от Паса, я не рекомендую Элиота, у которого Бродский тоже брал какие-то идеи и пересказывал в своих эссе. Суждения Элиота мне кажутся немного поверхностными.
10. Эткинд Ефим. Материя стиха. Paris: Institut d’études slaves, 1978.
Автор берет тексты и очень интересно их разбирает, так, что понимаешь теорию на примере этих замечательных разборов. В какой-то мере Эткинд продолжает линию Вейдле, сочетая Якобсона, с которым спорил Вейдле, и самого Вейдле.
11. Гаспаров Михаил. Очерк истории европейского стиха. М.: Фортуна Лимитед, 2003
12. Гаспаров Михаил. Очерк истории русского стиха. М.: Фортуна Лимитед, 2000
Две прекрасные книги, в которых все очень понятно написано. Неслучайно эти работы переведены на иностранные языки. У Гаспарова есть книги для продвинутых стиховедов: в них одни цифры и таблицы. Здесь же — увлекательно и понятно: мало счетного, много информативного. Особенно интересно про скальдический стих, особое явление, рядом с которым даже индусы отдыхают. Если вы прочтете это, то сможете читать и все остальные книги, потому что знаний будет достаточно.

От Хемингуэя до Мураками: советы великих писателей для работы из дома
Пандемия коронавируса вынуждает многих из нас работать из дома. Мы можем многому научиться у людей, которые всегда работали в изоляции. Мы перевели статью из The Guardian, собравшую лучшие советы писателей прошлого.
Если есть когорта людей, идеально подготовленных к работе в домашней изоляции, — то это писатели (а также члены закрытых монашеских орденов).
Авторы, у которых горит очередной дедлайн по книге или есть тот проект всей жизни, что должен быть завершен прямо сейчас, часто вынуждены уйти в полный локдаун, чтобы эта чертова вещь была, наконец, закончена.
Они запасаются едой, ограничивают коммуникацию с внешним миром, творят и пытаются придерживаться строгого распорядка, позволяя себе достаточное количество отдыха и здоровой еды.
Вот некоторые из их советов, которые помогут не просто выжить во время работы дома и социальной изоляции, но написать ваш главный шедевр именно в этих условиях.
Первым делом приступайте к самому тяжелому
В обычное время, особенно если вы работаете в команде, ваш распорядок дня может зависеть от других людей, но когда вы работаете независимо, то попытайтесь приступить к работе как можно раньше.
Эрнест Хемингуэй, например, каждый день начинал писать в шесть утра и следовал одному и тому же расписанию наподобие какого-нибудь бухгалтера среднего звена — в отличие от той свободной жизни, которую он вел в остальное время.
«Когда я работаю над книгой или рассказом, то начинаю писать рано утром, как можно скорее после первого луча солнца. Тебе никто не мешает, в комнате прохладно или даже холодно, и вот ты начинаешь писать и согреваешься за работой», — рассказал он «Paris Review».
Если вы работаете из дома, то приступите к главным задачам дня — докладу или отчету, которые вам нужно поскорее закончить, — так рано, как только можете. Конечно, если у вас есть семья, то этому не так-то легко следовать, но все же с утра у вас будет наиболее свежая голова. К тому же в это время вы будете меньше отвлекаться на почту и групповой чат с очередными страшными новостями из пандемийного мира.
Как только вы закончите с делами, которые требуют наибольшего умственного напряжения, то можете переключиться на более мелкие и монотонные задачи. Вероятно, вы успеете сделать больше дел быстрее обычного, так что если ваше присутствие требуется только время от времени, то можете провести остаток дня за чем-нибудь приятным. Например, почитать или выпечь что-нибудь, пока почтовый ящик не оповестит о появлении новой задачи.
Разработайте график и придерживайтесь его
Чтобы быть продуктивным в домашней обстановке, вам потребуется как можно скорее разработать строгий график и придерживаться его.
Когда писателям приходится работать на полную мощность, то зачастую их расписание напоминает армейское. Они просыпаются каждый день в одно и то же время, задают себе план по количеству слов за день и час, когда они откладывают в сторону ручку. Кроме того, у них есть специальное время для физических упражнений, стаканчика-другого алкоголя и — в случае современных авторов — для социальных сетей и интернет-серфинга.
Любое социальное взаимодействие может быть вписано в график. Как писал Грэм Грин в «Конце одного романа»: «В молодости на мое расписание не влияли даже любовные романы. Я назначал свидание только после обеда».
Планируйте загодя. Когда вы находитесь в активном процессе письма, то всегда вечером составляйте список дел, чтобы на следующий день (когда вы просыпаетесь в строго установленное время и сразу приступаете к работе) вы четко понимали, что вам сегодня нужно сделать. Затем вы начинаете работать по этому списку и методично вычеркиваете одно дело за другим. К концу дня, даже если вы уже превратитесь в сидящий в кресле автомат, у вас должно быть чувство удовлетворения.
Курт Воннегут в одном из писем жене описал ей свой распорядок, в котором есть все нужные вам элементы: «Я просыпаюсь в 5.30, работаю до 8.00, завтракаю дома, работаю до 10.00, прохожу пару кварталов, решаю бытовые проблемы, иду в ближайший городской бассейн и плаваю полчаса в полном одиночестве, возвращаюсь домой в 11.45, читаю письма, в полдень обедаю. После обеда я занимаюсь школьной работой, преподаю или готовлюсь к урокам».
В 5.30 вечера он выпивал стакан виски, а в десять ложился спать. В течение всего дня он время от времени делал физические упражнения, отжимался или приседал.
Нужно ежедневно делать упражнения
Японский романист Харуки Мураками, в свою очередь, справляется с грузом писательской работы, только следуя строгому физическому режиму. В одном интервью 2004 года он сказал: «Когда я пишу роман, то встаю в 4 утра и работаю пять-шесть часов. Днем я бегу десять километров или плыву 1500 метров (или делаю и то, и другое), затем я немного читаю и слушаю музыку. В девять я ложусь спать. Я следую этому режиму каждый день без каких-либо вариаций. Повторение само по себе становится важной вещью; это своего рода месмеризм. Я гипнотизирую себя, чтобы достигнуть более глубокого состояния сознания».
Даже если вы живете в крошечной квартире и работаете из дома, вам придется делать ежедневные физические упражнения, иначе и ваше тело, и ваш мозг выйдут из равновесия. Сейчас в интернете много подборок тренировок дома во время локдауна — при помощи специальных приложений и подручного снаряжения. Всегда найдутся вдохновляющие примеры: например, в Ухани марафонец пробежал 31 милю вокруг обеденного стола.
Интернет ваш враг
Социальная дистанция была бы гораздо тяжелее, если бы не было интернета. Сейчас десятый день моей социальной изоляции, и я в более тесном контакте с большим числом друзей по всему миру, чем за всю предшествующую часть этого года. Однако раз нет коллег, которые бы смотрели вам через плечо и осуждали за сидение в Facebook, переписку и длинные телефонные разговоры в рабочее время, вам придется заняться самодисциплиной, чтобы не проводить весь день в пижаме в FaceTime.
Если вы хотите работать более эффективно, то вам необходимо посадить себя на социальный карантин и воздерживаться от соцсетей и телефонных разговоров с друзьями.
Многие писатели уже давно говорят, что Интернет — это враг их продуктивности, поэтому они разработали для себя специальные правила, ограничивающие время онлайн в активный творческий период. Так, британская писательница Зэди Смит не использует смартфоны, а Джонатан Франзен пишет в комнате без вай-фая и заклеивает интернет-порт на компьютере, чтобы у него было соблазна выйти онлайн.
В подкасте «Woman of the Hour» Смит как-то сказала: «Если бы я могла контролировать себя онлайн, если бы я не зависала в дыре Google на четыре с половиной часа, то никакой проблемы бы не было. Но именно это я и делала. Здесь нет какого-то морализаторства, просто если я хочу писать, то со всем этим нужно было покончить. Все прочее должно отойти в сторону».
Австралийский писатель Бенджамин Лоу рекомендует приложение «Forest», которое выключает все социальные сети и интернет на определенное время, чтобы вы могли глубже сконцентрироваться. В свою очередь, я сама пользуюсь программой «Freedom», которая схожим образом блокирует интернет на заданный период времени (обычно от трех до пяти часов в день). Лучше всего использовать эти приложения рано утром, когда вы делаете самую сложную работу.
Как писали в Твиттере примерно миллион раз в неделю, Уильям Шекспир написал «Короля Лира» во время чумного карантина. Если использовать это время мудро, то вы можете сделать много вещей. Или по крайней мере закончить свой рабочий день раньше, чтобы поскорее вернуться к чтению Шекспира.
На фото: кабинет Эрнеста Хемингуэя в его доме во Флориде
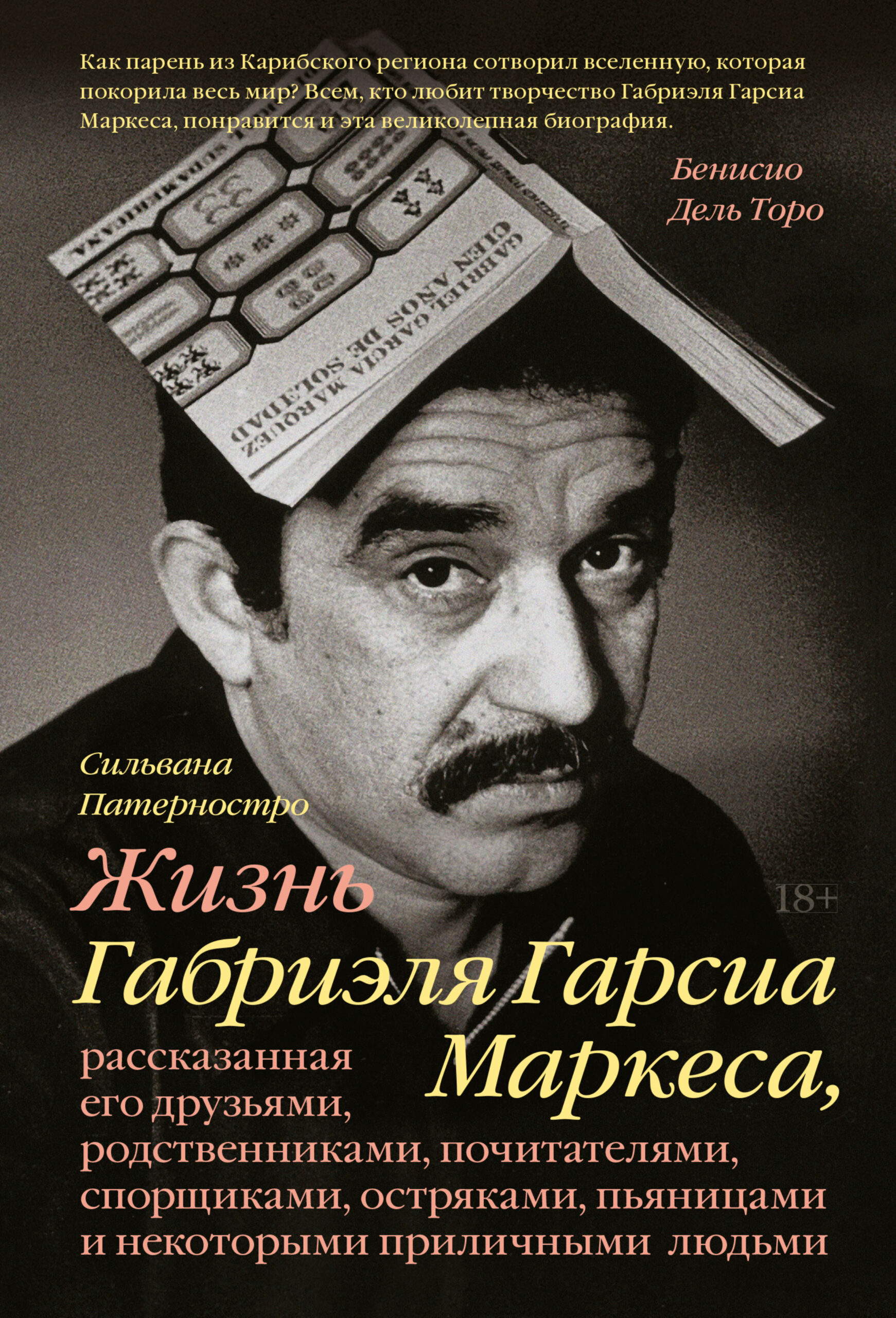
Отражаясь в множестве других: самая необычная биография Габриэля Гарсиа Маркеса
Строго говоря, «Жизнь Габриэля Гарсиа Маркеса» Сильваны Патерностро, вышедшая недавно в издательстве« «Манн, Иванов и Фербер» — не совсем биография. Здесь вы не найдете последовательного рассказа о детстве, юности, зрелости писателя, анализа его профессионального становления, изучения основных этапов творческого пути и прочих атрибутов, присущих классическим жизнеописаниям. Больше похоже на то, что вы оказались за одним столом с близкими великого прозаика, где они болтают и вспоминают о нем, перебивая друг друга и заливая воспоминания добрым количеством виски со льдом. Недаром у книги такое длинное название — это жизнь,« «рассказанная его друзьями, родственниками, почитателями, спорщиками, остряками, пьяницами и некоторыми приличными людьми». Сначала вы теряетесь в шумном хоре голосов, безуспешно пытаетесь понять, кто все эти люди, и даже чувствуете легкое раздражение. Как вдруг рассказ перестает казаться хаотичным, и из него постепенно вырастает живой образ гениального создателя Макондо. Возможно, даже более живой, чем в классических, систематизированных источниках.
Книга представляет собой расшифровку магнитофонных записей (так называемый жанр« «устной истории»), сделанных журналисткой Сильваной Патерностро во время бесед с людьми, которые знали Маркеса в разные периоды его жизни. Записи разделены на две части. Первая посвящена тому времени, когда мир еще не слышал о молодом выходце с колумбийского побережья. Во второй части, по словам автора биографии, перед нами предстает удостоенный наград прославленный писатель и знаменитость Гарсиа Маркес, пожимающий руки президентам и мультимиллионерам.
Патерностро беседует с братьями и сестрами писателя, близкими друзьями, коллегами, с его приятелями юности, некоторые из которых стали персонажами знаменитого романа — они появляются в качестве непревзойденных зубоскалов из« «Ла Куэвы». Каждое устное свидетельство — отблеск, отражение жизни Маркеса. Так, например, Марго Гарсиа Маркес вспоминает детские годы, проведенные с братом в доме бабушки и дедушки: «Дедушка так обожал Габито, что решил каждый месяц справлять его день рождения. Каждый месяц — праздник в его честь. Он приглашал своих друзей, и они поднимали бокалы за «месяц рождения» Габито».
Раннее детство Маркеса вообще предстает перед нами миром чудесных мифов и легенд — такая обстановка царила в доме его бабушки и дедушки. Так, один из друзей рассказывал, как маленький Габито искал в кувшине с водой эльфов — и свято верил в их существование. Возможно, такая свобода фантазии и помогла в будущем раскрыться его писательскому таланту.
Закончив школу, Маркес отправляется в университет изучать юриспруденцию, но бросает занятия и становится журналистом. Это время, по воспоминаниям его друзей, не было легким: денег всегда не хватало, а рукописи, над которыми работал начинающий писатель, не принимало ни одно издательство. В биографию вошла и знаменитая история с открыткой: Маркес оказался в Париже по заданию газеты, но остался без средств к существованию. Он получил насмешливую открытку от своих приятелей: «На открытке — пальмы, солнце вовсю сияет, и написано: «Ты, дурень, дрожишь там от холода, а мы здесь на солнышке нежимся. Давай, приезжай». А я сказал: «Вот сволочи, лучше б денег прислали!» Спустя короткое время курьер ему срочное письмо доставляет из Барранкильи, и там написано: «Поскольку ты такой тупоголовый, ты, видать, не сообразил, что открыточка — это сэндвич с начинкой из сотни долларов». Тогда Габо помчался вниз разыскивать выброшенную открытку в баках, среди гостиничного мусора — вообразите: кондомы, прочая гадость, а он во всем этом роется. Но все ж таки нашел, и внутри правда сто долларов лежали».
Очаровательных, смешных, безумных и даже трагичных историй в книге множество. Конечно, они вызывают не только интерес, но и толику сомнений: а можно ли доверять таким рассказам? Ведь каждый взгляд субъективен. Отражаясь в глазах других, мы преломляемся в них согласно законам собственной «оптики» смотрящего. Не имеем ли мы в результате дело с пересказом пересказа, отражением отражения?
Впрочем, несмотря на сомнения в достоверности некоторых устных свидетельств, книга подкупает своей живостью, непосредственностью, включенностью. При чтении возникает ощущение, будто ты лично беседуешь с людьми, знавшими Маркеса, будто они именно тебе рассказывают свои истории. Возникающие чувство сопричастности особенно сильно, когда читаешь воспоминания о неудачах и бедности, сопровождавших молодые годы писателя. Удивляет то, что мало кто верил в талант будущего нобелевского лауреата. Многие даже относились к нему пренебрежительно, называли «прихлебалой». Зато те, кто верил, делали это безоговорочно. Так, Маркес устраивался на работу в свою первую газету. Прочитав материал молодого журналиста и узнав, что у издания нет денег, чтобы платить еще одну зарплату, редактор, сразу распознав талант к сочинительству, заявил: «Тогда делите мою следующую двухнедельную зарплату на две части. Одну — ему, вторую — мне».
Не сомневалась в муже и Мерседес, чью поддержку Маркес ощущал всю жизнь. В течение года, пока писатель работал над созданием «Ста лет одиночества», она убеждала мясника отпускать им мясо в кредит. Когда рукопись была готова и для ее отправки пришлось продать практически последние вещи в доме, она произнесла свою знаменитую фразу, в которой ирония смешалась со смирением: «Теперь только не хватает, чтобы этот роман оказался дерьмом».
И он, конечно, таким не оказался. Ключевой момент биографии — создание «Ста лет одиночества» — будет интересен не только поклонникам творчества Маркеса, но и всем, кто пробует свои силы в писательстве. Упорство, воля и глубочайшая вера в свой замысел — вот три кита, на которых смогли раскрыться гениальные способности писателя. Сильное впечатление производят описания того момента, когда слава обрушилась на Маркеса после присуждения ему Нобелевской премии. Вчерашний «мальчишка с побережья» стал знаменитостью, с ним хотели завести дружбу самые влиятельные люди своего времени. С того момента Маркеса уже никогда не оставляли в покое. Странная ирония: успех «Ста лет одиночества» оказался платой за невозможность в этом самом одиночестве побыть хотя бы немного.
Чего, пожалуй, не хватает биографии, это чуть более подробных и систематизированных пояснений, касающихся истории Латинской Америки, на фоне которой происходит становление писателя. Краткие исторические справки включены в книгу, однако они кажутся недостаточными.
Ведь «Жизнь Габриэля Гарсиа Маркеса» — не что иное, как книга-свидетельство коллективной памяти. Безоценочный поток истинных и преувеличенных воспоминаний лишен анализа, размышлений, итогов и выводов. Автор оставляет их за пределами текста, даруя читателю право проделать эту работу самому.

Роман Дарины Стрельченко «Земли семи имён»
У выпускницы мастерской «Литература Young Adults» Creative Writing School вышел роман «Земли семи имён». Синопсис и часть текста создавалась во время работы мастерской, а теперь издательство «Эксмо» выпустило дебютный роман. Мы поговорили с автором об этой первой большой публикации, о сложностях, с которыми сталкивается начинающий писатель, а также предлагаем вам прочесть небольшой отрывок книги.
Расскажите, как вы начали писать, какие были первые опыты и публикации?
Первые опыты начались ещё в старшей школе: это была, во-первых, журналистика, а во-вторых, фанфики — истории, написанные по мотивам уже существующей вселенной, с использованием чужих героев.
Первые публикации появились гораздо позже — прошло четыре-пять лет, прежде чем я поняла, что хочу стать издающимся писателем, что это уже не просто хобби, но нечто гораздо большее. Всё началось с конкурсов, в рамках которых издательства отбирали рассказы для сборников. Так мои истории оказались в сборниках АСТ, Эксмо, Рипол-классик. Я думала, что это прямая и быстрая дорога к изданию, но прошло больше трёх лет, полных конкурсов, курсов, сомнений и поражений, прежде чем я подписала договор с Эксмо на свою первую книгу.
Как создавался роман, как появилась задумка и шёл сам процесс, с какими сложностями вы столкнулись?
«Земли семи имён» придумались и писались легко, во многом основываясь на окружающих впечатлениях: песни, арты, случайно услышанные фразы. Северолесье — мир, где приятно и здорово мне самой. В каком-то смысле писательство для меня — как следующий уровень чтения, когда ты создаёшь сюжет, идеальный для тебя-читателя.
Первая фраза (в итоге она открывает четвёртую часть «Земель», но хронологически появилась именно первой) — «За корягой пряталось существо» — навеяна лыжной прогулкой по парку. На лыжню вдруг выскочила собака, а ещё одна притаилась за поваленным стволом. Эта атмосфера — сумерки, заснеженный лес, далёкие огоньки, таинственность и тревожность — и стала отправной точкой «Земель».
Я писала повесть скорее для себя, чем для издания. Конечно, издаться хотелось, но это выглядело таким недостижимым, что я даже не задумывалась о публикации. Поэтому ни сроков, ни дедлайнов, ни каких-либо ещё требований во время письма не было. Только удовольствие от пребывания в мире, воплощавшем для меня любимые вещи: сказочность Средневековья, готику Блока, хтонь славянских сказок, тайны Нарнии и просторы и путешествия «Властелина колец».
Что касается сложностей — во время «свободного плавания» «Земель» их не было, разве что расстройство от того, что слишком мало обратной связи. Непростые вещи начались позже — во время редактуры перед изданием. Вот тогда пришлось собраться и сделать всё чётко и в сжатые сроки. Я проходила процесс подготовки книги к печати впервые, всё было внове — и от этого было весьма волнительно. Но самое сложное, думаю, происходит сейчас: тревога за судьбу книги, понимание, что ты сам должен приложить максимум усилий, чтобы довести её до читателя. И прикладывание этих усилий.
Что вам помогало в пути — занятия, работа с редактором, первые читатели?

Всё вместе. Писательство — занятие с накопительным эффектом. Ты копишь опыт, аудиторию, теорию, тексты, победы, проигрыши, инсайты. А потом всё это сходится в одной точке, и у тебя получается сделать что-то достойное. Или не получается — как повезёт. В процессе написания «Земель» я была как в вакууме — почти без отзывов, с единственным постоянным читателем в лице самой себя. А вот когда повесть начала готовиться к печати — тогда, конечно, появилась масса новых знаний, впечатлений и опыта. Помогла и работа с редактором — это была первая в моей жизни серьёзная редактура с вопросами и замечаниями от редакторов и корректоров, — и отзывы, количество которых после выхода книги совершенно не сравнить с тем, что было, когда я выкладывала фрагменты «Земель» в качестве самиздата.
Помогли, конечно, и разные теоретические курсы и статьи, особенно курс по Young Adult в CWS: на одном из занятий мы разбирали, что делать, когда книга только вышла, как вести себя с читателями, как реагировать на негатив. Сейчас многие вещи кажутся очевидными, но когда ты впервые стоишь на пороге большого мира с изданной книжкой — ты настолько растерян, что такое подспорье играет огромную роль и даёт громадную поддержку.
О чём ваша книга?
Если говорить в философском смысле — то, пожалуй, о том, что в каждом из нас очень много граней. Они могут спорить внутри нас, иметь свои желания, мечты и страхи. Порой ты разрываешься между ними, порой совершаешь ошибки по всем фронтам. Обо всём этом и есть «Земли семи имён». В книге нет рецепта, что делать в таких случаях. Но «Земли» — это иллюстрация того, насколько огромен может быть мир внутри нас. И это нормально.
Если говорить сюжетно, то «Земли» вот о чём. С лёгкой руки владыки воров Хедвика окунается в круговерть событий шумного Грозогорья. Пёстрые площади скрывают мрачные подворотни, а за внешним благополучием прячется нехватка магии во всех Семи Землях. Волей судьбы Хедвика оказывается в ответе за Северолесье и его магию.
Каково это — держать в руках свою книгу?
Мне кажется, я ждала этого так долго, что перегорела и в момент, когда впервые взяла «Земли» в руки, не почувствовала ничего. Понимание начало приходить чуть позже; даже сейчас, два месяца спустя, я не могу сказать точно, что же это такое. Трепет? Сбывшаяся мечта? Тревога? Запах типографской краски, глухой звук, с которым в первый раз открывается книга? Всё вместе и что-то ещё, какая-то магия, какой-то секрет, который заставляет продолжать работу — чтобы испытать это чувство снова и снова.
Что бы вы могли пожелать авторам, которые только находятся в начале пути к своей книге?
Ни за что не отчаиваться. Пытаться всюду, где только можно, добывать обратную связь, разборы, комментарии, критический взгляд на то, что вы пишете. Впитывать всё это и наращивать толстую кожу — так, чтобы негатив или неудачи не выбивали из колеи. И — если вы хотите издаваться — снова и снова штурмовать издательства.
А ещё — учиться писать синопсисы и сопроводительные письма. На этапе письма в издательство это не менее важно, чем сама рукопись. Раньше я не придавала этому значения — в очередной раз спасибо курсу по Young Adult, где мы разбирали и написание синопсисов, и сопроводительные письма. Кстати, в рамках одной из домашних работ я переписывала синопсис «Земель» — возможно, именно благодаря этому он заинтересовал редактора.
Ну и третье пожелание — очень важно обрастать своей аудиторией, своими читателями. Когда выйдет бумажная книга, это станет очень сильным подспорьем.
Александра Степанова, писательница, со-автор курса «Литература Young Adults» Creative Writing School:
«Дарина Стрельченко создала мир, который покажется вам смутно знакомым. Он вспоминается, как позабытая с детства сказка — цветами, запахами, звуками. Несмотря на самобытность устройства, этот мир архетипичен, а потому понятен. Отправляется в путь отважная Хедвика, чтобы спасти гибнущие земли, и ждут ее испытания и потери. Однако, в отличие от сказочных персонажей, герои «Земель семи имен» не делятся на хороших и плохих: все они человечны, и эта неоднозначность подкупает. Магия здесь — глобальная метафора этой самой человечности, неслучайно она передана через образ шара в груди. Мир, одновременно восточный и западный, утрачивает свою магию — именно с этим предстоит бороться Хедвике, которая выступает гражданином этого самого мира, представляет интересы каждого из них. Автор играет со стилями и сюжетными линиями так, что в какой-то момент начинает казаться, что они не сойдутся воедино — но они сходятся, и это внезапное понимание замысла сравнимо с собиранием мозаики: все вдруг складывается, но нужно перечитать еще раз с новым пониманием и убедиться, что так все и задумывалось с первых строк».
Земли семи имён. Отрывок
Берёшься за магию. Осторожнее вонзай иглу. Подожди до полуночи. Раскалится печь, выйдет месяц, высветлит шитьё. Берёшься за магию — осторожнее будь.
Отложив ситцы, Альга идёт к окну — вдохнуть воздуха, освежить исколотые ладони, отогнать дремоту. Свежая сила течёт по рукам, обливает плечи, что ночным дождём, холодит голову.
Убрала с лица рыжие кудри, умылась. Время продолжать шитьё-ворожбу.
Птицы под потолком глядят на хозяйку чернильными глазами. Альга, склонившись над полотном, шьёт.
***
Поутру солнце заливает золотом деревню, поле, опушку. Пальцы жжёт, во рту пересохло, а в голове звон, пустота, времени карусель…
Силы ушло на работу немеряно, давно таких сложных заказов Альга не выполняла. Поднялась с постели, поправила платье. Тяжело дался первый шаг, второй легче, а там и до чаши с родниковой водой добралась. Первый глоток в горле горячей ягодой встал, второй обжёг, да освежил, а там пила, покуда ясность глазам не вернулась.
Шила прежде Альга юность и зрелость, пришивала храбрость и радость, тоску ушивала и боль, по душе вышивала тонкой нитью. Да только никогда не бралась с самой сердцевины шитьё устраивать.
***
Пока утро, пока земля ещё жаром не напиталась — пора в лес. К полудню в корзину её легли стебли можжевельника и мандрагоры, сплелись рябина и первоцвет. Довольная возвращалась Альга. Корзину с травами оставила у крыльца, в тени, к ночи отнесла в клеть. Поутру вошла — а там лесом пахнет тонко, терпко, и трав видимо-невидимо.
— Пожалуй, и хватит этого.
Бросила серебряную иглу в дурманящее разнотравье и отправилась на деревенскую ярмарку: то, чем тело полнить, только лес дать может, а вот нитей прочных на лесных тропах не сыскать.
***
Деревню привычной тропой Альга миновала быстро. По правую руку крепкие избушки, по левую — дома да хибары цыганским разнобоем. А у озера, на просторе, под сосновым шатром — дикая ярмарка. Каждый год по скорому осеннему солнцу разбрасывает она свои огни, ленты да лари, распахивает сундуки, пестрит, кружится. А как уедет — деревня словно одурманенная остаётся посреди осени.
Ни швей, ни портних, равных Альге, нет в окрестностях. А значит, и инструмент подходящий сыскать негде, кроме как самой вдаль ехать или у проезжих глядеть. Альга за деревней никогда не бывала, глубже леса наяву не заходила, а потому и иглы свои, нити да ткани только на ярмарке и брала. А нынче нити требуются, каких у неё никогда не бывало. Крепкие, да нежные, толстые, да самые ласковые: жизнь сшить — не на живульку сметать.
***
Сосны кладут на шатры густую тень, роняют хвою. Тихо горят за стволами первые деревенские огни, туман уже грозится от реки сумерками, заморозками. А ярмарка притягивает сахарным теплом, янтарным светом, звоном, золотом.
Альга бродит между ярких палаток, ищет нужную нить. Вот пряничный ряд — глядятся липкими боками круглые пряники, инжирные творожники. Вот прилавок шоколада: розовый, белый, чёрный, какой пожелаешь. Альга покупает чёрную плитку, убирает поглубже. Терпкий горький дух, словно от лесной травы, от шоколада идёт. Если бы не плавился так легко в руках, сошёл бы и за сердце её работы будущей.
До сих пор она не решила, что для сердца подобрать. Воронье яйцо? Ядовитый цветок? Орех? Яблоко?.. Пока думала, пока нитки выглядывала, не заметила, как соседа локтем толкнула. Подняла глаза — высокий, русоволосый, поперёк щеки шрам и мелкие родинки у висков, как мушки. Сама не зная, отчего, улыбнулась ему, а он в ответ кивнул, словно знакомой. Уходя, решила князя своего будущего похожим на этого молодца сделать. Князя. Ещё и не сшила, а уже князем в мыслях нарекла.
Наконец добралась Альга до разносчика ниток. Прилавок его скромен — всего-то один поднос с десятком катушек. Но кто знает, куда глядеть, тот и среди скромности жемчужину отыщет. Отыскала нужное и Альга, заплатила и через пустую, тихую деревню вернулась домой. Ночь переждать — и за дело. К первому снегу важно управиться. Не пережить ещё одной зимы в одиночку. Нужен страж. Нужен князь.
***
Идут ночи, тянутся дни, пот течёт по спине. Шьёт черноглазая Альга. Всякий раз, стоит за шитьё взяться, стук рассыпается по избе — дробный, неторопливой. Только отложишь иглу — затихнет. Альга и гадает, что это, и поверить боится.
На исходе месяца докончила исподнее, весь княжеский наряд сама приготовила. Но это — лишь пальцы раздразнить, душу распалить. Скоро месяц на поклон луне пойдёт, а там, по осенним звёздам, и главному шитью придёт начало. Вот уж где душу понадобится до самой глубины вынуть, да кроху отнять, отдать князю своему неживому.
Трепещет сердце перепёлкой — работа неведомая, никогда ею не деланная, — страхи вперёд мыслей бегут — а пальцы привычные делают своё дело, рукам мастерицы страхи не помеха.
Наконец разгладила Альга на чисто выметенном полу тонкий лён. Устелила кедровыми, кленовыми листьями. Тонкий аромат туманом над полом растёкся. Легли поверх лесной орех и осина, шелковица и бузина. За ним пришёл черёд трав: валериана и гербера, горечавка да имбирь, калина, люцерна да марь и мята.
И смелость, и силу вложила своему князю, и страсть, и сладкий сон, и гостеприимный нрав. Теперь главному черёд. Вынула из комода в углу литую пуговицу, что на ярмарке отыскала. Как открыла ящик, стук нестерпимым, громким сделался. А пуговица тяжёлая, латунь холодная…
Прошёл по комнате ветер, поднял сухие травы, бросил колкие стебли в лицо Альге. Обожгло глаза, непрошеная слеза покатилась по щеке, в разнотравье затерялась, а пуговица сама из раскрытой ладони вслед за слезой выскользнула.
Скрипнули ставни, грохнули, словно ветер со всей силы ударил. И вдруг — тишь-тишина… К ночи сшила Альга тонкий лён, скрыла от глаз листья и стебли, окунула иглу в дурман да и сделала последний шов по-чёрному. Под утро взялась за белые швы. Споро, накрепко шила, паутинной нитью, лесной лунной пряжей. К полудню почувствовала, как дрожит под пальцами лён, бьётся что-то внутри, и стебли вытянулись, окрепли, и, словно на рёбрах кожа, натянулось на них полотно…
Когда вздрогнуло, глухо перестукнуло, мерно забилось сердце, Альга отступила от своего князя, распростёртого на полу. Приложила пальцы к губам, ладони к горящим щекам прижала. Тук-тук. На всю избу отдавалось, всю голову заполнило… Тук-тук. Тку-тку. Тку тебя, судьбу твою тку. Или ты — мою.
Лён выбеленный заиграл румянцем, словно изнутри тяжестью, теплом, жизнью налился. Так оно и было. Так и было оно. Зашевелился её князь, сжались пальцы, дрогнули веки, а Альга выбежала на крыльцо, опустилась на ступени спиной к двери; солнце горело на щеках, жгло руки, по плечам сыпало тёплым золотом. А там, за деревянной стеной, пробуждался её страж, её князь, ею самой наречённый. Видела его, как наяву, хоть бы и сотня стен, сотня вёрст между ними лежала.
Грянул гром среди ясного неба, закружились над избой тучи, заплакали горькой ледяной водой. Деревенские попрятались, ставни позакрывали, русалки на реке от чёрной запруды прочь поплыли. Альга, дрожа, в избу поднялась, к князю своему, к делу рук своих. Впервые она человека вышила, мастерством своим оживила. Так взгляни, швея, на него! Иди!
Вздохнула, толкнула дверь в горницу твёрдой рукой.
— Здравствуй, княже.
А он стоит в осеннем зареве, в солнечном костре, позади за окном сосны гнутся и ветер горит листьями, жар-птицы кричат в кронах, и всё золото сказок встаёт за его спиной — узорчатое, витражное, извилистое, что тропа, страшное, что полночь.

Аяд
1
Лето в пустыне. В это время козы не дают молока, а растительности мало. Наше стадо съело весь кустарник и ободрало верхушки всех деревьев в округе.
Я лежал на раскалённом песке, разглядывая ящерицу, которая уселась в паре метров от меня. Та спиралькой крутила хвост с черным кончиком, пытаясь сойти за единственную травинку.
Тут меня отвлекла сестра, Бахтия.
— Аяд, папа зовёт.
— Не видишь что ли? Занят я, — не стал смотреть в её сторону, только нахмурился. Ящерица, заметив пёструю джеллабу сестры, недовольно раскрыла пурпурную пасть, растопырила ушки и зашипела. Меня же она совсем не боялась. — Ну вот, напугала.
— Кого напугала? Ну, вставай, дядя Зераб куда-то собрался. Папа нас всех собирает. Пошли уже, — сестра недовольно засопела.
Я притворился, что не слышу её. Меньше всего на свете мне хотелось внимать занудству отца. Сестра постояла немного, недовольно вздохнула и прыгнула. Последнее, что я видел, уносящуюся прочь ящерицу и ноги сестры, обёрнутые в пёстрые тряпки. И песок, прыснувший мне в лицо. Я вскрикнул, перекатился на спину, подскочил и стал тереть глаза, надеясь, что в них ничего не попало.
Пока я выковыривал песок, тонкие пальцы сестры схватили меня за плечо, и под неодобрительное блеяние коз, потащили к родительскому шатру.
2
К моменту, как я смог видеть, все мы — братья и сестры, жена дяди и её дети — толпились внутри шатра. Я скинул бабуши и попытался пробраться к краю ковра возле палки-опоры, чтобы меня не заметили. Отец сидел на шерстяном ковре в мужской половине, насупившись.
— Далила сломана, — так отец нежно называл машину, которую собирал по частям много лет.
Затем объявил о том, как дядя отправился пешком до соседней стоянки, чтобы кто-то приехал и починил машину. И как мы не можем переехать на новую стоянку. Особенно сейчас.
Мать, с большим животом, сидела и закидывала в помятую, с белёсым налётом внутри, пластиковую бутылку камушки лгарса. Рядом на столике стоял натёртый до блеска, в мелких царапинах латунный чайник. Я облизнулся, наблюдая, как мать наливает из него воду в бутылку и засыпает сахар. По вкусу получившийся зрик был как свежее молоко, только лучше. Тут меня пнул кто-то из мелких.
— Аяд! — я и не понял, что ко мне обращался отец, — … твои старшие братья заняты со мной, так что тебе нужно самому пасти коз. Наях говорил, что на востоке должна быть трава, так что поведёшь стадо туда.
Я поймал на себе несколько беспокойных взглядов от старших.
3
Конечно, все мальчишки пасли коз, но делали мы это вместе со старшими братьями. Завтра же я сам буду старшим и в одного поведу стадо. Да ещё и уйду так далеко от стана. Младшие мальчишки завидовали — я же огорчился ответственности. Как братья помогли бы отцу с ремонтом машины, я не представлял. Но решения отца никто не смел оспорить.
Наставления Наяха, старшего брата, я слушал вполуха. Я часто ходил с братьями, и представление, как пасти коз, было. Зрика бы.
Мне прилетел щелбан. Я не сразу понял, что думал вслух.
Наях ругался, что с таким вниманием я растеряю всех коз, и мы помрём с голода. Я наспех пересказал ему, что делать и куда идти. Лишь бы отвязался от меня. Мне показалось, что это его успокоило. По крайней мере, он буркнул удовлетворённо и пошёл к родителям.
Вечером жена Зераба приготовила кускус и разложила его на две большие и одну маленькую, для матери, тарелки, воткнув ложки кругом. Все обсуждали, куда перевезти стан, предлагали имена для будущего малыша. Бахтия ударила брата Наяха по руке, когда тот захотел съесть лишнего. Я молча сидел в сторонке и облизывал ложку.
— Нашему Аяду только есть да ничего не делать, — кажется, это был голос тёти.
Все засмеялись, только отец посмотрел сначала на меня, затем на неё и, вздохнув, сказал:
— Аяд. Садись рядом. А ты принеси нам воды и сделай чай.
Тётя пристыженно опустила глаза в пол и поспешила выскочить из шатра. Под взглядами семьи я поднялся и первый раз сел рядом с отцом. Пришлось взять ложку обеими руками, чтобы унять дрожь.
После ужина мать обняла нас всех и поцеловала. Немного погодя мы пошли спать.
4
Утром мы позавтракали горячим чаем и свежими манными лепёшками — кесра. Отходить от очага в утренний холод не хотелось. Но если выйти позже, то я не вернулся бы домой до заката. Ночевать невесть где было опасно. Я взял припрятанную палку с сучком-загогулиной и отправился к загону с козами.
Там уже крутилась Бахтия, проверяя козлят. Её цветная джеллаба мелькала за неприкрытыми тканью секциями металлической сетки, натянутой между палок. Наях поджидал меня, насвистывая.
Заметив нас, Бахтия выпрямилась и поправила хиджаб, который пытался стащить с неё козлёнок. Она нахмурилась, отчего лицо стало очень серьёзным.
— Эй, Аяд, у тебя тюрбан сбился, дай поправлю, — Бахтия подозвала меня к загону.
— Ничего он не сбился, — завязывать тюрбан я умел, однако сестра посмотрела на меня и недовольно хлопнула по коленям, чем рассмешила брата.
— Да повернись ты. Спиной! — она высунулась из загона.
Вдруг я почувствовал, как в карман в капюшоне джеллабы опустился плотный свёрток.
— Только сразу не ешь, — прошептала Бахтия ну ухо. Затем громко добавила. — Тебя точно в детстве джины не подменили?
Я только благодарно улыбнулся ей в ответ.
Мы с братом открыли загон с козами и я, покрикивая и размахивая хворостиной, погнал их на восток.
5
Наш стан застрял на одном месте надолго. Можно было бы перенести все на руках, но не сейчас. Из-за упрямости отца и его любви к машине у нас не было даже ослов. Да и мама сейчас не справилась бы с переходом.
Тошнотно.
Я шёл, стараясь не забывать покрикивать на коз, когда те пытались разбрестись. Ночной холод уступал дневной жаре. Небо из утреннего синего становилось полуденным сизым.
Следить за козами в одиночку оказалось труднее, чем казалось, даже с таким послушным стадом. Козлята всё норовили убежать, так было им все интересно. От постоянных скачек вокруг коз ноги стали заплетаться. Несколько раз мне попадались змеи, но их я аккуратно оттаскивал палкой с сучком-загогулиной с пути. Главное было бояться и не бить, не хватать змей, тогда они не разозлятся.
Мягкий, сыпучий песок под ногами. В нем ничего не растёт. Где же Наях видел зелень?
Я уже тяжело дышал, да и животные были недовольны. Стоило ли их гонять так каждый день?
Местность пошла под откос и то тут, то там стали встречаться странные нагромождения камней и куски ржавого железа. Ноги стали наступать на твёрдую почву под слоем песка.
Наконец на фоне появилось тёмное пятно. В нос пахнуло железом и зеленью. Козы оживились. В ноги сразу прилило силы.
6
Впервые я зашёл так далеко. Кустарник похрустывал на ветру, сухая поросль сливалась цветом с потрескавшейся землёй, напоминавшей огромную змеиную кожу.
Взрослые козы уже заскочили на нижние ветки деревьев, чтобы добраться до самых сочных листочков. Молодняк, которому тяжко забираться так высоко, бродил понизу и призывно блеял.
Я же стоял на онемевших ногах и не шевелился.
Посреди пустыни стояло нечто, чему я пытался подобрать название, перебирая слова в голове. Наконец, мысли отдали нужное: «Корабль». Не меньше, чем в три моих роста. Кажется, кто-то говорил, что на месте пустыни было море. Море. Много воды. Сколько это?
Козы умолкли. Дождь начался внезапно. Ему, дождю, было просто неоткуда взяться в это время года. Но он случился. Не такой, каким бывает дождь обычно. Вместо привычной плёнки серых облаков — лазурит, с зеленоватой прожилкой голубой яшмы на горизонте.
Капли были холодными и крупными. Я слышал стук сотен пальцев. Запах металла стал сильнее, теперь к нему примешался запах соли. Откуда соли?
Холодно и сыро. Мои ноги намокли. Воды было по щиколотку. Сель в пустыне — то, во что не хочешь попасть. Поток из воды и песка несётся грязной серой массой и забирает всё с собой.
Козы!
Я заметался вокруг, пытаясь согнать их в стадо. Постепенно козы снова заблеяли и стали собираться вместе. Пришлось потрясти дерево, чтобы самые капризные спрыгнули вниз, в воду. Иначе бы их стряхнул паводок.
Я стал осматриваться, чтобы найти возвышение. Ничего подходящего. К горлу стала подступать тошнота, шум в ушах перекрыл стук дождя о корабль. Корабль. Я заметил тёмное пятно на его боку. Большая дыра! Словно кто-то выел его кусок.
Некуда деться, кроме как бежать в пробоину в боку корабля. Я погнал коз внутрь.
Мы карабкались по иссохшим, в кровавых пятнах ржавчины, внутренностям наверх. Сталь скрипела под ногами, стучала под копытами — это походило на здоровое бурчание в животе козы, говорившее, что с животиной все в порядке. Наши тела придавали кораблю жизни, снуя по коридорам. Наконец, мне показалось, что мы забрались достаточно высоко. Я сел на пол коридора. Меня вырвало.
Тяжесть дыхания, блеяние коз, бесчисленные удары дождя.
Горечь желчи, соль воздуха. Холод стены и моя мокрая одежда.
Чувства вернулись ко мне.
Пока все козы сновали по кораблю, я поднялся на открытый верх и ловил кожей толстые холодные капли, которые потянули промокшую одежду внизу, будто хотели, чтобы она стекала с меня.
Я размотал тюрбан и попытался его отжать, но тот выскользнул из пальцев на палубу, потёк вслед за водой к борту. Осторожно выглянув за который, я увидел бушующее полотно серой воды. Резкие порывы ветра поднимали волны. Черные тучи перебрасывались молниями и ревели громом.
Я приметил приоткрытые двери чего-то похожего на комнату с окнами и зашёл внутрь. Металлический пол ещё не успел остыть и приятно грел ноги. Я хотел сесть, но просто упал на него. Так и лежал, бессильно раскинув руки, и наблюдал через стекла росчерки молний. И совсем не заметил, как уснул.
7
Что-то щекотало нос. Ноги придавило. Когда я попытался пошевелиться, прозвучало недовольное блеяние. Я лежал посреди стада на металлическом полу. Сырая одежда липла к телу, но была тёплая. Козы спасли меня от ночного холода. Сначала я запаниковал. В голове замелькали образы плачущих родителей, братьев и сестёр. Затем я подскочил и стал считать коз. Не хватало пятерых.
Выскочил из застеклённого помещения, поскользнулся и упал. Солнце уже взошло, и небо было до боли в глазах сизым. Но я не ударился головой, под затылком что-то зашуршало. Я выудил из кармана в капюшоне джаллады помятый пластиковый пакет, в который Бахтия завернула кесру. Я совсем забыл про него.
Откуда-то снизу донеслось блеяние. Когда я подошёл к борту, то так и застыл. Сколько воды — море?
Пустыня переливалась лазурью. До самого горизонта.
Кораллами над ней цвели пустынные цветы. Гораздо раньше положенного.
Лица касался напитанный влагой и мёдом цветов ветер. В его потоках кружили птицы, не зная куда сесть.
Пропавшая пятёрка коз стояла внизу, возле куста тамариска, поедая розовые соцветия, взбивая копытами со дна облачка песка.
Пожелав всех благ сестре, я принялся жевать раздавленную лепёшку. Остальной мой обед, похоже, погиб вчера.
8
Я приехал в новый стан на Далиле вечером, отец широко улыбался, довольный тем, что его детище снова заработало. Дядя Зераб вернулся вчера с ещё двумя машинами и механиком. Из-за грозы все собрались и срочно перебрались на новое место. Вся семья переживала за меня и за стадо. Даже не знаю, за что больше. Без меня они смогут как-то прожить, уж точно. Больше всех плакала Бахтия. Я подарил ей цветущую ветвь тамариска. Мама же была слишком изнеможена и не знала о моей пропаже, ей соврали, что меня приютили в соседнем стане. Она кормила новорождённого. Его назвали Мазин — «дождевые облака».
Через неделю я рассказал отцу, что хочу стать моряком. Через три недели я отправился из стана.
9
Я лежал на раскалённом песке и разглядывал ящерицу, пока меня не окликнула женщина.
— Эй, Аяд. Что делаешь?
— Лежу. Чего случилось? — ответил я на родном тамашеке, на котором давно не говорил. Phrynocephalus arabicus тем временем недовольно раскрыла пурпурную пасть и зашипела. Увидела что-то страшное. Я повернулся к женщине. Бахтия изменилась, но в её глазах читалась та же тревога, с которой она провожала меня много лет назад. Однако сестра быстро нахмурила брови.
— Как так вышло, что ты стал герп… Герепе… — Бахтия перехватила дочку поудобнее и насупилась ещё сильнее. Совсем как отец. Теперь я понимаю, что из всех детей она больше походила на него.
— Герпетологом.
— Да. Ты тогда отцу все уши прожужжал морем. Он в жизни не слышал, чтобы ты так много говорил.
— Пойдём, расскажу, — я нехотя поднялся с песка и махнул рукой своим студентам, приглашая к шатру.

Белая Полоса
Дорога на кладбище была недолгой. Будний день всё-таки, но потолкаться пришлось.
Наташа отнеслась к этому медитативно, да и на улице было хоть и ветрено, но приятно.
Сашу похоронили неделю назад.
О его смерти она узнала случайно. Давно не слышала и решила сначала проведать в фейсбуке, прежде чем звонить.
Звонить оказалось некуда.
Какая-то нелепая смерть. За границей… Сердце. И пятидесяти ведь не было. Как?
Несмотря на дружбу в двадцать лет, она была личная, и общих знакомых было мало. Пришлось пошарить по записной книжке, прежде чем выяснились детали случившегося и похорон.
Влад, его близнец, разговаривать не стал. Родителей она не знала.
Только его бывшая, Света, скорбно сглатывая, порыдала в трубку, рассказав, что никто ничего толком не видел и не знает. Криминала не нашли, зато был адский гемор его кремировать и перевезти. Разрешения-оформления и бесконечная волокита.
Они с Владиком ездили его забирать. Небольшую урну, которая стояла дома, пока заканчивали процесс.
— Вот и всё, что осталось от человека, — мрачно подытожила она.
Много народу звать не стали. Положили его в сумку и поехали на старое кладбище, где был семейный участок.
Потом Светлана в красках описала его последний путь: дождливый день, скромную цепочку провожающих, брата с сумкой впереди, маленькую ямку, утром выкопанную могильщиком, страшную табличку и белые цветы, сложенные рядом.
А еще по какой-то случайности место и участок могилы совпадали с Сашиным днем рождения: 15 и 1. Получилось, что 15-е января сделало такой крутой круг.
Наташе всё равно не верилось, и она хотела увидеть это своими глазами.
Могилу нашла быстро. Пробравшись через лабиринт дорожек и оград, оказалась перед свежим вскопом, укрытым увядшими цветами. Из них торчала некрасивая палка с крестом.
Кладбище было пусто, но на соседнем участке оказался рабочий. Южный парень с золотыми зубами красил ограду. Невнятно поздоровался и, поинтересовавшись, к кому она пришла («Жених?»), деликатно оставил одну. Она открыла калитку.
Внизу была маленькая лавочка. Наташа опустилась на неё, не сводя глаз с имени.
— Шура, Шура… Как же так? — прошептала она почти про себя и протянула руку положить букет.
Долго сидела, вспоминая историю их знакомства, какие-то вспышки встреч и разговоров.
«Вот и всё…» — мысленно развела она руками. Ей мало кого приходилось хоронить, тем более из близких, а потому момент был редкий. Интуитивно хотелось осознанности и как-то ощутить главное.
Он был старше на семь лет, сокурсник её брата, но через годы основная колея дружбы пролегла к ней. Санёк тусил по молодости и иногда брал её с собой, но отношения были исключительно платоническими — как-никак «сестра друга». Да и она никогда не мыслила себя достойной на фоне тех модельных красоток, которые всегда крутились вокруг него.
Однажды, лет пять назад он подвис у неё, заехав ночью «на посошок». И остался.
Случившееся впечатлило обоих, но дружба дороже, и они не стали ее ломать, вместо этого иногда просто с удовольствием проводя время вместе. Физическое общение прекрасно дополнило их связь, и что-либо плотнее было бы лишним.
Саша был умный, высокий и эффектный. К тому же, отличный любовник. Тоскливей всего было именно из-за этого. Вспомнились его большие руки и кожа. Голубые глаза с белёсыми ресницами. Теперь всё это лежало в метре от неё, сгоревшее и холодное.
Наташа вдруг поняла, что больше всего из Светиного рассказа её тронуло, как его несли в сумке. Она бы все равно не увидела его на похоронах, но ей было досадно не проводить его и не почувствовать так же, как это удалось другим.
Она огляделась. Вокруг никого не было, и взгляд скользнул обратно вниз. Рядом валялась маленькая садовая лопатка. Южанин оставил свой инструмент.
Наташа взяла ее, вырвала из земли табличку, отложила цветы в сторону и стала копать. Грунт был свежий, поэтому нашла, что хотела, уже через несколько минут: внизу мелькнул кусок капсулы защитного цвета. Наташа бросила лопатку сзади, подняла зеленое яйцо в руки и отряхнула.
-Ну привет, — тихо сказала она. Потом закрыла глаза, и внутри нее качнулось море.
Ей нравилось щупать энергию у предметов силы: икон, святынь и всяких странных вещей, как бы проверяя их на правду. Казалось, она подключается к вибрациям и впитывает их силу, если она есть. А тут в ладонях оказался её друг. Она прислушалась.
— Девушка! — вдруг окликнули ее издалека. — Эй!
Наташа дёрнулась, в глаза ударил свет. Она шагнула назад, чтобы сохранить равновесие, но нога наступила на черенок лопаты и поехала. Руки полетели в одну сторону, тело в другую, и она больно ударилась об ограду спиной. Урна вылетела из рук, щелкнула о плитку и раскололась надвое. Оттуда высыпалось темно-серое вещество.
— Девушка, Вам помочь? — вновь послышался голос. — Где тут памятник героям войны, не знаете? Дали ориентир своих найти, и никак не можем. Всё обошли.
— Нет, не знаю, простите, — Наташа с ужасом глядела на разбитый контейнер. Часть серого уже сдуло ей на ноги. Рядом села птица и стала что-то клевать.
— Кыш! Кыш!! — завопила она, замахала на неё руками, но от этого пепел стало разносить еще больше. — Господи, что я наделала?
Она сгребла остатки Саши и стала собирать их обратно в бОльшую половинку урны. Из сумки торчал пакет из-под цветов. Она накрыла им отверстие и рухнула на лавку, не понимая, что делать дальше.
Вокруг было так же пустынно, люди прошли, но уже смеркалось. Наташа оглядела себя. На одежде был пепел и грязь, на руках тоже. Она поставила урну на землю и стала отряхиваться от кладбищенской пыли, нервно, почти в судорогах.
Но взгляд опять упал на Сашу.
— Прости меня, дружочек! Я просто хотела попрощаться! — заскулила она и опять взяла его на руки.
Посидела минутку и запустила руку внутрь. Там было шершаво и пористо, как в песке. Опять закрыла глаза. Пошевелила в глубине пальцами. Вытащила и провела ими по губам и лицу. Потом лизнула кончик указательного, а следом и всю ладонь. На язык попало что-то твердое. Она сплюнула от неожиданности и зарыдала. Капая слезами и кое-как придерживая руками содержимое, поставила урну обратно в ямку, прикрыла другой половинкой и вернула на место землю с украшениями вместе с той уродливой палкой.
— Спи спокойно, люблю тебя, — она бросила последний взгляд, что всё выглядит, как прежде, и, стукнув калиткой, пошла прочь.
Добравшись до города, зашла в винный.
— Не мой день сегодня, надо, — голосом вдруг сказала Наташа на кассе, поймав брезгливый взгляд продавщицы на своих ногтях.
В лифте из зеркала на нее смотрела пыльная растрепанная женщина. Только не в дачной огородной грязи, а в Шуре.
Она повернулась боком.
— Чёрт… Как же…
На спине отпечаталась та самая соседская ограда. Наискосок шла кривая белая полоса.
На память о нём. Или от него.

Венецианская рапсодия
Мария стояла около кружевного мостика, коромыслом перекинутого через узкий темный канал.
Да, как раз здесь они сидели тогда, уставшие от многочасового хождения по заколдованным улицам и набережным этого странного города. Ночь шла на убыль, город уже затих, и слова, проговариваемые почти шёпотом, эхом отражались от пятнистых от влаги стен, окруживших крохотную площадь. Это был просто небольшой передых, привал перед следующей попыткой найти, наконец, отель, в котором Мария остановилась накануне. Накануне такого важного для неё события, первого её биеннале, на которое она, мечтающая о признании и славе, возлагала большие надежды. Мария приехала сюда не просто гостем, а как сотрудник пусть маленькой, но уже приглашенной сюда галереи, и поэтому она испытывала гордость и восторг.
Жанлука не спеша шел по многолюдной набережной, с удовольствием вбирая в себя эти знакомые вибрации весенней Венеции, эту разноязыкую речь, аристократический аромат кофе и резкие запахи уличных жаровен, звуки струнного оркестрика, доносящиеся с площади Сан-Марко. Вечер был довольно жаркий, но купленный во время последней поездки в ЛА светлый жакет из легчайшей крученой шерсти был очень кстати. Он чувствовал легкое сожаление, что завтра утром придется уехать. Сегодня неожиданный звонок врача нарушил его планы, но, может, он ещё успеет сюда вернуться?..
Жанлуке всегда казалось, что эти разноцветные, подёрнутые влажным тленом палаццо, изящные зефирные церкви, вычурные золотые фигуры на лебединых носах гондол были специально кем-то созданы много веков назад как декорации к многочисленным праздникам, карнавалам и светским собраниям, собирающим здесь любопытствующую публику круглый год. Вот и сейчас он с удовольствием влился в возбужденную предстоящим открытием престижной выставки толпу. Сияющие улыбками дамы, наряженные в «откутюры», их белозубые загорелые спутники в летящих шелковых шарфах, уличные артисты, вовлеченные современными творцами в странные перформансы, стайки оживленных молодых мужчин в рубашках самых толерантных цветов, с мягкими движениями слишком ухоженных рук, говорящих об их обладателях чуть больше, чем следует…
Он почти сразу заметил эту девушку. Одетая в простое белое платье, она выделялась на общем пестром фоне. Удивительно, на ней не было ни одного бриллианта. Единственным украшением была перламутровая камея на ремешке, обвивающим её тонкое смуглое запястье. Простой ручкой со смешным колпачком в виде Микки Мауса девушка что-то записывала в красный кожаный неожиданно дорогой блокнот с золотым тиснением незнакомых для Жанлуки букв «МГУ». Он видел, как она, немного волнуясь, постоянно заправляет прядь темных длинных волос за ухо, и это казалось очень трогательным и естественным. Кто-то окликнул её из толпы молодых людей: «Мария!». Жанлука тоже заметил знакомых ему со времен его антикварной деятельности аукционистов, и под предлогом приветствия их тоже присоединился к стоящему у входа обществу. Жанлука пожимал руки старым и новым знакомым, едва улавливая произносимые ими имена, и наконец повернулся к девушке. Он с любопытством принял взгляд её светло-карих глаз, немного рассеянный, как бы отсутствующий от волнения. Но оттого, что он задержал её ладонь чуть дольше, чем это обычно делают, знакомясь, она наконец внимательно посмотрела на него. И он второй раз услышал её имя. Мария. «Р» она выговаривала очень мягко, без грассирования, обычно так звучат итальянцы. Или русские…
В этот вечер они часто оказывались рядом, сталкиваясь около таинственных инсталляций, одновременно беря с подносов бокалы с шампанским, присев рядом за столиком в саду под украшенной светящимися гирляндами пинией. Мария украдкой рассматривала своего неожиданного спутника. Какой необычный цвет глаз! Мария слышала, что зеленые глаза реже всего встречаются в природе. А тут не просто зеленые, даже слово подобрать трудно, кажется, о таком говорят «цвет ментола»… Темные коротко-подстриженные волосы с яркой сединой напомнили ей отца. Мама называла это «соль с перцем»… Во время завершающего праздник фейерверка они тоже стояли рядом, и Мария с радостью приняла предложение Жанлуки проводить её, тем более что совсем не запомнила дорогу, которой она спешила к открытию. Она достала из сумки визитку отеля. Название улицы, на которой тот располагался, ничего не сказало Жанлуке, он плохо знал ту дальнюю часть острова. Но Венеция — небольшой город, вряд ли он заблудится там, где когда-то прожил несколько лет.
Разговор завязался сразу. Хотя вряд ли это можно было назвать разговором! Как он умел слушать! Мария, сама того не ожидая, рассказала ему обо всем, что вдруг сейчас нахлынуло. О том, что в Москве сейчас холодно, и дожди, и поэтому бабушка не сможет выйти из дома, и опять будет скучать у окна… О младшем брате, который уже заканчивает школу, а кроме как о своих любовных приключениях, ни о чем думать не хочет! Об отце, с которым так и не сложились отношения, когда они расстались с мамой. Как он был нужен Марии! Но его редкие дежурные звонки «Как дела? Как в школе?» сразу гасили все её желания поговорить с ним по душам… И, конечно, про её мечты создать самостоятельно настоящую большую выставку. Если бы он знал, сколько разных проектов лежит у неё в столе в московской квартире! И может, у неё когда-то будет своя галерея… Мария говорила, и Жанлука с улыбкой узнавал такую же искренность и непоследовательность своей уже прожитой молодости.
Уже третий час они кружили по городу, искали редкие уличные указатели, почти все ведущие к знаменитому Риальто, упирались в возникающие из темноты каналы, искали мосты через них, пытаясь не сбиться с выбранного направления, но все равно сбивались снова и снова. Их телефоны давно сели, и они чувствовали себя попавшими на никем не обитаемый остров. Мария так устала, что решительно сняла свои узконосые, нестерпимо жмущие ей туфли на высоких каблуках и зашагала босиком по восхитительных прохладным камням. Надо было раньше прекратить эту пытку обувной красотой, знакомую всем девушкам мира! Она была готова выбросить их в воду с ближайшего моста, и Жанлука, смеясь, забрал у неё из рук ненавистные лодочки.
А на рассвете они набрели на неожиданно рано открывшийся магазин-пекарню, им разрешили позвонить, и портье, взявший трубку телефона из визитки, объяснил им дорогу к отелю. Отель оказался почти за углом. И уже увидев его издалека, Мария облегченно повернулась к Жанлуке: «Ну вот и …» Она хотела сказать: «Ну вот и дошли», но это означало бы «Ну вот и всё…» Почему всё? Все расстояния сейчас так сократились, и столько есть возможностей для связи и встреч! И скорее всего он решит все свои дела, из-за которых ему сегодня надо уехать, и через пару дней вернётся сюда опять!
Мария вырвала лист бумаги и написала на нем десять цифр своего номера. Портье уже ожидал заблудившуюся гостью на пороге. Он забрал туфли из рук её спутника, и тяжелая входная дверь разрезала пространство на «до» и «после».
Вернувшись в Россию, Мария нырнула в московское лето с головой. Встречи, работа, дела… Время не останавливающимся вихрем тянуло её вперед. Но иногда легким уколом появлялось странное чувство, что вот опять что-то не случилось, чего-то не произошло. Однажды возникла мысль, что она неправильно написала ему телефон! Вдруг ошиблась в одной цифре? Со временем ощущение неслучайности произошедшей встречи приходило перед сном теперь реже и реже. Поэтому вдруг высветившемуся на экране телефона номеру с кодом 39 Мария сначала удивилась, замерла, но после шестого звонка все-таки взяла трубку. И как будто жаром окатило — такой знакомый голос! Только услышанное имя почему-то другое, Андреа. Может, кто-то ошибся номером? Но нет! Андреа, это сын Жанлуки, и он в Москве!
Они встретились в уличном кафе, поселившемся в маленьком дворике Тургеневской библиотеки. Мария сразу поняла, что этот сидящий за столиком высокий парень в бежевом льняном пиджаке явно не местного пошива и есть Андреа. Он поднял глаза, и что-то теплое толкнулось в её сердце. Какие зеленые… Несколько ничего не значащих фраз, подвинутая к ней чашка кофе, внимательный взгляд. Почти сразу Мария спросила про Жанлуку. Где он? Почему не приехал? Андреа запнулся, замолчал. Потом его слова прозвучали тихо, глухо, как через душное слепое ватное одеяло: «Отца больше нет». И она словно попала в безвоздушное пространство, где никак не получалось вздохнуть… А когда получилось, Мария заплакала. Плакала она из-за чувства ещё не обретённого, но уже потерянного очень близкого человека. Со слезами приходило избавление от напряженности ожидания, неопределенности и обиды… Все это время Андреа молчал, держа её за руку, и этот нехитрый жест сильнее всяких слов объединил их в этот непростой момент.
Оказалось, что Андреа впервые в России, он был очень благодарен Марии за её предложение показать ему Москву. И все её сокровенные места — кривые переулки, пересекающие Арбат, провинциальные дворики Хамовников, Крутицкое подворье, удивительным образом забытое в центре столицы на века, любимые скверы Замоскворечья, всё то, что все эти месяцы она мечтала показать Жанлуке, в ту осень, как по наследству, перешли к его сыну. Андреа уехал через четыре дня. И после его прощального звонка из аэропорта в этот неожиданно теплый для московской осени вечер Марии вдруг расхотелось идти на любимые Патрики на встречу с друзьями…
А дальше были звонки, сначала редкие, потом все чаще и чаще. Звонки стали необходимыми для Марии, как чашка утреннего кофе, как теплый душ перед сном. Звонки стали желанными, как чашка утреннего кофе, как теплый душ перед сном.
Зимой Мария прилетела в Рим. Она всегда любила большие аэропорты, чувствовала себя там в своей стихии, наслаждалась погружением в волнующий водоворот жизни. Но Андреа она заметила не сразу, и незнакомое чувство растерянности, непричастности к происходящему вокруг холодным стеклянным куполом отгородило её ото всех. А потом Мария увидела его, рвущегося к ней сквозь гудящую толпу. Он взял её за руку, и они поплыли над стоящими внизу людьми, над аэропортом, городом и всей итальянской и не итальянской землей. А внизу Марк Шагал махал им рукой…
Мария очнулась от воспоминаний. Постепенно появились привычные звуки шуршащих волн, зажатых в сдвинутых морщинистых ладонях домов, резкого хохота чаек, оперных арий, звучащих из элегантных узких гондол, стука вёсел о каменные ступени. Звонкий топот детских сандалий гулкой дробью рассыпался по каменным стенам домов этой безымянной площади. К ней подбежал сияющий мальчуган с копной темных волос, взметенных ветром. Мороженое в сладких перепачканных ладошках, светящиеся удовольствием светло-зеленые глаза. «Мама Ма! Это пап Ан купил!» В свои два с небольшим года этот малыш уже неплохо говорил, вот только сложное «р» в именах родителей пока не получалось, поэтому он и придумал называть их так. Зато свое имя выговаривал гордо и четко: «Жанлука!»

Верочка
— Мама, мамочка! Мама! — в форточку влетели наперебой кричащие четыре детских голоса, — иди скорей сюда!
От неожиданности Верочка пролила на себя ещё недоваренный бульон из ложки, так и не донеся до рта.
— Чёрт, сколько можно! — прошипела себе под нос. Ложка звякнула о столешницу.
Вера поспешила к окну, выглянула в просторный двор. Только высаженные кустики сирени, ещё не убранный строительный мусор, гора песка в углу участка, стопка кирпичей, накрытая целлофаном. В отдалении — разноцветная горстка детей. Их светловолосые, медовые макушки склонились над чем-то, а самый маленький, Феденька, пытался пробраться внутрь кольца из детских ног. Ему не удавалось, он толкался и похныкивал.
— Давайте без меня, супчик доварю и приду, хорошо? — крикнула в окно Верочка, подавив раздражение.
Она поморщилась и потёрла обожженную кожу чуть ниже ключицы: «ещё не хватало волдырей…» Поймала в дверце духового шкафа свое отражение. Заправила за ухо выбившуюся каштановую прядь. Хороша. Несмотря на 7 лет отрывистого сна, хороводы детских болезней и тоски по чему-то ещё не случившемуся или уже забытому.
В кармане домашнего платья завибрировал телефон. Почему-то она почувствовала, что это не муж, не мама, не подружка Оля. Взглянула на экран и застыла: «ох ты ж, боже мой…»
— Мама, ну иди! Иди сюда!
Верочка занесла палец над мелькающим именем. Именем. Прикрыла глаза. Решительно убрала телефон обратно в карман. По бедру всё разбегались и разбегались муравьи беззвучного телефонного звонка.
— Сейчас иду. Что на этот раз? — она уже наспех накидывала на плечи мужнину спецовку.
Очередной ли зуб динозавра, доисторический червяк или золото Майя — главное — заинтересованным голосом сказать «ну ничего себе!». Годами отрепетированная интонация. Муравьи на бедре остановились. Ноги дошли до детей.
— Ну ничего себе! — вылетело бодро и задорно. — Что там у вас?
Дети расступились. Верочкин взгляд врезался в черное, запыленное песком, мёртвое тельце.
— Это крот, мама, скажи, крот?
— Сама ты крот! Это гигантский слепыш!
— Какой слепыш?! Они вымерли тыщу лет назад!
— Так то гигантский, а этот маленький!
— Маааамаааа! Ну ты что, уснула? У тебя телефон звонит!
Младший обнял маму за колени, спрятался за её ногами и прошептал: «Он умий, да?»
Солнце уже грело совсем не по-весеннему, ноздри щекотал запах соседских шашлыков. А они так ещё и не открыли сезон. Всё веранду строили. Перед лицом прожужжал толстый шмель. И телефон тоже жужжал, жужжал. Верочка вынырнула из забытья. Резко достала телефон из кармана. Пропущенные вызовы горели красной стрелочкой и Именем. Она нажала кнопку «удалить» в журнале вызовов. А в «контактах» не решилась. Никогда не решалась. Быстро нашла телефон мужа в «избранном»:
— Борь, тут у нас крот сд… умер на участке. Что мне делать?
— Ну чё-чё? Зарыть! Делов-то! Всё, давай. Или ещё что-то?
— Нет, Борь, ничего, — в носу защекотало, глаза стали горячими и влажными. Верочка глубоко вздохнула, запрокинула голову. По небу лениво проплывали перламутровые облака. Самолетные следы расчерчивали синь белыми пенными полосами. И где-то далеко-далеко, за всем этим, жил Бог.
— Так. Дети. Берём лопаты, копаем яму. Вот здесь, — она зашагала к сараю, взяла рабочие перчатки. Весёлая, пёстрая ребятня посеменила за ней, каждый пытался успеть быстрее другого:
— Я буду копать!
— Нет, я…
Яму выкопала Вера сама. Копала она с яростью, с остервенением. И яма получилась слишком широкая, слишком глубокая для крота. Лопата с хрустом вошла в последний раз в землю и остановилась.
— Ну все, дальше вы сами. А я пойду суп доваривать, — сняла перчатки, положила на торчащий черенок лопаты. Резиновые пальцы сникли, словно загрустили без работы. Верочка скользнула влажной рукой по нагретым детским волосам.
Ребята ещё целых полчаса были заняты. Возились сами и маму не дёргали. Насыпали холм, рвали только вылупившиеся цветочки, что-то выкладывали из камушков, а Феденька даже кадил зелёным пластмассовым ведерком на верёвочке.
Суп Вера пересолила.

Виднее издалека
Жили две сестры — Нина и Люда — и их брат, Вася. Детьми жили они хорошо и дружно в большом деревянном доме. А потом повзрослели и разбежались кто куда, хотя жили в одном городишке.
Старшей и, как это часто водится, самой умной была Нина. Настолько умной, что она решила держаться от мужиков подальше и заниматься только тем, что ей нравится. Поэтому по утрам она водила метлой по пустынным дорогам, днем — тряпкой по бизнес-центрам, а вечерами спускала излишки богатств в игровых автоматах, что располагались в подвале. Иногда выпивала, объясняя сестре: «Знаешь, как успокаивает?»
Средней в семье была Люда — пожалуй, самая симпатичная, ответственная и активная из троицы. Парни бегали за ней и звали в кино, а она, комсомолка, бегала от них на партсобрания. После учебы Люду распределили в деревню недалеко от города, чтобы учить диких детей ненужной им математике. Там она влюбилась в женатого физика и родила от него сына, получив почетное звание первой и единственной в семье матери-одиночки. Кстати, сын Люды, Алексей, еще в старших классах перерос мать и помогал ей решать олимпиадные задачки. Теперь же это был голубоглазый, долговязый парень, обычно в очках и пиджаке, который в свободное время эти задачки придумывал.
Младшим был брат Вася. Зато сейчас он был единственным с парой — со строгой супругой, которая громко мотивировала его хорошо зарабатывать и быть примерным семьянином.
Папа у них умер рано — спился. Маме же пошел восьмой десяток. Жила она вместе со старшей дочерью Ниной в однокомнатной квартире. На месте старого дома, где мама жила с тремя детьми, Вася теперь строил новый, отдельно для своей семьи. При этом, будучи послушным сыном, он почти каждую неделю привозил матери родниковую воду в железной десятилитровой канистре, которую набирал с колонки рядом со своим домом.
И вот однажды их мама заболела. Она издавала только нечленораздельное «Ме-ме-ме-е-е» и не могла без помощи встать с постели. Ухаживала за ней Нина. Она и стирала мокрое белье, и мыла маму в своей узенькой ванной, и кормила ее с ложечки мелко раздробленной овсянкой — как ребенка, которого у нее так никогда и не было.
Каждые выходные и в праздники подменить ее приезжала Люда, чтобы Нина успела помыть полы в пивнушке неподалеку и проиграть половину заработанного в ожидании трех выпавших вишенок. Их встреча всегда начиналась с того, что улыбающаяся от встречи с сестрой Люда приносила обвязанный белой ленточкой вишневый пирог и, переходя через порог, говорила:
— Держи. Твой любимый.
— Ну и зачем купила? Живет в малосемейке, а деньгами швыряет направо-налево. Совсем головой не думаешь, — раздражалась Нина, но пирог брала.
Вася заезжал уже раз в две недели, но привозил не только воду, а еще разные кефиры и йогурты, которые тайком проносила с работы его жена. Йогурты были хоть и просроченные, но есть их, согласно его жене, можно было еще неделю.
Как-то одним субботним вечером, когда Люда вернулась от сестры, прилегла на диван и закрыла глаза, зазвонил телефон. В трубке она услышала голос Нины: «Мамка не дышит. Приезжай обратно, а то я одна боюсь».
Спустя сорок дней все близкие и неблизкие родственники собрались в почти достроенном доме Васи. Его жена и сестры сразу ушли готовить кушанья. Сын Люды, Алексей, вызвался помочь — позже все хвалили изящно нарезанные огурцы и колбасу.
Затем Вася устроил гостям экскурсию. «Здесь будет моя мастерская», — говорил он, указывая на перевернутые скамейки, поломанные стулья и полки, набитые тряпками, гайками и болтами. Пахло пылью и опилками, как в кабинете труда. Среди десятка человек возвышалась голова Алексея. Вася выдал грудь вперед, наполовину втянул живот и обратился к нему: «Вот, Леха, начнешь строить свой дом, подарю тебе вон тот ящик с инструментами». Молодой человек кивнул и неловко улыбнулся.
Когда начали есть, Вася протянул Алексею бутылку коньяка, с пятью звездами и горами на этикетке. «У сына друган из Еревана привез. Они вместе в Америку ездили», — пояснил Вася. Выпили по одной, затем по второй.
— Отмучалась мамка. Давно ей пора было на тот свет, — сказал Вася на всю гостиную.
— Как тебе не стыдно, — возмутилась Люда и беззвучно заплакала.
— А что, не так, что ли? Лежала, орала только. И себя извела, и Нинку.
— Ты бы хоть раз приехал да посидел с ней, — огрызнулась Нина.
— У меня вон семья, дом строить надо. Леха, может, еще по сто?
— Нет, спасибо, дядь Вась.
— Э, почему нет?
— Не хочу.
— Ну и не хоти. А я выпью.
Бутылку Вася допивал один и молча. Остальные тоже больше молчали, иногда ели. Тарелка остывшей ухи перед Алексеем простояла нетронутой.
Вечером, после поминок, Нина и Люда не спеша двигались к остановке. Нина размахивала руками и восклицала, обращаясь к сестре: «Я так испугалась, что щас разорутся. Чуть не обоссалась, ей-богу».
Алексей смотрел на них издалека, стоя на остановке, и думал: «Ну и семейка».

Дикий зверь и саамские панки
— Хелена, хотел вам сказать, пусть саамским панк-роком все-таки занимается Инкери, а вам я оставил оленеводство. Вы же не против? — добродушно спросил Тимо Виртанен, отхлебывая финский кофе из уютной бежевой кружки и поправляя пшеничный ус.
Арктический центр Рованиеми готовился к 25-й Саамской конференции, запланированной на февраль. Однако сейчас август, времени на подготовку было предостаточно, и сотрудники неспешно распределяли темы исследовательских докладов. Лена Брусникина, она же молодой научный сотрудник Хелена, мчалась в библиотеку по длинному коридору, залитому солнцем через восхитительный скандинавский стеклянный купол. Пойманная на полпути своим начальником, она обескураженно остановилась. Тень паники проскакала в ее глазах, но тотчас была изгнана широчайшей улыбкой.
— Тимо, я… Ну, конечно! Я только за. Я давно занимаюсь темой оленеводства, — поспешила заверить начальника Лена, пытаясь опередить наворачивающиеся слезы.
— Я знал, что могу на вас рассчитывать, — сердечно пожал ей руку ничего не заметивший Тимо и удалился, оставляя после себя бодрый кофейный аромат.
Лена медленно подошла к стене и опустилась на желтый пуфик, будто специально нагретый для нее редким северным солнышком. Олени. Лена была чрезвычайно против. Чёртова Инкери. Нет, Инкери приятная девушка. И олени с оленеводами сами по себе неплохие ребята. Но саамский панк-рок! Когда Марк рассказал ей о начинающей панк-группе из маленького саамского поселения в общине Со́данкюля, еще и поющих на местном диалекте, Лена в тот же вечер нашла контакты их вокалиста и уже планировала встречу, благо ехать от Рованиеми было всего полтора часа. Она сама играла на гитаре и возможность объединить любовь к музыке и будущему саамскому культурному наследию казалась ей просто-таки джекпотом. Почему нельзя было сказать Тимо, что мне важна эта тема? В глазах разворачивался Атлантический океан, но заплакать Лена себе позволить не могла. Она болюче ущипнула себя за руку, потом еще раз, и еще раз, и еще раз. Привычный способ справляться с подобными ситуациями. Слезы отступили.
Накинув летнее пальто травяного цвета, Лена вышла в удивительно теплый для августа вечер. Воздух сладко пах еще цветущим иван-чаем и уже созревшим шиповником. Небо потихоньку раскрашивалось в предзакатные цвета, красиво подсвечивая светлые Ленины волосы с лёгкой рыжинкой. Солнце в Приполярье в конце лета садится только в десять вечера, но с сентября световой день будет сокращаться все стремительнее. Лена переехала в Финляндию в прошлом году, только закончив Мурманскую аспирантуру. Общительная, всегда готовая прийти на помощь, она быстро нашла друзей в новом, казалось бы суровом, северном городе и на работе тоже поддерживала теплые приятельские отношения. Остаться помочь коллеге с докладом, даже если свой еще не дописан? С радостью! А то, что на сон останется всего часа три, это ничего. Я уже спала на этой неделе. Поработать после работы, потому что завтра открывается важная выставка? Легко! Вновь посидеть с ребенком Анны и Юсси, чтобы они сходили в кино? Без проблем! В какой-то момент Лена Брусникина, аки лютый фанат «Yes Man» с Джимом Керри, перестала замечать, что слово «нет» полностью выпало из ее лексикона, невольно подпитывая шипящую волну раздражения, которая выливалась, увы, чаще всего, на саму Лену. Ведь как она может вылиться на Анну и Юсси? Они же друзья. Или на Тимо, милейшего финского ученого? Он не со зла, выставка действительно важная, да и с панками он хотел как лучше. Ах, черт, четверг! В четверг она договорилась встретиться с Марком и именно в этот день нужно задержаться после работы. Ничего не поделать, придется Марка расстроить.
С Марком они познакомились в киноклубе Лапландского университета. Завязали разговор о любимом обоими Микеланджело Антониони. А потом о Бернардо Бертолуччи и Джузеппе Торнаторе. А потом обо всем на свете, будто были знакомы с самого раннего детства, а может быть и в другой жизни. Высокий, кучерявый и улыбчивый Марк разрабатывал новую программу бакалавриата — дизайн впечатлений, а еще умел задавать самые правильные вопросы.
— А что будет, если ты завтра подойдешь к Тимо и попросишь саамских панков обратно? — Марк подвернул рукава клетчатой рубашки, насыпал кофейных зерен в воронку и готовился поливать их из элегантного чайника с гусиным носиком.
— Я боюсь, что расплачусь или, еще хуже, сорвусь и наговорю Тимо каких-нибудь гадостей. А он этого не заслуживает, — Лена устало плюхнулась на стул напротив Марка и зажгла ароматическую свечу. В комнате хвойно запахло пихтой.
— Заслуживает, не заслуживает… Я бы тоже злился на него, отбери он у меня мою тему, пусть и с добрым умыслом. О, у меня есть идея! Одна подруга-психолог рассказывала о классном способе выражать злость, когда по каким-то причинам прямо ее выразить не можешь. Представь, что ты дикое животное…
— Мне кажется, единственное животное, которым я могу быть, это беспокойная квокка.
— Нет, квокка не подойдет, она слишком милая, даже если беспокойная. Лучше тигр или лев… Ну, енот тоже подойдет, если очень хочется. Или морской котик, у него зубы ого-го. Так вот, представь, что ты дикий зверь и кусаешь Тимо. Можешь даже порвать его на части. Отлично работает: эмоции выпущены на волю, и ты идешь и спокойно с ним говоришь.
— Звучит впечатляюще, но мне даже представить такое сложно.
— Ну, тут или знакомство с саамскими панками, или воображаемо покусанный Тимо. Ты попробуй.
На следующий день Лена, собрав всю свою мыслимую и немыслимую отвагу, ждала, когда Тимо освободится после научного совета. Она подошла к двери его кабинета, села в кресло, улыбнулась администратору. Через минуту судорожного плетения косички из бахромы на шарфе, унеслась на кухню заварить себе кофе и еще немного протянуть время. Обиделась на кофе за то, что тот уже был заварен и в чайнике его было более, чем достаточно. Я котик, ой, нет, я же дикий. Я кровожадный комар, жаждущий испить свежей крови. Я злобный дикий морской котик, я сейчас цапну Тимо за хвост, чёрт, нет, за ногу. Тимо вышел из кабинета.
— Хелена! Как вы сегодня? — приветственно улыбнулся он.
— Тимо, у меня к вам разговор. Я очень хочу работать с панками. В смысле с той саамской панк-группой. Я знаю, это было поспешно, но я уже связалась с их вокалистом и начала собирать материал, — сбивчиво начала говорить Лена.
— Хо-хо, Хелена, punks not dead. Слушайте, очень здорово, что вы меня предупредили. Вы с Инкери лучшие специалисты по оленеводству. Я думал, что вам та тема ближе и поэтому отдал ее вам, но еще даже не успел предупредить Инкери. И я ничуть не против, если именно вы поедете в Со́данкюля.
Лена провальсировала к своему рабочему столу, обняла по пути озадаченную Инкери, пребывавшую в счастливом неведении о саамских панках и развернувшейся внутренней драме Лены. Остывший финский кофе радовал своей прохладной кислинкой. А что, так можно было? Дикий морской котик сделал свое благородное дело. Еще никогда Лена Брусникина не испытывала такой легкости.

Запах детства
В новой квартире Дину постоянно мучали кошмары, знакомые ей еще с малых лет. Вот она, семилетняя девочка, стоит среди родственников, друзей и коллег отца, и смотрит на носки своих сандалий. Дина плачет. Но не из-за папы, а, скорее, из-за того, что рыдает мама. По традиции, хоронят на третий день, но ее папа лежит здесь, в самой большой комнате дома, уже почти неделю. Окна заклеены газетами, темно и жутко жарко. Воняет хуже, чем на помойке. Дина зажимает нос и старается дышать только ртом. Ее постоянно тошнит от смрада. «Доча, подойди сюда. Попрощайся с папой. Обними и поцелуй его!» — говорит мама. Дина поднимает глаза, стараясь не смотреть на гроб. Она мотает головой и снова опускает взгляд.
В памяти всплывают картинки, как отец целовал ее. Не так, как мама. И обнимал ее своими дрожащими руками. По-особенному обнимал. Только наедине. Он громко пыхтел, был потный и липкий, изо рта пахло водкой и копчёностями. Каждый раз после его прихода она чувствовала отчаяние и стыд. Она не понимала, почему. Но теперь он мертв. «Дина! Не бойся, будь взрослой! Подойди!» — голос мамы звучит уже громче и требовательнее. «Не хочу! Не хочу!» — Дина зажмуривается, потом открывает глаза и видит человека в гробу. Но это не ее отец. Там лежит незнакомый старик. Седой и обросший, кожа на лице сморщенная, болотного цвета. Дина молча смотрит на него, не отрываясь. Чья-то холодная рука ложится ей на правое плечо. Она поворачивает голову и видит рядом с собой того же старика. Он скалится, смотрит на нее. Его глаза абсолютно черные. Голос звучит у Дины в голове: «Иди к нему!» Она резко сбрасывает руку с плеча и делает рывок в сторону мамы. Но мамы уже нет. Вместо нее всё тот же старик. И голосов становится всё больше: «Иди к нему! Иди к нему!» Голова мертвого поворачивается, он приоткрывает глаза и рот. Дина кричит изо всех сил и просыпается.
— Мяу! Мяу!
— Да заткнись ты, тварь тупая! — Дина с закрытыми глазами нащупала под кроватью тапок и запустила его куда-то в коридор. Барсик замолк.
Дина, щурясь от света, закуталась в халат и вышла в прихожую. Мысли о неприятном сне быстро растворялись в утреннем солнце, прорвавшемся в квартиру изо всех окон.
— Ну и чего ты на дверь уставился? Свалить хочешь? Да иди! Когда тебя уже обратно заберут! — Дина на пару секунд открыла перед котом входную дверь, но сразу об этом пожалела. Отвратительный запах проник в квартиру из подъезда и заставил ее поморщиться. «Отличное начало дня», — подумала Дина. Она закрыла дверь и пошла готовить себе завтрак.
Весь день на работе Дина была вялой и рассеянной. Обычно энергичная, собранная и внимательная к мелочам, сегодня она никак не могла ни на чем сфокусироваться. Для ее профессии лоббиста это было равносильно абсолютной некомпетентности. Ее особый дар влиять на людей и всегда добиваться своего как будто решил взять выходной. В результате она потратила много времени и сил, практически не сделав ничего полезного, и добралась домой только часам к десяти вечера.
Уже на выходе из лифта она почувствовала удушающий смрад. Воняло, почему-то, гораздо сильнее, чем вчера, позавчера, и вообще за всё время. Дина с трудом поборола тошноту и ускорила шаг, застучав каблуками по кафельному полу. По пути бросила беглый взгляд налево. Соседская дверь была слегка приоткрыта, и причина усиления вони теперь стала очевидной. В подъезде витали запахи застаревшей мочи, протухших тряпок и еще бог знает чего. Сладковатая, с привкусом сыра и мокрой древесины, вонь была очень навязчивой и вызывала чувство глубокого отторжения. Дина заперла замок, бросила сумки на пол и прислонилась спиной к двери. Наконец-то удалось вдохнуть полной грудью.
«Жесть. А как тогда воняет у него в квартире? — подумала она. — Дура, надо было давно с этим разобраться. — Она наклонилась и взяла из сумки пачку сигарет, закурила. Запах табака немного успокоил, и мысли прояснились. — Но терпеть это уже нереально. Да и с чего бы мне это терпеть?»
Что-то коснулось ее ноги. Она вздрогнула и резко дернулась, ударившись локтем о металлическую ручку двери. «Скотина!» — коротким пинком кот был отправлен в непродолжительный полет до соседней стены. Взвизгнул и убежал подальше.
В наступившей тишине раздался приглушенный звук. Дина прислушалась, села на корточки и прислонила ухо к замочной скважине. Как будто дверь скрипнула. Раздавался какой-то хрип. Или это просто сквозняк. «Он дома. — а следом за этой мыслью пришла еще одна, более тревожная. — И он ещё жив». Пепел упал на пол. Дина чертыхнулась, встала и попыталась ногой, как веником, смести его под дверь. Руки немного дрожали.
«Так, всё! Собралась! Давай, думай! Ну да, страшно. Что делать-то? Ментам позвонить? Или еще кого-то позвать? Нет, надо самой. Не маленькая уже. Давай, успокойся и позвони, дура, блин. Бесишься, когда тебя блондинкой называют, а сама боишься даже в полицию позвонить».
Сердце глухо билось. Казалось, что быстрее уже невозможно. Опять что-то скрипнуло. Зажмурила глаза. Посмотреть в глазок казалось невыполнимой задачей. Какой-то ступор. «А вдруг он уже стоит там? И смотрит на меня? А если он почувствует, что я на него смотрю, и сам постучится ко мне?» — опять подкатила тошнота, внутри всё сжалось так, что дышать можно было только часто и неглубоко. Тело скрючилось, она с силой сжала кулаки и попыталась унять дрожь. И в этот момент что-то потянуло ее вперед. Правая рука повернула ключ и взялась за ручку двери. И вот она уже в подъезде. «Я не справлюсь. Остановись! Подумай!» — звучало в голове. Но она не владела собой. Скорее, ей владел кто-то другой, а сама она была невольным наблюдателем. Получилось высунуть язык и прикусить его. Где-то глубоко в голове раздался щелчок. Это должно было ее разбудить, но не разбудило. Потому что она не спала. В этом она уж точно была уверена. Как будто издалека до нее донеслись вонь, едва слышное приближающееся к ней тяжелое дыхание за соседской дверью и узкая полоска темноты, куда ей предстояло шагнуть. «Не бойся, Дина. Будь взрослой!» И, подняв голову, она дернула ручку на себя.
Дина перешагнула порог в полузабытьи, улавливая только отголоски происходящего. Темный коридор, запах тухлятины. Из приоткрытой комнаты в конце коридора доносятся какие-то равномерные, скрипяще-свистящие звуки. Она знала, что ей туда. Шаг, еще шаг. Она совсем не ощущала себя сильной и взрослой. Хотелось, чтобы ее кто-то обнял и защитил. «Не хочу к нему! Я хочу домой!» — подумала Дина, открыла дверь и зашла внутрь.
На кровати, похожей на больничную койку, лежал дед. Лежал на спине. На нем были старые спортивные штаны и рваный свитер. Рот и глаза приоткрыты, и из них вниз вела дорожка тёмной гноящейся жидкости. Под кроватью — засохшая желто-бурая лужа. Рядом с койкой вхолостую надрывался аппарат ИВЛ.
Дед был мертв, но не целиком. Эта мысль казалась очевидной, как и то, что на кровати лежал труп. Что-то осталось в этом теле. То, что привело ее сюда. «Он хотел, чтобы я пришла», — подумала Дина. Ноги перестали ее держать, и она упала на колени. Боль немного отрезвила. Зажмурившись, Дина забормотала, не переставая мотая головой: «Не хочу, не хочу, не хочу!» До нее донеслось шуршание и скрип кровати. Она чувствовала присутствие того, что осталось от деда. И в какой-то момент вдруг поняла, что ему от нее нужно. Что-то холодное прикоснулось к ее плечу, потом к другому. Дина из последних сил пыталась побороть силу, проникающую в нее, овладевающую ею: «Уйди! Ты мертв!» Ледяные пальцы дотронулись до шеи. Ее глаза открылись, и она увидела его лицо. Лицо грязно-зеленого цвета с черными провалами глаз. «Ты должен уйти!» — крикнула она, слабея, но из ее рта вырвался только сдавленный хрип, а пальцы на ее шее сжались ещё сильнее.
Через два часа Дина лежала на диване в своей квартире. В голове у нее было прохладно и пусто. Кот расположился на ее коленях и довольно мурчал. Смрад рассеялся, и теперь ее жизнь станет только лучше. Проще. Исполнятся все ее желания. Теперь она сильная и взрослая. Дина погладила кота и криво усмехнулась.

Красивый инвалид
Получив подтверждение брони в отель, Николай направился к машине. Бросил сумку художника в багажник. Взялся за руль. Тронулся. Навигатор показал время прибытия: через час сорок минут. Звонок. Бетховен «К Элизе».
— Да! Сколько можно звонить, я сказал, что в отпуске, завтра приглашения будут готовы, пришлю на почту. Да! Статья про скакунов тоже будет отправлена. Ждите!
Прошло уже больше минуты красного сигнала светофора, Николай держал педаль тормоза, рассматривал прохожих. Через дорогу покатилось много инвалидных колясок, выезжавших из пансионата «Вера». Он начал размышлять, бывают ли красивые инвалиды? А то эти, все горбатые, старые, безногие. Наверное, нет! Мелодия Бетховена играла много раз. Путь стал намного короче.
Николай забросил сумку на плечо, последняя, скрипучая ступенька. Захлопнул дверь уютного, крошечного домика, в нем пахло свежестью недавно прошедшей уборки и деревом. Звуки лета проникали в дом сквозь открытое окно. Глубокий вздох, пронес через ноздри запах детских каникул в деревне. Николай плюхнулся на мягкую кровать.
— Коля, вставай, к тебе пришла педагог, иди к пианино, поспишь после занятий.
Он резко поднялся в ожидании, что мама погладит его волосы, поцелует в макушку. На часах уже пять, Коля полон сил. Он не хотел, чтобы кончалась пятница, потому что завтра суббота и папа снова потащит в кружок по работе с деревом. Это нелюбимое дело вскоре закончится. Несчастный случай произошел с маленьким Колей, когда станки на учебной базе дожидались ремонта. Болт сорвался, противный скрежет. Коля потерял два пальца. Стал для девочек трехпалым посмешищем. С тех пор осталась привычка прятать руку в карман. Он рыдал, что больше не сможет играть на пианино, а врач с бровями, как у совы, говорил:
— До свадьбы заживет. Пианист не профессия, я бы не хотел, чтобы у моей дочери был такой муж. Терпи. Развивай руку и дальше учись работать с деревом.
Николай не смог отказаться от творчества, стал сочинять стихи и рисовать.
Стук в дверь. Глаза с маленькими красными венками разлепились. Голова оторвалась от подушки.
— Да, да.
— Вы будете обедать?!
Николай гремел ложкой, пока не увидел золотое яблочко на дне тарелки. Хорошо-то как, эххххх! Пойду, поищу место для пейзажа. Немного пометался от сумки художника к двери. Нет, сегодня налегке. Он проскакал по ступенькам. Спрыгнул на мягкую траву. Маленькие домики были рассыпаны по всей территории базы, словно жилища гномиков. Николай ускорил шаг, вода становилась ближе, ветер прохладнее.
О, все. Расположусь здесь, на берегу. Обтирая кисть о замызганную тряпочку, окинул взглядом всех, кто находился рядом.
Дни летели. Время замирало лишь тогда, когда Николай смотрел на Анну. Черные, длинные локоны, острые плечи, широко распахнутые синие глаза. Утонченные пальчики. Изящное тело в инвалидном кресле.
— Поразительно! Вот он — красивый инвалид.
Прошла неделя, Николай долго рисовал пейзаж, из одной и той же локации. На восьмой день она назвалась Анной. На девятый рассказала, что упала с любимого Коня — Грома. На десятый Николай помогал Анне раскладывать карандаши по цветам в коробочку. Он перебирал их восемью пальцами, ему нравилось делать это вместе с Анной. Одиннадцатый день закинул в детские воспоминания. Николай увидел папу Анны, хирурга с холодными, блестящими инструментами. Запах спирта и нового бинта вперемешку бил в нос. Щекам было тепло от горячих слез. Неприятный разговор. Человек-сова и Николай узнали друг друга. Что это за профессия, рисовать и сочинять стихи. Лучше бы продолжил занятия в кружке и освоил мужскую профессию. На тринадцатый день мы были с Анной в одной команде против папы. Четырнадцатый день снова она, красивая Анна.
— Привет, — сказал Николай.
— Привет. Может пообедаешь с нами?
— Да! С удовольствием!
— О! — сказал папа Анны. — Ты опять в компании неудавшегося пианиста. Не думал, что этот рыдающий мальчик снова появится. Николай, поможете принести стулья? Или вы тяжелее приборов для приема пищи в руки ничего не берете?
— Папа, прекрати, неужели тебе не хочется расслабиться и просто отдохнуть!?
Мужчина опустил глаза, как маленький.
Посуда позвякивала, передвигаясь по столу, еды становилось меньше.
Брови человека-совы, то поднимались, то опускались, смеша Николая. Ему так и хотелось подойти к мужчине и подравнять ножничками грубые, как проволока, волосы.
— Что вы посмеиваетесь?
— Отнюдь, я поражен вашим талантом.
— Каким?! — щеки мужчины начали багроветь.
— Вы отлично владеете бровями, научите меня.
Анна рассмеялась. Ее улыбка была прекрасна. Крупные зубы девушки казались Николаю идеальными.
Громкий смех Анны, Николай падает с Грома уже раз двадцатый. Одному тренеру было не смешно. Он разрабатывал план, как закинуть молодого человека на коня.
— Раз, два, три. Уррраааа, — воскликнула Анна.
Мокрое пятно на футболке Николая становилось крупнее.
Багрово-желтые шапки деревьев. Тысяча восемьсот двадцать пятый день.
Николай сильными руками держал поводья, управляя Громом, как дорогим автомобилем. Красно-оранжевые листья шуршали под копытами. Ржание скакунов, голоса детей и взрослых разливались по округе. Рядом любимая Анна обхватывает руками круглый живот. Периодически переводя глаза на отца, он сидит у медпункта. Маленький мальчик заводит пони в стойло. Вытирая слезы рукавом бежит к мужчине. Листья падают. Разговор идет.
— Если тебе это нравится, не сдавайся, никого не слушай, не отступай, сейчас мы тебя починим, вернешься к тренировкам, — сказал отец Анны.
— Дедушка, мне очень, очень нравится, — ответил мальчик.
Ему восемнадцать. Лошадь Молния несется через препятствия. Прикосновение руки к теплому, белому пятнышку на морде. Огромные глаза с большими черными ресницами, в них отражается медаль номер один.
Новый день. Одинокое озеро. Николай сдает ключ.
Мороз, тридцать первое декабря. Крошечные, заснеженные домики. Замызганная тряпочка, протирающая кисть. Ледяное озеро. Тишина. Левая рука Николая прячется в карман.

Кривая дорога. Жизнь
— Ууу, мамаша, что ж так затянула-то? Тазовый у тебя, давно ехать надо было! Чего орёшь теперь? Тужься давай! Оп, оп, и- рраз, и-рраз, пошла, бабочка, пошла, родимая!
В больнице пахло хлоркой и чем-то неуловимо сладким; лицо сельского фельдшера, похожее на ноздреватый блин с очками, расплывалось пятном; сознание то отключалось, то снова прояснялось и тогда через грязное оконное стекло считывались буквы вывески напротив: «Ногликская поселковая больница». Срываясь то на визг, то на рык, вопила Маня. Наконец охрипла и замолчала. Безразлично жужжала муха.
— Ну, мамаш, мальчик у тебя. Чего ты?
— Чтоб он сдох.
— Дура! У него и так всё через задницу началось!
— Чтоб он сдох, — упрямо повторила Маня.
Зудел тихий писк — переживший три вытравки ребёнок здоровался с миром.
Жизнь, скривившись, глянула на склизкий комок. Словно обидевшись на то, что в неё вошли задом-наперёд, достала из-под полы кривую дорожку. «Вот ты как? Ну, гляди, недотыкомка, я в долгу не останусь».
Сына назвали Валерий, по-свойски Валя. Младший из трёх братьев получился маленьким, слабым и косым на один глаз. «Живучий чёрт», — не скрывая злости шипела мать. А он виновато улыбался. Ухаживал за скотиной, ходил в ночное, учился и мечтал. Мечтал строить большие города и давать людям свет. Но началась война. Друг за другом ушли на фронт отец и богатыри-братья.
— Держись, Валька! На тебе мать и дом. Головой отвечаешь!
Слабые руки последыша стали на вес золота. Кабан Борька, корова Зорька, мамка Манька, дом, двор — всё вытащил на себе младший сын. В 45-м вернулись домой мужчины. Все вернулись. То-то голосила Маня от счастья!
— Красавцы мои! Намучилась я без вас, всё сама, всё на себе!
Валя молчал и виновато улыбался…
***
— Ну что, малец, не передумал города строить? — отец раскурил трубочку, — дом я затеял новый ставить. Братья разлетелись, так что нам с тобой придётся. Как думаешь, осилим?
— Думаю, осилим, — сын примостился рядом на крылечке. Урчал старый кот, пахло навозом, скошенной травой, табаком и поднявшейся влагой. Последний добрый вечер лета. На следующий день Валя неудачно поднял ведро с цементным раствором и, охнув, медленно осел. Старик фельдшер, как мог, вправил грыжу, но на ноги парень встал только через год…
***
— Никуда не пущу! Старшие далеко, отец старый. Дома останешься, невесту сыщем, — подбоченясь, наступала мать. — Хозяйство надо держать, а учёба твоя тьфу, баловство одно.
Вступились братья. Приехали и решили: быть младшему учёным человеком, не зря же он в школе за них задачи решал. Маня сдалась.
— Да ну вас, черти окаянные! Пусть едет.
Валя счастливо улыбнулся…
***
Женское общежитие Южно-Сахалинского техникума возмущённо гудело:
— Совсем ополоумела! На кой тебе этот косой? Ещё и маленький! Каблуки не наденешь!
Нина молчала, без нужды переплетала толстую косу и уходила вечером на свидание. А немного погодя и совсем ушла.
Ради неё Валя решился на операцию — под местным наркозом выровнял глаз у районного эскулапа.
— Красавец мой! — только и выдохнула Ниночка.
Для счастья было всё: работа, наивные планы и свой угол в бараке, построенном еще японцами. Но в 53-м дальневосточный городок наводнили уголовники. Валя с Ниночкой уже подходили к дому, когда на пути встал расхристанный громила с мутными глазами.
— Ох ты, какая, — он притянул девушку. Откуда взялись силы в хилом Вале? Как этот недотыкомка смог справиться с матёрым уркой? Как поднялся после удара?
— Не место нам тут! — Ниночка металась, лихорадочно собирая пожитки: пальто, туфли, сковородка, чашки — не забыть бы чего! Вскоре с двумя чемоданами и годовалой дочкой Леночкой они уже тряслись по узкоколейке, потом плыли морем, опять тряслись; проехали через всю страну и осели в Подмосковье…
***
— Видала, какие примаки у нас тут?
— Ага! А этот каков! Мой ему по-соседски, пойдем мол, чекушку раздавим! Так ни в какую! «Не пью», — говорит.
— Ничё, запьёт, еще и за опохмелом побежит, — лузгая семечки, лениво переговаривались соседки.
— Ну почему они такие злые? — у Нины тряслись губы. Валера ласково улыбался и гладил её округлившийся животик…
***
— Дорогие товарищи! Перед нами поставлена ответственная задача помочь трудовому народу Египта в запуске энергетического комплекса! Есть решение отправить в дружественную страну товарища Разживина! — партсекретарь рубил ладонью воздух и отчаянно брызгал слюной; обведя глазами зал, первым захлопал. Волна одобрения пошла по рядам. Только один человек тихо сидел, растерянно улыбаясь: «Как же девочки без меня?»
Нина разогревала картошку с салом на общей кухне:
— Валюш, что ты?
— Посоветоваться надо. Дочи спят?
Семейный совет собрали в вечно сырой комнате, за круглым столом. На потёртой клеенке стояла таганка с картошкой, графин с водкой и две стопки. В гранёном стекле отражался тревожный красный глаз абажура.
— Ничего, — Ниночка выпрямилась, хлопнула себя по крепким коленкам. — Выдюжим.
Полтора года африканского пекла, ленивый египетский народ и провокации англичан. Горячее время. Острый арабский кинжал однажды чуть не поставил точку в этой истории. «Здравствуйте, мои девочки! У меня всё хорошо. Скоро приеду!» Домой Валерий вернулся загорелым, с глубокой морщиной на лбу, шрамом под правой лопаткой и чемоданом драгоценностей — причудливых морских ракушек.
— Никуда больше тебя не отпущу!
— Да я и не поеду, хватит, — устало улыбнулся Валера.
После Египта получили квартиру, проходную двушку. Не бог весть что, но в сравнении с подвальной комнатой — дворец. Купили машину…
***
— Пап, училка сказала, что мне четвёрки хватит, остальное достанешь. И что ты буржуй, сказала, — Леночка рыдала от обиды.
— Ты прости её, дочка, у неё, наверное, неприятности.
— Ага. И ещё она дура, — встряла младшая Наташка, сосредоточенно отрывая болячку с коленки. — Не реви! Поступишь в институт, она заткнётся!
— Наташа, так нельзя про взрослых.
— Да лан, мам! Она ж дура! А Ленка вон какая умная!
Отец молчал и улыбался. Взрослеют дочки.
Так и жили. Зимой ходили на лыжах; летом на «Москвиче» катались, пока из-за крутого поворота не вылетел шальной грузовик. «За руль не пущу!», заявила Ниночка, когда Валера вышел из больницы. Машину продали.
Жизнь неспешно шла дальше. Вышли замуж дочери, родилась первая внучка, Кира.
— Опять девка, — удивился молодой дед.
Для всех, кроме Ниночки, он уже был Валерием Николаевичем, директором большого энергетического предприятия. Появился домашний телефон, служебная машина, но прибавилась забота о постаревшей родне.
— Надо бы к моим съездить, что-то плохо там, — задумавшись о братьях, Валерий кинул ластик кошке Маньке. Манька фыркнула, но ластик принесла…
***
Похоронив последнего брата, Николаич потемнел.
— Всё, кончились мужики в моём роду. Один я остался. Кирюш, роди хоть ты пацана, а?
— Рожу, дед. Обещаю, — внучка гордо выпятила живот. Валерий тихо улыбнулся.
Подошла к концу жизнь. Пропетляв 70 лет, взмыла ровной дорогой к облакам…
***
— Баб Нин, а расскажи про деда! — Валя-младший болтал ногами и так знакомо улыбался!

Летнее время
Путешествие выпадало на вторую половину июня. Раньше это был бы один компактный перелет. А сейчас — три пересадки, ночёвка, ожидание в аэропортах.
Аня уже несколько лет была одна. С детьми. «Моя команда» — звала она их. Сейчас с ними было сложно, и Аня очень уставала. Соне уже было четырнадцать: светлая в папу, стремительная и бунтующая, она совсем не интересовалась семейными делами, жила в телефоне, спешила к подругам. Маше — темноволосой и вдумчивой, было чуть меньше двенадцати, и одной ногой она еще была в мамином лагере, разрывалась между сестрой и Аней. А Саше — пять лет. Чуткий смешливый мальчик. Аня то справлялась, то нет, но в свои тридцать семь иногда чувствовала себя на десять лет моложе: легкой на подъем и решительной. Она привыкла полагаться на себя, а детей учила уважать правила на западный манер.
На самой длинной стыковке Ане не разрешили выйти в город и ночевать в гостинице. По новому постановлению транзитные пассажиры должны были оставаться в зоне ожидания. Не помогли ни уговоры, ни уставшие дети, ни день рождения младшего Саши на утро. Вот и финская четкость: было правило, и теперь другое. Хотелось развернуться и улететь обратно. Аня вздохнула: придется менять билеты, добавлять пересадку, ждать и лететь всю ночь.
На досмотре перед транзитной зоной всего один пограничник. «Микко» — имя на форменном значке. Высокий, светловолосый, спокойный финский парень. Военная выправка и четкость движений. «Вы везете продукты?» Нет, уже было два перелета: дети съели все, что было. «В зоне ожидания вам будет хорошо: можно поесть и отдохнуть. Вам прямо по коридору и через двери».
Яркий, почти больничный свет в коридоре задрожал и погас, секунда кромешной темноты. Как будто сильный сквозняк — студеный воздух, кондиционеры, что ли, сбились? Все прошло. Свет вернулся.
Зона ожидания была просторной и светлой. Зеркальные полы, ленты траволаторов, зоны отдыха в природном стиле и звуки леса вместо музыки. Здорово. Но кафе закрыты, прилавки пусты, витрины магазинов задраены. Пара автоматов с напитками, и за стеклом снова пустота.
Аня села на зеленый пуфик и набрала информационный центр: конечно, только автоответчик справочной службы. Хотя бы детский уголок есть, воду из-под крана можно пить. Уже что-то.
Прибежали девочки:
— Мам, ничего не нашли, все закрыто. И совсем пусто, ни одного человека не встретили.
— Охранники что сказали?
— Мы вообще никого не видели.
— А другие пассажиры что делают?
— Мам, мы, по ходу, здесь вообще одни.
Странно. Неужели все рейсы улетели? Аня посмотрела на табло: три рейса ждут посадки, еще четыре в долгом ожидании, как и Аня. Оставив детей в детском уголке, Аня пошла разбираться.
Телефон все звонил и звонил. Пять звонков, десять. Совсем забыли правила телефонного этикета. Я же все равно не возьму трубку, теперь из принципа. Хотя. Тут Микко встрепенулся. Звонок не обычный. Да и система давно бы уже отправила на автоответчик. Это что за лампочка на старом коммутаторе?
— Алло?
Детский голос:
— Привет, я Александр, а кто ты? Вообще мы здесь совсем одни. Приходи к нам поиграть. И принеси шоколадку, мама ничего не может купить.
Звонок из детского уголка: точно, там же старый телефон, уже как игрушка стоит. Как же мальчик набрал номер на диске? Это сын девушки, которая последняя прошла по коридору. У Микко перехватило дыхание.
Мерцающий свет в коридоре, пассажиры, которые думают, что они одни в пустом терминале. Он уже встречал такое раньше. Три года назад под Рождество так ушли в транзитную зону две пары. Первая пара так и не села на самолет. Люди исчезли. Другим Микко помог, вывел их, а потом сам долго не мог вернуться к себе: не работал ни пропуск, ни телефон. В прошлом году, тоже в июне, он отговаривал семью с малышом идти заранее на пересадку. Они посмеялись над ним. Больше он их не видел. После того раза Микко решил не вмешиваться. Он знал, что никому ничего не объяснить: сочтут за сумасшедшего, отправят на переаттестацию. А ему после того трагического случая с парашютистом не хотелось опять терять себя. И все же. В этой женщине было что-то особенное: она выглядела уставшей, но была нежна с мальчиком и внимательна к остальным. Микко попросил мальчика позвать к телефону маму.
Аня успела заглянуть в каждый зал, и даже под диваны: никого. Звонила в справочную, маме и набрала 112 — сеть не работала. Вернулась к детям. Соня недовольно копалась в телефоне: интернета нет. Маша устало стояла над братом. А Саша протягивал маме изогнутую трубку старого красного телефона: в детстве у Ани в прихожей стоял такой же.
— Алло, алло? Не вешайте трубку!
Аня осторожно взяла аппарат.
— Не удивляйтесь. Это Микко, пограничник. Помните, я был с вами на контроле два часа назад?
— Да, конечно. Но почему именно этот телефон? Оказывается, мы тут совсем одни. Никого нет, все закрыто. Может быть, нам могут принести поесть? Еще в зале холодает, можно ли сделать теплее?
— Дело в том, что никто не сможет к вам прийти.
— А вы? Если все уже ушли, пожалуйста, любые бутерброды детям. Или фрукты. Нам ждать еще четыре часа.
— Как вам объяснить… Вы не совсем там, где думаете.
Микко сбивчиво объяснял: Аня с детьми застряла в какой-то другой версии аэропорта. Да, он очень разумный человек, военный, и это не розыгрыш. Он видел такое раньше. И им нужно спешить: время у них идет медленно, даже стоит. Если настоящий самолет улетит без них, неизвестно, что с ними будет. Скорее всего, электронные часы у них стоят. Аня проверила: да, на телефонах то же время, что на всех табло. А ее простые заводные часы на руке убежали уже на два часа вперед. Морок какой-то.
— То есть мы попали в другое измерение, и здесь нет времени?
— Не совсем: я думаю, у меня ощущение, что в этом месте время вообще другое. Оно как бы чуткое. Все, что мы говорим о нем: что время бежит или стоит, и если время обижать, оно может и обидеться — это реальность. У вас время знает это и ведет себя по этим правилам.
— То есть, по-вашему, мы обидели время? И чем например?
— Я не знаю. Может быть, я вообще ошибаюсь. А может и нет никакой логики. Те, кто был на вашем месте раньше, очень хотели, чтобы время прошло поскорее, им было, ну, невыносимо ждать долго. Остался всего один час до настоящего вылета. Ваше время надо ускорить. Переключить его на другую волну, догнать время отправления. Если у вас часы сравняются с реальными, я смогу пройти к вам и провести к самолету. А если нет…
Как будто сон, да не сон. Похоже на сюжет студии Гибли, заколдованный замок. Аня растерялась. Такого не может быть. Должно же быть тогда что-то еще: монстры, странные звуки. А здесь все стерильно. Но если пограничник хоть немного прав? Она и вправду очень боялась этой долгой дороги, пустого ожидания. Пустоты. Может быть, стоит попробовать?
— Девочки, Саша, идите сюда: представьте, что нам здесь сидеть еще очень долго, и нам можно делать только то, что хочется, и то, что радостно. Чем мы займемся?»
Соня насупилась:
— Хочешь осчастливить нас? Чтобы мы, типа, часов на наблюдали? Включи интернет, тогда я буду счастлива.
Дочка отвернулась. Немного погодя стала рыться в рюкзаке, достала блокнот и карандаши: редкая картина. А Маша весело осматривалась, она уже хотела по списку: покатать брата быстро в багажной тележке с мягкими резиновыми колесами, побегать по широким передвижным лентам, и чтобы никто не ругал; достать настольную игру и сыграть хотя бы раз до самого конца с мамой.
— Давайте всем звонить, — сказал Саша, — мой красный телефон отлично работает. Нужно позвонить Сереже, чтобы он не забыл, что мой праздник завтра в шесть. И бабушке — пусть не переживает. Мам, а ты бы позвонила папе, вдруг этот телефон волшебный, и он сможет с нами говорить?
Время решило дрогнуть, потянуться, двинуться. Где-то хлопнула дверь. Застучали колеса багажных тележек. Последний звонок старенького аппарата:
— Буду у вас через пару минут. На посадку придется бегом.

Мёд
Инга за два года похудела в снах: вместо полнокровных и сочных ей стали являться измождённые тени, да и те частями. Только соберётся один сон напитаться кровью, сплестись из жил, как Инге уже вставать пора: три часа. Утро. В пять нужно быть в гараже. В шесть — выход на линию.
Поедет по улицам длинный ГолАЗ с гармошкой посередине: сам весь белый, только пузо и бока бурые. Поедет, почёсывая шинами земную шкуру. Подхватит, долгожданный, закутанных пассажиров — лица красные, в глазах вода, — запустит в своё нутро, и они разом забудут все холодные мысли.
Водитель Игорь сидит по-царски, на дорогу смотрит сверху вниз. Лет пять назад он отбил эту машину у другого водителя. Тот в поединке вырвал у Игоря правый ус, но всё равно проиграл. Автобус Игорь с тогдашним кондуктором отмыли, обжили. В кабине теперь по-домашнему: часы, занавески, ковры, массажная накидка на сиденье, термос.
В салоне пышут печки добрым жаром, там на каждом окне — по две занавески, а между ними перемигиваются снежинки из фольги. С лампочек свисает мишура, щекочет пассажиров по щекам – Инга ещё в ноябре украсила автобус к Новому году. Сама она сидит на месте кондуктора, покрытом шкурой несуществующего зверя. На столике, что Игорь смастерил, стоит хрустальная вазочка с конфетами, рядом с ней — еловые ветки в банке. Из колонок льётся что-то неопределённо-радостное, внушающее хрупкий оптимизм.
Леонид с утра по салону крутится, всё никак места себе не найдёт. Из постоянных пассажиров он самый беспокойный и загадочный. Катается часто, а куда и откуда — ни разу не сказал. Заходит, что ни день, то на новой остановке и так же внезапно выходит. Но билет покупает исправно.
— У меня проездной, но я билетик из ваших ручек всё равно бы взял. А вдруг счастливый?
Игорь сказал его бояться. Леонид своими сахарными любезностями извёл предыдущего кондуктора. Та на работу так и не вернулась: иссохла.
Леонид суетится больше обычного: уступает место в полупустом автобусе, передаёт деньги и карточки, когда никто не просит, путается под ногами. А Инге хоть бы что. У неё без снов голова порожняя. Руки работают, ноги ходят, а злиться на кого-то — так на это силы нужны и воображение.
Инга сидит, варежку вяжет, а Леонид перед ней всё вертится:
— Сегодня, передавали, снег будет. Я вот специально пораньше к вам заскочил, чтоб не пропустить.
— И зачем? Уж лучше дома посидеть, чем в автобусе трястись.
— А дома что? Одни кошки да старая мать. Там и жизни нет.
— Ну всяко теплее.
— Я ведь, так сказать, разнообразия какого-нибудь ищу. Мне бы мёда поэзии хлебнуть. Глоточка вашего мёда.
— Да какой у нас мёд? Только вот, карамельки.
— Ну на что мне карамельки, сокровище моё? Я к вам стремлюсь, я алкаю. А между нами всё время вот этот бездушный металл, этот поручень. И не обойти мне его, хотя, казалось, только руку протяни.
— Смешной вы.
— А вы смейтесь, если смешно…
Инга, улыбнувшись, встала навстречу двум пассажиркам — молодой женщине и девочке лет семи, которая сразу заметила конфеты в вазе.
— Угощайтесь. — Инга посторонилась, пропуская ребёнка к конфетам. Вдруг автобус дёрнулся, Инга налетела спиной на Леонида, который по-прежнему крутился у её места, ни за что не держась. Леонид, запнувшись о поручень, потерял равновесие и влетел носом в ту самую хрустальную вазочку.
Конфеты рассыпались. Пролилась кровь.
Инга принялась делать водителю знаки: останови, случилось тут у нас. Нажала на кнопку на поручне. Игорь затормозил, открыл двери, сам вышел в салон, да Леонид уже, всхлипывая и роняя красные капли, успел отбежать от автобуса.
***
Снег выпал в полдень. Падал густо, основательно, и к вечеру наглухо склеил все дороги.
Люди маялись, прели в шубах. Даже песни новогодние не помогали. Тогда Инга подала снова знак водителю — музыка затихла, протрещал микрофон, слышно было, как отвинчивается крышка и жидкость плещется в стенках какого-то сосуда. Игорь вздохнул, покряхтел и начал рассказывать людям про снег.
— Откуда он берётся — никто точно не знает, но предполагают всякое. Одни вам скажут, что снег падает из жалости к земле: лежит, мол, она себе нагая, никто не прикроет — стыдоба. Другие будут вас уверять, что снег падает от скуки — этих вообще слушать не надо: наплетут с три короба да все три с собой унесут. Я вам расскажу, как оно на самом деле. Слушайте. Снег сперва долго, всю весну, лето и осень, собирается на ветвистых рогах Великого Оленя. Копится там до поры до времени, пока шее рогатого совсем невмоготу не станет. Тут он как мотнёт головой — вот тогда и посыплется снег на землю. И пока весь не выйдет, не кончится зима. Олень в этом году долго терпел, а теперь вот тяжесть сбросил — и вон как повалило…
Сказ про Оленя был длинный, тягучий. Инга знала его наизусть, но так, как Игорь, рассказать бы не сумела — и никто бы не сумел. Народ затих. Кто-то уснул даже. Инга пассажиров потихоньку тормошила, кому выходить пора. Сама не спала: не до этого.
К полуночи всех развезли, автобус прибрали и отправились по домам: Игорь — к семье, захватив пустой термос, Инга — ловить свои голодные сны.
Наутро снег перестал. Автобусы легко покатили по улицам, счастливые своей скоростью, — все, кроме белого ГолАЗа Игоря и Инги. С утра замдиректора по перевозкам вызвала их к себе и положила перед ними такую бумагу:
«Заявление
Модификациями вашего салона я нанёс себе тяжёлую физическую травму и непоправимый моральный вред. Хрустальная ваза с конфетами оказалась не закреплена и при резком торможении разбилась прямо о мой нос, хотя я ничего ей не сделал. Прочие пассажиры не проявили ко мне никакого сочувствия, за что их непременно настигнет вселенская кара. А кондукторша — та вовсе отвергла мои чистые поползновения и вообще бездушная тварь».
— Потеря менее двух зубов и менее одного сантиметра языка не страховой случай, — сказала замдиректора. — Но товарищ явно сумасшедший, поэтому от него чего угодно можно ожидать. Сегодня вас со смены снимаю. С завтрашнего дня вместе вы не работаете. И чтоб к вечеру весь свой цирк на колёсах прибрали. Нечего машину засорять.
Вместо рейса по холодному белому городу Инга возвращала автобусу его заводскую красоту: снимала мишуру, отклеивала снежинки, смывала искусственный снег с окон. Когда часы отвинчивала, показалось, что вроде как Леонид за намыленным окном мелькнул. А может, просто пена так блеснула.
Оставалось только столик разломать, да без Игоря было не справиться: прибит крепко, на века. Только Инга села на голое пластмассовое место кондуктора, чтобы отдохнуть, как прибежала диспетчер:
— Слышала? Игорь твой лежит там, встать не может. Подрался из-за автобуса: ключи не хотел отдавать.
Инга подходит к диспетчерской, а у дверей — толпа. Игорь в середине лежит — у него теперь и второго уса не хватает. Он, Ингу увидев, тянет к ней разбитую в кровь руку. Та опускается рядом с ним на колени. Игорь ей свой термос отдаёт:
— На вот. Забери. Мёд. Сам варил. Там под сиденьем две бутылки. Пей. Рассказывай теперь ты про Великого Оленя. А я всё.
И замолчал.
Когда скорая уехала, Инга поднялась в кабину водителя, рукой под сиденьем пошуровала — и вытянула оттуда одну глиняную бутылку, а больше ничего не нашла. Откупорила — бутылка выдохнула пряным забродившим мёдом.
Пришли мужики доламывать столик. Пока они возились в салоне, Инга вышла с бутылкой и термосом на снег. «Зима никуда не спешит», — любил говорить Игорь. Люди неповоротливо переваливаются в шубах и пуховиках, шины старательно перемешивают снежную кашу, время замерзает в воздухе и оттаивает только там, где на него дышат паром изо рта. Самое правильное — уснуть на всю зиму, отправиться до оттепели к Великому Оленю, а если никак, если тут дом, там работа, то хотя бы послушать сказ, приправленный мёдом поэзии, вдохнуть холодное время — пусть согреется внутри и быстрее побежит.
Но тому, кто рассказывает, тому, кто пьёт мёд, спать никак нельзя. У того не сон, а пепел в голове — бесформенный, сыпучий, лёгкий. Такая плата за мёд. Инга вспомнила свои больные сны, зевнула. Отвинтила крышку термоса, вынула пробку из бутылки. Термос взяла в правую руку, бутылку в левую — и вылила весь напиток в снег. В тот же день она уволилась и в автобусах с тех пор каталась только как пассажир, да и то редко.
А вечером где-то на окраине города, где псы воют по-волчьи, на кухне в четыре квадратных метра сидел Леонид с глиняной бутылкой и видел над собой бесконечный космос, а ещё выше — оленя. Зверь покачивал головой, поводя заснеженными рогами.

Острава
— Проснись, подойди к окну! — встревоженный мужской голос доносился сквозь кафельные стены дешевой гостиницы, и от этого казался еще более объемным. Хлопнула дверь, потом еще раз, но я сделала вид, что ничего не слышу. Так не хотелось вытаскивать себя из сна, где я всё еще бродила по ночным трамвайным путям какого-то призрачного поселения.
Уже прошло почти две недели, как мы находились в туре, каждый день играя концерты то в одном, то в другом европейском городе. Привычные к дороге, усталые и бодрые одновременно, слегка похмельные, но веселые — мы путешествовали на белом минивэне, внутри которого, по сути, находилась вся наша гастрольная жизнь. Багажное отделение нашего Мерседеса было доверху забито оборудованием и мерчем, а внутри, в проходе и между сиденьями как-то умещались личные вещи музыкантов и дурно пахнущие бывалые костюмы. Там же ехали и особо хранимые нами канистры с самогоном, которым мы угощали русских эмигрантов, почему-то особенно ему радовались наши в Германии.
Еще вчера мы добрались до Чехии и утром заселились в гостинице города Острава. Жилище наше оказалось душераздирающим. Серое, безликое, многоэтажное здание-атавизм, память о социалистической Чехословакии — с грубыми, не говорящими по-английски тётками на ресепшен, с рваным постельным бельем, кривыми тумбочками из коричневого ДСП, общей душевой в коридоре и, разумеется, с тараканами. Но мы люди привычные. Мы же русские, а значит, с нами бог. А еще — с нами наш турменеджер Сабри, немец арабского происхождения, опытный промоутер и вообще фанат металла. Его работа — организация нашего тура, где он отвечал за всё — начиная от воды на сцене и заканчивая количеством проданных билетов на каждый концерт. За гостиницы отвечал тоже он, и, помогая нам заселиться, деловито суетился, полностью манкируя наши недовольные рожи. Нас было семеро русских, и мы были чертовски голодны. Гитарист Никита, басист Крон, барабанщик Золотов, баянист Лёха, звукоинженер Заяц, я — вокал, и водитель — Миша.
Каждый из нас взял из машины то, что ему нужно для отдыха в отеле. У нас был «day off» — день, когда нет концерта. Выходной, если по-нашему. Я лично взяла умывальные всякие штуки, треники, чистую новую футболку и косметичку (на случай вечернего похода в кабак). Парни, я полагаю, свели свои бытовые принадлежности к спартанскому минимуму — зубная щетка и запасные трусы. Не смотря на сентябрь в Остраве была лютая жара, градусов тридцать, я думаю.
Спустя час, успев помыться с дороги, мы уже стояли с навигатором на ратушной площади. Я потащила всех в ближайший ресторанчик. Недолгое ожидание — и вот она, классика чешского застолья перед нами. Гуляш с лучком, вепрово колено, картофельное пюре, квашеная капустка и пиво. Это был заслуженный и выстраданный долгой дорогой рай. Больше всех радовался наш водитель. Откусывая куски свинины и прихлебывая пивко, он блаженно приговаривал: «Вовововот бы ттттак в каждом гооороде, ссс…!» Он всё время заикался, и поэтому мы его звали Мимимиша. Кажется, он не обижался. Парни ликовали — хороший неспешный обед не менее значим в турах, чем сами концерты, чего уж греха таить.
Когда мы покинули таверну, уже начиналась ночь. Ребята, пошатываясь, двинулись к отелю, с целью продолжить банкет, разумеется. А Лёха предложил мне пройтись еще посмотреть город. Я взяла под руку своего драгоценного коллегу, и мы пропали в темноте. Современные улицы прерывались средневековыми мостовыми — как будто уступая их возрасту и величию. Бесконечные часовни, темный безлюдный сквер, и вдруг — современный железный мост, подсвеченный синими огнями. И между прутьями моста — гигантские мудрёные паутины, в центре которых, замерев, сидели страшные мохнатые пауки.
— Зачем ты играешь? — вдруг серьезно спросил меня баянист. — Оставляя свой дом, неужели ты не устала от всего?
— По-другому я не умею. Сам же знаешь, раз ты здесь.
Этот вопрос не имел ответа, несмотря на то что его чаще прочих задавали журналисты, друзья, да и музыканты сами себе.
Вернулись мы уже под утро, и я мгновенно уснула.
— Проснись, подойди к окну! — гитарист колотил в дверь моего номера. Доносились звуки бегущих по лестнице людей — их топанье напоминало плохо отрепетированную барабанную сбивку.
Я открыла дверь и подошла к окну. Мне сразу стало всё ясно — нашу машину угнали. На месте, где вчера был припаркован наш фургон стояла совсем другая машина, зеленая легковушка. А на асфальте, ближе к тротуару, валялось битое стекло. Всё, что находилось в машине исчезло вместе с ней, и в это было невозможно поверить. Дальше была полиция, русскоговорящий переводчик, допросы, суета. Сабри сходил с ума — вечером запланирован концерт, и далеко не последний в этом туре. Впереди еще четыре шоу, в разных городах, и завершающий — в Вене, где нас ждал полный «sold-out». Мимимиша терял самообладание. Он был единственный из нас, кто плакал, и без конца звонил жене. Его Мерседес — возможность прокормить семью и двоих детей. «Почему вы не воспользовались платной парковкой?» — логичный вопрос от полицейских имел только один ответ. Русская привычка экономить, плюс авось. Составив протокол и пожав плечами, полицейские ушли, оставив нас наедине со свалившимся на нас несчастьем.
Я посмотрела на себя в зеркало. Бывалые джинсы и майка «Amon Amarth», хорошо хоть косметичка с собой, чудом. А что, я давно хотела сыграть концерт «без имиджа», как старые гаражные трешеры. Моя мечта стала реальностью уже этим вечером — мы вышли на сцену клуба Остравы, взяв в руки чужие инструменты, которые нам одолжили местные рокеры. Братство, не имеющее территориальных и языковых границ. Мы только не смогли заменить баян — аутентичный профессиональный прибор не мог иметь аналогов. В клубе был аншлаг и духота. Шокированные произошедшим, местные металлисты подходили к нам и выражали сочувствие и стыд за свой город. Город-то здесь при чем, думала я. Он прекрасен. Мы обнимались.
Взяв в аренду новый минивэн, мы продолжили свой путь. Я смотрела на трассу, и мне захотелось русского рока. Его глубины и тишины. Есть такая музыка, в которой живет тишина. Это полное принятие, всего, как оно есть. Как «Песни нелюбимых» Гребенщикова, песни выброшенных на лёд. Здесь был Летов и его «слишком хорошо, чтоб отказаться, слишком страшно, чтобы взять», «Наутилус» видел пламя костров, это значит, что здесь скрывается зверь. Я надела наушники. Мы ехали в Будапешт, где публика ждала от нас победы, и мы везли им настоящий рок-н-ролл, просравший на своём пути всё, без остатка. Мы везли им песни, в которых строили дом из снега, и где олень каждое утро брал солнце на свои рога, весь день тащил его по небосклону, и в конце дня — уносил за горизонт. Мы везли им то, что у нас оставалось — русскую душу. На чужих гитарах, мы разнесли в тот вечер клуб к чертовой бабушке. А после к нам подходили венгры и русские, обнимали нас и угощали самогоном. «У вас же, наверное, украли и водку тоже…» — с сочувствием говорили они. Наверное, в их глазах это была самая страшная наша потеря.
Я вернулась мыслями в Остраву, где мы в последний раз покинули свой автомобиль. Прошла тридцать шагов до гостиницы по серому раскаленному тротуару. Могла ли я знать тогда, что ждет нас впереди? Может быть, есть на свете какой-то отдельный, специальный бог, бог рок-н-ролла? И он захотел жертвы. Быть может, давая тебе право сказать своё слово вслух, пронести его через путь от сердца до полного зала, он должен взять что-то взамен? Твою жизнь — убив тебя наркотой или алкоголем. Твою совесть — развалив твою семью из-за долгих разлук и соблазнов. Твоё спокойствие и достаток — когда ты бросаешь «мирскую» работу ради гастрольной жизни, или твоё здоровье — которое уносят сквозняки долгих зимних сибирских трасс. Почему я не думала об этом, когда шла эти тридцать шагов? Наверное, потому что я была счастлива, а счастливые не хотят думать о цене. Счастливые глухи к предчувствиям. У нас впереди были тысячи километров, мы были молоды и безбашенны, а за углом нас ждал Мимимишин минивэн — как проводник в мир мечты.
Нас обнимали фанаты, кто-то даже принес одежду — мне подарили длинный черный балахон с портретом Элвиса Пресли на спине. А я улыбалась и думала — как же хорошо, что мы все живы. И пусть где-то там, далеко, по тайным дорогам Остравы, ведомый чужими лапами едет наш дом на колесах. Капризный бог рок-н-ролла забрал его, но пощадил нас. Значит, мы ему еще пригодимся. Но теперь я точно знаю — однажды он придет и за нами.

Тапочки
I
— Задание номер четыре… — прочла Маша, подобрав под себя ноги и свернувшись на вельветовом стуле с подлокотниками.
На ней был светло-коричневый трикотажный костюм и подвеска с кулоном в виде головы Микки-Мауса, длинные каштановые волосы она собрала в небрежную косу. Дочитав страницу до конца, Маша лизнула указательный палец и взяла следующий лист.
«Что за дурацкая привычка?» — подумал Юра.
— Задание номер четыре, — повторила Маша. — Выберите памятную для вас дату…
Юра сделал нетерпеливый жест: «Да понял уже. Поехали дальше».
Как его злила эта Машина затея! Сегодня суббота — заслуженный выходной. Не надо отвечать на постоянные звонки, решать бесконечные вопросы, доказывать кому-то одно и тоже… Тома и Стёпа — у бабушки в Одинцово. Почему бы просто не выпить вина, посидеть, поболтать, посмотреть какую-нибудь глупую комедию, а завтра спокойно поспать до одиннадцати и поехать к родителям забирать детей? Не-е-ет… Этой прилежной ученице обязательно нужно выполнить все дурацкие задания идиотского психолога.
«Швабра в очках!» — вспомнил его Юра.
Какой-то чудак сказал, что семья — это работа. Пришёл вечером домой, надел тапки и — снова на «работу». Юра ненавидел это выражение. На работе — паши, дома — работай. Когда отдыхать?
Он подлил себе вина и с тоской посмотрел на пухлую стопку бумаг рядом с Машей. Неужели она собирается всё это делать сегодня?!
— Задание номер четыре… — не унималась Маша.
— Машунь, я это понял. Давай уже ближе к телу! Выбрать нужно памятную дату…
— Да! Число и месяц.
— 31 мая!
— И что у тебя такого произошло 31 мая?
— 31 мая 1223 года произошла битва на Калке.
— Очень смешно. А других важных дат в твоей жизни нет?
Юра невольно вздохнул и произнёс обречённо:
— 26 декабря 2016 года.
Три года назад, а точнее, три года и две недели назад была их свадьба.
Каких-то три года, а как много событий! Родился Стёпа, переехали из Одинцово в Москву, Юре дали в подчинение отдел, Маша на работу не вернулась…
А ещё… а ещё… непрерывные ссоры, взаимные претензии, обидные слова, нападки на родителей, сборы вещей, второй шанс, «давай попробуем»… И вот эта «швабра в очках» надавал заданий, и теперь нужно выдумывать какие-то даты. Как будто молодым, здоровым людям в субботу вечером заняться нечем! И снова возникла в голове эта дурацкая фраза «пришёл домой, надел тапки». Юра подпёр голову ладонью и посмотрел на жену.
— Это задание закончим, и всё… Гугли… — произнесла она с виноватой улыбкой.
— В задании так и сказано — «гугли»?
Маша взяла листок:
— В задании сказано: «Выберете памятную для вас дату и попробуйте найти что-нибудь в сети. Возможно, это будет какое-то мероприятие в будущем, или поездка, или координаты…».
Юра пожал плечами, взял телефон и ввёл цифры.
— Та-а-ак… И что мы имеем?
Реклама оригинального картриджа для Hewlett Packard, аккумулятор Harper, горный велосипед «Десна»… Ты себе хотела велосипед?
— Нет…
— Понятно… А мне не особо нужен картридж и аккумулятор.
— Напиши тогда «2612 ДАТА».
— Информация по делу номер 02 — 2612/2016. Мосгорсуд. Истец…
— Следующее!
— Расшифровки DOT-кода. Легковые шины… Маша, это как-то глупо!
— Давай разберёмся!
— Да нечего тут разбираться, поехали уже дальше!
— Рейс! Рейс! Набери «РЕЙС 2612»!
— Маша, убавь, пожалуйста, громкость. Что за экзальтации?
— Это не экзальтации, просто я…
— «Аэрофлот». Рейс 2612… Москва — Милан.
Юра увидел, как вспыхнули зелёные глаза.
— Посмотри, есть ли рейсы на 26 декабря!
— Маша, ты бредишь?! Это через полторы недели!
— Посмотри!
— Зачем?
— Тебе сложно?!
— Я не понимаю этих фортелей, честное слово. Зайти в «Перекрёсток», чтобы просто посмотреть на помидоры, — прошипел себе под нос Юра, но билеты начал искать.
— Есть! Ну… как тебе цена? — он торжественно положил перед Машей телефон и со злорадством наблюдал, как она бледнеет.
— Я себе отложил деньги на новый костюм, — рассуждал Юра. — А за билеты отвалим полтора моего костюма, да ещё и туфли в придачу!
Маша молчала.
— А гостишка, а еда, а транспорт?! Придётся из энзэ брать. Бред!
— Костюм, конечно, вещь важная… — сказала едко Маша.
— Что?! — Юра почувствовал, как кровь ударила в щёки. — Мой внешний вид — это моя визитная карточка, которая приносит нам деньги. У меня сделки, клиенты…
— Юра, нам нужна эта поездка!
— Кому нужна? Ты в адеквате? Вылет через полторы недели!
— Юра…
— Тебе как взбредёт что-нибудь в голову! Решила устроить себе неожиданный отпуск в конце года? Маша, делу — время, потехе — час! Я…
— Что-то у нас много дела в последнее время… — тихо, но твёрдо прервала его Маша.
— И-и?
— И у тебя один режим: проснулся, поел, пошёл на работу, пришёл с работы, поел, лёг спать. Ты робот. Тебя утром включили — вечером выключили…
Юра сел напротив Маши.
— Не собираюсь вступать с тобой в дискуссию. Формированием капитала в этой семье занимаюсь я, и я решаю, на что мы его расходуем. Разговор окончен!
Он встал из-за стола и направился в спальню.
Когда Маша зашла к нему, Юра лежал с раскрытой книгой Бернарда Шоу. Она протянула ему плоскую прямоугольную коробку в подарочной упаковке.
— Что это?
— Мой подарок на годовщину.
— Мы же договаривались без подарков. Посидеть в ресторане, и всё…
— Я захотела и купила. Открой.
Юра развернул упаковку. В коробке лежала кожаная записная книжка Moleskinе.
II
24.12.2019
Очень болят уши. На посадке заложило так, что теперь почти ничего не слышу.
Гостиница сносная. Ещё бы! Рассчитался за пять ночей своим будущим костюмом.
Маша ходит довольная как слон.
Взял с собой ноутбук, чтобы быть на связи. Поработал где-то часа два, потом пришла Маша и сказала, что хочет есть.
Мы сходили в какой-то ресторан — рядом с этой их известной галереей.
Ночью не мог уснуть из-за грохота уборочных машин.
25.12.2019
Проснулся в шесть.
Пробежал восемь километров. Полусонная Маша чего-то снова бурчала про режим.
От гостиницы добежал до широкой улицы, потом — до кольцевой с памятником (как выяснилось позднее — Гарибальди), добежал до фонтана, обогнул замок и попал в парк. Там накрутил необходимое количество километров и вернулся обратно.
В обед поработал, пока Маша гуляла.
Вечером хотел пойти куда-нибудь поесть и после лечь спать, но… пошли на экскурсию (фейспалм).
Час шатались по городу. Коротышка-гид тараторил про какие-то нефы, витражи и квадрони.
Я жутко замёрз. Потребовал тепла и пищи.
Сволочь-гид не особенно спешил вести нас в ресторан и плёлся козьими тропами.
— А вот наш знаменитый театр Ла Скала, — произнёс он и показал на какое-то ничем не примечательное здание.
Да уж… Это тебе не Большой.
К ресторану мы пришли в тот момент, когда я хотел распрощаться с отмороженными ступнями.
Правда, нам довольно быстро принесли вина и две огромных тарелки с ризотто и тушёной телятиной. Когда бутылка была ликвидирована, я оттаял. На радостях предложил Маше завтра первым делом купить ей красивую сумку.
— Первым делом купим тебе шерстяные носки, — сказала Маша.
26.12.2019
Встали поздно. Часов в десять. Очень вкусно позавтракали кофе с круассанами (скузи, с корнетто).
Купили мне шерстяные носки. Я показал Маше, где бегаю.
Гуляли по парку, болтали. Даже попытались покормить уточек.
Купил Маше кожаную сумку. теперь мы в расчёте.
В винотеке на Via Dante набрали вина.
Обнаружил, что не взял с собой телефон.
Когда пришёл в номер, удивился. А ведь никто не звонил…
27.12.2019
Едем в Венецию.
Пропали мои туфли и ещё один костюм.
Второй день учу итальянский, решил протестировать его на вагоновожатом (или как там их называют?).
— Тебе минералку с газом или без? — вальяжно спросил я у Маши.
— Без.
— Frizzante, prego!
Парень понимающе кивнул.
Принесли с газом.
Собрались посмотреть фильм на ноутбуке. В итоге половину поездки наблюдали пейзаж в окошко.
Откупорили бутылку «Плоцца». За четвёртым бокалом я торжественно признался, что 2020-й сделаю Годом Италии.
Для этого я:
- выучу итальянский на уровне pre-intermediate;
- научусь готовить минимум пять блюд итальянской кухни;
- прочту пять книг классической итальянской литературы;
- посмотрю десять фильмов с великими итальянскими актёрами.
Маша рассмеялась и предложила начать с языка.
28.12.2019
Вот уже второй день мы в Венеции.
Когда плыли на речном трамвайчике по Гранд-каналу, я только и делал, что смотрел по сторонам, улыбался и обнимал Машу.
Мы много гуляем… Просто так, без цели. Забредаем в какие-нибудь кафешки, магазинчики. Купили два билета на концерт Вивальди.
Поймал себя на мысли, что три дня не думал о работе…
III
Они поднялись по каменной лестнице, тускло освещённой электрическим светом, и попали в небольшой зал.
Капельдинер предложил выбрать любое удобное место.
Юра блуждал по рядам и никак не мог определиться, куда сесть. Его отвлекали сводчатые потолки, огромная бронзовая люстра, бархатный жилет капельдинера и деревянные стулья с красной обивкой. Вскоре все места были заняты, и они вынуждены были пристроиться где-то сбоку, откуда был виден только небольшой краешек сцены. Вышли музыканты: четыре скрипки и одна виолончель.
Юра заволновался:
— Я ничего не увижу!
— Это необязательно… — успокоила его Маша.
Как будто в подтверждение её слов погас свет и от музыкантов остались одни силуэты.
Разом заиграли «Весну».
Весна грядёт! И радостную песней
Полна природа. Солнце и тепло…
Юра столько раз слышал этот мотив, что снисходительно улыбнулся. Но вскоре он начал следовать за мелодией и закрыл глаза. Мысли его блуждали, исчез зал, люстра, музыканты. Юра остался один на один с шедевром рыжего священника.
Вдруг жалобно застонала солирующая скрипка. Юра почувствовал, как сдавило горло и напряглись мышцы на лице.
«Ну вот тебе раз…» — плечи его содрогнулись, и вся накопленная усталость, злость и раздражение, которые он привёз из Москвы, покатались по трясущемуся упрямому подбородку. Маша прижала его к себе и сказала шёпотом:
— Юра не бойся, никто тебя здесь не видит.
На вокзале «Санта-Лючия» в ожидании поезда они сели в кафе и заказали себе пиццу.
Юра смотрел на жену, на её длинные каштановые волосы, на родинку над верхней губой, на то, как аккуратно она отрывала куски пиццы и сыр пачкал её тонкие пальцы. На груди ласково блестел кулон с Микки-Маусом.
— Я сейчас вернусь, — сказал он вдруг.
— Ты куда?
— Я скоро. Не скучай.
Юра помчался к ближайшей сувенирной лавке, купил открытку и почтовую марку. На марке был изображён какой-то собор, на открытке — площадь Сан-Марко.
Юра попросил у продавца ручку и начал:
«Дорогая Маша, привет тебе из Венеции…»
Он писал быстро, с нажимом, оставляя чёткие угловатые буквы. Слова нежные и так редко им произносимые сыпались на бумагу.
Наконец вся обратная сторона открытки была исписана. Юра наклеил марку. Потом задумался и дописал:
«P. S. Micio mio, подари мне, пожалуйста, на Новый год какие-нибудь удобные тапочки».

Эксперимент
Мама эксперименты не любила, за здоровье и благополучие своих детей очень волновалась и выбрала самую проверенную клинику города для планирования родов. Отдельный отсек, круглосуточный уход, новейшие технологии, лучшие профессора со всей страны. Поговаривали, что даже специалист из Штатов консультирует сложные случаи.
— Но это в крайнем, так сказать, пожарном. У вас такие замечательные анализы, все пройдёт мгновенно и без затруднений, — говорил маме заведующий клиникой, когда она подписывала электронные документы. Серьёзный мужчина в золотых очках и белоснежном халате, с успокаивающим голосом. — У нас лучшие родильные аппараты самой последней модификации и квалифицированная техподдержка. Швейцарские часы — и те ошибаются, но не наши машины! Как только мы обработаем все ваши данные, вам на приложение в телефон поступят точные дата и время рождения дочери.
Мама рассеянно кивнула. От разговора её отвлекала возня трёхлетних близнецов, Мии и Матвея. Они бегали вокруг неё друг за дружкой и по очереди пинали барахлившего робота-няньку, грозились переформатировать его в тостер.
— Вы все инструкции скачали? — Голос заведующего вернул маму в видеочат. — За час до родов вы поступаете в индивидуальный отсек, затем роды, строго по расписанию, и сразу домой.
— Да-да. — Мама рассеянно кивнула. — За час поступаю, роды… Что, прям сразу потом домой можно?
— Конечно! Я же говорю — технологии!
Врач улыбнулся на прощание, сигнал видеосвязи прервался, и мама осталась в комнате одна. Близнецы куда-то унеслись. Впрочем, был ещё робот-нянька, бесконечно начинающий сказку про дудочку и… дудочку и… дудочку и… Мама легонько тронула робота носком туфли. Может, тостер — это неплохая идея?
— Дышите ровно. Не тужьтесь. Расслабьте подбородок. Соедините указательный палец правой руки и мизинец левой. Дыхание спокойное. Полное. Представьте, что вы на берегу озера с идеально гладкой поверхностью.
Мама лежала на специальной кушетке в изолированном отсеке, опутанная проводами, окружённая диодными экранчиками и всевозможными кнопками и тумблерами, из динамика лился механический голос, перегородки играли голубыми всполохами, родильный аппарат не работал. На чёрном экране плавала заставка, тикали часы, показывая время, проведённое мамой в палате: 53 часа, 44 минуты, 13 секунд. Система дала сбой, и маму привезли в клинику за три дня до намеченного срока.
Медсестры и врачи сохраняли непробиваемое спокойствие и на все вопросы отвечали одно и то же: рождение произойдёт в указанное компьютером время и ни секундой раньше, просто надо немного подождать, под их бдительным присмотром, разумеется, здоровье прежде всего, и матери, и плода.
Первый день мама провела за чтением брошюр о воспитании здорового жителя планеты, наслаждаясь тишиной и роскошным питанием. Весь второй лежала под капельницей, голова кружилась от смеси препаратов, строчки перед глазами расплывались. Она читала комментарии на форуме клиники, где счастливые родительницы делились опытом и восторгами. «Я ждала, да, целый день, было трудно, но зато результат. Мой сын станет вторым Рахманиновым». «Подумаешь, повалялась пару дней в шикарной обстановке, а близняшки побьют рекорды по плаванию и прыжкам в высоту, стоило того!» «Поразительно, но машина рассчитала и оптимальный знак зодиака, и по хьюмандизайну такие прогнозы обещающие, разве ж я могла расстроиться из-за небольшой пятичасовой задержки? У моей дочери будет всё лучшее!» Да, некоторые сообщали о непродолжительных промедлениях, но никто не писал о целых трёх днях ожидания, и мама немного волновалась. Но ведь она под присмотром суперкомпьютера. Технологии не могут ошибаться.
На третий день начались самые сильные схватки, и не помогали ни капельницы с блокаторами, ни психологические приёмы. Мама в полубреду ворочалась на кушетке. Экран машины оставался черным… Часы на заставке мерцали и тикали.
Мама потянулась к кнопке вызова медсестры, но промахнулась, нажала не туда, звукоизолирующая ширма откатилась, и отсек заполнился шумами из коридора. Где-то плакал младенец, кто-то стонал, где-то счастливо смеялись.
— А кто это у нас тут буянит? — В отсеке почти сразу объявилась медсестра с пультом управления. Ширма снова сомкнулась непроницаемой завесой, голоса замолкли. — Ну, куда мы так спешим? Кнопочки нажимаем, а?
— Послушайте, я больше не могу… я задыхаюсь… схватки… больно… бывают же преждевременные, или как это называют…
— Да вы что такое говорите! — Медсестра побледнела от ужаса. — У нас лучшая клиника! Преждевременные… Даже не думайте! Все так стараются, лучшие родильные аппараты настроили. Алгоритмы самые последние скачиваем ежедневно. Техподдержка работает. Да вот смотрите же, вот и началось!
Чёрный экран ожил, замерцал голубым светом, поползли жёлтые строки кода, и почти сразу голубой свет сменился красным. На весь экран полыхало сообщение: «Эксперимент».
В отсек вошли двое мужчин: заведующий в золотых очках и маленький седенький старичок с планшетом. Второй сразу подбежал к экрану, подсоединил свой гаджет и начал что-то набирать.
— Что происходит? — Мама натянула одеяло до подбородка, как будто пыталась защитить себя и живот от чего-то опасного.
— Машина дала сбой. — Заведующий пытался слиться со стеной отсека, стать незаметным, но приходилось говорить. — Ваша дочь не может появиться на свет вовремя. По непонятным причинам… Значит, э-э-э, придётся аннулировать роды.
— Да вы с ума сошли! Это Нина, моя девочка, она вот-вот родится, я чувствую… Я не дам аннулировать!
— Боюсь, ваша дочь не подаёт признаков жизни, — заговорил старичок с планшетом. — А значит, режим родов автоматически отключается, протокол не предусматривает работу аппарата, если теряет связь с ребёнком.
— Нет, она жива, я знаю, я не… Сделайте что-нибудь, вы же врач, акушер.
Заведующий рассеянно бормотал:
— Не могу поверить, что такое творится в мою смену, я не проходил дополнительный инструктаж для таких случаев… я же хотел сегодня… меня ждали на съёмках рекламы…
Медсестра приобняла его, стараясь успокоить.
— Вы актёр! — ахнула мама. Она закрывала живот руками, гладила его, а по щекам текли слезы. — Вы все тут актёры… Но машина, она же лучшая, почему она не может помочь?
К маме тихонько подошёл старичок и погладил её по руке
— Милая, эту машину изобрёл я. Я автор всех алгоритмов. И я старался все спроектировать так, чтобы процент неудачных родов сошёл к нулю. И преуспел. И врачи-акушеры оказались больше не нужны…
— Вы автор? Значит, вы тоже врач? Были им? — Мама плакала и не отпускала руку старичка.
— Я изобретатель, механик. Но очень давно я присутствовал при родах, при устаревших процедурах, мне же надо было описать процесс, закодировать его для компьютера. И однажды я… Но как же я смогу. У меня инструменты не медицинские… Хотя лазеры можно было бы перенастроить…
— Умоляю! Хотя бы попробуйте.
Заведующий слабо закивал, хотя на него уже мало кто обращал внимание.
Механик ещё раз изучил данные на планшете и скомандовал медсестре:
— У машины есть программа дополнительной анестезии, заводи!
Мама провалилась в сон.
Так родилась Нина. Да, она немного припоздала. То есть нет, родилась раньше назначенного времени. Короче, родилась, и точка. Маме успешно сделали кесарево сечение, операцию, безнадёжно устаревшую в новом веке, но механик обещал запрограммировать доп-протокол для машины. Все-таки клиника должна была остаться самой престижной, а родильная машина — самой совершенной. Надеюсь, он сдержал обещание.
Разумеется, все детали своего появления на свет Нина знала из маминых рассказов. Но кое-что помнила сама. Помнила Белый город, который увидела до своего рождения. Высокие здания, величественная громадина папского дворца, колокольня с золотой статуей Девы Марии на вершине подпирает звёздное небо. Её сердце замерло от красоты. Но Нину вовремя достали из утробы матери, сняли обмотавшуюся вокруг шеи пуповину, привели в чувство. Нина вздохнула, сердце снова забилось.
Каждый раз, закрывая глаза, она видит огни того прекрасного города, фонари и свет из окон, огромные звезды на чёрном бархате неба.
Когда Нине было шесть лет, она чуть не утонула в озере, оступилась на скользком камне и начала погружаться. Сквозь воду, заливавшуюся в нос и рот, девочка снова различила знакомые белые стены. Совсем рядом был мост, обрывавшийся на середине реки. Кажется, у часовни на мосту кто-то стоял и махал Нине. Она не успела разглядеть, мама схватила её за руку и выдернула из воды. С тех пор Нине снятся кошмары, как её накрывает огромная волна и она не может дышать. Нина замирает от ужаса и просыпается в холодном поту.
А в двадцать семь лет Нина наконец побывала в Белом городе. И оказалось, что для этого совсем не обязательно быть при смерти, в него ведёт много путей.

Первый воздух
***
свет рассеянный
не знает, куда упасть,
забыл, как сжиматься в лучик,
где потерялась форма.
заполняет собой
всю комнату.
***
лед идет, как младенец,
впервые.
время приходит,
лед тянется вверх, вырастая,
падая ливнем.
***
кукурузное зернышко
проросло сквозь пакет от попкорна.
оно представляло солнце,
когда горело в печи.
***
дыра в провинции —
теплое озеро.
лапы щенят испачканы в землянике.
дети греют в ладошках смолу
и лепят фигурки.
пластилин не купили —
мама не разрешила.
ребенок думает —
мой дом в центре города,
пару минут пробежать —
окажешься на окраине.
в поле зрения только поле.
а ребенок смотрит на озеро вместо неба.
***
желтые ротики рыб
из земляного моря
расталкивают снег,
хватают свой первый воздух,
и трескается лед,
треска выплывает наружу,
и льется и льется и льется
холодное голубое.
***
будет гроза.
свет будит глаза.
бог раскалывает орехи,
и звучит гром.
вода врезается в землю,
молния — в крышу.
идет белый дым —
становится небом мой дом.
***
полое небо черное.
ветер с искрой огня
надувает медуз из стекла.
они разбиваются с треском,
с цветом,
на счастье.

Семена
* * *
Дети бегают в щупальцах осьминогов,
Алых, салатовых и аметистовых.
Поле их сцена, им нужно совсем немного,
Чтоб побыть артистами.
Ветер уносит выше воздушных гадов,
Девочка вьется следом на тонких нитях.
Как она будет падать?
Как будет падать?
Ловите…
Третий
…Потом вошли, торжествуя, дети
Рассказать, что родился третий.
Дед плакал.
Но улыбался — шире.
Все больше веточек в этом мире.
Древо исходит из солнечного сплетения —
Из его груди —
Поколение за поколением.
Полнится кровью Украины,
Кубани,
Бурятии.
И хорошо, что мальчик.
Дело тут не в принятии,
Девочки тоже любимые. Но один этот звук
Заставляет нутро ликовать.
Внук.
Внук.
Внук.
* * *
Жизнь становится полноценной,
Звенящей, как грудь с приливом.
Можно глотать ее как плацебо
И быть счастливым.
Не потому что таблетка лечит,
А потому что глушит.
(Все забываю поставить свечи
За наши души).
В этом вот месте пускают титры,
Чтоб был финал открытым.
Если копнуть мои молитвы —
Ты там.
Ты, превратившийся в единицы
Ставшие в ряд с нулями.
Жизнь, прорастающая в теплице
Семенами.
Семечко, семечко, оболочка,
Почечка, корешок.
Цикл завершается — это точно
Хорошо.

Бегущая по строкам
Когда мне было шестнадцать лет и пришло время выбирать будущую профессию, я влюбилась в Пашку из соседнего подъезда, улыбчивого старшеклассника с дредами и в косухе. Поэтому я не хотела ничего решать, а хотела платье как у Бритни Спирс, перекрасить волосы в розовый цвет, как певица Pink, и целоваться с Пашкой до утра под звуки песен группы Rammstein.
В один прекрасный день мама зашла в комнату, где я лежала на кровати в обнимку с подушкой, и поинтересовалась, какие у меня дальнейшие планы в этой жизни. Я подняла голову от фотографии Пашки и блокнота, в который записывала только что сочиненное стихотворение о любви, и посмотрела на маму как баран на новые ворота. Мудрая мама, конечно же, все поняла. Она вздохнула, махнула рукой и сказала: «Будешь учиться на филолога — у тебя русский с литературой хорошо идут». Я не возражала, русский и литература мне нравились, и через год поступила на факультет русской филологии в Московский государственный областной университет, сокращенно МГОУ. Почти МГУ, думала я.
Учиться в университете оказалось замечательно. Не приходилось больше прятать книжку под партой на химии — химии здесь не было, ненавистной математики и физики тоже, зато была разная литература — русская, зарубежная и античная. А еще были хор с балалайкой и русскими народными костюмами и поэтический кружок «Стихоплет», и везде меня приняли как родную.
Моя сестра Катька, вечно до пяти утра чертившая проекты для Бауманки, закатывала глаза и с завистью восклицала: «Сидит себе, книжечки почитывает. К сессии она так готовится. Вот лафа-то!» В ответ я показывала Катьке язык и продолжала наслаждаться «Дафнисом и Хлоей», «Илиадой», «Одиссеей», «Юлией, или Новой Элоизой». Про Пашку и розовые волосы я успела к концу первого семестра благополучно забыть — с километровыми списками литературы как-то не до глупостей. Моей новой страстью стали книги. В группе «Филологическая дева» в социальной сети «ВКонтакте» был популярен в то время такой мем: «Еще одна ночь в обнимку с Борхесом, и он доведет меня до верхнего колонтитула». И я засыпала, положив под подушку книги Борхеса, Маркеса, Кортасара или Неруды — моих любимых латиноамериканцев.
Я не очень-то общительный человек, приятелей у меня раз-два и обчелся. Лучшие друзья филологов — это, конечно, книги. Для меня идеальная работа — с текстами, а не с людьми. Мне нравится играть со словами и буквами, исправлять ошибки. Я получаю от этого такое же удовольствие, как дети от мороженого и конфет.
Люблю, когда все гармонично. Язык и текст — это основа основ, ведь в начале было слово, а мир — это кем-то рассказанная история. У меня есть гипотеза, что наша реальность — созданная Творцом книга, и все написанное в ней постепенно оживает. Потому пророкам и удается угадывать будущее, что они благодаря своему дару могут читать Книгу жизни с любого места, заглядывать на еще не прочитанные историей страницы.
Многие люди думают, что работа корректора и редактора однообразна и скучна: несчастный человек сидит целыми днями и исправляет ошибки. Мой опыт говорит об обратном: эта работа интересная и веселая, ведь опечатки всегда разные, и они бывают очень смешные. Например, Галина вдруг становится Гадиной, а в имени Юля случайно вместо Ю появляется роковая буква Б. Мне еще ни разу не было скучно.
Однажды наступил день, когда я начала работать внештатным литературным редактором в издательстве «Эксмо», в отделе женской остросюжетной прозы, и параллельно корректором в газете «Твой день». Я была в то время студенткой четвертого курса, воспитанной на изящном слоге Пушкина и Тургенева. И вдруг мне пришлось читать совсем другую «литературу» — роман про то, как женщина бальзаковского возраста собирается на свидание к возлюбленному в тюрьму и покупает трусы с секретом. Впервые в жизни я испытала чувство, когда пишет кто-то другой, а стыдно почему-то мне. Я, как несчастная мышь из анекдота, плакала и кололась, но продолжала грызть кактус, успокаивая себя тем, что надо же где-то получать необходимый опыт работы.
Преподавательница по исторической грамматике, когда я рассказала, где именно работаю, покрылась красными пятнами, стукнула кулаком по столу и воскликнула: «Ужас! Кошмар! Мы вас столько лет учили, растили ученых, специалистов. И ради чего? Чтобы вы в желтой прессе работали и порнографические романы вычитывали?» В тот момент я поняла, что свернула не туда.
Следующим местом работы я выбрала солидное медицинское издательство, выпускающее учебники и практические руководства для врачей, и первое время до боли в затекшей шее проверяла со словарем написание каждого медицинского термина. Со временем стало легче, потому что термины были каждый раз одни и те же.
Я убедилась, что работа редактора очень ответственная, нужно тщательно проверять любую информацию. Иначе можно попасть в неприятную ситуацию. Как-то я вернулась из долгого отпуска и с новыми силами принялась исправлять ошибки. Вызывает меня заведующая редакцией и недовольно спрашивает: «Ты, что ли, исправила Минздрав РФ на Минздравсоцразвития РФ?» Говорю: «Да, я. Мы же всегда это правили». Оказалось, пока я была в отпуске, Минздравсоцразвития переименовали обратно в Минздрав.
Иногда я редактирую настолько интересные рукописи, что забываю обо всем на свете, днем и ночью живу в мире книги.
Коллега, уезжая в отпуск, попросила меня пожить у нее дома с ее питомцами — черной и серой кошками. Я в то время редактировала учебник по психиатрии, с интересом читала про истерию, шизофрению и другие психические расстройства. Я приехала в квартиру поздно вечером. Накормила голодных животных сухим кормом и стала думать о том, чем же накормить себя. Не отрываясь от интереснейшей главы про симптомы шизофрении, нащупала в холодильнике пару яиц. Прекрасно, подумала я, здесь есть еда. Пожарю-ка яичницу. Но где же подсолнечное масло, размышляла я, перебирая на ощупь разные бутылочки в шкафу. Вот, что-то в стеклянной бутылке — наверное, оливковое масло. Не глядя, щедро плеснула ее содержимое на сковородку, разбила туда два яйца, посолила и отлично поужинала. Только потом, вспоминая странный привкус яичницы, решила из любопытства посмотреть, какое же масло было — оливковое, или льняное, или еще какое-то. Наконец оторвалась от рукописи и посмотрела на бутылку. Каково же было мое изумление, когда я прочитала надпись на этикетке. Протерла очки, прочитала еще раз — нет, не показалось: Johnnie Walker. Black label. Прогуливающийся человечек заговорщически подмигивал мне с бутылки. Два пушистика — серый и черный — сидели рядом на стульях (им не хватало только ведра с попкорном в лапы) и, кажется, смотрели на меня как на дурочку.
Больше всего мне нравилось работать в электричке по дороге в университет. Когда электричка трогалась, я доставала стопку распечаток, ручку и приступала к делу. Развлекалась я тем, что считала, сколько раз самое любимое автором слово-паразит промелькнет в главе. А больше всего меня веселило, что автор на одной странице мог написать один и тот же медицинский термин пятью способами — с разными ошибками и опечатками. Время за работой пролетало незаметно.
Вскоре я стала замечать, что люди, сидящие напротив меня в транспорте, почему-то краснеют, бледнеют, пугаются и отсаживаются подальше. Что со мной не так? Колготки не рваные, платье не испачкано, волосы нормального цвета, то есть не фиолетовые и не зеленые. Хотя сейчас и этим никого не удивишь. Что не так-то?
Поняла я все, когда под дуновением ветра перевернулась распечатанная страница. И то, что я увидела, заставило меня подпрыгнуть на скамейке. Дело в том, что на другой стороне ради экономии бумаги и чтобы ничего не потерять печатали иллюстрации к книге. Не ожидала, что цветные фотографии герпеса и стригущего лишая на гениталиях произведут на меня такое впечатление. А на прошлой неделе, вспомнила я с еще большим ужасом, книга была про вскрытие трупов судмедэкспертами. Представляю, каково было сидящим напротив меня смотреть те картинки.
Мудрый Альберт Эйнштейн сказал: «Все мы гении. Но если вы будете судить рыбу по ее способности взбираться на дерево, она проживет всю жизнь, считая себя дурой». Я рыба, которая не лезет на дерево, не пытается летать или прыгать, а предпочитает долго и с удовольствием плавать. И замечу, чувствует она себя в воде просто прекрасно.

Борат: случай украденной идентичности
Одним из интереснейших, но мало исследованных примеров того, как насаждаются тренды изображения и восприятия идентичности в современных глобальных средствах массовой информации, стал реальный медиа-кейс, связанный с именем британского комика Саши Барона Коэна. Его медиаперсонаж Борат скромно появился на экранах британского телевидения в самом конце 90-х, а вскоре неожиданно для всех сделал успешную карьеру в Голливуде и стал гостем популярных телепередач американского канала HBO, от вечерних развлекательных программ до кулинарного шоу для домохозяек Марты Стюарт.
С самого рождения Борат существовал как минимум в двух ипостасях — как комедийный персонаж Борат Сагдиев, незадачливый репортер из ночной телевизионной сатирической программы, существующий строго в рамках телевизионной реальности, и как реальное «физическое лицо», выдающее себя за журналиста из Казахстана в обычной жизни. В своей второй ипостаси британский актер-комик и политический активист С.Б. Коэн где-то на заре 2000-х регулярно появлялся в различных публичных местах Лондона, запросто подходил к людям и представлялся журналистом из Казахстана.
Пользуясь полным отсутствием у британской публики знаний о далекой, никому неизвестной стране из-за железного занавеса, актер говорил: «Здравствуйте, меня зовут Борат Сагдиев. Я журналист из Казахстана. Я приехал к вам для того, чтобы изучать культуру и обычаи вашей страны и рассказать об этом людям у себя на родине. Могу я задать вам пару вопросов?»
Все это произносилось на ломаном английском языке, при этом актер очень точно и довольно смешно пародировал русский акцент. А внешне он походил на все «интернациональности» сразу, и ни на одну из них в отдельности: пышная, кудрявая, черная шевелюра — такую в англоязычных странах принято называть «афро», гигантские усы, обрамленные трехдневной щетиной, стоптанные, ни разу в жизни не чищенные ботинки, и, наконец, самый узнаваемый, сегодня известный всему миру, а тогда еще успешно вводивший народ в заблуждение непременный атрибут Бората: синтетический серый, купленный на дешевой распродаже, на вид вполне себе «совковый» костюм. Именно этот костюм окончательно убеждал людей, что перед ними — настоящий выходец из бывшего СССР.
На волне всеобщего интереса, а то и просто из чистого любопытства к пришельцам из восточного блока в начале двухтысячных, многие вежливые и воспитанные британцы охотно останавливались, дружески улыбались и вполне серьезно и добросовестно пытались ответить на заданные им вопросы. Популярность актера тогда еще была не так велика, как сегодня, и его практически никто не узнавал. Так что розыгрыш сходил ему с рук, а через некоторое время — если повезет — участник импровизированного интервью мог увидеть себя в том самом ночном юмористическом шоу на британском канале «Channel 4», которое впоследствии побьет все рейтинги популярности.
Вышеупомянутые рейтинги оказались не просто приятным бонусом — они были действительно важны для молодого актера-комика, по совместительству выпускника исторического факультета Кембриджского университета со степенью магистра, который дал себе пять лет на то, чтобы сделать карьеру на телевидении. Саша решил, что если за это время ничего не получится, то он начнет подыскивать себе другую профессию. И действительно старался, делал все, чтобы его заметили, при этом выходя далеко за рамки привычного поведения комедиантов, создающих развлекательные шоу.
Например, в одном из своих интервью создатель Бората рассказал, что для него было принципиально важным никогда не сдавать в химчистку свой главный реквизит — серый нейлоновый костюм, который он «ни разу не стирал с 1998 года». Он также поставил за правило не бриться, не использовать дезодорант и не принимать душ за сутки до того, как выйти на съемки, во время которых он берет интервью в образе журналиста из Казахстана. «Это позволит каждому, кто имеет дело с Боратом, немедленно почувствовать непереносимую, отвратительную вонь советского блока, и создать достоверный характер, который убедит людей поверить, что он явился из страны, где не придают никакого значения личной гигиене», — пояснил актер журналисту NPR news.
Провокационная шутка была принята американской прессой благосклонно. Намек на «дурной запах» недвусмысленно давал понять массовой аудитории, как надо относиться к выходцам из «второго мира», незаметно помогая публике сформировать мнение о стране и людях еще до того, как у них появится опыт личного знакомства с ее культурой, языком и реальными представителями.
Именно поэтому высокие рейтинги эпизодов, связанных с Боратом — большое количество просмотров и стремительно растущая аудитория, преимущественно состоящая из молодежи, — обернулись настоящей катастрофой для молодого независимого государства, по чистой случайности попавшего «под раздачу». Сегодня сложно представить, как мало было известно за рубежом о республиках Центральной Азии после распада Советского Союза. По свидетельству казахстанских политиков того времени, в первую декаду существования страны о ней практически ничего не знали в мире — зачастую даже дипломаты и иностранные журналисты слышали о нас впервые, не говоря уже о широкой публике.
Телевизионный розыгрыш Бората впервые достиг критического градуса PR-катастрофы для Казахстана в 2005 году, когда Саша был приглашен в качестве соведущего на одно из самых рейтинговых телевизионных шоу кабельного телевидения: ежегодную церемонию вручения музыкальных наград на МТV. Анонс о том, что Борат будет вручать награду популярной певице Мадонне гарантировал, что многомиллионное сообщество фанатов и поклонников Мадонны по всему миру ни за что не пропустит такого зрелища. А это означало, что за один-единственный вечер размер аудитории, познакомившейся с Казахстаном через представительство Бората, увеличится в разы.
Вполне понятно, что Саша был в ударе и использовал эту счастливую возможность для того, чтобы привлечь к своей персоне внимание как можно большего числа зрителей. Просто появиться на экране рядом с Мадонной для популярного комика было недостаточно, надо было еще сделать так, чтобы его запомнили всерьез и надолго. Поэтому Саша подошел к делу творчески: прибыл в Лиссабон, где снималось шоу, на допотопном частном аэроплане типа «кукурузник», в неизменном сером костюме, с клетчатой клеенчатой сумкой и косо обрезанным куском ковролина в качестве персональной «красной дорожки». На церемонии награждения в его исполнении звучали похабные частушки из «Казахстана», обильно сдобренные матерщиной. А на фоне изображения флага и герба Казахстана, спроецированных на огромный экран, выступали «подставные» президент и премьер-министр страны, приветствуя международную публику и угрожая «жестоко наказать» нарушителей порядка в зале.
Именно после этой вечеринки казахстанское правительство заявило официальный протест против несанкционированного использования государственной символики и имени страны в подобном формате. В ответ западная пресса высмеяла эти попытки как полнейшее отсутствие чувства юмора у чиновников. Большинство же статей сводилось к тому, что далекая, грязная, отсталая, никому неизвестная страна с малообразованным населением где-то в Центральной Азии, наоборот, должна быть благодарна за то, что теперь о ней узнали люди во всем мире. Ведь Борат принес международной аудитории «месседж» о существовании Казахстана на географической карте. Каков этот месседж, в действительности не так уж и важно. Важно, что страна стала… популярной. Так говорят западные эксперты. А что думаете вы о том, как изображают и воспринимают в глобальных медиа бывшие республики СССР?
Ссылки:
https://www.theguardian.com/uk/2005/nov/15/media.world
https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=6831815&t=1622511
Tracy, Kathleen. Sacha Baron Cohen: From Cambridge to Kazakhstan, NY, 2007, p.170.

Важные вещи
Старый желтоватый конверт с потрепанными краями хранит фотокарточки. В основном черно-белые и несколько цветных. На них особенные моменты из жизни нашей семьи. Если само мгновение не зафиксировано, кладу в конверт фотографию из того периода. Получается «линия жизни» с важными, переломными событиями. В альбомах — архив. В конверте — самая суть.
Вот, например, полугодовалая я на коленях у мамы. Мама смотрит прямо в объектив и улыбается своей неповторимой улыбкой, от которой светятся глаза. И вся она светится. Через пару месяцев маме придется выйти на работу, поручив меня няне. Отношения в семье все усложняются. Здоровье мамы не очень, и когда мне будет три, пренебрежение к себе откликнется долгим-долгим больничным и нашей разлукой. Но когда я на коленях у мамы, она улыбается и светится.
Или вот я с новорожденным сыном. Всего час от его появления. Растерянный он. Счастливая я.
Меня поразило, с какой скоростью в первые минуты жизни нового человека в воздухе зазвенели и повисли числа: время, граммы, сантиметры.
«А какой у него вес и рост?» — слышала я чаще всего в первые пару месяцев после его рождения.
Потом окружающих интересовали сон, количество зубов, «умелки» по месяцам. Которые в будущем сменятся вниманием к уровню послушности, успеваемости в школе, наградам на соревнованиях и в олимпиадах.
Мне бы хотелось рассказать им о синих-пресиних глазах сына. Улыбке с первого дня жизни и смехе с восьмого. О его ранимости и его музыкальности. Но их нельзя потрогать или повесить на стенку, в отличие от медалей и дипломов.
Еще в конверте есть я и собака Динка. Моя первая собака. Победа родительской любви над родительскими же принципами. Белая с черными пятнами, жесткой шерстью, длинными лапами и одним висящим из-за болезни ухом, она похожа на далматинца. Такой Динка осталась на многочисленных моих рисунках. Она дворняжка. Умная, ласковая, преданная. Правда, без паспорта и, в общем-то, бесхарактерная для дворовой собаки.
Вот я и мама на Финском заливе. Шершавые огромные валуны, волны и брызги воды, ветер, чайки, сосны и белый песок, в который мягко проваливаются кеды.
— Где вы были? Что видели? Ах, да, да, там хорошо. Природа, воздух, даже вдохновение какое-то. А как твой диплом?Досрочно защитила? Вот молодец! Вот это голова!
В конверте нет фотографии мамы, сидящей в больничном коридоре. Из того периода фотографий вообще нет. Но я хорошо помню тот январский вечер. Мы вышли из палаты «прогуляться». Напряженный ламповый свет. Где-то шумит чайник. На маме синий халат. Просит меня принести стул — устала. Из-за болезни кожа мамы пожелтела. Желтые руки лежат на коленях. Она сутулится и тяжело дышит. Видит меня у медсестринского поста. И улыбается. Своей неповторимой улыбкой, от которой светятся ее пожелтевшие глаза.
Я еще не знаю, что всего через два месяца ее не станет. Но уже с весны чувствую какую-то перемену в маме.
В середине мая она провожала меня на вокзале. Вспомнила про горящее дело неподалёку. Волнуясь, просила отпустить её. Беспокоилась, что не успеет к отправлению поезда. А мне было отчего-то тоскливо, тревожно и неловко.
Летом мы созванивались, как и всегда, несколько раз в неделю. Она много говорила. О цветах в палисаднике, о реке. О новых книгах, которые её впечатлили. Я слушала, кивала и угукала. Уловив паузу, начинала рассказывать что-нибудь своё. Она с минуту молчала, а потом внезапно снова заводила речь и так же внезапно прощалась. В октябре она приезжала ко мне в гости на несколько дней. Красивая, загоревшая и весёлая. Без умолку говорила о Греции, из которой только что вернулась. Об Ионическом море невероятного цвета и белой деревушке на горе. О бесхозных апельсинах, желанных и недоступных. О дорожках, выложенных галькой.
Быстро уставала («Путешествие было большим и насыщенным!»), жаловалась на слабость («Нужно сходить к врачу»). Просила много чая, рано ложилась спать.
Впервые за много лет провожала маму на поезд. Смотрела сквозь оконное стекло на такие знакомые руки и лицо. И почему-то, как в детстве, сжималось сердце и хотелось плакать.
Начало зимы было тихим.
В феврале она умерла.
После смерти друзья, знакомые и коллеги скажут много хорошего про маму: каким востребованным профессионалом она была, сколько сделала для своего города, для людей, близких и незнакомых. Это все правда. Она была той, кем гордились и кого уважали. Боялись и прислушивались.
Мама была важным человеком. Настолько, что в начале перестройки ей звонили на рабочий и домашний телефон бравые ребята с угрозой украсть меня.
Однажды ее рабочий кабинет взломали. Украли сумку и документы. И небольшого коричнево-красного картонного петушка — детсадовскую поделку к восьмому марта. В тот день меня даже забрали из сада раньше обычного. Взрослые много тихо разговаривали. Всматриваясь в бледное мамино лицо с бороздкой между бровями, я никак не могла понять, почему ворам понадобился петушок? Сумку, кстати, нашли (документы нет). А петушок пропал без вести.
Обычно из детского сада меня забирали позже всех. Редко-редко мама приходила за мной еще до ужина. Мы шли не спеша вдоль дороги и, болтая обо всем подряд, заходили в магазин у дома. За мороженым. Для меня мама была про это: мороз, красные щеки, мягкое мороженое из автомата в вафельном рожке сразу, а бело-розовая «Забава» (пять штук: папе, маме, мне, сестре и брату) — домой.
Мама была про сдобное тесто для плюшек и рогаликов по выходным.
Про уморительно смешно звучащего «Старика Хоттабыча» перед сном.
Про спонтанную поездку вдвоем в Гурзуф. Где на обратном пути в поисках автобуса мы заблудились и ползли по горе мимо виноградников.
Мама была про минимализм и свободу от вещей, идей, связей. Мы ежедневно пользовались красивой и самой красивой посудой, которая у нас была. Привычным развлечением в нашей семье было модное теперь расхламление. Все, что лежало без дела больше года, отправлялось туда, где оно имело применение.
Так однажды под раздачу попал мой велосипед, верный друг, которого маме не хотелось перевозить на новое место.
На новом месте (мы несколько раз переезжали), бывало, забывались важные когда-то номера телефонов, и адреса, и имена.
После маминой смерти я, обидевшись на мироздание, удалила ее одиннадцатизначный номер из контактов. Еще долго старые сообщения висели под этими безымянными цифрами:
89278272779
*Доченька, как ты добралась?*
89278272779
*Ну что, как экзамен?*
89278272779
*Я на мосту, приходи*
Сообщения звучат маминым голосом и вместе с картинкой обшарпанного больничного коридора хранятся в моем внутреннем конверте «линии жизни».
Много позже, держа на руках новорожденного сына, я буду вспоминать черно-белую фотографию, где полугодовалая я сижу на коленях у мамы. Я ничего не знала тогда о ее профессии, интеллекте, статусе, доходах, интересах и способностях. О том, ждала ли она меня. Радовалась ли. Так же как мой сын ничего не знает обо мне. Он просто держит меня за палец, доверчиво утыкается в сгиб локтя и засыпает. Глажу его по пушистой макушке и, наполненная тишиной, тоже засыпаю.

Границы на замке: рассказ одинокого солдатика
Я хочу так: утром открыла глаза, и все хорошо. Летучих мышей не едят. Италия на день рождения и детей к бабушке. Отчетные концерты в музыкалке, и бог с ним, даже Детский праздник песни, который «три недели нежного балтийского лета в репетициях и концертах с утра до прекрасной белой ночи». Как там? Плюнь три раза — не моя зараза. Раз, два, три, чтобы не было беды. Ищу глазами красное. Это май прошлого года.
«Мам! Помоги! Не могу скачать, надо распечатать. Сегодня три листа». Сашин пятый класс читает на удаленке «Приключения Гермеса». На французском, без адаптации. С грамматическим разбором, синонимами-антонимами, критическим анализом и рисунками. Новая глава каждый день. И так сто глав. Работа по схеме: двадцать минут с учителем по видео, потом сами. Домашнее задание подгрузить в систему до 13:00. Жюли — строжайшая училка, повышенный тон, академический французский. Теперь и родителей держит в страхе на экранах.
Старшая, Ника, в английской школе. Их сразу посадили в zoom: все уроки по расписанию, онлайн. Подростки в пижамах, на подушках и коврах. Добраться до стола нереально. Групповые чаты в параллели с уроками, фото завучей с издевками на зумовских задниках и письменные выговоры от учителей. Большие школьные проекты теперь у нас дома. Воссоздать условия научной лаборатории, вырастить культуры бактерий на трех поверхностях: описание, сравнение, защита. И многомерная модель солнечной системы из необычных предметов. Читают «Убить пересмешника» по-английски и с анализом «расовых предрассудков в Америке в середине прошлого века».
В музыкальной школе видеоуроки введут только в октябре, а весной — задания по сольфеджио разбираем сами, учителя просят помочь разобраться с видеозвонками, сложно со звуком и изображением.
«Мам, иди ко мне, ко мне!» Кириллу четыре года, он всегда со мной, няни у нас больше нет. 13 марта закрыли и школы, и детские сады. До начала карантина мы прошли несколько кругов ада психологических обследований: в саду сказали, что Кирилл отстает от программы. Ничего не нашли, но в школе на нас смотрят косо, завели досье, мечтают отправить к психиатру. Теперь мы с ним сидим перед экраном: учительница и пять детей. У меня много вопросов: почему другие дети почти не двигаются? Раскрашиваем, вырезаем и клеим все буквы французского алфавита. Прописи, как из советского детства. Секунду, такие прописи в четыре года? «С ним все дружат, он спокойный и дружелюбный, но ему совсем не интересно работать с другими детьми», — щебечет учительница Манон. Я, кажется, понимаю, почему ему неинтересно. Поиски другого сада. Начинаем работать с Майей, специалистом по детскому развитию, конечно, удаленно. «Все изменения в ребенке идут от изменений в родителях», — говорит Майя. Отлично. Сейчас только и остается — меняться.
Сначала кажется, что это игра, все образуется. Разве можно взять и все для всех отменить? Дежурный вопрос при встречах: «А ты знаешь кого-то, кто болел?» И пока еще никто никого не знает. Местные законопослушны: возмущение очень тихое и только среди своих. Протестов мало, надежды есть: «Это на западе тяжело, там не было войны и всего. А мы справимся». Паники в магазинах нет. Запасы гречки, погреба на хуторах и морозильные камеры в квартирах. Я тоже такую поставила дома.
Но границы закрыты, самолетов нет, никаких. Муж остался в Москве. Я с детьми — в Риге. Дети все время дома. Прогулки со старшими — проще заставить их убирать и читать классику. Они чахнут и слоняются из комнаты в комнату. Все дни рождения по видео. Гвардия просит есть четыре раза в день. И Ника решила стать вегетарианкой. Постоянные уроки-задания-усталость-истерики. Оказывается, я совсем не готова к роли матери-одиночки.
Перелет Москва-Рига — чуть больше часа. Полностью на дорогу — три с половиной часа, вполне себе выезд на дачу, например, по Дмитровке в пятницу вечером. Но сейчас эта тысяча километров — путь по земле. И пока уехать и приехать можно только один раз. Этот один приезд бережем как зеницу ока. Мало ли чего.
Рига — небольшой город. Встречаться как бы нельзя, но на прогулках всегда кто-то из знакомых. Разговоры теперь об одном. «Что думаешь, надолго это?» «Ну, летом наверняка что-то изменится, а вдруг продлится аж до сентября?» Среди знакомых много россиян. Многие как мы: мужья в России, женщины с детьми здесь. Первые смельчаки едут через границу и обратно; разбираем их рассказы по ниточкам, пишем мужьям («Андрей въехал через Эстонию, проскочил на границе с Латвией, похоже, так можно»). Сохраняем телефоны водителей, пограничников, описания объездов и варианты справок.
Хочется домой. То сильней, то слабей, но все время хочется. Иногда уже невмоготу, и я мысленно собираю машину: котов в багажник, детей приклеить, что ли, к креслам, лучше усыпить, что еще? Как-нибудь дорулю, хотя бы до Петербурга. Проедем ли, какие будут погранцы, пустят ли обратно? А вдруг будет чудесное лекарство, волшебная прививка, всем расскажут, как правильно полоскать горло, и все исчезнет? Летом 2020 года в Москве пропускной режим, прогулки по графику. У нас — парки и взморье, да и маски на свое усмотрение. Значит, не едем, ждем.
Летом — прекрасная пауза: можно в музеи и театры. Ходим в рестораны и бассейн. Одичавшие старшие дочки в летнем лагере: наука, искусство и сверстники! Муж с нами, отпуск и планы на осень. Кирилла взяли в другую школу, он уже пишет буквы и рисует яркими красками все подряд. У нас купание в любую погоду, велики, белые пляжи и сосны. Все довольны и спокойны: цифры низкие — мы, что ли, справились? Ура. Теплый сентябрь и дети в школе.
Конец сентября. Кривая заболеваемости рвется вверх. Правительство в панике. Домик — карточный, все летит в тартарары. Ограничения градом. Вводят масочный режим, школьников сажают по домам. В ноябре закрывают кафе, театры, а в крупных магазинах не продают игрушки, тетрадки и носки. Уже нельзя подстричься, запрет на уроки в группах. Все как будто знакомо, но сейчас уже страшно, и все очень устали. У меня теперь навязчивый страх заболеть. Непонятно, что будет с детьми, если мне станет плохо. В новостях — карусель закрытий всего в Германии, Австрии и Франции. Похороны горнолыжного сезона. И хаос с вакцинами: в Европе их нет.
Мы до последнего держим ускользающее привычное: тренировки — ладно, по одному, учителя приезжают домой. Кириллу очень хорошо в новом садике, все интересно. И младшие не замечают взрослого безумия. Хотя у них теперь новая игра: «Ты — коронавирус» — догонялки. «Почему нельзя купить игрушку или полететь к папе?» — «Все закрыто, потому что коронавирус». Это скороговорка от всего плохого и непонятного.
В январе после праздников я теряюсь. Даже когда вводили комендантский час на каникулы, была какая-то детская надежда, что с Новым годом все должно обнулиться, поменяться. Может быть, не все, но что-то. А все остается тусклым и схлопывается в маленькую серую коробочку. Перспектив нет. Школы будут закрыты до сентября. Холодно, промозгло, освещение в парках до 18:00, не надо гуляний. В январе летят самолеты из России в Финляндию, и мы собираемся в дорогу.
Наш маршрут: Рига — Хельсинки — Санкт-Петербург — Москва. Месяц дома, и так же обратно. Я рада лететь через Финляндию: там точно все будет спокойно и продуманно. Финны логичны и доброжелательны, надежны. Кирилл обожает самолеты, мы не летали год, он счастлив. Вылет из Риги задерживается на час: если не успеем на стыковку, что дальше? Рейсы в Россию из Хельсинки только два раза в неделю. Успеваем, бежим, внимательный пограничник помогает нам с багажом: в зал получения мы не успеваем, все решается быстро по телефону.
И вот мы дома. Наверное, так себя чувствуют моряки дальнего плавания, когда приезжают в цивилизацию. После карантинного года в Риге здесь все яркое, громкое, очень много людей. Хочется смотреть по сторонам и быть в толпе. Открыты магазинчики: Кирилл трогает игрушки на полках, их можно взять и купить — забытая роскошь. Сначала сложно привыкнуть: встречаюсь с подружками, в барах много людей, все обнимаются, сидят плечом к плечу. Поездка на метро — восторг у Кирилла, девочки оттаивают. Какой у нас прекрасный город. Мы идем в гости, на выставки, в океанариум, на скалодром. Я целый год не была в театре. Замираю в темном зале: чур меня, чтобы так еще много-много раз, пожалуйста. В Москве недоверие к происходящему сменяется недоумением и мыслью: «А что, так можно было?» Нет разговоров о болезни, исчезает страх. Идет прекрасная жизнь, пусть и с пробками, холодом, чертовой политикой.
В марте мы летим обратно. «Несомненно, у нас тоже все образуется», — говорю я себе. По плану мы летим из Петербурга и Хельсинки, ночуем в гостинице в аэропорту, укладываемся в правило «транзит за 24 часа», и днем мы уже в Риге. Финляндия удивляет: пассажиров больше не выпускают из транзитной зоны, совсем, в стране новый локдаун. Хорошо, мы посидим вечером в Хельсинки: там хороший аэропорт, пограничная служба уверяет по телефону, что там есть все для ожидания с детьми. Ночью улетим из Хельсинки в Таллин, а потом — в Ригу.
В самолете другая реальность, как в начале злой сказки. Нервные стюардессы, полный самолет, декларация целей въезда. В Хельсинки нас отводят в транзитную зону: вооруженные пограничники, белые лампы в зоне досмотра. После — люди исчезают. В аэропорту закрыто все: витрины задраены, кафе заклеены ограничительными лентами. Нет никакой еды, на шестьдесят семь выходов — один распотрошенный автомат с остатками шоколадок и колы. Диспетчер по телефону извиняется и вешает трубку. Вечер, мы устали и проголодались. До Таллина — шесть часов ожидания, и я не знаю, что будет там в середине ночи. «Мам, не переживай, мы потерпим», — говорят девочки и катают Кирилла на тележках по широченным блестящим коридорам. У нас с собой пакетик блинчиков от бабушки и горсть печенья. Я нахожу аппарат с кипятком, без стаканов. Вот и горячий ужин. Мы ждем и ждем.
Таллин встречает нас тепло. Мы совсем одни. Кто-то умный и очень добрый построил в зоне ожидания кафе с самообслуживанием: холодильник с едой и фруктами, печка, кофемашина и терминал для карт. А еще там есть открытый рояль, стол для пинг-понга, большой детский домик и миллион диванчиков и пуфиков. «Это идеальное место для дня рождения», — думаю я. Дети в восторге, это лучшее завершение путешествия.
Мы опять в Риге. Сейчас май. Я хочу так: утром открыла глаза, и все хорошо. Неизвестно, что будет дальше и кончится ли все это. И, может быть, бог с ней, с музыкалкой: запись партий для симфонического оркестра на телефон и на оценку — это уже перебор. Мы точно сможем добраться до любого нашего дома, что бы ни случилось, и родные приедут к нам. Чур меня, пусть все будет хорошо много-много раз, пожалуйста.

Заголовок жизни
Передать свежесть майского рассвета, блеск луж после дождя в сумрачной голубизне, теплоту немого друга-фонаря. Хочется от букв и слов невозможной эквилибристики. Передать, как будто бы мне пятнадцать. Даже меньше: лет десять, наверное. Помню: тоже весна, вероятно, конец апреля. Оказались с братом на соседней улице, не на нашей — узкой, деревенской, с домами по одной стороне и сквером по другой, — а на широкой, стремительно-пустой, с газоном посередине. У неё и имя соответствовало: Космонавтов. Темно-оранжевым светом был залит асфальт, воздух прогрелся и пах не смытой еще майскими дождями пылью. И асфальтом, и выхлопными газами, и бетоном: начинающим нагреваться городом. Из ниоткуда, неизвестно почему, пришло вдохновение. Счастливое дыхание: «все сбудется, ты можешь все, даже летать, если сумеешь». Разбежались, скакнули над бордюром. Куда-то ушел страх: как будто в тот день у гопников и прочих леших был выходной.
Беспричинное, незаслуженное обещание: ты сбудешься, ты будешь глубоко дышать. Как эти набрякшие почки, готовые выстрелить с ночи на ночь. Так к нам пришло отрочество, которое мы утопили, конечно, в ночных домашках, кропотливом анализе, кромешной скуке.
Я ничего не обещал в ответ, не просил условий, а мне не давали гарантий. Всё как-то скукожилось, сникло, поехало на конвейерной ленте жизни. Однажды я спросил папу, почему он ничего не успел? — Текучка, — ответил он, — текучка заела… — Я был в недоумении, брат был раздражён. Мы, конечно, не позволим этой текучке заесть наши жизни. Папа скоро решил вопрос по-своему, перестав жить, а нам осталось ещё больше воздуха в пустеющем гнезде.
Нас отправили развеяться к папе сестры, в Петербург. Мы ездили на все подряд экскурсии, отправлявшиеся от Гостиного двора. Одна из них была в Кронштадт. Автобус долго ехал по дамбе. В окне почти ничего не менялось: серая полоска залива, голубое небо, летящая, как на катушках магнитофона, лента ограждения трассы. Только по ней можно было заметить стремительное движение автобуса. Я опять проявился: пока никто не видит; когда уже не пункт «А», но ещё и не пункт «Б». Где-то между. Вне околотка обозначенного пространства. Сняв привычную всем личину. Ничего не говорил, только смотрел в окно. Глубоко дышал. Автобус приехал. Нас высадили у кронштадтского собора.
Таких явлений самому себе я помню считанное количество, хватит пальцев рук. Они всегда были между, в пути. Потому я сразу полюбил «Сапсан», самолёты, командировки. А что между этими между? Как поезда и самолёты после прибытия, я загоняю себя в ангар и выключаюсь.
Бывает ещё, когда перемещаешься не в пространстве, а во времени. Даже совсем не двигаясь с места. Так было, когда я лежал, распластавшись на полу под сапогами спецназа. Они взяли нас на квартире-студии перед стартом эфира канала Навального с проспекта Сахарова. Мы лежали больше четырех часов, и я запомнил, как звучит хронометр, который мы обычно не слышим. Как на поезде, неспешном, но неумолимом, я уезжал от себя свободного и испуганного к себе задержанному, без телефона и банковских карточек, спокойному, холодному, безжалостному к собственной судьбе. Ночью нас выпустили как ни в чём ни бывало, и мне опять стало скучно.
Драматичнее, чем движение физического пространства — движение времени. В нём мы до сих пор не научились возвращаться назад. Это отлично иллюстрирует смерть. Когда умирал папа, в комнате оказались только мы с братом. Мы надевали ему носки, так как сам он уже не мог нагнуться. Мы собирали его в хоспис. Я неловко взял его ногу и уронил с коленок на пол. Может, от этого, а может, совпало: папу схватила судорога, за секунду до которой он успел выговорить: «Спасибо». Это было последнее его слово. Он задохнулся, вперившись тонущим в тумане взглядом в меня с братом. Носок остался так и не надет до конца. Мы вышли из комнаты и больше никогда его не видели. Как корабль, он отплыл из порта без пассажиров. И без провожающих.
Ночью, когда вынесли тело и перестелили постель, я вернулся. Один. Я хотел оказаться на его месте, полагая, что, повторив положение в пространстве, я смогу уловить что-то. Я лёг и спал. Это была самая тёмная ночь в моей жизни: не от боли — от пустоты. Во сне не было ничего, как и самого сна.
Образ корабля видится и при воспоминании об уходе мамы. Она и сама в какой-то мере перестала дышать в корабле: огромное здание НИИ Склифосовского похоже на лайнер, севший на мель «на макушке» старой Москвы. «Каюты»-палаты выходят окнами на солнечный юг и на прохладный север. На юге видно панораму залитого золотом старого города, сюда выходят окна многолюдных палат для поправляющихся. На севере видно зелень парков, высотки на проспекте Мира; это видят только гости и персонал. Те, кто лежат в этих палатах для двоих-троих, уже ничего не видят и вряд ли когда-нибудь смогут: это палаты для пациентов с «неблагоприятным прогнозом». Последнее, что ещё смогла сказать мама, было «907!..» 907 — это номер южной палаты, но ее перевезли в 914-ю, из которой чуть позже она уехала уже в морг.
Утром её последнего дня я в очередной раз навестил её, хотя она уже не реагировала на слова. Из-под простыни выпросталась рука, большая белая грудь, неожиданно эстетичная для почти семидесятилетней женщины. Я отметил с досадой, что из-за невидимого снаружи сбоя пропадает такая крепкая ещё оснастка: груди, плечи, руки и ноги. Они могли служить ещё годы. Я поправил простыню и погладил маму по ноге. И поехал с братом пить коньяк в павильон «Армения» на ВДНХ: там, среди павильонов и деревьев, мы издавна спасались от напастей.
Новость о маминой смерти застала меня на Курском вокзале. Я покупал лекарство её мужу. Вернулся в Склиф. Мамина каталка стояла на месте, чистая, со свежим бельем, пустая.
Белый корабль маминой жизни отплыл не мгновенно, но и без предупреждений загодя. Изменения в расписании: внеочередной рейс. Я смотрю на корму с обманчивым словом Н А Д Е Ж Д А, наблюдаю сокрытие за горизонтом мачт. Корабль уходит от берега и — одновременно — идет ко дну. Погружается к месту вечной стоянки, обретая, наконец, под собой почву и вечный покой. Прекращая движение, дыхание, невроз жизни.
Я замираю, не дышу, не плачу. Я сам — тот ветер, что наполнял паруса траурной папиной яхты, я и тот пар, что гнал погребальный мамин пароход прочь. Я вдохновлен. Я преклоняюсь перед великой часовой стрелой, острой, как гильотина, и бесстрастной, как Бог. Она отсекает лишнее и лишних, как скульптор, оголяя личную историю. Она приготовила мне моё одиночество, осталось только отсчитать сколько-то кругов. Колесо циферблата катится вперёд, не ведая ни ухабов, ни дураков, ни дорог, ни границ. И я в нём: восхищённая белка. Загипнотизированная стрелкой.
Таких явлений Времени я помню считанное количество, хватит пальцев рук. Они всегда были внезапны, как первая любовь, и некстати, как рождение ребёнка. Потому я зарёкся планировать, выбирать, решать. А что, если бы я попробовал? Устроить произвол воли. Как любая цифра на циферблате, я не двигаюсь. И жду своего часа.
Я так и не понял, почему приходит вдохновение, обещание, счастье. К какому мне, в какое время? Может, это были авансы юности, растраченные зря? Или её миражи?.. Впрочем, я изобрел примитивный дженерик: один-два Лонг-Айленда (или аналога) в сутки. С существенным, как у всех дженериков, побочным эффектом: ухудшением памяти.
Фрески тускнеют и осыпаются. Разноцветные стеклышки калейдоскопа вылетают на асфальт, хрустят под ногами. Не этот ли побочный эффект мне и нужен? Анестезия. Наркоз. Некроз памяти.
Иногда я задумываюсь, какой магистральный смысл, заголовок моей жизни? Что останется на корешке моей книги? Причуда судьбы или прихоть воли? Мой терапевт говорит, что неосознанная жизнь становится жертвой судьбы. А я всегда думал, что большая удача — угадать свою судьбу и в неё попасть. Иначе — чужая колея. Кому верить: Юнгу или Высоцкому? Я не знаю. Я стою в ангаре, и тусклый свет фонаря поливает мои бока. Я распят в районе пяти, и только секундная стрелка овевает мои слипшиеся от пота волосы.

Зерно и бабло
Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путём зерна
(В. Ходасевич)
11 ноября 1991 года сказочный муж из Внешторга увез меня во Францию. Мне было жаль уезжать: только-только поручили вести рубрику книжных новинок в журнале «Иностранная литература», мир вокруг стремительно менялся, жизнь радовала, но кто бы отказался от Парижа? Тогда я думала: «Ок, года на три. Французский не помешает. А потом вернусь…» Через месяц рухнул Союз, а через несколько лет и Внешторг с его заграничными филиалами. Муж успел подзаработать на пособие по безработице, я родила двоих детей и строчила заметки в газету «Скандалы», чтобы помогать родителям. Но этих доходов не хватало для житья во Франции, и муж решил вернуться в Москву. Я попросилась обратно в «Иностранку». Тогдашний зам.главного редактора обнадежил новым проектом и посоветовал «потянуть с возвращением». Наступил 1998-й год. И снова не хотелось уезжать…
Как любая сознательная мать, я начала читать детям книжки довольно рано. И, видимо, переусердствовала. Ксеня заговорила по-русски года в три. Она уже ходила во французскую школу, и в ее бедной голове был переполох: где dodo и gâteau, а где сушки и «Ну, погоди». Одной из ее первых фраз было: «Только не Пушкин!», когда она заметила, что я потянулась за книжкой. Мы взялись за «Кота в сапогах». Прочли, посмотрели картинки.
— Ну, Ксеня, — вопрос по содержанию, — и что сказал Кот Людоеду?
— Бонжур, Людоед! — бойко отрапортовала Ксеня. — Donne денег!
Да, подумала я, хорошо бы и мне найти Людоеда с деньгами. Это было неочевидно. По-французски я говорила так себе, в активе двое маленьких детей и безработный муж, а в перспективе пустые хлопоты и дальняя дорога в Москву. Неожиданно помогла подруга Фабьен. Наши мужья сдружились на работе, и мы частенько виделись.
20 ноября 1998 года трагическая новость — убили Галину Старовойтову. А 21-го Фабьен потащила меня в театр. Мы долго ехали, сбиваясь с маршрута, в какой-то дальний пригород Парижа. По радио рассказывали про Старовойтову. Мы слушали, переживали, вспомнили и мой скорый отъезд. Вокруг темень и унылые многоэтажки.
— Да, Фабьен, в Москве буду жить вот в таком же доме…
На следующий день позвонила Фабьен и сказала, что у нее ж секретарша в декрет уходит. Не хочу ли я поработать полгодика? Конечно, хочу! Фабьен заправляла делами кредиторов-дебиторов в конторе судебных исполнителей.
А через полгода мой сосед Анджей привел меня в корпорацию «Луи Дрейфус». Когда-то он случайно услышал, как я по-русски покрикиваю на Ксеню и подошел познакомиться. В свое время они вместе с женой учились в МГИМО, а теперь Анджей руководил из Парижа украинским бюро и подыскивал помощницу.
— А возьми Галю! — подсказала ему жена Беата.
Вот и пригодились мои советские дипломы секретарши и преподавателя английского. Весьма кстати оказался и Внешторг, где я значилась «инокорреспондентом» — солидно и загадочно (на самом деле та же секретарша). И главный козырь — дружба с судебными исполнителями. «Иностранку» и «Скандалы» Анджей велел убрать из резюме со словами «журналистов у нас в Дрейфусе не любят».
Мне пришлось пройти три-четыре интервью, включая беседу в отделе кадров. Робер Луи Дрейфус уже был женат на Маргарите. Семья его выбор не одобряла. И тут приводят еще одну русскую… Начальница отдела кадров была из семьи.
— Вы работали в Москве, а сейчас в Париже, — допытывалась она до сути. — А скажите, в чем разница между русскими и французами?
Так сходу и не ответишь!
— О, так сходу и не отвечу. Ну, к примеру, когда вы считаете на пальцах, как делаете? Покажите!
Мадам начала добросовестно разгибать пальцы.
— О, видали! — говорю ей. — А мы-то сгибаем!
Еще она узнала от меня, что весна у русских начинается 1 марта, а не 21-го. Напоследок поинтересовалась, как считают на пальцах анфанты Гзэнья и Ольга.
— Как вы, мадам! В школе научились.
И я подрядилась работать «на семью». Семья стала моей семьей и семьей моей семьи. Мои дети, точно сын полка, росли под сенью Дрейфуса. Мама по телефону считала на счетах проценты, папа изучал сводки про урожай, бывший муж рассказывал про Инкотермс, а милый друг — про фьючерсы.
Через месяц-другой я посетовала одному начальнику на свою непочётную должность секретарши и в ответ услышала:
— Это неважно. Ты секретарша, а я генеральный секретарь. Главное — ты в семье!
То же самое мне говорили во Внешторге, только тогда было: Главное — ты в системе!
Вскоре я перешла в отдел логистики и стала обрастать родней Дрейфуса по всему миру. На моих глазах друзья-коллеги в России, в Украине, в Египте, в Аргентине, в Италии… женились, рожали детей, переезжали, делились радостями, и мы вместе переживали неприятности. И грузили вместе.
Помню, вздумала рассказать девочкам старый анекдот про грузина, который учился в Москве и написал отцу: «Папа, мне не нужна машина. Здесь все ездят на автобусе». На что отец ему ответил: «Так купи себе автобус». Но прежде следовало объяснить детям, кто такой грузин.
— Дети, — говорю, — грузины это такие люди…
— Которые грузят! — хором подхватили девочки.
Аргентина-Бангладеш. Украина-Китай. Россия-Турция. Одни грузят другим. И вместе грузят меня. Чужие ошибки становятся моими: продали не то качество, или то, но не хватает количества, или судно запаздывает. Как бы то ни было, я крайняя. Моя задача — поправить огрехи, если возможно, и самой не наделать ошибок. Работа техническая, но есть в ней и литературный интерес. Скажем, выражение «ждать у моря погоды» это не просто фигура речи, а десятки тысяч долларов за простой судна. Описания погоды с помощью флажков и волн дают фору пейзажу в романе писателя средней руки. А термин «frustration at adventure» означает, что корабль не может плыть дальше из-за поломки. И я вспоминаю «Хроники капитана Блада».
Один раз в Азовском море село на мель наше судно — поднялся восточный ветер и сдул воду, а капитан не уследил.
— Девочки! — начала заливать я за ужином. — А может, это Мэри Поппинс прилетела? Вроде, она с восточным ветром…
— Да ладно, маман, — отмахнулись они. — Какая Поппинс? Скажи, капитан напился и проспал.
В другой раз учительница спросила на уроке, чем занимаются родители. Ксеня ответила: «Maman trafique du blé! » Она имела в виду, что маман торгует зерном, но учительница насторожилась: «blé» на французском просторечном значит деньги — бабло. И трафик в данном контексте звучит вполне определенно. По сути именно этим и занимаюсь.
Не буду врать, что люблю свою работу, но благодаря ей нам с девочками удалось выжить самостоятельно, чему долго не могли поверить ни мои родители, для которых я оставалась «деточкой», ни мой муж, который держал меня за baby-wife.
К счастью, мне подвернулся особенный предмет торговли. Что называется, essential. Зерно — сложный продукт. Растет себе, зреет, а что с ним случится? Дозреет или останется щуплым, будет битым или его клоп-черепашка прокусит, попадет в сорную примесь, сгорит при сушке, а то промокнет и сгниет. Или все же доберется до цели, обозначенной народной мудростью: «Хлеб всему голова».
И мы тоже как зерно — растем, зреем, а что получится… Возьмем меня, к примеру. У меня давно чувство, будто я вечно занимаю чье-то место. Сакраментальное «вас здесь не стояло» до сих пор звучит в ушах. В институте мне и другим нерадивым ученицам внушали, что на нашем месте мог быть более прилежный студент. В кинотеатре, в поезде и даже в самолете я умудряюсь садиться на чужие кресла. И терпеть не могу игру «музыкальные стулья».
Пятнадцать лет в Дрейфусе я была на своем месте, хоть и одолевали сомнения. Сначала я думала: меня принимают не за того, кто я есть. Потом рассуждала, что становлюсь тем, за кого меня принимают. Дальше: а может, я и есть тот, за кого меня принимают? И наконец решила раз и навсегда: лучше у них все равно никого нет.
После чего меня уволили. В один день. За неповиновение. Но на мое место так никого и не взяли. Его просто не стало.

Ира или Гальфиря
Когда я говорю о бабушке, чувствую онемение. Мне горько и стыдно: мои последние воспоминания, самые яркие, на самом деле не о ней, а о болезни. Разве это правильно — вспоминать болезнь раньше самого человека?
Моя память, конечно, не подчиняется этическим и духовным законам, она запечатлела всё как есть. Поэтому прежде чем рассказать о сильной, красивой, трудолюбивой, всеобщей любимице — моей бабушке, я вынуждена поделиться историей о хрупком и беспомощном человеке, ничем не заслужившим оказаться в таком положении, о зависимом и преодолевающем неловкость каждый раз, когда требуется помощь.
Я очень хорошо помню тебя такой, бабушка, прости меня за это.
***
Всё начиналось со слегка дрожащих пальцев и кривого уголка рта: мы ехали в автобусе, и бабушка доставала из длинного чёрного кошелька купюры, чтобы расплатиться с кондуктором. Я вдруг заметила, как неловко у неё это выходит, а ещё почему-то она прищуривает глаз и в такт ему морщит губы. Я вспомнила, что вижу её такой уже не впервые, но почему-то именно в этот раз стала понимать: что-то не так. Ни о чём не спрашивая бабушку, я решила, что это приходит старость, наверное. Лучше бы я знала, что это не она. Я тогда здорово испугалась старости.
Жизнь менялась постепенно: бабушка ушла с работы, и со стола исчезли бесконечные тексты, которые она переводила; мы стали реже ездить на большие расстояния; появились вырезки из газет про здоровье, загадочные препараты, массажёры, умные аппараты. Удивительно, но я откуда-то знала, что они не сработают.
Потом бабушка стала реже краситься и наряжаться, а ещё она становилась очень маленькой. Как будто бы кто-то отнимал у неё рост, она превращалась в круглую и крошечную, почти неузнаваемую бабушку. Причёски тоже пропали: вместо завивок и блестящих локонов наступила короткая, слегка засаленная стрижка. У бабушки появился парик для праздников.
Она стала как будто бы тише и грустнее, но, правда, по-прежнему не останавливалась, хотя движение ей давалось труднее всего. А может быть, её грусть не появлялась, а проявлялась. Бабушка как будто бы переставала по привычке держаться, как если бы забывала добавлять что-то ключевое в привычный рецепт, допустим, специю, и ингредиенты оставались бы самими собой.
Квартира становилась немножко лохматой, непричёсанной, как сама бабушка, хотя обе старались выглядеть достойно, насколько это возможно. Бабушка даже устроила ремонт, всё изменилось, но осталось непричёсанным.
Помню, что скорость изменений увеличилась: я стала жить с папой, и с тех пор виделась с бабушкой раз в пару недель. Я начала догадываться, что это не старость, и ночами не могла уснуть: иногда приходилось звонить в самый поздний час, чтобы услышать её «алло» и умиротворённо положить трубку. Приезжая к ней, я волновалась: каждый раз меня встречала немножко другая бабушка, и я становилась тоже немножко другая.
Я, кажется, случайно узнала. По-моему, когда она начала падать. Посредине дня, коридора, улицы. Появилась палочка, и она быстро сменилась на серые ходули. Стены квартиры обросли блестящими алюминиевыми перилами: мне они почему-то нравились, как будто бы у нас появились недостающие руки.
Эра сиделок, памперсов, резких запахов больниц, мочи и пота настала гораздо позже. С тех пор память становится такой же хаотичной и скудной, как бабушкины движения. Я что-то помню: ночью приходилось просыпаться по несколько раз, она звала меня, и я, как мать, слышащая плач младенца, мгновенно вставала. Раздражённая, уставшая, меняла памперс и пелёнки, мыла салфетками свою маленькую голую бабушку. Когда появилась сиделка, я помню, как было счастливо спать.
Помню, кажется, мучительные поиски и смены сиделок, смутно проявляются их лица, сколько их было? В результате с нами осталась одна, восточная стройная женщина с добрым сердцем и горькой судьбой. Наши пожилые родственницы называли её дочкой. Но бабушка нет: не было никого, кого она смогла бы назвать дочерью после того, как потеряла свою.
Отчего-то я совершенно не помню, о чём мы в ту пору говорили. Только бабушкин голос, зовущий меня, в нём было так много неловкости и стыда.
Я вообще не помню, чтобы с кем-нибудь разговаривала. Только редкие рассказы сиделки про жизнь в женском общежитии: как на бортике каждой кровати всегда сушились носки, трусы и лифчики. Самое главное, что нужно держать в чистоте, говорила она. И украшала мою бабушку: превращала её в бордовую шатенку, выщипывала брови, устраивала маникюр. Иногда я тоже присоединялась: помню тазик, в котором замачивала её ступни для педикюра.
Почему-то никто из нас не отнёсся к её кашлю серьёзно. А она ко всему была готова: когда я примчалась в какой-то самой неподходящей одежде, тонкой блузке, юбке в пол и с красными губами, когда я стояла с ней в очереди на рентген, бабушка мне рассказала, в каких ящиках и папках лежат документы на всё. Да глупость какая-то, не смей, бабушка, перестань, лучше давай-ка настроимся на боевой лад. Но бабушка настаивала, ты всё-таки запомни, ладно, в секретере, жёлтая папка на квартиру и белая на дачу, хорошо? Я запомнила, бабушка.
Тут-то воспоминания и возвращают себе строгий порядок. Забитые палаты, бабушка лежит в коридоре, я сплю на диване в холле, совсем неподалёку. Кто-то из пациентов или медсестёр кричит:
«Да кто здесь Юля?!»
Я просыпаюсь, бабушка зовёт меня, вероятно, уже давно, я не смогла услышать её сразу после бессонных суток. Я ничего не ела и не пила, в больнице невозможно есть, я чувствовала отвращение и тошноту.
Хорошо помню перила вдоль стен, они мне не нравились, в отличие от домашних. Туалет. Она мучилась, я держала и после — отмывала.
А потом такое же искривлённое лицо, как тогда, первый раз, в автобусе, только умноженное на сотню, не останавливающееся. Как будто болезнь решила со мной напоследок попрощаться.
Я всё думала, как же так, в коридоре больницы, как же так. Мучительно и унизительно. Я подумала, что никогда не хочу умирать в больнице. Разве может кто-то это заслужить.
Разве может.
За час до своего ухода бабушка лежала на больничной койке в коридоре и, взглянув на разносящих обед медсестёр, вдруг сказала мне:
— Нужно есть огурцы, это полезно.
— Ты это к чему, бабушка?
— Да вот просто увидела их и решила поддержать разговор.
***
Бабушка очень хотела поступить в МГУ им. М.В. Ломоносова. Тогда можно было подать документы только в одно место: вот такая рулетка, авантюризм, и, поставив всё на красное, бабушка плакала, узнав, что не поступила. Больше она не рисковала: вышла замуж, выучилась на инженера-переводчика с красным дипломом, родила мою маму, трудилась. Бабушку всегда хвалили, называли труженицей и большой умницей — её коллеги обожали собираться у нас дома. Комплименты летали птицами вокруг неё, но жить с ней не оставались, она скромно улыбалась, благодарила и уходила от них: не помню, чтобы бабушка когда-нибудь себя хвалила или гордилась.
Про её работу я ничего не понимала и, кажется, не понимаю до сих пор; помню только бесконечную стопку бумаг, английские и немецкие словари и вечернюю бабушкину спину, склонившуюся над ними. И вырезку из старой газеты со статьёй про её коллектив и фотографией, где они улыбаются, каждый почему-то в белом фартуке, бабушка на переднем плане.
Всё было как нужно: она заработала на квартиру и дачу, выписывала журнал «ЗОЖ», много готовила, дружила с соседями и регулярно их угощала, старалась хорошо выглядеть и нарядно одеваться. Бабушка даже к сладкому была равнодушна: могла какую-нибудь «Кокетку» есть два дня, разрезая её на маленькие кусочки. Меня, съедающую за то же время целый утренниковый новогодний подарок, это даже пугало.
Но у бабушки был мой дедушка, который делал всё, что, кажется, она не могла себе позволить, и особенно — пил.
— Рустем, ты опять, ну сколько можно?!
Утро, день, вечер начинались со скандалов. Бабушка была ими измучена, но терпела. Когда страсти накалялись, она переходила на родной татарский — чтобы я не понимала злых слов. Татарский так и остался для меня языком, на котором ругаются. На её стороне были все, но это ничего не меняло.
С тех пор, как неожиданно умерла моя мама, ситуация усугубилась. Бабушка стала сражаться не только со своей болью, но и с усилившейся дедушкиной.
Я не видела, чтобы она плакала, опускала руки, отчаивалась. И, самое удивительное, я не видела, чтобы она не любила.
— Его нельзя оставлять, пропадёт, — говорила.
А однажды бабушка поведала мне тайну: в конце 80-х, когда ей было уже больше сорока, за ней стал ухаживать мужчина. Аккуратный, не пьющий, обожающий её абсолютно. Все вокруг советовали уходить к нему. А бабушка не стала. Когда она мне рассказывала, опускала глаза, мяла ладони и нерешительно говорила:
— Может быть, зря? Жила бы по-другому?
Но тут же отвечала себе:
— Нет, не могла.
А могла она многое: например, дружить со своей сложной сестрой, которой она уступила своё русское имя: их звали Гальсиня и Гальфиря, а по-русски получались две Галины, поэтому бабушка отдала Галку сестре, а сама стала Ирой — так она и отзывалась большую половину жизни на имя, которое на неё не похоже.
А ещё выдерживать мои болезни и капризы, быть настоящим другом и никогда не сплетничать, ругаться только на татарском; поддерживать добрые отношения с моим папой, которому пришлось оставить меня жить с ней, а потом, спустя семь лет, забрать, и это тоже смогла пережить моя бабушка; наряжаться, быть самой красивой, но не заметить этого; петь на общем застолье и не заставлять присоединяться других; готовить угощения на десятерых; никогда не заплакать; позаботиться о близких на многие годы вперёд, бесконечно прощать их, прощать. Составить большую подробную алфавитную телефонную книжку. Сделать ремонт, пока не отказали ноги. За несколько лет вперёд подготовить папку для растерянной семнадцатилетней меня и безутешного дедушки.
Оставить после себя целую вселенную воспоминаний, моих собственных и долетающих до меня многие годы спустя от всех её хоть сколько-нибудь знакомых, воспоминаний и о такой бабушке, которую я не успела встретить, но успела полюбить.

Как Фил Найт превратил увлечение спортом в сверхприбыльный бизнес
Фил Найт, основатель и глава Nike Inc., успел стать легендой в мире розничной торговли и маркетинга. Он превратился в героя индустрии, о котором пишут восхищенные статьи в популярных журналах. Человек, которого Sporting News назвал «самым влиятельным» человеком года в спорте 1993 года, не был профессиональным спортсменом, талантливым тренером или судьей. Это человек, который на протяжении почти 30 лет обувал звезд спорта. Каждое его движение изучается СМИ так же тщательно, как выходы в свет гламурных суперзвезд, носящих кроссовки Nike.
Детство и юность
Филип Найт родился 24 февраля 1938-го в Портленде. Родители Фила Найта были контрастной парой: папа, Вильям Найт, небольшого роста — властный лидер, мама, Лота Хэтфильд — высокая молчаливая женщина. Что у них было общего, так это бедное детство. 21-летняя Лота представляла модели платьев в магазине, когда ее впервые увидел в витрине 28-летний юрист Вильям. Парень сперва решил, что девушка — манекен, настолько она показалась ему красивой. Спустя 8 месяцев они поженились, у пары родилось трое детей — старший сын Филип и младшие дочки-близнецы Джин и Джоан.
Немалое влияние на формирование характера оказала мать. Лота учила сына идти к цели и не сдаваться. Когда Фила выгнали из бейсбольной команды, мать посоветовала найти себя в другом виде спорта, и Найт занялся бегом, о чём ничуть не пожалел. Повзрослевший Фил Найт позже скажет: «Матери — наши первые тренеры».
Студенчество Найта
После школы Найт поступает в Орегонский университет на факультет журналистики. Увлечение бегом не прошло даром. Фил попадает в лучшую легкоатлетическую команду США. Руководил спортсменами тренер Билл Бауэрман. Из-под его руки вышли 19 победителей олимпийских игр и 44 лучших спортсменов США. Тренер не считал Найта талантливым, но понимал, что внутри юноши сидит много упорства. Ежедневно Филипу приходилось тренироваться часами, чтобы не отставать от других участников команды.
Билл Бауэрман любил проводить исследования на участниках команды. Он искал идеальные кроссовки: ноги не должны были стираться и быстро уставать. Лучших атлетов он мучать экспериментами не хотел, и «под обстрел» попадали средние игроки, такие как Найт. Спортсмены часами бегали на беговых дорожках и тестировали разные модели кроссовок. В будущем этот опыт пригодился Филипу в разработке собственного бренда.
После окончания университета Фил получил диплом журналиста и отправился в армию на год.
Стэнфордская школа бизнеса
После армии Найт поступает в ведущий университет Америки. В этом месте у него зародятся первые мысли о ведении бизнеса. На одном из семинаров студентам нужно было придумать идею для бизнеса и составить стратегию ведения. Со спортом у Найта не сложилось, но он болел темой кроссовок и особенно восхищался качеством и ценой японских моделей. Фил слишком серьезно подошел к заданию. Он сутками сидел в библиотеке и изучал детали будущего бизнеса: экспорт, условия опта, способы доставки. За задание Фил получил высокую оценку, а его презентация была похожа на обзор настоящей компании. В тот момент Найт понял, что хочет посвятить этому делу жизнь.
Безумная идея с обувью
После окончания Стэнфордской школы бизнеса Фил возвращается домой. Двадцатичетырехлетний юноша горел желанием создать компанию по продаже кроссовок из Японии. Отец настаивал на работе в компании бухгалтером. Фила уже пригласили, оставалось только согласиться. Но «безумная мечта» не выходила из головы Найта. В 1962 году Фил добивается благословения и финансовой помощи от отца и отправляется в Японию на переговоры с компаниями, производящими кроссовки. Филу даже не пришлось готовиться к переговорам. Он пересказал японцам презентацию, созданную еще в университете, и импровизируя назвал несуществующую фирму Blue Ribbon Sports, потому что вспомнил о своих голубых наградных лентах (blue ribbon — англ. «голубые ленты»). Ещё на один вопрос управленцев Onitsuka, «насколько велик рынок обуви в США», парень взял данные с «потолка»: «Может достигнуть 1 млрд. $». Японцам понравилась идея, и сотрудничество состоялось.
Создание собственной компании
Фил вернулся домой и устроился на «нормальную» работу бухгалтером. Профессия приносила постоянный заработок, но рамки давили на будущего бизнесмена. Через несколько месяцев пришли первые пары кроссовок. Одну модель Найт отправил бывшему тренеру Биллу Бауэрману. Фил хотел, чтобы он оценил и купил несколько пар для команды. К удивлению юноши, тренер предложил партнерство. Вскоре Найт и Бауэрман заключают контракт и вкладывают по 500$ на закупку следующей партии обуви (300 пар). Фирму партнеры поделили так: 51% Филу, 49% — Биллу. Отныне Филип занимался продвижением продукции, а тренер тестировал и приспосабливал кроссовки под потребителя.
Nike. Начало
В 1971 году Найт уволился с поста бухгалтера и решил посвятить жизнь развитию бренда. Партнерство с компанией Onitsuka становилось неудобным из-за множества требований с их стороны. Спустя 7 лет сотрудничества Найт расторг сделку.
Фил и Билл решили создать свою модель кроссовок. Они уже набрались достаточно опыта, чтобы вести дело самостоятельно, без поставщиков. Фил решил кардинально изменить компанию. Было придумано новое название. Тренер предложил назвать бренд в честь богини победы Ники. Так появилось название Nike. Логотип разрабатывала студентка факультета рекламы университета Портленда Каролина Дэвидсон. Знаменитая завитушка символизировала оставшийся след от кроссовок после бега. Логотип назвали «swoosh» («свуш» — англ. «пролетающий со свистом»). На то время ее вполне устроили заплаченные за создание логотипа 30 долларов. Когда компания расцвела, Филип пригласил Каролину на ужин и подарил часть акций и бриллиантовую статуэтку с логотипом за её вклад.
В 1971 году Nike выпустил первые кроссовки с вафельной подошвой. Идея пришла в голову Билла Бауэрмана во время готовки. Он посмотрел на вафельницу и сказал: «А почему бы не сделать подошву вафельной?» Так началась разработка новой модели. Кроссовки произвели фурор на рынке. Люди скупали модели, потому что в них было действительно удобно ходить. Через несколько лет Nike отбирает 50% рынка у Adidas, и в 1980 году компания становится лучшей в производстве кроссовок.
Реклама в истории Nike
Филип понимал, что в рекламе важно показывать лица. В роликах появлялись знаменитые теннисисты, футболисты и баскетболисты. Так, несколько лет Nike работала с Майклом Джорданом. Сотрудничество было рискованным. На момент подписания договора Майкл еще не был настолько популярным в США. В будущем Майкл станет всемирно известным и принесет компании не один миллион.
Важную роль в рекламе сыграл слоган «Just do it» (просто сделай это). Выражение появилось в 88-м при переговорах с сотрудниками Weiden & Kennedy, агентства по рекламе, где один из рекламистов восторженно заявил: «Вы ребята из “Nike”, вы просто делаете это» (you Nike guys, you just do it). Меткое «Just Do It» превратилось в лейтмотив одноименной рекламной кампании.
Затем изменилась рекламная стратегия. В рекламных роликах центральное место занимал не продукт, а герой, который преодолевает трудности, себя и выходит победителем. Выходит, конечно, в кроссовках Nike. И героями роликов были, естественно, знаменитые спортсмены. Это настолько задело за живое потребителя, что кроссовки Nike стали покупать даже те, кто спортом не занимался. Брэнд стал настолько популярным, что к началу 90-х компания достигла бешеной популярности, которую до этого не могла достигнуть ни одна другая. В 1996 году ее признали лучшей компанией года.
Кризис и отход Найта от дел
В 1998 году СМИ обвиняли компанию в нарушении прав человека. На заводах для производства вафельной подошвы требовалась большая отдача токсинов. Уровень поступающих в окружающую среду отходов превышал норму в 170 раз. Но дело было не только в экологических проблемах. На заводах работали дети из африканских стран и получали копейки. По статистике, 50 тысяч работников Nike получали зарплату двух людей в рекламной компании. Вести разнеслись по США и сильно пошатнули репутацию Nike. Компания быстро изобрела новую технологию производства кроссовок, исключающую 97% вредных веществ. В будущем технологию будут использовать все ведущие компании. Также основывается многомиллионный проект «Девичий эффект», направленный на улучшение жизни девочек-подростков стран Африки. Скандал замяли, но Фил решил уйти от дел, тщательно готовя к вступлению на руководящую должность своего сына, Мэтью Хэтфилда Найта. Но тот трагически погиб, задохнувшись во время погружения при занятиях дайвингом. Это совершенно выбило из колеи Найта, и на его место через рекрутинговое агентство нашли человека «со стороны» — Уильяма Переза.
Путь от увлечения до дела всей жизни
Простой бегун университетской команды превратил увлечение спортом в многомиллионную компанию и повлиял на развитие целой спортивной культуры. Nike давно перестала ассоциироваться только с кроссовками, ведь детище Фила Найта — это философия, образ жизни. По мнению Найта, половина его успеха зависела от удачного стечения обстоятельств, а вторая половина — от вовремя высказанных идей, которые он не искал у конкурентов, пытаясь их модифицировать под особенности своей компании, а придумывал собственные, пытаясь сыграть на слабых сторонах конкурентов. Именно в доверии своей интуиции Фил и усматривал успех выбранных стратегий для продвижения компании. Фил многое потерял в семье и не уделял достаточного внимания своим детям, но у него получилось пройти через все трудности, чтобы о компании Nike узнали все.

Как я не стал поэтом-песенником
Раскинулось море широко…
Мне шесть с половиной лет, и родители надумали отдать меня в музыкальную школу.
Петь я давно учусь у домработницы Шуры. Помню, как она ставит на дощатый пол нашей коммунальной кухни скамеечку — это для меня, а сама садится на табуретку, в ногах у неё помойное ведро, рядом на полу — эмалированная миска. Шура берёт в одну руку картофелину, в другую — нож, начинает чистить и поёт:
Каким ты был, таким ты и остался,
Орёл степной, казак лихой!
Я слушаю и зачарованно смотрю, как вьётся под её ножом непрерывная спираль кожуры, чтобы потом упасть в ведро. Очищенную картофелину она бросает в миску. Потом мы вместе варим суп.
Шура живёт с нами и спит на раскладушке возле камина, который занимает целый угол комнаты. Скоро она выйдет замуж за моряка по фамилии Цыганов и уйдёт от нас. Шура родом из вологодской деревни, неграмотная, поэтому письма на адрес китобойной флотилии «Слава» пишет мой старший брат. Он же читает письма Шуре от Цыганова. Мы впятером, с родителями и братом плюс виртуальный китобой, живём в комнате на Моховой 28.
На каминной полке стоит радио, оно работает весь день и часто «исполняет песни советских композиторов». А ещё у нас пластинки. Иногда, когда старший брат приходит из школы и в настроении, мне удаётся уговорить его завести патефон. Брат меняет иголку звукоснимателя, крутит ручку патефона и ставит «Раскинулось море широко». Поёт Леонид Утёсов. Эту песню я знаю наизусть и часто гастролирую с ней по большой прихожей и длинному коридору, а иногда даю сольные концерты на кухне перед соседками, моими невольными слушательницами. Одна из них, Анна Архиповна, всегда хвалит меня, сравнивая, как я понимаю, с птичкой:
— Хорошо поёшь, где-то сядешь…
Ещё в моём репертуаре «Летят перелётные птицы»:
Летят перелётные птицы в далёкой дали голубой,
Летят они в дальние страны, а я остаюся с тобой.
Родители решают отдать меня в музыкальную школу, особенно хочет этого мама: она умеет играть «Музыкальный момент» Шуберта и играет его везде, где встретит пианино. Папу она посылает записать меня на прослушивание.
На приёмный экзамен мы идём все втроём. Это недалеко: надо пройти два дома до Пестеля, повернуть направо в сторону большой церкви. Потом дойти до Литейного, где гастроном, вход с угла — там прямо напротив входа мороженое и соки из стеклянных конусов, а стаканы переворачивают и моют фонтанчиком. А вообще, там продают всё: от хлеба до вина и папирос.
Литейный мы переходим и идём к церкви, но не доходим, а огибаем большой дом. (Церковь со временем окажется Преображенским собором, большой дом — домом Мурузи, где раньше жили Блок, Гиппиус и Мережковский, а тогда — шестнадцатилетний Иосиф Бродский). Проходим позади этого дома весь квартал и ещё один.
В вестибюле полумрак, толпа детей и взрослых. Долго ждём, наконец, меня выкликают, собирают пятёрку детей и куда-то ведут. Поднимаемся по лестнице, плутаем по коридорам, снова идём по лестнице и оказываемся возле класса. Вызывают по одному.
Когда доходит очередь до меня, я подхожу к чёрному роялю и как велят встаю спиной к учительнице, что сидит за клавиатурой, и лицом к двум другим. Она нажимает клавишу и велит мне найти ту, на которую она нажимала, — из трёх соседних, белых. Первая — не та, я слышу, вторая — не та, третья — та. Потом простукиваю ритм, который мне ладонями выстукивает учительница, и на предложение спеть что-нибудь, громко затягиваю:
Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали,
Товарищ, мы едем далёко, подальше от нашей земли…
Это грустная песня. Кончается всё печально, кочегар от непосильной работы умирает после вахты прямо на палубе:
А волны бегут от винта за кормой, и след их вдали пропадает.
Мне дают допеть до конца и спрашивают:
— А что ты ещё знаешь?
Я называю.
— У, какой серьёзный артист, — говорит единственный мужчина-преподаватель. — Можешь идти, молодец.
Через неделю мы с папой находим меня в списке к зачислению. Нужно прийти осенью с документами.
Осенью происходит скандал: по документам выясняется, что мне нет семи лет, и меня выгоняют. На маму кричат:
— Вы нас обманули! Вы отняли место у другого ребёнка!
Сказать, что я тогда расстроился, было бы неверно, но избежать обучения музыке не удалось: за Нарвской заставой открывалось новое учебное заведение, и меня взяли туда. Ну, конечно же, на скрипку.
И только когда сейчас говорят об Иосифе Бродском, я, бывает, представляю, как меня взяли в ту музыкальную школу, и я каждый день хожу мимо его парадной, под его балконом. Мы встречаемся по дороге или в гастрономе напротив: я, шестилетний, зашёл туда купить эскимо, а он, шестнадцатилетний — за папиросами для матери. Или я, десятилетний — выпить газировки с сиропом, а он, двадцатилетний — купить бутылку вина. Он, конечно, никогда меня не замечает, зато я смотрю на рыжего парня и хотя не догадываюсь, кем он станет, но запоминаю, чтобы вспомнить через тридцать лет и помнить всю оставшуюся жизнь.
Без палки и поводыря
Зимний пейзаж: голые ивы склоняются под ветром на заметённом снегом склоне реки, а под картинкой стих. На двадцатипятилетие тётушка, учительница русского языка и литературы, подарила мне художественную открытку. В 1975 году я уже работал в ракетном НИИ, взрослый парень — смешно сказать, но эта открытка меня тронула, я её сохранил, а стих запомнил.
Стихи меня, в общем, не задевали, но были важной частью в технологическом процессе: считалось, что они помогают знакомиться с девушками, а память у меня была хорошая.
В тринадцать я увидел у кого-то из парней томик стихов Асадова, такие пели во дворе под гитару. Даже запомнил что-то типа «не ждал меня, скажешь, дурочка…» Однажды у родных я упомянул этого автора. Тётушка подняла бровь и спросила:
— Тебе нравится Асадов? — Я замешкался, она добавила: — Ну-ну…
Любовь к Асадову от этого «ну-ну» немедленно прошла.
Сейчас трудно поверить, но у нас тогда не было языка для обсуждения тем, связанных с любовью, сексом. Эпоха романтики: «Заиграла в жилах кровь коня троянского, переводим мы любовь с итальянского».
В репертуаре Асадов остался для девушек помоложе и попроще.
— Не робей краса младая хоть со мной наедине, стыд ненужный отгоняя, подойди, дай руку мне. — Цитата из Лермонтова в момент, близкий к решающему, позволяла продвинуться дальше: — Ну, скидай свои одежды, не упрямься, мы вдвоём…
С девушками интеллигентными это бы не прошло. Обычно я с ними дела и не имел, но когда случалась, скажем, филологиня, то к ней путь проходил через сонеты Шекспира в переводе Маршака: «Бог Купидон дремал в тиши лесной, а нимфа юная у Купидона взяла горящий факел смоляной и опустила в ручеёк студёный». Дальше лажа про лечебный горячий источник и любовные недуги: «Но исцелить их может не ручей, а тот же яд — огонь твоих очей». Страшные времена!
Ближе к следующему дню рождения меня постигла несчастная любовь. К своему удивлению, я начал писать стихи. Растроганная тётушка оторвала от себя и подарила мне редчайший сборник Пастернака из Большой серии «Библиотеки поэта». Ни у кого такого не было.
Пастернак меня потряс. Казалось, мне открыт шифр к его стихам: как и он, во всём я видел любовь. Маршак, вслед за Асадовым, отделился и сгорел в плотных слоях атмосферы.
Мой друг тоже писал стихи. Я прочёл ему свои, он позвал меня в ЛИТО, мы стали ходить туда вместе.
Здание эпохи конструктивизма, просторное помещение, за столом — мэтр, член Союза писателей, напротив — ряды, на стульях молодёжь, человек пятнадцать. Сначала один участник читает свои стихи, потом их ожесточённо критикуют собратья по перу, потом ещё двое-трое читают, но уже без критики, затем заключительное слово произносит Мастер. Начинается главная, неофициальная часть. Кто-то бежит за портвейном, пьют, почти не закусывая, страсти разгораются, мэтр травит байки, переходит на частушки с яркими рифмами. Допив купленное, по первому морозцу все идут до дальней станции метро, не переставая горланить.
Через несколько заседаний пришла очередь читать и мне, новичку. Я не переоценивал качества своих творений и для усиления эффекта решил начать ударно, взяв эпиграф с тётушкиной открытки.
Мэтр восседал за столом, немного сбоку, я встал по центру лицом к публике и начал декламировать:
Зима. И всё опять впервые.
В седые дали ноября
Уходят вётлы, как слепые
Без палки и поводыря…
Воцарилась гробовая тишина. Народ замер. Стало слышно гудение ламп дневного света. В этой тишине я произнёс: «Борис Пастернак». Сделал паузу и перешёл на свой текст.
По рядам пробежал шумок, все зашевелились, как будто была команда «отомри», но дослушали до конца. Двадцать лет спустя первый поэт кружка признался мне, что, услышав начальные строки, он замер с мыслью: «поэт родился!»
Поэт не родился, но поэзия сыграла важную роль в моей жизни: среди поэтов в Литобъединении я заметил одну замечательную девушку, в которую влюбился и, кажется, взаимно, поскольку мы с ней женаты вот уже более сорока лет.
А начиналось всё с поиска собственных выразительных средств, с поиска языка.
***
Стихов я с тех пор не пишу. Скрипка пылится на верхней полке книжного шкафа. Песни иногда пою. Синий сборник Пастернака всё ещё со мной. Поиск языка продолжается.

Кинезиотерапия
Вы когда-нибудь видели непрерывно болеющих детей? Нет, не тех, у кого действительно серьезные заболевания, а таких, у которых то сопельки, то кашель, то диатез, и все это не прекращаясь сменяет друг друга в зависимости от сезона.
А их мам вы видели? Они делятся на две категории: те, которые готовы посвятить переживаниям и уходу за ребенком все свободное время, и те, которые хотят сделать все что угодно, лишь бы эта череда болезней прекратилась и они могли уже заняться чем-то, кроме лечения детей.
Моя мама во времена моего детства принадлежала как раз ко второй категории. Она была готова на все, лишь бы спасти меня от бесконечных болезней, вылечить которые не было совершенно никакой возможности. Ну да, аллергия, астма и ослабленный иммунитет — вещи крайне неприятные, но «крайне» хронические, и, как следствие, лечению не поддающиеся. Но мама все равно пыталась.
Старалось помочь и ее окружение: подруги, знакомые, родственники — все наперебой советовали диеты, примочки, отвары, кремы. И хорошо бы, чтобы хоть что-то из этого помогало, но, как и любые способы нетрадиционной медицины, все эти средства действовали плохо.
Айсбергом спокойствия в этом океане «лечебных страстей» оставался мой отец. Как врач он понимал, что сделать ничего нельзя, как любящий родитель — сочувствовал, но все так же осознавал, что все усилия тщетны.
— Ты сам ничего не хочешь сделать и мне запрещаешь ребенку помочь. — Так начинался каждый разговор о том, что мамой найден новый способ лечения меня.
— Я тебе уже в который раз повторяю, что гомеопатия для детей с аллергией — абсолютно недействующее средство, как и для всех остальных, впрочем, — всегда пытался парировать папа.
— Доктор Кононов, он стольких вылечил, он твоей матери артрит вылечил иглоукалыванием, да к нему весь город ходит. У него лучший курс гомеопатического лечения в стране, — и неизменные контраргументы от мамы, менялось только имя врача и метод терапии.
Отец тяжело вздыхал, а мы с мамой на следующий же день через весь город ехали к доктору Кононову получать целительные гомеопатические таблетки и слушать, насколько легко лечится детский атопический дерматит. Когда мы возвращались к нему через неделю с еще большим количеством высыпаний, он делал круглые глаза, начинал что-то говорить про новое отклонение, которого он до этого ни у кого не видел, и лез в шкаф за новой порцией таблеток.
Меня, в сущности, это все не беспокоило. Ну, подумаешь, мама говорит куда-то ехать, там какой-то дядя в белом халате таблетки дает, а они вкусные, сладкие, по виду напоминают мелкий-мелкий горох. Много ли надо в пять лет для счастья? Мне там еще и мультики включали, красота. И все эти посещения различных терапевтов, специалистов, остеопатов, прием таблеток и мазанье кремами продолжались до моего двенадцатилетия, когда лишь один сеанс у врача смог внести ясность в этот хаос моего бесконечного лечения.
Все началось вполне обыденно, с разговора моей мамы с коллегой, которая сказала, что мы зря мучаемся столько лет, и что кинезиотерапия — единственный способ избавиться от всех болезней раз и навсегда.
Опустим описание споров между родителями относительно необходимости посещения специалиста такого уровня. Лишь спустя целый месяц уговоров папа согласился ехать на прием. Также опустим рассказ о том, сколько усилий потребовалось, чтобы записаться к великому кинезиологу, владеющему уникальной техникой лечения. Все же нам удалось найти местечко в его забитом расписании и попасть на прием.
Нам сказали, что это будет частная клиника со входом со двора. Находилась она где-то на юге города. Когда мы туда приехали, оказалось, что частная клиника — квартира на первом этаже с прорубленной во двор дверью. Все это уже показалось мне подозрительным: какой-то мрачный многоквартирный дом, на первом этаже среди магазинов зоотоваров и хозяйственных — белая дверь с железными ступеньками. Ни вывесок, ничего, только кнопочка звонка. Мы позвонили, нам сразу же открыла девушка в медицинском халате и, даже не спросив, кто мы и на какое время записаны, велела сидеть и ждать.
Коридор был набит людьми: причитающие бабушки, плачущие дети, женщина с котом, мужчина с трехлитровой банкой, наполненной зеленоватой жидкостью. Все они шумели, говорили, постоянно спрашивали у девушки, когда уже будет их очередь, в общем, создавали невыносимый шум. Папа отыскал где-то стул и приткнул его в угол, чтобы я могла посидеть, потому что ожидание обещало быть долгим. Так и оказалось. Мы просидели в этой какофонии и духоте примерно полтора часа, и только после этого нас наконец пригласили.
В общем-то, в кабинете кинезиолога не было ничего выдающегося (хотя я ожидала увидеть что-то магическое): плакаты о здоровом образе жизни, так хорошо знакомый мне шкаф с разнообразными пилюлями, письменный стол и кушетка. Но притягивал внимание, конечно же, сам врач. Он занимал добрую половину комнаты, казалось, что пуговицы его халата не выдержат и вот-вот разлетятся по углам. Однако больше в нем ничего особенного не было: темные волосы, слегка раскосые глаза, недобро глядящие на всех, кто заходил в кабинет.
Для начала он провел стандартный опрос: чем болела, какие хронические заболевания и от чего хочу избавиться. Говорил он странно, выделяя повышением голоса какое-нибудь одно слово в предложении.
— Мне здесь все предельно ясно, — изрек он по окончании беседы. — Я вам могу помочь. Для начала я осмотрю ваши внутренние органы.
Я, конечно же, напряглась, не то чтобы мне очень хотелось, чтобы мои внутренние органы кто-то осматривал, но если для лечения нужно…
— А у вас есть аппарат УЗИ, или вы умеете снимать ЭКГ? — ехидно поинтересовался мой папа, которого, видимо, смешила уверенность этого «специалиста».
— Мне это не нужно, — невозмутимо ответил врач. — Ложись, девочка.
Я легла на кушетку, надеясь только на то, что родители в случае чего меня спасут. Кинезиолог встал сбоку и вытянул надо мной две руки с ладонями, повернутыми вниз.
— Оммм, оммм… — Он начал водить надо мной руками, издавая подобные звуки. Мне стало невероятно смешно, в моем представлении врач — человек серьезный, неспособный на глупости, но я решила, что ему пришло в голову пошутить. К сожалению, все было абсолютно серьезно.
— Сестра, дайте жидкость для омовения, — практически пропел он. Девушка поднесла жестяной тазик с водой. — Оммм…
Он окунул руки в тазик и продолжил водить ими надо мной, периодически брызгая. Стало противно и холодно от ледяной воды.
— Я измеряю сердечный ри-итм-м… Шестьдесят семь… Девяносто два… Девяносто пять. — Он начал диктовать какие-то цифры, а сестра — фиксировать их на бумажке. — Сто пять на семьдесят, я измеряю артериальное давление-е.
— Я исследую желудок и кишечни-и-ик. — Я прислушиваюсь к тому, как папа шепчет маме на ухо, что отечественная медицина больше не нуждается в колоноскопии как в исследовании в принципе. Мама шикает на него. Я лежу и изо всех сил стараюсь не смеяться.
На протяжении тридцати минут доктор водил надо мной руками и брызгал водой. Стало понятно, отчего все в коридоре ждут по два часа.
— Ну-с, теперь-то точно все ясно. — Он вытер руки о полотенце и сел за стол, повернувшись к моим родителям. — Здесь четко прослеживается перекос таза, да. Вот от этого все и идет. Подойди-ка сюда.
Я встала на коврик рядом со столом, и он подсунул мне под правую пятку два круглых черных магнита, лежащих один на другом. Стоять было очень неудобно.
— Вы видите, насколько неправильно идут магнитные потоки? — Он с видом победителя смотрел на моих родителей. — Да здесь не то что астма, тут вообще удивительно, как вы находитесь в таком относительно здоровом состоянии, когда правая нога настолько короче левой.
На протяжении всего сеанса «исцеления» я наблюдала за тем, как постепенно раздражался мой отец, но магнитные потоки и астма от перекоса таза, видимо, совсем вывели его из равновесия.
— Послушайте, я работаю врачом уже на протяжении пятнадцати лет, и за все эти годы еще ни разу не встретил такого уникального случая зависимости астмы и длинны ног. Вы не хотите написать диссертацию на эту тему? — Мама издала протяжный вздох, все ее усилия по сдерживанию папы оказались напрасны.
— Как, вы врач? — Весь спектр, от тоски до испуга, отразился на лице несчастного кинезиолога. Интересно, как быстро он нас теперь выпроводит. — Этот случай действительно редкий, даже не знаю. Так, а что же вы ко мне пришли? Вы ведь врач, тем более отец, вам виднее, что тут можно сделать.
Он начал быстро что-то писать на бумажке.
— Вы знаете, я могу вам посоветовать семена льна в горячей воде замачивать и употреблять в пищу. Но это скорее профилактика, нежели лечение. Сходите к ортопеду с вашим перекосом таза, повторную консультацию я вам назначать не буду. Сестра, проводите их.
— Спасибо, выход найти мы в состоянии, — молниеносно отреагировал мой отец. Еще немного, и разразился бы скандал, поэтому мама мягко взяла папу под руку и повела из комнаты. Я тихо шмыгнула за дверь следом за ними.
Всю дорогу до дома я вынуждена была слушать перепалку родителей. Мама была обижена, что ее усилия по поиску специалиста не были оценены, папа практически кричал на всю улицу, что если нам так хочется верить в магию, мы можем идти к гадалке и ее спрашивать, как меня лечить, а не тратить его время на всяких шарлатанов. Несмотря на весь этот абсурд, настроение у меня было замечательное, ведь врач был очень смешной, я провела время с родителями, которые все время заняты, еще и сейчас мы гуляем вместе.
У этой истории был лишь один положительный итог, но этот итог оказался самым важным. Меня наконец-то перестали таскать по разным врачам, давать таблетки и мазать липкими кремами. Папа просто категорически запретил маме, ее подругам, а также моим бабушкам даже близко подходить ко мне с советами и лечением. Что ж, видимо, в семье врача нет места для нетрадиционной медицины.

Мечта?
I. Юродивый Иваныч
Хор мальчиков
Здравствуй, здравствуй, Юродивый Иваныч!
Встань, нас почествуй,
В пояс поклонися нам,
Колпачок-то скинь!
Колпачок тяжёл!
(Щелкают по колпаку).
Дзинь, дзинь, дзинь,
Эк звонит.
Юродивый
А у меня копеечка есть.
Хор мальчиков
Шутишь! Не надуешь нас, небось!
Юродивый
(Показывает копеечку).
Вишь!
Хор мальчиков
Фить!
(Вырывают и убегают).
После этой партии дети убегали со сцены, и я вместе с ними. Мне было одиннадцать лет, я пела в детском хоре Большого театра. Три раза в неделю у нас были репетиции, а иногда — концерты и гастроли. Особенно запомнились гастроли в Италии, где мы пели в нескольких храмах Рима и Флоренции в декабре, в канун католического Рождества. Наш хор также участвовал в операх Большого театра, где были партии для детского голоса.
Я еду с мамой на автобусе, потом несколько остановок на метро и, наконец, выходим на освещенную Театральную площадь — идем к белоснежным колоннам Большого театра, на фронтоне которого бог Аполлон, покровитель искусств, пытается удержать четырех рвущихся вверх коней.
Репетиции начинаются в восемь вечера и заканчиваются в десять. Я выбегаю из театра вместе с другими детьми. Уже темно. Но улицы ярко освещены. Мама меня ждет у входа в театр с бутербродом. Метро, автобус, и мы уже дома. Кушать и спать, ведь завтра утром я иду в школу.
Очень хотелось петь на сцене, в опере Мусоргского «Борис Годунов». Для участия в опере отбирали тех детей, кто особенно хорошо пел. Теперь я понимаю, что кроме хорошего голоса еще требовалось быть дисциплинированным, не разговаривать во время репетиций, не крутиться по сторонам. Только один раз мне разрешили петь партию в хоре мальчиков-беспризорников во время спектакля, потом убежать со сцены, как положено по сценарию.
Я помню, что сцена была освещена настолько, что лиц зрителей не было видно, они сливались вместе с залом, с орнаментом театра и казались декорациями.
У меня было чувство, что мы, наш хор, все остальные артисты играем спектакль и поем сами для себя.
После окончания оперы в буфете царь Борис вместе с придворными и боярами стоял в очереди за гречкой, котлетами и компотом. Арию Бориса Годунова исполнял в то время ведущий солист труппы Большого театра, знаменитый бас Владимир Маторин. Мы, дети, терпеливо стояли в самом конце, ждали, пока все артисты получат свои порции и рассядутся. Мы с восхищением разглядывали костюмы, вглядывались в уставшие лица с потекшим гримом. Все это было и обычно, и необычно одновременно. И это было счастье.
Репетиции детского хора Большого театра проходили на самом верхнем этаже театра, прямо за скульптурой Аполлона. Из окон репетиционного зала видны были четыре лошадиных мраморных хвоста и задние копыта под синим небом.
Вход для артистов театра и детей-солистов был через 15 подъезд, который находится напротив входа в ЦУМ. Чтобы попасть в наш репетиционный зал, нужно было пройти через весь театр. Больше всего мне нравилось проходить мимо входа в оркестровую яму, там перед репетициями можно было видеть взмокших от пота и напряжения музыкантов с сигаретами в руках, отдыхающих во время антракта. В сигаретном дыму и легком тумане под сценой они были похожи на черных жуков в длинных фраках.
Мы проходили под сценой, над нами нависали какие-то железные приспособления, лампы и прожекторы. Все вокруг скрипело и покачивалось, напоминало подводную лодку.
Иногда я приходила задолго до начала репетиции, чтобы послушать оперу. Для этого нужно было подняться на четвертый ярус — там всегда были свободные места. В эти годы я несколько раз слушала музыку и смотрела оперы «Пиковая дама», «Хованщина», «Князь Игорь» с высоты последнего яруса под огромной центральной люстрой. Но с особым вниманием и завистью я слушала оперу «Борис Годунов», партию мальчиков-беспризорников, дразнящих Юродивого, и мечтала петь на сцене, и отобрать у него, наконец, копеечку.
Во взрослый хор театра я не перешла. Мне хотелось заниматься вокалом индивидуально, и нам с мамой порекомендовали преподавателя по вокалу.
II. Блаженная идиотка
«Улыбка — раз, спина прямая — два! Хоп-хоп — блаженная идиотка!»
Я выполняла стойку и команду «блаженная идиотка», и начинала петь. Я старалась выполнять все правильно, искренне веря, что преподаватель знает лучше. Однако, было чувство, что что-то не так. По идее, голос от этой техники должен был звучать в голове и проходить по всему телу, не застревая в горле. Но он застревал.
После уроков вокала с Марией Максимовной Митя встречал меня у метро «Новослободская», это самая красивая станция в Москве, где мраморные колонны украшены панно из цветной мозаики. И там мы несколько раз выполняли стойку «блаженная идиотка» и хохотали.
Мария Максимовна мне как-то сказала, что я слишком веселая, а чтобы лучше петь, нужно «пострадать». Я также должна пойти в церковь и «припасть к мощам». В Бога я не очень верила. Но готова была припасть хоть куда, лишь бы хорошо петь, но «припасть» не пришлось. Страдать тоже не получалось, но ходить на уроки пения хотелось все меньше. Я поняла позже, что психологическая совместимость, так сказать, химия, между учеником и преподавателем очень важна, без нее никакая техника не даст результатов, особенно в вокале. Преподавателя, с которым мне действительно нравилось заниматься вокалом, я нашла гораздо позже, только через несколько лет, в Германии, в Мюнхене.
Странные уроки вокала, смена нескольких преподавателей с причудами, а также всевозможные правила и стандарты со временем стали вызывать у меня отвращение. Хотелось делать, что хочешь и как хочешь, но петь. Помню, мне восемнадцать лет, мне хочется петь рок в группе. Я вижу себя рок-певицей на сцене. Я купила шляпу. У меня стильные кожаные штаны. Придумала название группы и составила репертуар. Мы с Митей нашли гитариста, ударника и клавишника среди наших сверстников, и организовали рок-группу, которую назвали «Paradox». Наша группа и компания были похожи на сериал «Элен и ребята», который я увидела намного позже. Предел моих мечтаний! Я — певица, мой бойфренд — бас-гитарист, ударник, гитарист и клавишник — наши друзья.
Мы сами сочиняли песни и делали кавер-версии любимых рок-групп, которые были популярны, таких как «Cranberries», «No Doubt», «Garbage». Наши тексты были на английском, что для тех времен, девяностые годы в Москве, было ново и оригинально.
«Одинокая волчица, почему же я не птица». Песня «Волчица» была нашим хитом, это была единственная песня на русском, текст которой для нас написал чей-то брат. Нам аплодировали — сначала друзья и друзья друзей, которых мы приглашали на концерты, родители и друзья родителей. Позже нас стали приглашать выступать в клубах в центре Москвы. Одним из первых был клуб со странным именем «Оракул божественной бутылки», клуб находился в подвале, но напротив английского посольства и Кремля, на набережной Москвы. Мы уставали после двух часов непрерывной игры и пения, но были счастливы. Все закончилось, когда я поехала в Германию на повышение юридической квалификации. Группа распалась, рок закончился, но начался джаз!
Пострадать, как просила когда-то Мария Максимовна, я пострадала, но позже, и не для нее, а когда после десяти лет отношений с Митей мы расстались. Я неожиданно для себя переживала и страдала очень долго, в отличие от него. Правда, он страдал раньше, когда понял, что пришёл конец отношениям и когда пытался их спасти.
«Why don’t you cry me a river, I cried a river over you», — слова известного джазового стандарта «Cry me a river».
III. Куда пропал Lust?
Как-то раз пропал Люст. Все его стали искать и не находили. Они знали, что он любит музыку, и стали искать в оркестровой яме, но там лежали одни инструменты, а Люста не было видно. Решили звать со сцены, смотреть за кулисами и в зрительном зале, но и там Люста не было. Многие потеряли надежду и решили, что Люст больше не вернётся. Ему, наверное, интереснее быть в каких-то других, неизвестных нам странах.
Другие и вовсе решили, что им только показалось, что он был, а теперь, раз его нет, значит, его и не было вовсе.
Они привыкли к этой мысли и даже успокоились, и перестали его искать.
«Такова жизнь», — говорили они.
Остался в городе один музыкант, который никак не мог забыть Люста. Он помнил его запах, его смех, его элегантные движения. Ведь когда он исчез, все стало другим, не то, что все танцевать перестали, но и ходить стали как-то сгорбившись, считая бетонные плитки или рассматривая лужи.
«Может, они там ищут Люста?» Музыкант безнадежно вздохнул и пошёл в оркестровую яму: «Что ему делать, Люсту, в этой яме, он ведь такой возвышенный, наверняка он сейчас на японской горе».
В яме и правда было пусто. Инструменты лежали тихо на стульях. Музыкант подумал: «Если я буду играть всю ночь на этой скрипке, неужели он не услышит, если он такой возвышенный?» Он играл всю ночь. Он играл весь день. Музыканты постепенно стали заполнять оркестровую яму. Люди, услышав волшебную музыку, разместились в зрительном зале. Музыка становилась все громче и громче. Скрипач устал, он захотел выкинуть скрипку и крикнул: «Где Люст!?»
И Люст пришёл. Он никуда не уходил. Он ждал все время в оркестровой яме и вовсе не на Фудзияме.
Я резко проснулась.
Я не могла жить без музыки. После года обучения в Мюнхене я стала работать в немецкой юридической фирме. Немецкий порядок и комфорт, и никаких сюрпризов. Культурный город и самая большая деревня в Баварии, как говорят сами баварцы.
Стало пусто от организованной немецкой жизни. Как то раз одна из коллег, которая стала выпивать в обеденный перерыв дома, чтобы справиться с немецким менталитетом и бесконечными одинаковыми днями, взяла меня с собой на концерт своего знакомого. Играл биг-бенд.
Незадолго до этого я заменяла певицу биг-бенда университета, которая неожиданно заболела. Меня попросили срочно выучить пару джазовых стандартов и выступить с группой несколько раз. Ещё тогда я поняла, что это музыка — моя. Джаз и свинг 30-х годов идеально подходили для моего низкого голоса. Ещё тогда я поняла, что хочу быть основной певицей биг-бенда из двадцати музыкантов.
После концерта знакомого я подошла к дирижеру биг-бенда и спросила, не нужна ли им певица. Он ответил, что будет иметь меня в виду. Через месяц я получила приглашение на конкурс певиц в биг-бенд Tabtuwab.
Репетиции начались каждый понедельник по вечерам после работы, а концерты — каждый месяц и по всей Баварии. Мы выступали и на свадьбах, и на больших корпоративных вечеринках, и на балах в стиле 30-х годов.
Деньги за концерты уходили на оплату репетиционной базы и различных нужд группы. Вот она где, моя мечта, я — певица биг-бенда из двадцати музыкантов. Деньги мне, однако, приносила моя работа юриста, как говорят музыканты, так называемая «day job». В биг-бенде было два профессионала, которым платили за концерты, так как они занимались только музыкой, у них не было другой «day job», и они играли ещё в нескольких музыкальных коллективах. Мне было немного завидно. Я получила, помню, несколько раз хороший гонорар за мое выступление. Получить хорошее вознаграждение не только в виде аплодисментов за творческий труд, а за отдачу себя, своего таланта, эмоций и переживаний, за выступление, от которого потом устаешь и чувствуешь опустошенность, но сам получаешь удовольствие — это, наверное, и есть счастье.

Мони Нильсон и её шалости
«Дети не живут в мире из солнца и волшебства», — говорит шведская писательница Мони Нильсон, обладательница премии имени Астрид Линдгрен — одной из самых престижных наград в детской литературе.
На родине Мони Нильсон задала новое направление для детских писателей. В 1995 году в Стокгольме вышла её первая книжка о мальчике Цацики. Можно было бы сказать, что после публикации Мони Нильсон проснулась знаменитой, но этого будет недостаточно. Писательница получила сотни писем от детей из разных стран с просьбой написать продолжение. И Мони написала ещё четыре книги. «Цацики» переведен на 20 языков и экранизирован.
Писательница объясняет такой живой детский отклик тем, что её герой — обыкновенный, такой, как все дети, а книга не приукрашивает действительность, а открыто, честно, часто с юмором обсуждает с ребёнком людей, ситуации, эмоции. И современная скандинавская литература придерживается этого направления: смело поднимает в книгах вопросы гендера, любви и секса, не заигрывает, не говорит свысока. Она описывает неполные семьи и утверждает, что так тоже случается, и это нормально. Она не замалчивает алкоголизм родителей, неизлечимые болезни и смерть. Она смеётся над словами «хрен» и «какашка». Она, как ребёнок, который шалит, интересуется всем на свете, суёт свой любопытный и озорной нос в запретные взрослые темы и с юмором выходит из щекотливых ситуаций.
Но в России такие книги часто не доходят до читателя, потому что не проходят строгий родительский отбор. Произведение Мони Нильсон «Лакрица и Привезение» как раз из таких — не прошедших родительский контроль.
Лакрица — мальчик шести лет, живёт с мамой и папой и ненавидит своё «конфетное» имя. «Лучше бы назвали Иисусом — тогда бы меня любили. Или Фантомасом — и тогда бы я никого не боялся», — рассуждает мальчик. Но его зовут Лакрица.
Действие разворачивается в заснеженной и закоченевшей от морозов маленькой шведской горнолыжной деревушке. Мама Лакрицы ненавидит зиму, тоскует по солнцу и столице, согревается алкогольными коктейлями, постепенно проваливается в жуткую депрессию, не выдерживает и уезжает в Стокгольм. Её муж, отец Лакрицы, не поднимает голову от компьютера, днём и ночью создаёт игру, за которую мечтает получить много денег, и не замечает, что происходит с женой.
У Лакрицы нет друзей, соседские дети и взрослые натирают ему уши снегом, смеются, издеваются, а робкий мальчик не находит сил дать отпор обидчикам и спасается только бегством.
Когда Лакрица в очередной раз глотает слёзы унижения, сидя на дереве, куда он забрался в надежде укрыться от мерзких шуточек соседей, перед ним появляется Привезение. Выдуманный друг, который любит шалости со смыслом. Он выразительно и заразительно ругается, метко стреляет снежками, умело разбирает на запчасти снегоход главного обидчика Лакрицы — «соседского папаши-придурка», и генерирует идеи для шалостей со скоростью, которой позавидовал бы любой бегун на соревнованиях.
Можно понять родителей, которые не спешат покупать такую книгу для своего ребёнка. Во-первых, кто захочет читать про героя-неудачника. На кого будет равняться ребёнок? На Лакрицу, которого обижает каждая дворняжка? Или на Привезение, который учит Лакрицу всяким глупостям, например, как намазать собачьими какашками усы соседа? Во-вторых, устаревшие психологические теории, которым мы, к сожалению, верим, утверждают, что воображаемый друг — это повод вести ребёнка к неврологу, психологу и психотерапевту, а там уже и диагнозы ставят, и отклонения в развитии диагностируют. В-третьих, родители не любят, когда дети шалят, обзываются и говорят «плохие» слова.
Но в то же время взрослые забывают, что когда-то сами были маленькими: грустили или страдали от насмешек, стыдливо прятали глаза, просыпаясь по утрам в мокрой постели, или не находили рядом друга, который бы поддержал, прошептал на ухо коварный план, превратил глобальные проблемы в малюсенькие недоразумения и научил защищать себя. Родителям не хватает информации об особенностях развития детей разного возраста, и потому возникает много необоснованных страхов вокруг детских фантазий. Воображаемый друг — это не диагноз. А детские шалости и ругательства, конечно, под запретом. Взрослым важно, чтобы дети выглядели воспитанными, говорили только приятные слова и не ковырялись в носу при посторонних. Иначе общество решит, что родители не справляются со своей ролью. Но так ли это? Нужно ли запрещать ребёнку читать книжки, в которых дети — это обычные дети, а не супергерои?
Привезение меняет жизнь Лакрицы. Взрослым может показаться, что он учит дерзости, не уважает взрослых, но это не так. Привезение не уважает конкретных взрослых, тех, кто обижает детей и постоянно нарушает личные границы окружающих, лезет с нравоучениями и садистскими методами воспитания, оскорбляет и пребывает в уверенности, что его действия окажутся безнаказанными. И так и было, пока не появился воображаемый, но в то же время такой реальный друг, который показал сильному взрослому, что на любое его плохое действие или обидное слово найдётся классная шалость со смыслом. И лучше этому взрослому помолчать и оставить Лакрицу в покое.
Привезение напоминает Лакрице: не спешить с оценкой человека, не принимать каждую улыбку за дружелюбие, а молчание за равнодушие. Лакрица становится внимательнее, чаще и смелее поднимает голову, не отводит взгляд и говорит то, что думает. Учится принимать неудачи и видеть в них не трагедию, а ступеньку к следующей вершине. У него появляется друг, живой, как у всех. И наступает сложный этап социального общения: как лавировать между ревнивым и бойким Привезением и верным и скромным Клинт-Клинт-Хенриком, как сохранить дружбу с обоими.
И здесь проницательный читатель поймёт, что свою роль воображаемый друг выполнил — помог ребёнку вырасти, преодолеть страхи и комплексы, найти реального друга. Прощание Лакрицы и Привезения наполнено слезами и грустью, но одновременно и уверенностью мальчика в правильности хода истории.
Мони Нильсон показывает читателям, что они не одиноки. Что где-то живёт мальчик Лакрица, которому не нравится его имя, который грустит и попадает в разные, часто неприятные, ситуации. Сегодня получил двойку, вчера разбил любимую мамину чашку, а два дня назад так с папой поссорился, что до сих пор не разговаривают. Но это всего лишь двойка, чашка и маленькая ссора.
Через «шалости со смыслом» и юмор Лакрица и читатель проживают разные события, абстрагируются, наблюдают за собой со стороны, оценивают поступки, фразы, могут что-то изменить, сделать выводы и поступить по-другому. Дети помладше будут хохотать над книжкой Мони Нильсон, а дети постарше — тихонько посмеиваться и задумываться.
Тема воображаемых друзей и шалостей постоянно поднимается в детской литературе. Вспомним Карлсона, на шалостях которого мы выросли. А ведь они далеко не безобидны: разбитая люстра, рискованные прогулки и бедная домоправительница. Но мы с готовностью показываем ребёнку мультик по мотивам книжки одной шведской писательницы, а в сторону книги другой неодобрительно качаем головой. Но, по сути, они об одном и том же — об одиноких детях, которым нужны любящие и заботливые родители. И о шалостях, без которых дети не растут.

Не говори пока никому
Бывают минуты, когда заезженные фразы становятся реальностью, и ты действительно чувствуешь, как рушится небо и в одночасье переворачивается жизнь. Пятого декабря две тысячи пятого года я стояла у выхода из поликлиники при больнице «Сорока». В руках держала бумагу, в которой черными буквами на белом фоне воплотились ужас и страшные мысли, что сопровождали меня уже не первый день. У меня — рак. У меня — чья мама умерла от рака в неполных сорок шесть лет, а бабушка в пятьдесят шесть сгорела от цирроза печени.
Мне сорок семь, у меня двое детей от первого брака, старшему — двадцать один, он на срочной службе в армии, младшему — шестнадцать. Полтора года назад я вышла замуж за вдовца. За год до нашей свадьбы, в пятьдесят семь лет, умерла от рака его жена, моя тезка. На моем попечении восьмидесятилетняя мамина подруга, которая с мужем (он умер от рака в девяносто четвертом) взяла надо мной опеку и вырастила после смерти мамы. Мне нужно сказать о диагнозе мужу, не забывая о том, что рак унес его первую любовь, с которой он прожил в браке тридцать шесть лет. Мне нужно сказать о диагнозе детям и пожилой женщине, для которой я — руки, ноги, голова и язык.
Опускаюсь на скамейку у входа в поликлинику. Похоже, она стоит здесь для таких случаев. Когда сообщают диагноз, в кабинете находятся врач, медсестра и социальный работник (мне действительно стало плохо, и присутствие медсестры лишним не было), но потом ты все равно остаешься наедине со своей болезнью. Мне страшно, как бывало в детстве. Я боялась, что по канализационной трубе приползет крыса и укусит меня, пока я сижу в ванне. Теперь я страшусь зверя, который поселился во мне и ест изнутри. В детстве я боялась, что умрет мама, теперь боюсь оставить сиротами своих детей. Звоню подруге, которая работает тут же, в больнице, и минут через двадцать она приходит. Из всего, что она говорит, запоминаю фразу, что кажется мне странной. «Не говори пока никому» (имеются в виду посторонние). Я не понимаю, почему диагноз «рак» нельзя произносить вслух.
У меня в руках длинный список проверок и анализов, которые нужно сделать срочно. Хорошо, что есть что делать. Действовать, звонить, заказывать очереди, согласовывать по времени с работой. Все нужно успеть за десять дней, потому что пятнадцатого декабря собирается консилиум, где определяют протокол лечения. Сначала мне говорят, что проведут шесть сеансов химиотерапии, затем операцию, но после консультации с коллегами из США ведущий врач решает изменить протокол и начать с операции. Ее назначают на двадцать восьмое декабря. Я продолжаю работать с полной нагрузкой. За три месяца до постановки диагноза я получила новую должность, о которой мечтала. Делаю все, чтобы работа не страдала. Еще не знаю, что во время длительного больничного договор со мной расторгнут в одностороннем порядке, абсолютно незаконно. Но мне уже будет на это наплевать.
Все больше людей узнают о моей болезни, и это неизбежно. Кроме друзей и близких в круг посвященных вовлекается, например, мой парикмахер. Решаю постричься коротко-коротко, готовлюсь к тому, что после первых сеансов химиотерапии волосы выпадут. Нужно купить парик. У меня их будет два, но носить парик летом в израильской жаре — дополнительное испытание, дома буду обходиться косынками, на улице — иногда вязаными шапочками. Пересматриваю свой гардероб, одежда и обувь должны быть, в первую очередь, удобными.
Когда люди узнают о том, что я заболела, как правило, скороговоркой бормочут «Все будет хорошо», да и действительно, что тут скажешь. Мне это понятно. В принципе, что им до меня и моей болезни. Удивляет фраза близкой подруги: «Ну, это не страшно, моя знакомая заболела, и ничего, вылечилась». Сначала эти слова меня обижают, потом понимаю, что она просто не знает, что сказать. И я бы не знала. С одной стороны — полностью излечиваются свыше девяноста процентов заболевших раком груди. С другой, рак — это табу, о нем не принято говорить, это слово стараются не произносить. Есть много других заболеваний, риск смерти от которых гораздо выше, но они так не пугают.
Канцерофобия (страх заболеть раком) не только у отдельных людей, но и у общества в целом. Перспектива заболеть раком страшит больше, чем риск других заболеваний. У одних болеют друзья и знакомые, у других — умерли родители. Кто-то переболел сам и боится рецидива. В социальных сетях периодически проводят сбор денег на лечение детей с редкими формами опухолей. Казалось бы, все знают, что болезнь рядом и должна стать привычным явлением нашей жизни, но она по-прежнему внушает сакральный ужас.
Двадцать восьмого декабря меня оперируют, а тридцать первого утром со швами и болями крошу «оливье». По традиции каждый год старший сын несет салат своим друзьям на встречу Нового года. Как-то я спросила, почему он, и услышала: «Я сказал, что у моей мамы не салат, а — произведение искусства». Мне это важно. Так появляется новая мечта — готовить «оливье» для семьи и друзей еще много лет.
По итогам первой операции выясняется, что уже есть метастазы в лимфоузлах, и мне предстоит получить лечение по следующему протоколу — еще одну операцию, восемь сеансов химиотерапии с интервалом в две недели, тридцать пять облучений и пять лет медикаментозного лечения. То, что врачи говорят о столь отдаленном будущем, внушает осторожный оптимизм, похоже, прямо сейчас я не умру.
Постепенно моя болезнь становится свершившимся фактом, и окружающие почему-то начинают меня поучать, как себя вести и что делать. Эти фразы, как правило, начинаются со слов «Ты должна». «Ты должна продолжать работать», «Ты должна вести обычную жизнь», «Ты должна, должна, должна…» Приводят примеры своих знакомых и дальних родственников — «вот женщина из нашей лаборатории шла на химиотерапию, а на следующий день приходила на работу». Им невдомек, и слава богу, что каждый переносит лечение по-своему.
Начинаются будни онкологического больного, в которых много боли и страдания, а также свободного времени. После третьего сеанса химиотерапии я прекращаю работать. У меня нет физических сил, зато есть возможность думать. Я уже «продвинутый пользователь», поэтому спрашиваю не «За что?», а «Для чего?». Рядом не пойми откуда возникают «мотивационные» статьи и книги. Они твердят, что жизнь дает мне второй шанс, возможность изменить ее и измениться самой. Хватаюсь за эту мысль, как за край спасательной шлюпки и начинаю делать то, что «должна», чтобы «изменить свою жизнь». Получив приличную сумму от страховой компании (у меня была страховка на случай онкологического заболевания), вбухиваю ее в заведомо не мой бизнес, который впоследствии приносит убытки, многолетние тяжбы и депрессию. А как же, нужно же продолжать жить. Почему-то в принятом контексте жить — это не позволить себе после завершения тяжелого лечения исполнить давнюю мечту — поехать в золотую осень. Идти по широкой аллее, загребая ногами шуршащие листья, а потом сидеть в венском кафе за чашечкой кофе. Жить — это продолжить гнаться за мнимым успехом, держать лицо, не позволяя себе быть слабой.
С первого дня постановки диагноза не допускаю мысли о том, чтобы отказаться от лечения, искать альтернативные методы. Говорю себе, буду выполнять все назначения врачей, чтобы в будущем не кусать локти, если что-то пойдет не так. По крайней мере, буду знать, что сделала все, что зависело от меня. А от меня зависит и много, и совсем ничего. Когда впоследствии анализирую весь период лечения, понимаю, что для меня было самым сложным. Я перестала принадлежать себе. Я — человек, который с раннего возраста принимал самостоятельно решения и отвечал за себя и своих близких, я — субъект превратилась в объект. За меня решали, а я покорно выполняла все предписанное. Мое тело вертели, ощупывали, осматривали, с равнодушным лицом я раздевалась в присутствии мужчин и женщин. Не хочу сказать, что поведение врачей и медсестер было неэтичным, у них просто не было времени на церемонии. Они хотели вылечить меня. И они это сделали.
Осень две тысячи одиннадцатого года. Истекло пять лет приема лекарств. Много работаю и часто путешествую за границей. К этому времени старший сын закончил первую степень в университете, а младший — службу в армии. Знакомлюсь с будущей невесткой и думаю о платье, которое сошью на их свадьбу.
Изменила ли меня болезнь? Стала ли я другой? Нет, я — все та же Лариса — девочка, которой страшно, но она живет. Девочка, которая победила и рак.
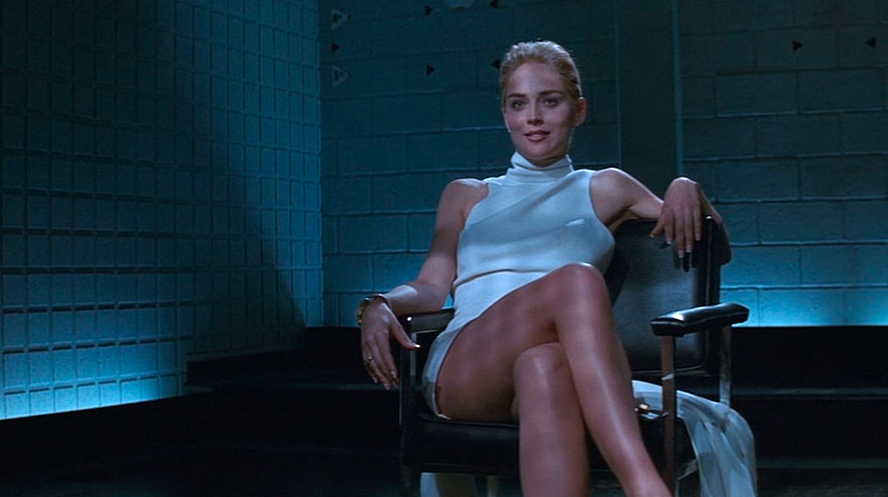
Сгореть дотла, как Птица Феникс. Две жизни Шэрон Стоун
Она лежала на медицинской кушетке, обездвиженная, бледная, испуганная, одинокая, в нелепом одноразовом халате, едва прикрывавшем все то, что вожделели миллионы. Разрыв аорты произошел несколько часов назад, и непоправимое развивалось своим чередом, невзирая на ее статус, богатство, красоту, молодость и возможности. Пройдет еще девять дней, прежде чем врачи найдут причину, прежде чем родным сообщат, что шанс выжить составляет один процент из ста. В сентябре 2001 года в Калифорнийском Медицинском центре умирала Шэрон Стоун.
«Я открыла глаза и увидела его, он склонился надо мной в паре сантиметров от моего лица. Во взгляде незнакомца было столько доброты, что я поняла, что умираю. Он гладил меня по голове, по волосам; Боже, как он был красив. Я бы все отдала за то, чтобы это был кто-то, кто любил меня, а не тот, чьи следующие слова были: “У вас кровоизлияние в мозг”», — вспоминает Стоун первые часы в клинике 1.
Все девять дней до операции, пока она будет то уходить, чтобы встретить давно умерших близких, то возвращаться, чтобы увидеть непрекращающийся ад на экране телевизора в больничной палате (кровоизлияние произошло через две недели после теракта, вошедшего в историю под названием «11 сентября»), кровь постепенно зальется в головной мозг, в глаза, в уши, в спинной мозг, лишив ее всего, что она имела. Шэрон Стоун потеряет способность говорить, писать, читать, запоминать, слышать, видеть, ходить. Она потеряет мужа, маленького приемного сына, работу, в конечном счете ей будет казаться, что она потеряет себя.
Позже она признается, что тогда, в 2001-м, «сгорела дотла», но, как «Птица Феникс» восстала из пепла, что «после смерти есть перерождение», и эта новая жизнь может оказаться намного богаче, плотнее и целостнее, чем предыдущая. 2 Правда, это Стоун осознает потом. На восстановление уйдет семь лет. Еще через пять она впервые расскажет о том, что пережила, не переводя это в шутку 3), не скрывая страха, отчаяния, чувства безысходности, с которыми собирала себя по кускам. 4
Как будто мало было всего того, что случилось с ней раньше. Удаление опухоли размером с саму грудь и полная реконструкция груди всего за месяц до кровоизлияния. Еще раньше три выкидыша на сроках более пяти месяцев. А еще раньше, в восемнадцать лет, аборт, потому что жизнь только начиналась, потому что модельный бизнес только приоткрыл дверь, потому что никто никогда не говорил с ней о контрацепции.
Говорить с детьми о личном, да и вообще быть с детьми, быть любящими родителями в доме Стоун было не принято. Родители поженились, когда матери Шэрон едва исполнилось шестнадцать, а отцу — двадцать три. Оба до свадьбы были очень одиноки и выживали, как могли. Встретив друг друга, выживали вместе. Оба с непростой судьбой, они словно бежали от прошлого, спаслись в этом браке, который держался на настоящей любви мужчины и женщины и длился до самой смерти отца.
Шэрон выросла в деревне. Мать, Дороти, умела многое и многому научила дочь: готовить, печь, мыть, шить, заправлять кровать, накрывать на стол, выращивать овощи и фрукты, консервировать, стирать, складывать вещи в аккуратную стопку, пользоваться косметикой, укладывать волосы, всегда быть готовой делать что говорят и когда говорят, ни минутой позже. Если будущая актриса делала что-то не так, приходилось переделывать. Если она перечила матери, то получала затрещину. Если, когда ее причесывали, дергала головой, то расческа тут же ломалась об ее голову.
Дороти была холодна с Шэрон, ее сестрой и двумя братьями, но любила мужа. Актриса вспоминает, что часто видела, как родители целуются, танцуют. Они были друг у друга, и казалось, что дети им совершенно не нужны. А они просто не умели быть родителями. Они еще сами были детьми. Первенец родился сразу после свадьбы, а Шэрон, третья по счету, родилась, когда матери было всего двадцать три. Шэрон знала, что ее мать росла отдельно от своих братьев и сестер, в приемной семье, и долго думала, что ее отдали из-за нищеты. Гораздо позже, уже после болезни, Шэрон впервые откровенно поговорит с матерью и узнает страшные подробности. Отец пил и постоянно бил своих детей, мать никогда не вставала на защиту. Когда Дороти было шесть, они шли с пятилетней сестрой по дороге, держась за руки, сестру сбил насмерть пьяный водитель. Дороти принесла домой страшную новость, и отец избил ее до полусмерти. Она так и не поняла за что — за то, что не защитила или за то, что сообщила о горе. В девять лет кто-то из одноклассников увидел, как Дороти переодевается на урок физкультуры в школе. До директора дошли слухи о том, что вся спина девочки покрыта шрамами, ссадинами и синяками. Опекунство в приемной семье бездетного дантиста оформили очень быстро. У новых родителей Дороти была скорее служанкой, чем дочкой, но больше ее никто не бил. В первом откровенном разговоре с Шэрон она призналась, что новая семья спасла ее от самоубийства, а замужество стало бегством из беспросветности.
Отец Шэрон, Джоу, был из очень богатой ирландской семьи. Его отец, дед Шэрон, на пару с братом владел первой нефтяной компанией в Пенсильвании. Владеть нефтяным бизнесом в те годы означало своими руками бурить скважины. Отец и дядя Джоу бурили, а мать вела бухгалтерию. Фактически управляла бизнесом именно она. Взрыв на буровой унес жизнь деда Шэрон, а вместе с ней и богатство. Компанию унаследовал брат деда. Закон в то время запрещал женщинам вступать в наследство. Буквально через пару лет наследник промотал все состояние, влез в долги. У матери Джоу не осталось ни дома, ни денег, ни даже сбережений, которые семья привезла из Ирландии. Шэрон помнит бабушку. Неизменные духи от Шанель, хорошо сохранившиеся платья от Скиапарелли, всегда ровная спина, красивая речь и манеры до конца жизни выдавали в ней женщину, которая жила когда-то в роскоши. Джоу время достатка почти не застал. С детства брался за самую тяжелую работу, привык, что надеяться можно только на себя. Он, как и Дороти, нашел утешение в своем счастливом браке. Как и у Дороти, у него не было детства, с ранних лет от взрослых работодателей он знал, что такое ругань, побои. Как и Дороти, он поднимал руку на своих детей. Шэрон было четырнадцать, когда в очередной раз недовольный тем, как она убралась в гараже, отец велел ей спуститься из своей комнаты и собирался по привычке за волосы отвести ее обратно в гараж переделать работу. Мать стояла рядом с ним. Стоун вспоминает, что что-то переломилось в ней в этот момент, она потеряла страх, стыд, чувство боли. Ей стало все равно. Она спустилась нарочито медленно и, уверенно глядя отцу в глаза, спросила: «Ну, что там опять? Тебе снова нужно ударить меня, чтобы почувствовать себя мужчиной?» Отец опешил, закрыл лицо руками и разрыдался. Шэрон добавила, что не любит его и не полюбит никогда. Больше никого из детей дома не били. 1
Нелюбовь. Женщина, которую, на пике карьеры любил весь мир, очень долго жила в нелюбви. Больше всего этой нелюбви было в детстве. В школе Шэрон отличалась от остальных детей. Дороти было непросто с крохотным взрослым человеком, способным на структурированный, продуманный диалог. В четыре года мать отвела Шэрон на диагностику, чтобы понять, почему дочь так отличается от других детей. Шэрон сдала ряд тестов, которые показали, что у девочки исключительно высокий уровень IQ. В пять лет Шэрон отдали сразу во второй класс, потому что она умела все, что умели второклашки. Школьная администрация решила пойти на эксперимент, который продлился всего пару месяцев. Очень быстро стало понятно, что пятилетке учиться вместе с восьмилетками невозможно. Она не была готова эмоционально. Шэрон перевели в первый класс. Но там не стало легче. Ей казалось, что ее за что-то наказали. 5 Тогда не существовало понятия «травля», но Шэрон травили. Она снова была младше одноклассников, при этом была «бывшей второклашкой», еще и училась лучше всех. Всегда спорила, учила, как надо, доказывала, что права, ссылалась на прочитанные книги. Учителя пользовались необычными способностями девочки. На ней испробовали все доступные на тот момент школе в Пенсильвании экспериментальные методики. В четвертом классе ее вместе с тремя мальчиками включили в сообщество MENSA (международное сообщество для людей с высоким IQ). 6 А в четырнадцать лет Шэрон уже поступила в колледж. Позже она будет с благодарностью вспоминать этот опыт «ненормального» детства, который подготовил ее ко всем «ненормальностям» будущей взрослой жизни.
Высокий уровень IQ. Именно это помогло Стоун стать суперзвездой. Сейчас, когда «Основной инстинкт» стал иконой кинематографа, это звучит странно, но долгое время Шэрон Стоун не видела себя сексуальной, красивой или хотя бы привлекательной. 4 Она считает, что интеллект, способность думать, решать задачи, позволили ей «сообразить, как это – быть сексуальной, как надо себя держать, как говорить, как смотреть». В «Основной инстинкт» она попала с трудом. Пол Верховен рассматривал двенадцать кандидатур на главную женскую роль. Среди них не было Стоун. Агент Шэрон узнал о готовящихся съемках и сделал все возможное, чтобы ее пригласили на пробы. Но приглашение все не приходило. Когда все двенадцать актрис отказались, Верховен согласился попробовать Стоун. До сих пор можно услышать дилетантское мнение, что выбор Стоун в легендарном фильме «выстрелил» только благодаря телу актрисы и известной сцене допроса. Это не так. Если бы было так легко раздеться перед камерой, чтобы убедительно сыграть маньяка-социопата. Достаточно посмотреть съемки проб актрисы, где в кадре только она, где камера крупным планом считывает каждый мускул на ее лице, где становится очевидно, что режиссер не лепил Кэтрин Трэмел из Стоун как из пластилина, она сразу все сделала сама. 7 Станиславский сказал бы: «Верю», хотя в кадре нет ни сантиметра голого тела.
Как Стоун это сделала? Она раскрыла секрет только в 2021 году в своей автобиографии, ставшей сенсацией. «Я заглянула в свою тень», — призналась актриса. В возрасте восьми лет Шэрон и ее пятилетняя сестра Келли гостили у биологических родителей матери, тех самых, которые били Дороти. Бабушка закрыла девочек в комнате с дедом. Они вроде бы в чем-то провинились. На Келли было красивое вельветовое платье, новые колготки и туфельки. Шэрон видела, как дед посадил Келли на пианино… Келли посмотрела на сестру. Обеих словно парализовало. Потом в комнату зашла бабушка. Она все поняла, но, не сказав ни слова, перегородила дверь, чтобы девочки не выбежали. А вечером испекла им пирог, «пирог прощения». Больше пятнадцати лет Шэрон и Келли не обсуждали случившееся. Они просто не знали такого слова – «педофил».
Когда Шэрон исполнилось четырнадцать, а Келли одиннадцать, дед умер. На похоронах девочки должны были подойти к покойнику и поцеловать его. Шэрон и Келли подошли только чтобы ткнуть пальцем его холодную щеку, проверить, «точно ли он сдох». Всю свою ненависть и чувство удовлетворения от смерти человека Стоун вложила в свою главную роль. Точнее, она дала своей темной стороне раскрыться, сублимировала детскую травму в воплощение идеальной Кэтрин Трэмел. Съемки были настолько тяжелыми для актрисы, что она впала в депрессию, лунатила ночами. Во время съемок первых кадров, где Трэмел жестоко убивает любовника ножом для колки льда, Шэрон так яростно била актера, что он потерял сознание. Стоун подумала, что он умер, и впала в истерику. 1
Роль стала поворотной. Дальше были лучшие мировые режиссеры, самые большие заработки среди актрис Голливуда, контракты со строчкой «имеет право одобрять главных и второстепенных актеров». Шэрон всегда пользовалась этим правом и всегда вызывала изумление режиссеров и продюсеров. В фильме «Быстрый и мертвый» ее настойчивое требование пригласить начинающего актера Ди Каприо закончилось тем, что она платила Лео зарплату из своего гонорара. Сама актриса считает, что причина банальна. Она – женщина, а «женщины в Америке и в мире многие годы жили так, как им сказали». 1 Она раскрыла еще много некрасивых историй в своих мемуарах и интервью последних лет. О том, как один режиссер останавливал съемки, пока Стоун не сядет к нему на колени. Стоун отказывалась и иногда просиживала в своей гримерке по несколько дней в ожидании продолжения работы. О том, как многие режиссеры предлагали ей переспать с актером главной мужской роли, если тот никак не мог собраться, выучить слова, выбраться из алкогольного или наркотического дурмана. Это всегда звучало как что-то естественное, обыденное, что происходит на любых съемках чуть ли не каждый день. Стоун не соглашалась. В Голливуде про нее говорили: «Трудная». Когда Стоун чуть не умерла, Голливуд быстро забыл ее. Или отомстил.
Шэрон Стоун пытается понять, почему она выжила. Кажется, она нашла ответ. В своей второй жизни она научилась говорить «нет», делать только то, что действительно хочет, быть только с теми, кому она действительно нужна. Она нашла настоящую любовь. Не романтическую, но любовь людей, который были с ней в самые страшные моменты – родителей, сестры, братьев, нескольких друзей. Она была изумлена увидеть отца, охранявшего палату, как дикий зверь охраняет свое логово, узнать, что мать была рядом каждую секунду, не смыкая глаз, вымаливая дочь у смерти. Она поняла, что родители любят ее и всегда любили, но не умели это сказать. Долгие месяцы реабилитации отец постоянно гулял с Шэрон, держал ее за руку, читал ей, ведь она не могла ни ходить, ни видеть. Мать готовила ее любимые блюда. Они наконец-то начали разговаривать. Придя в себя, Шэрон спросила мать, почему та ненавидела ее все эти годы. Она услышала ответы на совсем другие вопросы: почему мать так любила своих детей, но держала это в себе, почему она была так холодна, как она «не жила» до свадьбы с отцом, как безумное количество жестокости в детстве чуть не привело ее к самоубийству.
В своей второй жизни Шэрон Стоун стала матерью двум приемным мальчикам, а позже смогла наладить отношения с бывшим мужем и его новой женой. Она простила его. Так в ее жизнь вернулся старший сын. Дети стали центром всего. Пока младшему сыну не исполнилось четырнадцать, Стоун ни разу не выезжала из Лос-Анджелеса. Она выбирала работу только возле дома. Судьба повернулась к актрисе лицом. В самое сложное время, после полного коллапса здоровья, когда она осталась без работы и без денег, но уже усыновила двух мальчиков, Dior заключил с ней долгосрочный рекламный контакт. Позже она стала филантропом и получила Нобелевскую премию мира за заслуги в борьбе со СПИДом. 8
Стоун уверена, что испытания были посланы ей для того, чтобы она стала собой, «нашла свет внутри себя». В своих мемуарах она пишет, что каждый человек может «нести свет, быть светом», и «этот свет будет вести, очищать, охранять. Обрести свет, обрести себя – это и есть красота второй жизни». 1 А красота Шэрон Стоун для нас, поклонников, это ее внутренний свет, которым она последние годы щедро делится в интервью, на личных страничках в социальных сетях, в благотворительных проектах и конечно, снова в кино. Чего стоит смелая сцена в «Новом папе», где актриса, играя саму себя, в известной позе из «Основного инстинкта» дарит Папе Римскому свои «лабутены», просит разрешить католикам «гей-браки» и предлагает Папе снять сутану, создать семью и тем самым обрести себя. Шэрон знает, о чем говорит, сама она этот путь уже прошла.
- The Beauty of Living Twice, Sharon Stone. Alfred A. Knopf, New York, 2021[↑][↑][↑][↑][↑]
- https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9Q62kvUp8qI, 2015[↑]
- https://www.youtube.com/watch?v=QZSurpL1-Ps (интервью, в котором Стоун с само-иронией рассказывает о пережитой клинической смерти[↑]
- https://www.youtube.com/watch?v=TZ490sW8oc0, 2013[↑][↑]
- https://www.youtube.com/watch?v=cYlHP5RsaIw, 2015[↑]
- https://www.mensa.org[↑]
- https://www.youtube.com/watch?v=Y884pjtQSlY, 1992[↑]
- https://korrespondent.net/showbiz/cinema/1616388-laureaty-nobelevskoj-premii-mira-udostoili-nagrady-sheron-stoun[↑]

Сексуальное насилие над женщинами: как бы есть и как бы нет
Согласно Всемирной организации здравоохранения, около 30% женщин в мире в течение их жизни подвергались физическому и/или сексуальному насилию со стороны интимного партнера или сексуальному насилию со стороны другого лица. В США примерно 1 из 6 женщин в течение жизни столкнулась с попыткой изнасилования или с совершенным изнасилованием. Сексуальное насилие — более широкое понятие, чем изнасилование, — включает в себя нежелательные физические прикосновения сексуального характера. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения за 2018 год, 25% опрошенных женщин сталкивались с сексуальным насилием.
Многие не верят в реальность статистических данных. Если женщина молчит о том, что ее изнасиловали, официально изнасилования не произошло. Исследование в двух из четырех частей Великобритании — Англии и Уэльсе — в 2020 году показало, что за последний год только 16% изнасилованных женщин обратились в полицию. Жертвы не обращаются в полицию из-за чувства стыда (40%), чувства унижения (34%) или уверенности, что полиция не сможет помочь (38%). Только анонимные опросы помогают выявить масштаб проблемы.
Насилие над женщинами часто воспринимается как нечто случайное, а не системное явление. Опросы и отчеты позволяют увидеть за отдельными случаями систему. Согласно исследованию, в Англии и Уэльсе изнасилование чаще всего совершается знакомыми жертве людьми — в 85% случаев. В 70% случаев насильник действует в одиночку. 10% жертв совершают попытку суицида. Саму женщину произошедшее чаще всего изолирует и оставляет в одиночестве, словно насилие было совершено только над ней одной.
Замалчивание насилия над женщинами часто происходит из-за обвинения жертвы. Обвинение жертв широко распространено и объясняется тем, что многие люди верят в справедливый мир. Гипотезу выдвинул профессор психологии Мелвин Лернер в 1966 году, и множественные эксперименты ее доказали. Идея о том, что мир справедлив для хороших людей, а плохие вещи происходят с теми, кто их заслужил, позволяет верить в собственную безопасность перед случайным насилием. Восприятие женщины как провокатора сексуального насилия — «Сама виновата!» — сохраняет ощущение безопасности для других и заставляет жертв молчать. Сами женщины обвиняют других женщин в провокациях ради сохранения иллюзии собственной неуязвимости перед возможным насилием.
В разных странах свои особенности замалчивания насилия. В Японии чувство стыда характеризует культуру в целом. Жертва и насильник часто знают друг друга, а последний использует власть и социальный статус для давления. В результате почти 48% пострадавших женщин сразу после насилия понимают, что именно с ними произошло, а около 52% женщин нужно несколько лет, чтобы осознать насилие. В общественном транспорте сексуальное насилие происходит так часто и регулярно, что в японской культуре есть специальный термин для этого феномена — «тикан». Большинство женщин и девушек молчат, когда их трогают за интимные части тела в метро из-за стыда привлечь внимание. За последние годы несколько японских женщин нарушили культуру стыда и публично заявили об изнасилованиях. Их дела стали резонансными и привлекли много внимания СМИ к этой проблеме.
Сексуальное насилие над женщинами одновременно и существует, и нет. Большая часть женщин по всему миру молчит и никому не сообщает о случившемся. Некоторые жертвы рассказывают свои истории на телевидении, которое с охотой разбирает их на мельчайшие детали.
Ток-шоу регулярно обсуждают сексуальное насилие. Так, 14-летняя девушка из Казахстана Кызгалдак стала жертвой группового изнасилования, забеременела и родила ребенка. Дело было закрыто, потому что отец девушки примирился с насильниками дочери. Через несколько лет эта история возникла на ток-шоу под названием «Давай мириться», где один старейшина села заявил, что девушке «надо подумать и о судьбе парней. Один из них уже женился, другой является единственным сыном в семье. А эта девушка опозорила их и аул наш на весь свет!»
На российских экранах телевизора заголовки изобилуют шокирующими историями: Кто жертва? — Учительница обвинила парня в изнасиловании. Юмориста обвиняют в изнасиловании! Сексуальный шантаж? — Тайные дневники умершей писательницы. Грязные танцы в Евпатории: братьев-близнецов обвиняют в домогательствах. Изображая жертву: соблазнительница или изнасилованная?
«А тебя точно изнасиловали? Ты была пьяной? Зачем ты туда пошла? А ты не понимала, что это может произойти? Сама напросилась! Я не из этих, со мной такого не случится! Он не может быть насильником! Жертва должна вести себя как жертва!» — так обвиняют жертв на ток-шоу. Зрители слышат эти обвинения и могут принять решение молчать о собственных историях.
Тема сексуального насилия часто преподносится зрителям как новость. Британские ученые Т. Харкап и Д. О’Нейл в 2017 году исследовали 10 известных британских газет. Они выделили пять главных критериев отбора новостей: негативность, неожиданность, развлекательность, тема на слуху, власть. Ток-шоу часто используют те же принципы, что и новости.
Неожиданно для многих, официальные СМИ, а не только ток-шоу, стали усиленно рассказывать о сексуальном насилии во всем мире. Статистика ожила и заговорила голосами реальных женщин. Культура замалчивания сексуального насилия над женщинами стала постепенно разрушаться.
Этот процесс начался в 2017 году, когда актриса Алисса Милано опубликовала в Твиттере пост, призывая женщин написать #ЯТоже (#MeToo), если они пережили сексуальное домогательство или насилие. В течение месяца в 85 странах в социальных сетях были написаны миллионы признаний. Движение #ЯТоже началось в 2006 году с американской активистки Тараны Берк, но лишь 10 лет спустя движение набрало глобальный оборот благодаря заявлению известной актрисы.
Знаменитые и успешные в глазах общества личности были обвинены в сексуальном домогательстве, насилии или изнасиловании: американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, британский министр обороны Майкл Фэллон, венгерский театральный режиссер Ласло Мартон, румынский хип-хоппер Калин Ионеску, немецкий режиссер и сценарист Дитер Ведель и многие другие.
В России в 2017 году о домогательствах со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого год спустя рассказала корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. По словам Фариды, он предлагал стать его любовницей и распускал руки: со словами «давай, зайчонок, будет настроение, заглядывай, я по тебе соскучился» политик резко приблизился, прикоснулся к интимной части тела и отскочил. Она была не единственной, кто заявил о сексуальных домогательствах (то есть, устных или физических преследованиях сексуального характера). Предоставленная диктофонная запись разговора Фариды и Слуцкого не изучалась. Отари Аршба, глава комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, заявил, что комиссия не нашла нарушений в поведении обвиненного в домогательствах Слуцкого.
Мало кто занимается исследованием последствий движения #ЯТоже. Леанни Атватер с коллегами провели исследование в США и выяснили, что около 20% опрошенных ими мужчин заявили о нежелании нанимать на работу привлекательных женщин, а 27% избегали взаимодействия с коллегами-женщинами один на один после того, как движение стало активно действовать. Все последствия движения трудно предсказать.
Одним из результатов движения #ЯТоже стало создание «TIME’S UP Now» — организации, которую основали более 300 женщин из сферы развлечений для борьбы с сексуальным домогательством и насилием на рабочих местах в Голливуде и за его пределами. В отчете фонда указано, что с ними работают более 700 адвокатов, 11 миллионов долларов были выделены для юридической поддержки 200 случаев в 2019 году. Фонд дает возможность тысячам женщин получить юридическую консультацию и поддержку со стороны связей с общественностью. Организация на практике участвует в борьбе с сексуальным насилием над женщинами.
Движение #ЯТоже может вызывать неоднозначное отношение. Тем не менее, оно использует свободу слова и пытается бороться за права человека — против сексуального насилия над женщинами во всем мире.

Семейное древо (Предания, вымыслы, факты). Степан
I
Давным-давно в Архангельской губернии, в деревне Куренная, на берегу озера Себентий в просторной деревянной избе жил-поживал крестьянин-вдовец с дочкой. Павел не русский, а коми-зырянин, как все в округе: блондин, среднего роста, коренастый. Хозяйство имел крепкое: лошади, коровы, козы, куры, гуси, пахотная земля, на лето нанимал одного или двух работников. Он заядлый рыбак. Однажды поймал большую щуку с кольцом Петровских времен. Павел старовер — крестится двумя перстами. В избе на чистой половине на полках много старинных икон и старообрядческих книг в поморском стиле: деревянные переплеты обтянуты телячьей кожей, бархатом, сукном с тиснением золотым или серебряным орнаментом и украшены металлическими застежками. Долгими лютыми зимами Павел читал вслух дочери «Житие» протопопа Аввакума, «Поморские ответы» на 382 вопроса старообрядцев-поповцев. Он часто повторял слова из старообрядческого духовного стиха об Иоанне Крестителе: «Сослал Господь Бог три дара: Уж как первый дар — крест и молитву, Второй дар — любовь и милостыню, Третий дар — ночное моленье, Четвертую заповедь — питательную книгу».
К 16-ти годам дочь Павла Юлия выросла в настоящую северную красавицу-зырянку: высока, стройна, румяна, белолица, а глаза как два бездонных голубых озера. Однажды в деревню для открытия врачебного пункта приехал молодой русский врач Афанасий Епов. На Троицу по дороге в церковь он приметил величавую красну-девицу с толстой пшеничной косой в красном сарафане, зеленой рубахе, на плечах — расписной платок с кистями. Афанасий заговорил с ней и влюбился. Сыграли они свадьбу и зажили в доме Павла.
В 1895 году родился мой дед Степан, нареченный в честь святого Стефана Пермского. Юлия родила еще мальчика и двух девочек. Счастливо жила семья в течение 12-ти лет, пока во врачебный пункт в помощь доктору не прислали молодую, свободных взглядов фельдшерицу. Она отбила у Юлии мужа. Отец Степана с фельдшерицей уехал из деревни, бросив жену с четырьмя детьми. Юлия наивно полагала, что без колдовства тут не обошлось. Хотя все в деревне считали, что бесстыдная девка соблазнила их доктора.
II
Степанка рос смышленым, любознательным, любил читать, благо от отца осталось много книг и журналов: «Нива», «Русский Врач», «Журнал для всех». Степанка с братом и сестрами помогал матери и деду вести большое хозяйство, ходил в лес за морошкой, скакал на любимом коне по прозвищу Рыжка, проказничал с мальчишками. Его дружок Васька Крюк малевал краской на дверях, гоготал и приговаривал: «Тяп-ляп, и китайская местность».
К 14-ти годам Степан отлично окончил приходское училище и решил продолжить учебу. Как ни тяжело было Юлии Павловне остаться без рабочих рук сына, она поддержала его решение. Когда мать пришла к попу просить отпустить сына учиться, тот сказал: «Если все из деревень уедут учиться, то кто землю пахать будет?», но пожалел брошенную мужем женщину, принял от нее дары и дал разрешение на отъезд сына. Летом, на рассвете 1909 года, друзья Степан Епов и Васька Крюк с котомками покинули деревню и пешком, босиком (сапоги несли за спиной), отправились за 400 вёрст поступать в Учительскую Семинарию. Почти как Михайло Ломоносов.
«В 7-ой день Декабря 1871 года Государь Император Александр II высочайше утвердить соизволил мнение Государственного Совета Российской Империи об учреждении в городе Тотьма Вологодской губернии Семинарии для приготовления учителей в начальные народные училища». Право поступать имели юноши, окончившие уездное училище и двухклассное сельское училище, не только из духовного сословия, но и из сельского. Друзья держали вступительные экзамены:
— письменные: по русскому языку (диктант и сочинение) и по арифметике (две задачи);
— устные — по Закону Божиему, церковнославянскому и русскому языку, арифметике, геометрии, русской истории, русской географии и пению.
III
Степана приняли, а друга — нет, и тот отправился обратно в деревню. Степан учился четыре года. Он получал ежегодную стипендию 85 рублей, которую почти всю посылал матери в деревню. Почти все преподаватели семинарии были образованными людьми. Наиболее известны из них: член-корреспондент Николаевской главной физической обсерватории Н.И. Альбов; член Русского географического общества, ботаник Н.В. Ильинский, участник съезда русских физиков и химиков в 1911 году в Санкт-Петербурге; участник Всероссийского съезда художников 1911 года В.Д. Шеин обучал семинаристов художественным искусствам. По окончании курса выпускники распределялись педагогическим советом в школы, где должны были прослужить не менее 4-х лет. Учительская семинария обеспечивала педагогическими кадрами Тотемский уезд, Вологодскую губернию и Санкт-Петербургский учебный округ.
По окончании семинарии в 1913 году Степан в 18 лет получил звание Народного учителя и отправился по распределению в город Яренск Вологодской губернии. Живописный городок: прямые улицы, дома купцов, священников, мещан обиты тесом и покрашены белой краской, много храмов, разбиты скверы. Степану выдали учительский мундир и определили оклад в 36 рублей золотом в месяц. Квартира со столом (пироги с семгой) стоила 6 руб. С первой получки Степан сшил у портного модный костюм и сорочки, купил туфли, шляпу и еще конфет шоколадных и яблок. В деревне Степан не видел ни конфет, ни яблок. В Яренске он чувствовал себя настоящим франтом. После работы ходил в синематограф, на танцы, ухаживал за барышнями. Степану нравилось их смешить, для чего он выдумывал разные шутки-прибаутки. Он оставлял себе деньги на квартиру и конфеты, а остальные посылал матери. После окончания обязательной службы в Народном училище Степан задумал поступить в Петровскую сельскохозяйственную академию в Москве. У него появилась мечта сажать яблоневые сады.
Русский север всегда считался местом ссылки политических. Много их проживало в Яренске. Васька Крюк увлекся революционными идеями и угодил в тюрьму. В 1914 году по союзническому договору Россия вступила в Первую мировую войну. Народные учителя освобождались от призыва.
IV
Февральскую революцию поначалу многие приняли с воодушевлением. Когда в июне 1917 года Степан приехал в Москву поступать в Петровскую академию, он внезапно угодил в рекрутский набор. Новобранцев расквартировали в Кремле. Перед отправкой на фронт их выстроили на плацу. Военный министр Керенский (короткая стрижка, полувоенный френч) произнес пламенную речь про войну до победы. Он подошел к Степану, взялся за пуговицу его шинели и прокричал: «Я обещаю, что даже пуговица ваша не пропадет!» Степан смекнул, что пора спасаться. Он пожаловался на боль в груди, а на медкомиссии заявил, что у него горб, но не сзади, а спереди — в младенчестве упал с полатей. Рентген это подтвердил.
С белым билетом Степан возвратился в Яренск и устроился на работу в редакцию местной газеты. Город захватывали то красные, то белые банды, и все грабили. Продукты исчезли. Никто не мог понять, что происходит.
В июне 1918 года редакция газеты командировала беспартийного Степана в Москву на V Всероссийский съезд Советов. В зале Большого театра собрались делегаты и гости: большевики, левые эсеры, беспартийные. На сцене выступали Ленин, Свердлов, Цюрюпа, Троцкий. Не понравился Степану Ленин: маленький, плешиво-рыжий, картавый. Яркое впечатление произвела левая эсерка Спиридонова. Она высказывалась против смертной казни, критиковала грабительскую политику большевиков в деревне, призывала к разрыву унизительного Брестского мира. Внезапно на сцене появился Дзержинский и попросил фракцию большевиков срочно покинуть театр. После их ухода двери закрыли и никого не выпускали. В театре остались левые эсеры, интернационалисты и беспартийные. Они волновались, не понимая, почему их заперли. Левые эсеры совещались, приняли декларацию по убийству Мирбаха, пели революционные песни. Степан во время заточения слонялся по театру, сидел и лежал в ложе, а питался сливочным маслом, привезенным из деревни в голодную Москву для обмена на продукты. Он ел масло ложкой из бидона, хлеба не было. С тех пор Степан возненавидел масло. Только через три дня, после ареста левых эсеров и подавления восстания, оцепление театра сняли и съезд возобновил работу. ВЦИК принял декреты, предоставляющие наркому продовольствия чрезвычайные полномочия по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлеб и спекулирующей им, организовал Комитеты бедноты и продотряды. Степан понял, что советы решили окончательно разорить крестьян.
Степан заехал в деревню, предупредил мать об опасности и вернулся в Яренск. На Севере, как и по всей России, полыхала гражданская война. Большевики рассматривали Яренск как гнездо контрреволюции. В Яренск приехала Землячка (кожаная куртка и наган). Она выкрикивала в толпу: «Мы победили на Северном фронте не силой наших штыков, их было слишком мало. Мы победили политической работой, которую вели коммунисты в Красной Армии, победили сознательностью масс, подъемом народа, который гнал впавшие в панику регулярные войска Европы и Америки. Чумазый, раздетый и разутый мужик Севера прогнал вооруженных до зубов англичан и французов». До конца дней Степан опасался людей в «коже».
В деревне мать Степана чуть не раскулачили из-за того, что на лето она нанимала двух работников, то есть была эксплуататором. Начальником продотряда был Васька Крюк. Вера Павловна тяжелым крестьянским трудом скопила в банке 900 рублей золотом. Все они пропали, потому что банки национализировали.
V
В 1919 году Степан приехал в Москву и поступил в Петровскую сельскохозяйственную академию. Щегольские замашки он забыл, одевается по-крестьянски просто, чтобы не выглядеть буржуем, да и модный костюм и туфли он давно выменял на продукты.
Степан мечтал послушать Федора Шаляпина, но попасть на его выступления было невозможно. Однажды перед концертом великого баса в Зеркальном театре сада «Эрмитаж» Степан пришел туда заранее. Гуляя по саду, он увидел, как на скамейке под аркой цветущего куста роз двое мужчин вели неспешную беседу. В одном Степан сразу узнал вальяжного красавца Шаляпина. Афиши с его портретами висели по всей Москве. Степан подошел, поздоровался и попросил контрамарку. Шаляпин спросил: «Кто вы по национальности?» Степан с серьезным видом ответил: «Узбек». Глядя на светловолосого, голубоглазого, высокого парня, Шаляпин расхохотался. Он выписал контрамарку и со вдохом сказал собеседнику, будто продолжая прерванный разговор: «Вот, оно будущее России».
В 1923 году Степан окончил Петровскую Академию по специальности «Геодезия и картография». Он работал в институте «Геодезия», колесил в командировках по стране, зарабатывал деньги на покупку жилья. Степан вновь выглядел франтом.
В 1924 году для подработки Степан устроился в среднюю школу учителем рисования. От взгляда его ясных и круглых, как озера, глаз трепетало не одно девичье сердечко, но учитель полюбил выпускницу Елену Соколову — хрупкую, нежную, с точеной фигуркой, тонкими чертами лица (мою бабушку Лёлю). Степан предложил ей руку и сердце. Она дала согласие при условии, что Степан изменит свою неблагозвучную фамилию Епов на красивую фамилию Дольский, как у героини рассказа Тургенева «Первая любовь».
В расцвет НЭПа в 1925 году, когда как по волшебству после голодного военного коммунизма в Москве открывались магазины и рынки, где люди, наконец, смогли купить и продукты, и вещи, Степан Афанасьевич Дольский и Елена Алексеевна Соколова расписались в районном ЗАГСе.

Случай на море
Ночью ветер сменил направление, но радиолокатор на метеостанции был невозмутим и спокоен.
Спала ничего не подозревающая Анапа. Дремало море, лениво перекатывая мелкую гальку, и только в синеве плыли куда-то тонкие перистые облака.
Ника проснулась задолго до матери. Лежала, слушала шум прибоя, вспоминала сны. Что-то ее тревожило, ускользало, расползалось туманом и не собиралось в единое целое. Она не выспалась, болела голова, видимо, вчера перегрелась.
Завтракать шли рано, чтобы успеть к первому теплоходу. Жесткий и однообразный распорядок дня был продиктован необходимостью каждое утро переправляться в Джемете, курортный поселок в пяти километрах от Анапы, с широкими золотыми пляжами и крошечными крабами, живущими в песке.
На пристани около кассы уже толпился народ. Местные отправлялись на работу, туристы и отдыхающие — загорать. Ожидание тяготило, но ничего не поделать. Альтернативой был зловонный, в темно-зеленых водорослях городской пляж. Не для того они прилетели. Вот и мотались ежедневно: по тридцать минут туда-обратно.
Наконец вернулась мама, смеясь помахала двумя билетиками, и они помчались к трапу. Небольшой двухпалубный катер ждал отправки, качался, взбивая под собой белую пену.
Как всегда, они заняли места у борта, чтобы кормить чаек. Весь теплоход развлекался, наблюдая, как ловко и жадно птицы ловят на лету хлеб. А иногда везло еще больше, и тогда теплоход сопровождала стайка глянцевых дельфинов.
Но сегодня чаек не было, небо хмурилось и постепенно затягивалось тучами. Море лихорадило. Оно переливалось и меняло цвета, словно хамелеон.
Когда они подплыли к Джемете, барашки уже не выглядели дружелюбно, а угрожающе щетинились, словно их гладили против шерсти. Порыв ветра сорвал женскую розовую шляпу и унес ее лиловой птицей. «Ой-ой» — только и успела пропеть ее владелица.
Народ ручейком потянулся к выходу. Возле Ники засобиралась, засуетилась большая семья во главе с добродушным дедом в просторной льняной футболке.
Увесистая капля дождя шлепнула по ее голому плечу. Теплоход, словно пациент с подагрой, натужно застонал, и сразу невыносимо захотелось домой, в теплый плед, к чашке чая. «Заболеваю», — подумала Ника.
— Мы остаемся, — спокойно сказал дед в футболке, развернулся, ссутулился и еле заметным кивком головы отправил свою галдящую семью в нижний отсек. Ника с мамой послушно и скорее инстинктивно поплелись за ними.
Катер набился до отказа. Почти никто не сошел на берег. Во время шторма в Джемете ни спрятаться, ни укрыться.
Волны усилились. Рассерженное море пугало и отталкивало колючей зыбью. С горизонта надвигалась гроза.
Все ерзали, нервничали и с напряжением ждали отплытия.
Затрещал двигатель, пароход дернулся и осторожно отодвинулся от пристани.
Ника разглядывала публику — родители с маленькими детьми, пожилые пары, студенты; в майках, шортах, с мокрыми волосами — все они были похожи на стаю напуганных птиц.
Где-то она уже это видела…
Полил дождь, молнии рвали пополам небо, вслед за ними раздавались удары грома. Остатки людей с верхней палубы с трудом втискивались в нижний отсек. «Хорошо, что мы успели сесть», — прочитала Ника на мамином лице.
Пытаясь отвлечься, она представила, как они вернутся в пансионат, пойдут на ужин, ванильное мороженое, новые босоножки, платье. Скорее бы вечер.
Мама больно сжимала ее влажную ладошку. «Ничего, ничего. До берега совсем чуть-чуть. Вон он, желтеет, даже доплыть можно. Двадцать минут и дома», — сообщала ее рука.
Катер бросало в разные стороны, ливень хлестал по окнам; за ними ревела, шумела стихия. Она огляделась. Люди, прижатые друг к другу, сидели, стояли, беспомощные, ничтожные. «Давай прощаться», — льдом окатило эхо. Загорелый, с карими глазами мужчина обнимал миниатюрную девушку с кудряшками. Ника задрожала, прижалась к маме всем телом.
С этой минуты время потекло по каким-то другим, еще не знакомым людям законам.
Как под гипнозом, она обернулась и сквозь слезящееся мутное окно увидела бешено вращающийся вихрь торнадо. Ничего более страшного она не видела в своей жизни. Он скользил по поверхности воды, словно исполинский дервиш в ритуальном танце.
Сознание отказывалось запечатлеть происходящее. Спасительный инстинкт побуждал бежать. Но бежать было некуда. Оставалось надеяться на чудо, на случайность.
Нику никто не учил молиться. «Господи, услышь нас, прошу тебя, помоги, Господи», — повторяла и повторяла она. Сердце так оглушительно колотилось, что казалось, вылетит из груди.
И вдруг мороз пробежал по коже: «Сон!» — тот же озноб, ступор, сырость, деревянное тело и лихорадочное «Помоги, помоги…» Вот что склеивала она утром, осколки собрались в мозаику.
Смерч, словно злой языческий бог, метался в безумной пляске. Бешеной юлой захлебывался и ввинчивался в пространство между небом и водой.
Замолк мир, замолкли звуки, заглушили мотор. Одиноким бумажным корабликом болтался на волнах катер. «Пожалуйста, уходи, уходи, помоги, помоги», — пульсировало иглами в голове.
Смерч на Черноморском побережье не редкость. Днем температура воды и воздуха достигают своих максимальных отметок. Насыщенный водяными парами теплый воздух поднимается вверх и смешивается с холодным, быстрая смена воздушных масс приводит к образованию воронок. Но до конца истинные причины образования торнадо не изучены. Метеорологический радиолокатор не может предсказать смерч, однако способен определить направление его движения.
Смерч несся на них. Расплывчатость стекол уже не обманывала. Гул воды и ветра слились в единый вой рассвирепевшего чудовища. Люди не сводили глаз с окон, заклинали, просили, обещали, требовали спасения.
То, что произошло потом, Ника воспроизводила сотни раз, тяжесть этого воспоминания мешала спать, являлась в ночных кошмарах, тянула на дно.
Смерч завис в минутном раздумье, качаясь, будто взвешивая все за и против: «казнить-миловать, казнить-миловать», и вдруг накренился, прогнулся и гигантской антенной ринулся прочь, словно за ним кто-то гнался.
Ливень не прекращался. Мокрые, трясясь и стуча зубами от холода, Ника с матерью почти вплавь пробирались к пансионату. С ними вместе в потоке грязной воды цвета кофейной жижи плыли дубовые скамьи, машины, поваленные деревья. До дома отдыха оставалось совсем немного. Дорога пошла в гору.
— Вы откуда здесь? Идите домой, тут опасно, — услышали сзади раздраженный голос.
— Мы с катера, с Джемете, возвращаемся! — закричали они. — В «Солнечный», тут рядом, наверху.
— С катера? Провожу вас. — Седой мужчина, явно из местных, по-хозяйски отобрал у них пляжные сумки-коврики. — Все равно по пути.
— Мы в смерч попали, видели на море? Чуть не погибли, — не без гордости выпалила Ника.
— Вам очень, очень повезло, — улыбнулся мужчина. — В рубашке родились.
Около входа в дом отдыха «Солнечный» он погладил Нику по голове и слегка подтолкнул вперед.
— Ну беги, беги, герой, больше ничего ужасного с тобой не случится.

Спасти бессловесного Рэйна
Ночь. По черным полям Северной Каролины медленно движется внедорожник с выключенными фарами. Небо затянуто облаками, моросит холодный дождь. Мотор урчит тихо, машина еле ползет, чтобы не создавать шума. В кабине трое. Один за рулем, следит за навигатором. Другой держит видеокамеру, освещая лицо молодого человека в очках — руководителя операции. Тот говорит об опасности, о риске, о том, что их считают нарушителями закона и даже террористами. За этой группой в режиме онлайн-трансляции взволнованно следят несколько тысяч человек и шлют слова поддержки.
Наконец, машина останавливается. Из нее осторожно выходит человек и крадучись направляется к каким-то постройкам. Где-то неподалеку тявкнул пес, но не подошел, будто зная, что незнакомец — не враг. Луч фонарика скользит по деревянному настилу, затем на несколько секунд фокус теряется: человек протискивается в узкую щель в загородке, и вот мы оказываемся в крошечном дощатом загоне. На голом полу лежит коза; при виде пришельца она испуганно вскакивает. Человек наклоняется, поднимает на руки маленького козленка и уносит с собой. Снова пролезает в небольшую дырку в заборе и бежит к машине, которая готова немедленно тронуться в обратный путь. На этот раз таиться и замедлять обороты уже незачем.
В машине молодой человек бережно закутывает жалобно мекающего козленка в одеяло, гладит ему голову, что-то нежное шепчет в ухо. Малыш успокаивается и засыпает. «Назовем его Rain», — предлагает кто-то из друзей, кивая на погоду за окном. Операция по спасению рядового козленка, транслируемая онлайн в фейсбуке, прошла успешно.
Пора раскрыть карты. Спасатели — это члены движения за права животных «Акция Прямого Действия» (Direct Action Everywhere, или DxE) во главе с ее организатором Уэйном Шюном. Они проникли на территорию промышленной фермы, чтобы спасти детеныша, одного из многих с уготованной судьбой: по достижении шести месяцев отправиться на бойню, где им выжгут на голове клеймо, оглушат не всегда точным ударом в голову, подвесят на крюк и перережут главные артерии и вены.
Чтобы представить, как это действует на человеческую психику, напомню факт из биографии классика американской литературы Дж. Д. Сэлинджера: его отец, крупный торговец копченостями, прочил сыну карьеру в бизнесе и однажды отправил его на скотобойню в Австрию, «на практику». Будущий писатель сбежал оттуда, твердо решив не есть мясо до конца своих дней. И слово свое сдержал, став вегетарианцем.
Активисты DxE — как правило веганы, но они считают, что диеты недостаточно: важно спасти от смерти хоть одно живое существо, которое так же, как и мы, чувствует боль, хочет жить и дышать. «Наш долг дать шанс бессловесным животным, которым больше некому помочь», — говорят они.
Лидер движения Уэйн Шюн (Wayne Hsiung) — адвокат с опытом работы в области поведенческой экономики из г. Беркли, Калифорния — руководит сетью, объединяющей тысячи активистов, волонтеров и доноров из тридцати стран мира, которые выступают против агропромышленных ферм, убийства пушных зверей, эксплуатации животных в сфере развлечений, а также против научных экспериментов над ними. Это движение выросло из небольшой команды единомышленников Уэйна и было основано в 2013 году в г. Сан-Франциско. Его задача — концептуально изменить отношение к животным как к ресурсу и неодушевленной собственности. Предоставить животным право на жизнь.
Тактика «прямого действия» дал название всему движению. С помощью единичных операций «открытого спасения» (open rescue) активисты привлекают внимание общества к проблемам агропрома. Проникая без приглашения на территорию промышленных ферм, они ведут документальную съемку и дальнейшее расследование, показывая людям, что вопреки рекламе и маркетингу «органической» мясной продукции с их «зеленым» имиджем, условия содержания животных и птиц не только не гуманны, но далеки от приемлемых.
Агропромышленная ферма как объект производства — это огромные помещения, плотно набитые тысячами животных или птиц. Живые существа, особенно куры и индейки птицеферм, страдают от скученности и антисанитарии: птицы жестко спрессованны со всех сторон, 99% из них за всю жизнь не выходят на свежий воздух. Даже коровы и свиньи не могут расправить конечности и повернуться в тесном стойле. Они болеют, заражают других, но их не лечат при жизни и не обезболивают перед умерщвлением. Для корпораций главное — максимальная прибыль; у них нет экономического стимула лечить животных. Более того, в США нет федерального закона, который бы устанавливал стандарты гуманного содержания животных на промышленных фермах 1. Минимальные нормативы прописаны лишь на уровне штатов, да и те не соблюдаются.
Важно, что активисты забирают только больных или травмированных животных и птиц, не причиняя таким образом экономического ущерба предприятиям. (Так, у нашего козленка Рэйна обнаружилась пневмония). Однако корпорации обвиняют их в грабеже, вторжении на чужую территорию и покушении на частную собственность. В сущности, активисты становятся врагами корпораций из-за того, что обнародованные факты отталкивают потребителей от продукции этих фирм, и производители теряют доходы.
Метод скрытой видеосъемки применяют зоозащитники и других движений. В 2011 г. на свиноферму-гигант Айова Селект (Iowa Select) устроилась работать некая Лиз Пачо (умолчав, что она активист международной организации Mercy for Animals). В течение четырех месяцев девушка тайно документировала страшные условия, в которых содержатся животные, и когда видео было обнародовано, многие сетевые посредники отказались от поставок этой фирмы.
Поэтому крупные корпорации сельскохозяйственных штатов (они же — главные доноры региональных политических кругов) лоббируют законы, по которым все, кто занимается подпольной видеосъемкой на территории агроферм, объявляются уголовными преступниками.
Но DxE это не пугает. Кроме расследований, они используют свои радикальные тактики, где нужны смелость, риск и шум: спасают животных и птиц, организуют пикеты, вторгаются на политические мероприятия с призывами и протестами.
Разумеется, активисты DxE подвергаются задержаниям и арестам. Они осознают, что выбранные ими средства могут привести в тюрьму; два года назад их лидеру грозило вплоть до 60 лет заключения! 2 Судебные процессы над участниками акций «открытого спасения» часто занимают месяцы, а то и годы, но благодаря адвокатской поддержке задержанных, как правило, отпускают. Когда они предъявляют свидетельства страданий обреченных животных, присяжные начинают симпатизировать защитникам. До сих пор адвокатам удавалось доказать, что животные подвергаются жестокому обращению и их жизни и здоровью угрожает опасность 3. Также обвинения снимаются, когда сами истцы не являются в суд, не желая, чтобы безобразия на их фермах всплыли в публичном пространстве. Но аресты освещаются масс-медиа, и все, кто за этим следит, видят, что активисты рискуют намеренно. Их задача — любыми ненасильственными методами сломать информационный заслон, чтобы люди узнали о реальном положении дел в мясо-молочном и птицеводческом сельском хозяйстве.
Но, возможно, вскоре их смогут судить по более серьезным статьям. В этом году американская разведка опубликовала на своем сайте список, рекомендованный для проекта закона о «внутренних экстремистах», где причислила защитников животных и окружающей среды к организациям, которые якобы действуют насильственными методами и создают угрозу правительству, власти, капитализму и глобализации 4.
Агропромышленные корпорации, для которых DxE как кость в горле, стараются заручиться поддержкой ФБР, а его агенты, в свою очередь, не гнушаются грязными методами. Вот какая история произошла в прошлом 2020 году с водителем грузовика Лукасом Уолкером, работавшим на компанию упомянутой уже Айова Селект — крупнейшего в стране производителя свинины.
Уолкер не раз обращался и к руководству своей компании, и в Министерство Природных Ресурсов штата Айова по поводу того, что животные содержатся в условиях, которые не отвечают никаким нормативам, но ответа не получил. Тогда он решил по интернету найти тех, кто мог бы за него распространить информацию о нарушениях. Так он узнал о движении DxE и познакомился с его участниками 5.
Вскоре началась пандемия, и закрылось несколько региональных скотобоен. В результате образовался излишек свиней, что для любой компании невыгодно. Тогда Айова Селект приняла решения умертвить огромное количество здоровых животных крайне жестоким способом: перекрыв вентиляцию и поступление кислорода в свинарники, взамен закачивая туда горячий воздух 6. Этот процесс привел к тому, что свиньи медленно и мучительно умирали от удушья и гипертермии. Уолкер сообщил об этом DxE, и один из активистов проник внутрь, заснял эту массовую экзекуцию и предоставил материал международным масс-медиа. Шокирующие записи визжащих, заживо поджариваемых поросят вызвали скандал, и началось расследование на всех уровнях, в том числе Конгресса.
Всплыло многое: и то, что Айова Селект, как и другие корпорации-гиганты, многие годы была крупнейшим спонсором политической элиты штата; и то, что корпорация лоббировала выгодные ей законопроекты; и то, что между семьями владельца компании и губернатора существуют личные связи. Стало понятно, почему государственные органы, куда прежде направлялись жалобы о нарушениях, закрывали на это глаза.
Агенты ФБР вышли на Уолкера, изучив контакты в телефонах задержанных во время пикетов активистов. С ним было проведено несколько встреч, во время которых его спрашивали, на какие средства существует DxE, не продают ли активисты запрещенные препараты или оружие, чтобы финансировать свою деятельность. Допросив Уолкера, его пытались завербовать и дать задание сбыть активистам DxE наркотики, чтобы заполучить любыми способами на них компромат. Но Уолкер отказался от роли провокатора, и его оставили в покое. После этого он предал огласке свои встречи с представителями разведки.
Несмотря на угрозы, DxE продолжает свою деятельность, чувствуя свою правоту и поддержку прогрессивной части общества. Ее дорожная карта расписана по пятилеткам, и к 2040 году организация планирует: положить конец промышленным фермам в США; разработать новые бизнес-модели в сельском хозяйстве для замены животных белков на растительные; принять федеральный закон о правах животных 7.
С помощью массовых протестов активисты давят на законодателей, и иногда это заканчивается победой. Так, общественные организации добились того, что с января 2019 года в Сан-Франциско (первом городе в США) запрещена продажа изделий из натурального меха. К сожалению, в агропроме пока трудно добиться существенных сдвигов: правительство продолжает субсидировать мясное и молочное животноводство, так как у политиков главное обязательство — обеспечить население продукцией по доступным ценам. Основная же часть потребителей не задумывается о страданиях животных, видя на упаковке бекона пасторальную картинку уютной семейной фермы.
…А судьба козленка, с которого мы начали свой рассказ, сложилась счастливо: он живет на одной из ферм-убежищ для спасенных животных и птиц, где они обитают (за счет спонсоров и доноров) в безопасности, с хорошим уходом и безо всякой утилитарной функции. Позапрошлым летом мы с другом посетили одну из таких ферм в Вудстоке, штат Нью-Йорк. У каждого обитателя есть имя и своя история спасения от эксплуатации или бойни. Многие прошли через лечение и хирургические операции. «У них медицинское обслуживание лучше, чем у многих американцев», — заметил мой англоязычный спутник с легкой укоризной в голосе. Однако с того дня он перестал есть мясо.
- https://www.nhes.org/3372-2/[↑]
- https://www.vox.com/podcasts/2019/12/5/20995117/wayne-hsiung-animal-rights-the-ezra-klein-show[↑]
- https://www.wired.com/story/direct-action-everywhere-virtual-reality-exposing-factory-farms/[↑]
- https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/21_0301_odni_unclass-summary-of-dve-assessment-17_march-final_508.pdf
https://greenwald.substack.com/p/the-us-intelligence-community-flouting[↑]
- https://theintercept.com/2021/02/17/fbi-iowa-select-pigs-whistleblower/[↑]
- https://theintercept.com/2020/05/29/pigs-factory-farms-ventilation-shutdown-coronavirus/[↑]
- https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRsSeDBvp0Q00kRuXXXBdoMprEe6vTOitveFYosZrbR21vSKRu79SexI5-l3Qe3r_n_sxE-hzrHPMIQ/pub[↑]

