Январь 2022
Доказательств нет
За ранец
И чтобы до потолка…
Как я снегурила
Подарок
Послушали
Рыба фиш
Сестра, утку!
Хомяк, кот, дедушка и ёлка
Алиса
Анастасий
Большая Мэри
В добрый путь
Васька
Встреча в сочельник
Вторая премьера
Второй кифаред
Зеленое утро
Зеленый бог
Ивент
Мама и Морок
Мимо мишени
Мира во всём мире
Мозаика
Море пахнет хризантемами
Одаренные девочки. Монолог
Папа
Перемещение
Подготовка к празднику
Про девочку, которая выросла на границе
Розы и занавески
Флоренский
Чайная коробка
Чужие дети
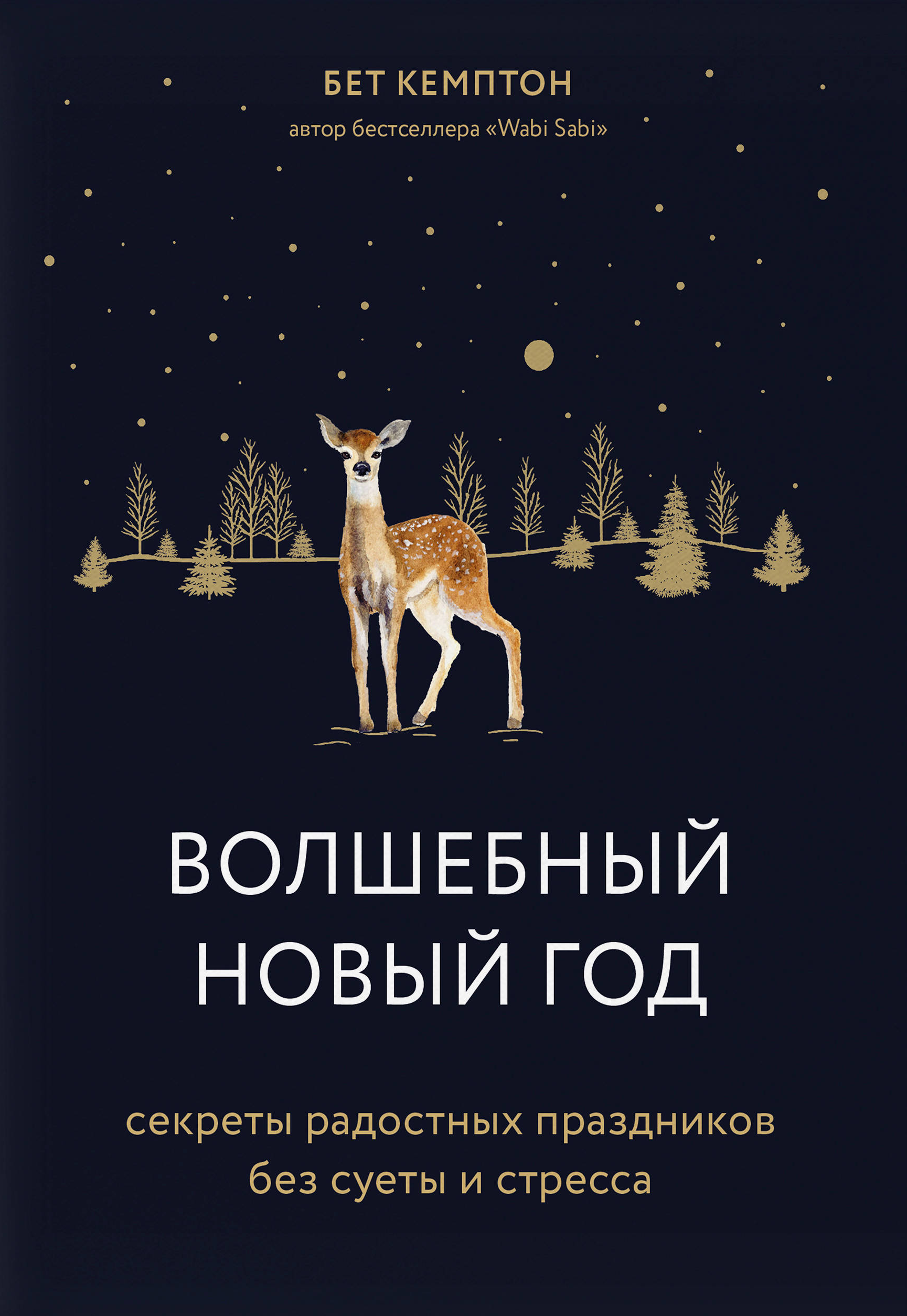
Волшебный Новый год
В издательстве «Бомбора» вышла новогодняя новинка — легкая и оптимистичная нон-фикшн книга «Волшебный Новый год: секреты радостных праздников без суеты и стресса». Издание рассказывает, о том, как подготовиться и провести зимние праздники без сожалений и чувства вины, что делать с плохим настроением и чувством одиночества, которые нередко сопровождают это переходный период, и даже дает практические советы, как не разориться на покупках. Но нас в этой книге заинтересовала письменная практика, которая поможет подвести итоги года и описать свои чувства. Идите в своем анализе чуть дальше, чем предлагает книга, и, может быть, поразмыслив над этим годом, вы построите не только планы на грядущий 2022, но и найдете сюжеты для будущих рассказов и автофикшн-текстов.
ЧАСТЬ III. Воплощение, или После Рождества
Составление карты года
За год много чего может случиться — и хорошего, и плохого. Все мы несем на себе множество обязательств и порой не замечаем, как проходит жизнь, растворяясь в ней, как в тумане. Кажется, только что был декабрь — и вот уже снова он, только год другой. Когда же мы все-таки задумываемся о том, что произошло, то концентрируемся главным образом на самых высоких взлетах и самых глубоких падениях, обходя менее заметные повседневные события, из которых по большей части и состоит каждый год.
Цель этого упражнения — понять, что же в действительности случилось в прошлом году, осознать, как это повлияло на ваше настроение и уверенность в себе, приняв с достоинством последние двенадцать месяцев вашей жизни.
• Для начала начертите таблицу из тринадцати столбцов и семи строк на двойном развороте записной книжки. В верхней строке слева напишите «Тема», а затем в каждом следующем столбце — название месяцев. Теперь в каждой строчке первого столбца напишите «Дом», «Работа», «Перемены», «Рост», «Взлеты» и «Падения».
• Впишите в графы «Дом» и «Работа» любые значимые события, подходящие под эти две категории. Если нужно, обратитесь к календарю или просмотрите фотографии на телефоне, но не тратьте на это слишком много времени. Пусть записи будут предельно краткими, и вовсе не обязательно писать что-то под каждым месяцем. Суть в том, чтобы в результате получить некое общее представление, а не подробный отчет.

• Теперь коротко прокомментируйте наиболее важные перемены в жизненных обстоятельствах и личностный рост или полученные за год знания в разделах «Перемены» и «Рост». Некоторые из них, вероятно, будут связаны с вашими записями в разделах «Дом» и «Работа».
• Наконец, постарайтесь вспомнить любые моменты, когда вы испытывали чрезвычайно позитивные или негативные эмоции, — и впишите их в разделы «Взлеты» и «Падения». А как же более мягкие и плавные ощущения, которые вы пережили в уходящем году? Запишите и их.
Теперь взгляните на краткую зарисовку своего года и запишите все, что привлекло ваше внимание. Основываясь на следующих вопросах, сделайте записи у себя в дневнике.
• Есть ли некие повторяющиеся явления — положительные или отрицательные — в определенные моменты года?
• Как повлияли на вас наиболее важные изменения?
• Приведите примеры, когда личностный рост был вызван вашими собственными действиями.
• Приведите примеры, когда рост произошел под влиянием внешних обстоятельств.
• Как вы справились с трудностями?
• Что хорошего принес вам этот год и как вы это отметили?
• Каким был этот год в целом? Тянулись ли дни медленно или летели? Казалось ли вам, что вы постоянно бежите или что стоите на месте? Или этот год прошел в нормальном ритме? Хотели бы ли вы, чтобы этот год повторился или же чтобы следующий прошел по-другому?
• Как бы вы в целом оценили этот год?
Теперь пора ответить на более конкретные вопросы.
Время поразмыслить
Конструктивное размышление начинается с анализа уходящего года через призму благодати. Представьте, что помогаете выполнить это упражнение близкому другу: вы были бы к нему добры, внимательны, тактичны. Проявите и к себе такое же внимание.
В результате вы найдете ответы на вопросы, которые помогут воспрянуть духом и раскрыть свое сердце, а заодно подготовить почву для реалистичного прогноза, который вы составите позже (см. главу 9). Пусть ваши ответы станут для вас ценным источником информации и помогут двигаться вперед, а не поводом для самоосуждения и самоуничижения за ошибку.
Стремительные вопросы
На каждый из следующих вопросов отвечайте не задумываясь — первое, что придет вам в голову. Можете накрыть список листом бумаги и двигать его вниз, чтобы не было соблазна подглядывать.
За последние двенадцать месяцев
• Что вызвало ваше любопытство?
• Что вы преодолели?
• В чем вы преуспели?
• От чего отказались?
• Что открыли заново?
• Чему поддались?
• Чем пожертвовали?
• Что отодвинули на второй план?
• Что пережили?
• Что по достоинству оценили?
Вопросы к размышлению
Для ответа на следующие группы вопросов используйте другой метод. При необходимости руководствуйтесь своей картой года и подумайте над каждым вопросом чуть больше.
• Что за этот год вы узнали об уровне собственной храбрости? Чем вы рискнули? К чему это привело?
• Что за этот год вы узнали об отношениях, любви и своей способности прощать?
• Какие совпадения вы заметили?
• Случалось ли вам стать для кого-то источником света во тьме?
• Когда вы проявили великодушие и чем это для вас обернулось?
• Пренебрегли ли вы собой каким-либо образом? Были ли случаи, когда вы не позволили себе того, в чем нуждались? Если подобная ситуация повторится в этом году, что вы себе скажете?
• В каком месте из всех, где вы в этом году побывали, самая спокойная атмосфера? Где вам пришли в голову лучшие идеи?
• Какие изменения в близких вы заметили?
• Какое из событий «внешнего мира» оказало на вас наибольшее влияние?
• Что вы поняли в результате о своей роли в обществе?
• Что в этом году вы узнали о ценности жизни?
Практические аспекты
В этом году:
• Что вы создали и чему помогли свершиться?
• Что принесло вам наибольшее удовлетворение?
• Что стоило потраченных денег? А что оказалось пустой тратой?
• Когда вы оптимальным образом расходовали свои силы и время? А когда — потратили их зря?
• В чем был ваш истинный успех? Почему? Какой урок вы из этого усвоили?
• Что пошло не так, как вы надеялись? Почему? Какой урок вы из этого усвоили?
• С кем или с чем вам было нелегко? Почему? Какой урок вы из этого усвоили?
• Что самое важное вы сделали для своего физического здоровья?
• Что самое важное вы сделали для своего душевного здоровья?
• Оглядываясь назад, если бы можно было описать этот год одним словом, каким бы оно было?
Оставить прошлое позади
Теперь, когда вы поразмыслили над ушедшим годом и проанализировали его, пора отпустить то, что в будущем году вам больше не понадобится.
Разорвите листок бумаги на несколько мелких кусочков. Напишите на каждом одну вещь, которую хотели бы оставить в прошлом.
Подумайте о:
• том, что больше всего вас расстроило;
• неудачных отношениях;
• тоске по вещам, которые больше недоступны;
• наследии прошлого, которое отзывается в виде повторяющегося саморазрушающего поведения;
• поведении, которое больше неуместно в вашей теперешней жизни;
• суждениях, препятствующих установлению более тесной связи с окружающим миром;
• привычках, с которыми вы хотите покончить.
Подумайте, для чего вы освободите пространство, когда откажетесь от этих вещей.
Быть может, вы захотите сделать маленький алтарь из свечи и круга камней или других природных элементов. Или же можно соорудить костер, на котором вы один за другим сожжете клочки бумаги. С каждым новым сожженным клочком кладите руку на сердце, чтобы почувствовать, как оно освобождается от тяжкого груза. Возможно, вы захотите сделать это молча или же высказать вслух благодарность за ценные уроки. Или просто скомкать клочки бумаги и бросить в корзину. Главное — решимость отпустить их.
Идти вперед
Близится конец года, а я призываю вас задуматься о своей уязвимости. Когда вы в последний раз за эти двенадцать месяцев позволяли себе быть уязвимым? Какие уроки усвоили в процессе?
Моя подруга Сас Петерик — исследователь феномена сомнений в себе, тренер и ведущая подкаста «Храбрость+Специи» (Courage+Spice) — на прошлое Рождество пережила медицинскую процедуру, во многом изменившую ее жизнь — но не так, как следовало ожидать.
Мать и бабушка Сас обе родились с пороком сердца и умерли в возрасте чуть старше пятидесяти лет. У Сас та же болезнь, и она долгие годы готовилась к той же участи. Но перед самым Рождеством ей провели экстренную операцию и вживили в ее сердце сенсационное робототехническое устройство. Теперь она полна надежд на будущее:
«Словно на карте моей жизни есть некий участок, отмеченный линией, — как государственная граница, за которой лежит новая территория, где я теперь нахожусь. Мое самое первое воспоминание связано с первой операцией на сердце, и ожидание, что я не проживу дольше пятидесяти лет, висело надо мной, словно зловещая тень предзнаменования. Из-за этого я постоянно боялась не успеть сделать все задуманное. Но дойдя до самой границы, я вдруг обнаружила, что по ту сторону меня ждет не ранняя смерть, я долгая жизнь. Я вдруг оказалась на территории, где кончаются карты. И места здесь так много, что даже страшновато!
Теперь я стараюсь понять, кто я в данный момент. Попытаться привести в порядок те знания, которыми — как мне кажется — я обладаю. Не потому, что они могут оказаться ошибочными, но потому что у меня есть склонность к категоричным суждениям, а они могут мешать процессу познания».
Мне понравился этот подход — «стараюсь понять, кто я в данный момент». Это так свежо и оригинально — ведь мы чаще стараемся заглянуть в будущее и представить, кем мы могли бы стать.
А Сас продолжала:
«Я много думала о том, как в нашем мире ценится убежденность в чем-либо. Мало кто признает, что могут быть некие полезные знания, получение которых требует времени. Что сначала они могут быть нечеткими и размытыми, а форму и грани обретают со временем. Недавно я обнаружила еще кое-что. Я играю со словами и воспоминаниями, пытаясь запечатлеть жест, тональность слова, чувство, и эти «элементы» приобретают форму, напоминающую стихи. В этом аспекте «незнания» кроется особенное удовольствие.
Процесс дистилляции опыта и наблюдений за сутью вещей приносит невероятное удовлетворение — как решение кроссворда. А также — неожиданную радость. Со стороны кажется невероятным, что за этим хаотичным, не поддающимся четкому описанию чем-то, что вы ощущаете в своем теле, скрывается мудрость — но я начинаю подозревать, что так и есть. И, возможно, именно это и есть истинная мудрость. Не в том, что и так ясно и известно — это уже старая информация; но в том, что только открывается для вас. И какой бы размытой и еле уловимой эта информация ни была, может быть, это и есть мудрость нашего сердца».
В рамках финальной части процесса размышления и освобождения: настройтесь на волну мудрости сердца и ответьте на следующие вопросы:
• Что вы хотели бы взять с собой в новый год?
• Во что вы готовы начать верить?
• Что вы готовы получить?
Пока ответы еще свежи у вас в голове, нужно начать составлять план.

Как мастера Creative Writing School встречают Новый год
Кажется, Новый Год — это именно тот праздник и случай, когда уместно вспомнить фразу «никто не относится равнодушно». Можно выбрать не праздновать его, не украшать елку, не собираться за щедрым столом, но это будет, скорее, осознанный выбор, то самое «неравнодушие» со знаком минус. Мы же, конечно, искали все возможные плюсы, чтобы навести ревизию в многочисленных обычаях и ритуалах и выбрать самые вдохновляющие. Наши мастера поделились своими новогодними традициями. И хотя слово «оливье», конечно же, встретилось не один раз, можно только улыбаться, читая: какие они разные, светлые, мандариновые и теплые, эти традиции.

Писатель, филолог, руководитель Creative Writing School Майя Кучерская рассказала, что традиция в ее семье простая — в последний день года говорить друг другу, что важного и хорошего случилось у каждого в уходящем году. Такой ритуал благодарности. А для директора Creative Writing School Натальи Осиповой Новый год — детский праздник. «Можно почувствовать себя ребенком и разрешить подурачиться. Пока я жила в Кирове, каждый год 31-го декабря мы заходили ко всем друзьям в костюмах и дарили подарки. И, конечно, мандарины и оливье. Оливье я делаю по особому рецепту, с крабом и домашним майонезом, в этом году хочу попробовать с тыквой вместо моркови. Буду обновлять традицию».

Для Марины Степновой, писательницы и автора очных и онлайн курсов прозы Creative Writing School, тоже важны ритуалы детства: «На Новый год всегда-всегда была елка, во времена моего детства, конечно, живая. Сейчас своей дочери мы ставим уже искусственную елку, экологичную. Хранятся с бабушкиных и дедушкиных времен елочные игрушки, и каждый год мы стараемся купить какую-то новую игрушку. Вся семья наряжает елку. Пока мама была жива, была традиция великолепного застолья: всегда были гости, мама сама пекла торт “Наполеон”, на котором все гадали — если торт получится черный, значит, год будет удачный. Все ужасно волновались. Пирог необыкновенно сложный — я уже ничего такого не пеку, но, тем не менее, всегда, конечно, застолье есть. Я каждый год придумываю какое-нибудь новое блюдо, мы собираемся всей семьей. Обязательно есть подарки для детей, и подарки эти дети получают на утро. То есть, главная задача ребенка — заснуть в новогоднюю ночь, а утром побежать и найти под елкой подарок, который, разумеется, заказывается Деду Морозу. Дочка пишет ему письма, а Дед Мороз очень старается».

Писатель и мастер онлайн-школы Creative Writing School Станислав Секретов тоже хотел бы еще разок вернуться в детство: «Увы, все традиции давно утрачены. Вспоминаю, как в детстве на протяжении нескольких лет перед Новым годом я рисовал стенгазету. Просто так, для дома, для семьи… Красивые картинки с заснеженными еловыми лапами, аппликации, интересные факты об особенностях празднования Нового года в разных странах. И конечно, информация о том, каким же будет следующий год по восточному календарю. Традиция давно ушла вместе с детством. Пришел Интернет. Хотя порой очень хочется взять лист ватмана и вернуть прошлое».

Интернет пришел и в жизнь писателя, драматурга и ведущего драматургической мастерской мастер онлайн-школы Creative Writing School Дмитрия Данилова: «У меня давно нет настроения устраивать шумные новогодние вечеринки или ехать на тусовки. Мы много лет встречаем Новый год дома, с женой. Просто в уютном семейном кругу отмечаем праздник, пьём шампанское, как это обычно бывает. Я потом часто засиживаюсь за компьютером почти до утра, с кем-то переписываюсь, поздравляю друзей».

Для филолога и соавтора онлайн-курса «Нон-фикшн» Екатерины Ляминой конец декабря — двойной праздник: «Мои родители приняли решение жить вместе 29 декабря 1959 г. — и поэтому приближение Нового года в семье означает еще и воспоминание об этом прекрасном событии. Большую елку в человеческий рост мы перестали ставить уже очень давно, а вот ветки — еловые или сосновые — к 29 декабря всегда возникают в особой вазе. С антресолей спускаются игрушки, по большей части давнишние — набор для мини-елки с крошечными овощами и фруктами (зеленый горошек, баклажан, ежевика и другое); красивый картонаж: пеликан, рыбки, соловей; несколько на прищепках — пингвин, лисичка (из “Колобка”?), старик с сетью из пушкинской сказки о рыбаке и рыбке. Его я почему-то всегда считала апостолом Петром, изображенным еще до призвания его к апостольскому служению. Один красный шар, с того самого 29 декабря непременно украшавший каждую елку, храбро преодолел все переезды — чтобы по достижении 60-летия быть разбитым глупым котом, раскачавшим его и хлопнувшим о вазу. Мама, впрочем, сохранила осколки».

Писательница и мастер онлайн-школы Creative Writing School Наталия Ким также бережно хранит важные для семьи игрушки и покупает новые, наполняя их чудесной силой: «В моей родительской, абсолютно светской семье, почему-то было принято наряжать елку в католическое Рождество. Эту же традицию я сохранила для своих детей, так что старшая дочка приходит 25-го к нам, с сестрой и братом наряжает ёлку, потом мы выключаем свет, зажигаем фонарики, сидим вокруг и первый раз с прошлой зимы едим мандарины — вот до этого момента не покупаем даже. Ёлка всегда в доме была настоящая, последние годы полюбили сосны. Совсем не осталось старых игрушек, увы, но зато очень много рукотворных — с благотворительных ярмарок, например. На ёлочную макушку всегда водружается хрупкий стеклянный ангел, подаренный мне много лет назад странного вида старичком в Праге. Любимая игрушка старшей (30 лет) — валяный муми-тролль, младшей (18) — деревянный лось с лампочкой внутри, сына (16) — чудная рыба из проволоки и бисера. Я подарила им сделанные на заказ керамические хвостатые кометы — по форме одинаковые, по цвету разные, и когда они уже в собственных семьях заведут свою коробку с игрушками, пусть вешают эти звезды на ёлку, чтобы в Новый год вспоминать друг о друге. Единственная игрушка, сохранившаяся еще из моего детства — гроздь серебряных стеклянных орехов, папа привез откуда-то удивительный ГДРовский набор, я его страшно берегу. Уже много лет для меня самой нет никакого предвкушения праздника, но я по-прежнему честно кромсаю оливье под “Иронию судьбы” и вырезаю имбирные пряники, потому что самое приятное для меня сейчас в жизни — видеть, как блестят глаза твоих уже почти совсем взрослых младших детей, знать, с каким кайфом они на свои первые заработанные деньги покупают друг другу, сестре и мне какую-нибудь красоту, трогательную до невозможности, от всей души стараясь удивить и порадовать».

Коллега Екатерины Ляминой по онлайн-курсу «Нон-фикшн», филолог Алексей Вдовин хорошо помнит гастрономическую составляющую праздника: «Традиции живут и умирают. Новогодний ритуал в моем детстве и сейчас — две разные истории, хотя, конечно, и объединенные мандаринами и оливье (куда ж без них). Мой детский Новый год на рубеже 80-х и 90-х был полон ритуалов. Во всяком случае, таким он кажется мне сейчас. Елку ставили заранее. Причем сильно. Я торопил. Родители всегда отмечали Новый год в большой компании добрых друзей, но квартира была переходящей — то по жребию, то по соглашению сторон. Кому выпадало принимать гостей, начинали заниматься приготовлениями как минимум за неделю. Если отмечали у нас, то меня обычно посылали в гастроном за сметаной: мама делала из нее желе с кусочками фруктов. Сметаны нужно было купить литровую банку, которую я тащил с собой. Разливала ее на развес особая женщина, загребая половником из какого-то таинственного резервуара. Желе было обязательной контрибуцией в новогодний стол от нашей семьи. Стол вскладчину — важнейшая традиция конца 80-х и первой половины 90-х. В одиночку настоящий пир устроить было не по карману. Новый год и вокруг непременно сопровождался просмотром телепередач. Это были громкие премьеры юмористических концертов, и уж я их никогда не пропускал. Сейчас почти ни одного из этих ритуалов мы в нашей семье не соблюдаем — поменялись уклад, привычки, способ проживать жизнь. Но я не унываю. Надеюсь на будущее и жду зарождения новой традиции».

Художник и ведущая мастерской комикса Елена Авинова придумала особенный Новый Год: «Много лет подряд, когда я работала в театре, мы с друзьями праздновали ночь с 30 на 31 декабря как Хармсианский Новый год — начиная с 30 декабря 2005 года, когда Даниилу Хармсу исполнилось 100 лет. Я наряжала ёлку-огурец всякими старинными новогодними игрушками и нелепыми предметами, гости играли в “крокодила”, читали Хармса и дурачились (например, делали кукольный зад вываливающейся старухи в панталонах и засовывали в форточку). В прошлом году традиция возродилась в Creative Writing School как новогодний зум-корпоратив, я этому очень рада. Я люблю делать всякий хэнд-мейд к Новому году: авторские рисованные поздравления, арт-ёлки из разных неподходящих материалов — пробок, крышек, проволоки. Конечно, украшаю, как все, дом и ёлкой, и гирляндами — я фанат светового оформления, и гирлянд часто бывает больше, чем нужно».

Писательницы и ведущие мастерской «Литература Young Adults» рассказывают о том, как традиции их собственного детства трансформировались в сегодняшней взрослой жизни.
Ольга Птицева вспоминает, как превратилась в новогоднего зайца: «Главной новогодней традицией моего детства был зайчик. Всю праздничную неделю он встречался с моей мамой у продовольственного магазина и передавал мне подарочки. То сундучок милкивэй, то большую шоколадку с орехами, то плюшевого слоника, то книжку с картинками. Мама приносила его гостинцы и рассказывала, как зайчик выпрыгнул к ней на короб весь в снегу, а лапки у него были тёплые, и хвостик пушистый. Я верила в зайчика всей собой. Рисовала его, придумывала оправдания, почему он ни разу не заглянул в гости. И каждый день радовалась его гостинцам. Сейчас я даже представить себе не могу, сколько сил прикладывала мама, чтобы найти для меня столько маленьких подарочков в самый разгар девяностых на Крайнем Севере. Эта заячья традиция сейчас отлично перекликается с адвент-календарями. Каждое утро я открываю новое окошко, достаю оттуда маленькую шоколадку — привет от зайчика, которым теперь стала я сама. Для себя и своих близких».
Про адвент-календарь рассказывает и ее коллега Саша Степанова: «Наши новогодние традиции плавно перешли в семью из семьи моей и мужа — встречать праздник с родителями (за последние пятнадцать лет мы ни разу не отмечали Новый год в своей квартире — всегда приезжаем к ним), детям — обязательно написать письмо Деду Морозу и спрятать его в морозилке (утром письмо исчезает — значит, Дедушка его получил, к тому же, это серьезно облегчает задачу выбора подарков), а сами подарки появляются под елкой утром 1 января, никак не раньше. Так было у нас, а теперь уже наши дети просыпаются раньше всех и бегут к елке… Из того, чего в моем детстве не было, но мне бы очень понравилось — появились адвент-календари. В этом году мы с младшей дочерью открывали окошки такого календаря от РОСМЭН и выполняли милейшие задания — покормить на улице птиц, нарисовать зимний пейзаж, составить список зимних развлечений… Всё это создает замечательное ожидание праздника — одного из самых любимых!»
А у Марины Козинаки Новый год и подготовка к нему ассоциируются особенным светом: «Это были дни, когда дома по вечерам не зажигались привычные люстры и ночники, прихожую освещали только переливчатые блики гирлянды, а комнату — елка. Моя бабушка несколько лет проработала в Швейцарии, поэтому в моем советском детстве елка была совершенно необычная, серебряная, бабушка переправила ее домой почтой вместе с длинной гирляндой из огромных стеклянных шаров. Эту гирлянду папа приматывал к турнику в коридоре, а у елки родители ставили лампу: луч отражался от серебряных иголок, по стене скользили зыбкие блестки, тень от елки доставала до потолка.
Это потом я узнала, что традиции празднования Рождества и Нового года добрались до нас из глубокого язычества, и в самую темную длинную ночь зимнего солнцестояния наши предки отбивали у мороза солнце с помощью огня. Сначала жгли костры, потом свечи, потом свечи переместились на еловые ветви в домах, а после, уже с приходом электричества, пожароопасные свечи заменили гирляндами. Так что совершенно оправданно предвкушать самое настоящее чудо, когда видишь зимние, мерцающие золотом улицы. Что-то в нас еще помнит те времена, когда без человеческой помощи солнце могло не взойти».

Книжные новинки к Новому году
В новогодние праздники наконец-то доходят руки до всего, на что нас не хватает в череде будней. Заняться саморазвитием, отдохнуть душой, устроить праздник себе и близким. Мы сделали для вас подборку новогодних книжных новинок, чтобы вы не тратили время на поиск и выбор, а сразу приступили к чтению.
Для саморазвития
Издательство «МИФ»
Книга-мотиватор, которая поможет справиться с трудностями и подарит веру в себя. Написан для подростков, но воодушевит всех, на кого давит груз нереалистичных ожиданий. Мы выросли, но продолжаем считать, что должны быть идеальными и успешными во всем. Книга учит, что допускать ошибки и не быть первым в каждом деле — это абсолютно нормально. Цитаты и аффирмации — основа позитивной психологии. С этой книгой вы будете получать небольшую дозу мотивации, счастья и оптимизма каждый день. Удобная в навигации и очень красивая книга, которую можно брать с собой куда угодно.
Варвара Веденеева. Тетради для рефлексии
Издательство «Альпина Паблишер»
Тетради для рефлексии созданы, чтобы помочь вам генерировать идеи, управлять своей креативностью, взвешивать «за» и «против», принимая решения, и прорабатывать установки, которые портят вам жизнь. Три легкие, компактного формата и на качественной бумаге тетради превращают эти процессы в регулярную письменную практику. Заполняйте их, и привыкнете задавать себе важные вопросы, смотреть на проблемы под разными углами, ловить пришедшие в голову идеи и воплощать их.
14 плюсов в карму. Адвент-календарь добрых дел
Портал «Такие Дела»
Набор из 14 красиво иллюстрированных открыток с 28 заданиями. Покажет, что благотворительность и добрые дела — это не так уж и сложно! Этот адвент-календарь создан для тех, кто не прочь совершить парочку добрых дел по дороге на работу или в обед. Адвент рассчитан на две недели, но вы можете сделать задания быстрее или растянуть их хоть на весь год. Вытягивайте любую из 14 открыток, читайте о способах изменить окружающую действительность, выполняйте один или два челленджа с открытки — и становитесь магистром благотворительности!
Для души
Сара Морган и Кира Бугаева, переводчик. Наше худшее Рождество
Издательство «МИФ»
Сентиментальный роман о воссоединении семьи на фоне Рождества в шотландской глуши. Для сестер Саманты и Эллы Митчелл Рождество — время единения, любви и торжества. В этот день они стремятся восполнить всё, чего им так не хватало на рождественских праздниках в детстве. Но в этом году они будут покупать подарки матери, с которой не виделись пять лет. Жесткий подход Гейл Митчелл к воспитанию дочерей должен был сделать их сильнее, но вместо этого только оттолкнул от матери… Гейл решает исправить положение. В это первое за многие годы семейное торжество героини поймут, что иногда нужно посмотреть в лицо прошлому, чтобы исцелить свое сердце.
Прайор Хейзел. Как пингвины спасли Веронику
Издательство «АСТ»
Жизнеутверждающая и наполненная юмором книга, которая вернет веру в добро. Веронике Маккриди 86 лет, и все дни она проводит в роскошном доме в Айшире совершенно одна, и ее это вполне устраивает. Вероника — сноб и мизантроп, она уверена, что у нее нет родственников, и свое огромное состояние она планирует отдать на благотворительность. Осталось только найти достойный проект. Однажды ей попадается программа о команде ученых, которые изучают пингвинов в Антарктике. И Вероника решает во что бы то ни стало сама посетить научную станцию. Это путешествие изменит ее жизнь. Ведь там, на краю света, Веронике предстоит встретиться с родным внуком, а еще спасти пингвиненка и понять что‑то очень важное о любви, дружбе, семье и о себе самой.
Агата Кристи. Убийство в разгар зимы
Издательство «Эксмо»
На улице так холодно, а день так короток… Идеальное время, чтобы поудобнее устроиться в теплой квартире с горячим напитком и сборником зимних убийственных головоломок от бесподобной Агаты Кристи! Перед вами откроется мир смертоносного снега и опасных подарков, отравленных угощений и таинственных гостей. Но господствуют в нем не злодеи, а легендарные сыщики леди Агаты во главе с Эркюлем Пуаро и мисс Марпл. Переиздании классики детектива — отличный выбор для спокойных зимних вечеров.
Таня Лапойнт. Дюна. Иллюстрированная история создания классики научной фантастики
Издательство «Эксмо»
Эта книга, написанная непосредственной участницей съемочного процесса и женой режиссера, станет вашим путеводителем в самое сердце экранизации нашумевшей «Дюны». Таня Лапойнт расскажет захватывающую историю о том, сколько лет Вильнёв пытался начать съемочный процесс и как наконец осуществил задуманное. Помимо самого режиссера в создании книги участвовали и члены съемочной команды, они расскажут обо всех этапах кинопроизводства — от создания концепт-артов и поиска локаций по всему миру до пошива костюмов и сложного грима. А дополнительным бонусом станут эксклюзивные интервью с ключевыми актерами. И все это в сопровождении уникальных фотографий со съемочного процесса, концепт-артов и первых раскадровок самого режиссера.
Для праздника
Рита Мок-Пайк. Неофициальная кулинарная книга Хогвартса
Издательство «МИФ»
75 рецептов блюд по мотивам волшебного мира Гарри Поттера. Если как истинный поттероман вы любите каждые новогодние каникулы пересматривать волшебные фильмы и перечитывать книги, то устройте себе Новый год и Рождество в стиле Хогвартса. Что может быть лучше, чем добавить праздничному столу немного магии?
Элисон Уолш. Праздничные рецепты из Страны чудес, Изумрудного города и других литературных миров
Издательство «МИФ»
Кулинарная книга, вдохновленная «Хрониками Нарнии», «Маленькими женщинами», «Рождественской песнью», «Приключениями Алисы в стране чудес» и другими любимыми произведениями. Иногда вымышленные блюда из известных книг становятся настоящими символами праздников. Теперь эти литературные блюда могут воплотиться в реальность на вашем столе. От Рождества до Хэллоуина и Нового года поваренная книга предлагает 17 праздничных обедов из четырех блюд: закуска, основное блюдо, гарнир и десерт — на основе 25 классических произведений мировой литературы.
Сергей Леонов и Татьяна Пахмутова-Манн. ЗОЖигательные праздники. Еда под вино!
Издательство «ЭКСМО»
Сергей Леонов, шеф-повар и сторонник ЗОЖ, предлагает сочетать, казалось бы, несочетаемое: правильное полезное питание с алкоголем! По Леонову жить нужно вкусно, ярко и радостно. И данная книга — она о свежих продуктах, неожиданных их сочетаниях, салатах, закусках, праздничных горячих блюдах и десертах, и о хорошем вине, которое во многих странах (Грузии, Молдавии, Армении, Франции, Италии, Испании и т.п.) всегда считалось эликсиром здоровья. Какое вино и под какое блюдо или продукт подбирать — об этом вам расскажет Татьяна Пахмутова-Манн, винный эксперт с 20-летним опытом работы в международном винном маркетинге. Каждый подробно описанный Сергеем рецепт сопровождается винной рекомендацией Татьяны. Пробуйте блюда и не забывайте о хорошем их сопровождении!

Откуда ты, нарядная: история елки в литературе
«Будущего недостаточно.
Старого, нового мало.
Надо, чтоб елкою святочной
Вечность средь комнаты стала».
Эти пастернаковские строки лаконично и точно отражают наше отношение к рождественской елке как к символу вечного и чудесного. Однако, вопреки расхожему мнению, елка отнюдь не является «вечной» — в смысле, старинной русской традицией. Она появилась в России меньше двухсот лет назад, но за это время успела приобрести значение гораздо большее, чем просто украшение зимнего праздника. Мы попробуем проследить историю елки сквозь призму ее появления в художественных и поэтических текстах.
Откуда дровишки?
Вопрос, почему именно ель стала символом Рождества, до сих пор точно не изучен. Сам по себе культ дерева, его одухотворение и почитание уходит корнями в мифологию разных народов — стоит вспомнить древо жизни, древо познания, чудесное дерево Моисея. Вечнозеленые растения в силу своей неумирающей природы всегда считались наполненными особыми силами. Литературовед и культуролог Елена Душечкина в исследовании «Русская елка: История, мифология, литература», на которое мы в основном опираемся в этой статье, отмечает, что на территории Германии ель во времена язычества была особо почитаемой и отождествлялась с мировым деревом. Древние германцы под Новый год украшали свечами и цветными тряпочками еловые деревья в лесу, а потом со временем стали срубать их и приносить в дом. Дома они использовали для украшения яблоки и сладости. После крещения германских народов этот обычай постепенно приобрел христианский смысл, что связывают с именем немецкого реформатора Мартина Лютера.
В начале XIX века обычай украшать рождественское дерево начал распространяться по Европе. Елка появляется перед королевским дворцом Тюильри в Париже, в Виндзорском замке недалеко от Лондона. Интересно, что Чарльз Диккенс в очерке «Рождественский обед» 1930 года ещё не упоминает о ёлке, а в очерке «Рождественская ёлка» начала 1850-х уже описывает ее: «Сегодня вечером я наблюдал за весёлой гурьбою детей, собравшихся вокруг рождественской ёлки — милая немецкая затея! Ёлка была установлена посередине большого круглого стола и поднималась высоко над их головами. Она ярко светилась множеством маленьких свечек и вся кругом искрилась и сверкала блестящими вещицами…»
Кстати, в России первая елка появилась гораздо раньше, а именно, в петровскую эпоху. Возвратившись из своего первого путешествия в Европу, Петр Первый издает указ о новом летоисчислении. Согласно указу день «новолетия» переносится с 1 сентября на 1 января, а столицу рекомендуется украсить огнями и хвоей. Однако, речь пока все-таки не идет о той самой классической елочной традиции. Петровскую «хвою» следовало устанавливать снаружи — на дорогах, воротах, крышах трактиров и кабаков. Последняя локация особенно полюбилась и прижилась: с тех пор крыши питейный заведений круглый год украшала елочка. Если вспомнить, что, помимо «алкогольных» коннотаций, елке приписывалась еще и связь с нечистой силой, то возникновение ее культа кажется тем более удивительным.
И все-таки это произошло. В первой половине XIX века уже не трактирная новогодняя, а настоящая рождественская елка появляется в Санкт-Петербурге. Сначала ее можно встретить только в домах петербургских немцев, но уже в начале 1840-х годов популярная в то время газета «Северная пчела», издаваемая Фаддеем Булгариным, сообщает: «Мы переняли у добрых немцев детский праздник в канун праздника Рождества Христова: Weihnachtsbaum. Деревцо, освещённое фонариками или свечками, увешанное конфетками, плодами, игрушками, книгами составляет отраду детей…» Интересно, что елки стали продавать в… кондитерских! Купить можно было уже украшенную — с игрушками, пряниками, пирожными и конфетами.

Чудесное дерево
Популярность сказок Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик» и «Повелитель блох» способствовали распространению «милой немецкой затеи». В своем первом переводе, напечатанном в 1939 году, «Щелкунчик» назывался «Щелкун орехов». На обложке изображалась елочка с зажжёнными свечками и разложенными под ней подарками, среди которых был и Щелкунчик.
Также в начале 1840-х годов русский читатель знакомится со сказками Ханса Кристиана Андерсена. В одной из них — «Елка» — речь идет о судьбе дерева, срубленного для детского праздника. В другой — «Девочка со спичками» — рассказывается о бедной девочке, замерзающей в рождественский вечер на городской улице: «Она зажгла ещё спичку и очутилась под великолепнейшею елкой, куда больше и наряднее, чем та, которую девочка видела в сочельник, заглянув в окошко дома одного богатого купца. Елка горела тысячами огоньков, а из зелени ветвей выглядывали на девочку пёстрые картинки, какие она видывала раньше в окнах магазинов». «Девочка со спичками» Андерсена стала каноническим текстом своего жанра.
Появляется елка и на страницах произведений русских авторов. В повести «Зимний вечер», написанной в 1855 году, Дмитрий Григорович описывает, как петербургский уличный артист переживает, что не может исполнить данное детям обещание: «На совести отца лежала елка, которую обещал к Рождеству и которой не было».
Необычное упоминание елки, сделанное в 1847 году, мы видим у Николая Некрасова: «Все же случайное походит на конфеты на рождественской елке, которую также нельзя назвать произведением природы, как какой-нибудь калейдоскопический роман фабрики Дюма — произведением искусства».
Много интересного о рождественском веселье можно найти в мемуарах и переписке членов семьи Льва Толстого. Устройством елки руководила Софья Андреевна, а инициатором святочных гуляний был сам писатель, прекрасно знавший обычаи народных русских святок. В начале 1870-х годов перед Рождеством Софья Андреевна ездила из Ясной Поляны в Тулу для закупки множества специальных голых куколок, которых дети Толстых прозвали «скелетцами». Татьяна Сухотина-Толстая вспоминает: «Это были неодетые деревянные куклы, которые гнулись только в бёдрах. …Этих “скелетцев” мама покупала целый ящик, штук сто. Дети шили для них нарядные костюмы, одевали их и подвешивали на ёлку. …Потом, уже на празднике, эти наряженные “скелетцы” раздавались приглашённым на ёлку крестьянским ребятишкам».
А вот как описывается елка в повести Алексея Толстого «Детство Никиты»: «В гостиную втащили большую мерзлую елку. Пахом долго стучал и тесал топором, прилаживая крест. Дерево наконец подняли, и оно оказалось так высоко, что нежно-зеленая верхушечка согнулась под потолком. От ели веяло холодом, но понемногу слежавшиеся ветви ее оттаяли, поднялись, распушились, и по всему дому запахло хвоей. …Настал сочельник. Елку убрали, опутали золотой паутиной, повесили цепи и вставили свечи в цветные защипочки». И дальше: «В это время раскрылись двери в кабинет. …В гостиной от пола до потолка сияла елка множеством, множеством свечей. Она стояла, как огненное дерево, переливаясь золотом, искрами, длинными лучами. Свет от нее шел густой, теплый, пахнущий хвоей, воском, мандаринами, медовыми пряниками. Дети стояли неподвижно, потрясенные. В гостиной раскрылись другие двери, и, теснясь к стенке, вошли деревенские мальчики и девочки. Все они были без валенок, в шерстяных чулках, в красных, розовых, желтых рубашках, в желтых, алых, белых платочках».
Здесь, как и в мемуарах Сухотиной-Толстой, мы видим традицию приглашать на барскую елку деревенских ребят. Важным элементом праздника была тайна — детям категорически запрещалось входить в помещение, где устанавливалась елка, до специального разрешения. Торжественный момент распахивания дверей присутствует во множестве елочных рассказов. В конце веселья дети обычно «разграбляли» елку, срывая с нее игрушки и сладости.
Супруга Федора Достоевского Анна Григорьевна Достоевская вспоминает, как серьезно относился к подготовке праздника ее муж: «Федор Михайлович, чрезвычайно нежный отец, постоянно думал, чем бы потешить своих деток. Особенно он заботился об устройстве елки: непременно требовал, чтобы я покупала большую и ветвистую, сам украшал ее (украшения переходили из года в год), влезал на табуреты, вставляя верхние свечки и утверждая “звезду”».

Фальшивая радость
Помимо радости, утверждения семейных ценностей, елка давала возможность выявить и то ложное, фальшивое, что существовало в обществе. Достоевский был одним из первых «обличителей» связанной с елкой социальной несправедливости. Его фельетон «Елка и свадьба» 1848 года описывает рождественский детский бал, устроенный в доме «известного делового лица со связями». Один из гостей, наблюдая за детьми, присматривает себе невесту — одиннадцатилетнюю девочку, за которой имелось приданое в триста тысяч рублей. При раздаче подарков самый дорогой подарок получает дочка самых богатых родителей. Этот же мотив — неравноценность полученных на елке подарков — мы встретим полвека спустя в «Воскресенье» Толстого.
Михаил Салтыков-Щедрин в очерке 1857 года «Елка» рисует желчную картину праздника, где вокруг «милого деревца» дети чинно и неестественно прохаживаются, ожидая «знака, по которому елка должна быть отдана им на разграбление». Дети бедных родителей испытывают тот же стыд, что и у Достоевского: сын хозяина бьет «Оську-рядского», в то время как Оськина мать «не столько ублажает его, сколько старается прекратить его всхлипыванья новыми толчками».
Тема унижения и бедности, которые более отчетливо проявляются на фоне украшенного рождественского великолепия, продолжается в рассказе Леонида Андреева «Ангелочек». Главный герой, тринадцатилетний Сашка, оказывается на елке в богатом доме: «Заранее вытаращив глазенки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко освещенную залу и тихо обходили сверкающую елку. Она бросала сильный свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и губками. …Сашка был угрюм и печален, — что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвленном сердце. Елка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки». Дальше Сашка замечает на елке игрушку-ангелочка, которую ему очень хочется получить. Кстати, растаявший «Сусальный ангел» Александра Блока написан под влиянием «Ангелочка» Андреева:
«На разукрашенную елку
И на играющих детей
Сусальный ангел смотрит в щелку
Закрытых наглухо дверей».
Так как же сосуществовать рядом таким вещам, как рождественская елка, символ вечного и прекрасного, и обиженные, несчастные, погибающие дети? Ответ мы находим в «Мальчике у Христа на елке» Достоевского, написанном в 1876 году. Мальчик-сирота замерзает на улице. В полемике с Достоевским в 1894 году Максим Горький напишет в газете «Нижегородский листок» рассказ «О мальчике и девочке, которые не замёрзли», начинающийся такими словами: «В святочных рассказах издавна принято замораживать ежегодно по нескольку бедных мальчиков и девочек. Мальчик или девочка порядочного святочного рассказа обыкновенно стоят перед окном какого-нибудь большого дома, любуются сквозь стекло елкой, горящей в роскошных комнатах, и замерзают, перечувствовав много неприятного и горького». И тем не менее, Достоевский предлагает то, что делает замерзающего мальчика счастливым, а финал рассказа светлым — елку Христову. Христова елка существует для всех обездоленных, замерзающих, обиженных социумом. «— Пойдём ко мне на елку, мальчик, — прошептал над ним вдруг тихий голос. …и вдруг, — о, какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он и не видал ещё таких деревьев! …Это «Христова елка», — отвечают они ему. — У Христа всегда в этот день ёлка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки».

Посланница леса
Несмотря на стремительно набирающую популярность елку, Православная церковь, а вместе с ней и ортодоксально настроенная часть русского общества, не одобряла этот все еще сравнительно новый обычай. По странной иронии судьбы запреты церкви на использование рождественского дерева сопровождали елку на протяжении всей её дореволюционной истории, вплоть до революции 1917 года. Тем временем в поисках компромисса авторы пытались придать елке фольклорный характер, сделать ее посланницей русского леса. Так, в стихотворении Федора Сологуба 1872 появляется Бабушка зима:
«Снегом улица покрылась,
Вот уж и зима;
В гости к нам заторопилась
Бабушка зима.
Вся под белой пеленою
Елочку несет,
И, мотая головою,
Песенку поет…»
Владимир Ходасевич отвечает на другое стихотворение Сологуба про Елкича следующими строками:
«Хорошо в моей тиши!
Сладки снежные могилы!
Елкич, милый, попляши!
Елкич, милый, милый, милый».
Символ утраченного
Иногда ошибочно полагают, что советская власть запретила ёлку сразу же после октябрьского переворота. Однако это не так, елка беспрепятственно просуществовала в Советской России до 1925 года, то есть до начала гонений на церковные праздники, и запрещена была в 1929-ом. И в то же время во всем, что мы читаем о елке в первые годы советской власти, чувствуется невыразимая грусть, как будто угроза уже нависла, хоть пока и незаметна для глаз. Так, в 1918 году Горький и Александр Бенуа подготовили и выпустили подарочную книгу для детей «Елка», оформленную иллюстрациями Бенуа, Репина, Добужинского и др. и включающую произведения Горького, Чуковского, Ходасевича, Алексея Толстого, Брюсова, Саши Чёрного. На обложке изображалась наряженная ёлка, на верхушке которой ярко сияла шестиконечная Вифлеемская звезда.
В дневнике Корнея Чуковского содержится запись, сделанная им 25 декабря 1924 года: «Третьего дня шёл я с Муркой к Коле — часов в 11 утра и был поражён: сколько елок! На каждом углу самых безлюдных улиц стоит воз, доверху набитый всевозможными елками — и возле воза унылый мужик, безнадёжно взирающий на редких прохожих. Я разговорился с одним. Говорит: “Хоть бы на соль заработать, уж о керосине не мечтаем! Ни у кого ни гроша; масла не видали с того Рождества…” Единственная добывающая промышленность — елки. Засыпали елками весь Ленинград, сбили цену до 15 коп. И я заметил, что покупают елки главным образом маленькие, пролетарские — чтобы поставить на стол».
Наиболее сильно нависшая над елкой угроза звучит в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова: «Из года в год, сколько помнили себя Турбины, лампадки зажигались у них двадцать четвёртого декабря в сумерки, а вечером дробящимися, тёплыми огнями зажигались в гостиной зелёные еловые ветви. Но теперь коварная огнестрельная рана, хрипящий тиф все сбили и спутали…»
Особое значение приобрела елка для эмигрантов первой волны — она стала символом утраченной России, одним из самых дорогих ее примет. Иван Шмелёв в «Лете Господнем» восстанавливает в памяти дореволюционное русское Рождество, в котором елка становится характерной чертой именно русского праздника: «Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях, — лес елок. А какие елки! Этого добра в России сколько хочешь. Нe так, как здесь, — тычинки. У нашей елки… как отогреется, расправит лапы, — чаща».
Накануне 1920 года в Финляндии Александр Куприн обращается с воззванием в газете «Новая русская жизнь», прося помочь русской гимназии. Там же он добавляет: «Теперь близко Рождество. Когда-то… помните?.. была Рождественская елка… подарки… улыбки… но… Боже мой, как давно…»
В письмах из Франции Марина Цветаева рассказывает своей чешской приятельнице Анне Тесковой о елках, которые она, несмотря на нужду, устраивала для своих детей. 26 декабря 1938 года Цветаева пишет: «Но елочка всё-таки — была. Чтобы Мур когда-нибудь мог сказать, что у него не было Рождества без елки, чтобы когда-нибудь не мог сказать, что было Рождество — без елки. Очень возможно, что никогда об этом не подумает, тогда эта жалкая, одинокая елка — ради моего детства…» И 3 января 1939 года в последнем письме из Франции: «У нас была (и ещё есть) елочка, маленькая и пышная, как раздувшийся ежик».
Только Нина Берберова признается в нелюбви к елке: «К тому, что я всем сердцем ненавидела, относились елки, рождественские елки, с хлопушками, свечками, обвисающей с веток фольгой — они были для меня символом гнезда. Я ненавидела бумажных ангелов с глупыми розовыми лицами… всё это не имело для меня никакого смысла, кроме одного: в квартире вдруг оказывался центр, где надо было быть, вместо того, чтобы быть свободной… надо было сидеть и смотреть, как горят свечи, и делать вид, что любуешься ангелами и ждешь подарков… то есть делать то, что, по моему тогдашнему пониманию, приводило взрослых в состояние совершенно непонятной и чем-то неприятной мне искусственной экзальтации… Зато какое бывало счастье, когда эту мертвую, раздетую ёлку наконец уносили вон».

Реабилитация на новый лад
Со второй половины 1920-х годов советская власть вступила в борьбу с «религиозными и поповскими предрассудками». В 1929 году христианские праздники, включая Рождество, были исключены из рабочего календаря, что решило и судьбу елки. Правда, подпольно елку, конечно, ставили, плотно занавесив окна шторами и одеялами. Ирина Токмакова в мемуарах вспоминает, что елкой их обеспечивал дворник, который перед Рождеством выезжал за город в лес с огромным мешком, срубал дерево, перерубал его пополам и запихивал в мешок. Дома он скреплял шершавый ствол лубки, и елка «делалась опять целенькой и стройной».
В самом конце 1935 года елке вдруг разрешают выйти из подполья. Предшествует этому известное высказывание Сталина «Жить стало лучше, жить стало веселее». 28 декабря 1935 года в газете «Правда» появляется заметка Павла Постышева: «Давайте организуем к новому году детям хорошую елку!» 30 декабря «Правда» размещает фотографию, на которой улыбающиеся мальчик и девочка рассматривают ёлку в витрине магазина. Подпись к фотографии гласит: «Магазин “Детский мир” Гормосторга выставил украшенную елку, пользующуюся у наших покупателей большим успехом». И если 1936 год еще встречали немного в спешке, но к празднованию прихода 1937 года уже успели подготовиться заранее.
Лидия Чуковская в повести «Софья Петровна» как раз описывает предпраздничные хлопоты «елочной комиссии» в преддверии 1937 года: «Наконец осталось купить только елку. Они купили высокую, до потолка, с широкими, густыми лапами. Наташа, Софья Петровна и лифтерша Марья Ивановна украшали елку с раннего утра и до двух часов дня накануне праздника. …Лифтерша подавала Наташе и Софье Петровне шары, хлопушки, почтовые ящички, серебряные кораблики, а Наташа и Софья Петровна вешали их на елку. Скоро у Софьи Петровны заболели ноги, и она уселась в кресло и, сидя, вкладывала в пакетики с конфетами записочки: “Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство”. …Потом Софья Петровна вклеила кудрявую головку маленького Ленина в середину большой красной пятиконечной звезды, Наташа водрузила звезду на верхушку елки — и все было закончено».
Елка середины ХХ века проходит через многое. Во время Второй мировой войны она становится символом надежды — ее ценой невероятных усилий устанавливают даже в блокадном Ленинграде. В литературе елка, с одной стороны, предстает как новоприобретенный советский «арт-объект», с другой, как ностальгическое воспоминание о дореволюционной традиции. Говоря о последней, нельзя не вспомнить «Доктора Живаго» Бориса Пастернака: «С незапамятных времен елки у Свентицких устраивались по такому образцу. В десять, когда разъезжалась детвора, зажигали вторую для молодежи и взрослых, и веселились до утра… На рассвете ужинали всем обществом… Мимо жаркой дышащей елки, опоясанной в несколько рядов струящимся сиянием, шурша платьями и наступая друг другу на ноги, двигалась черная стена прогуливающихся и разговаривающих, не занятых танцами. Внутри круга бешено вертелись танцующие».
Вообще это время оказывается литературно богато. Создаются «Елка у Ивановых» Александра Введенского, «Елка» Михаила Зощенко, рождественские шедевры Пастернака — «Вальс со слезой» («Как я люблю ее в первые дни»), «Вальс с чертовщиной» («Фук. Фук. Фук. Фук»), «Рождественская звезда»:
«Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.
Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Все великолепье цветной мишуры…
…Все злей и свирепей дул ветер из степи…
…Все яблоки, все золотые шары».
В 1941 году Константин Симонов пишет свои «Плюшевые волки, зайцы, погремушки…»:
«И, состарясь, дети
До смерти без толку
Все на белом свете
Ищут эту елку.
…
Желтые иголки
На пол опадают…
Всё я жду, что с ёлки
Мне тебя подарят».
Современная елочная традиция
Во второй половине ХХ века елочная тема в литературе становится менее заметной, уходит на второй план, но выстреливает с новой силой на рубеже тысячелетий. Причем, елка в рассказах современных авторов приобретает абсурдистские, сюрреалистические черты. Так, например, в миниатюре Линор Горалик* «Пять историй про елочку» 2014 года «хорошая девочка Р. двадцати двух лет говорит бойфренду, что хочет самую большую елку, какую только можно купить». Девочка Р. и ее бойфренд ссорятся: «идет разговор про деньги, которых нет, про кризис, инфантильное поведение, дурацкие опоздания с работы, очередность мытья посуды, выплаканные глаза, бывших баб, непонятные ночные эсэмэски хрен знает от кого, курение в спальне, хотя сто раз просили, запах рыбы из холодильника». Бойфренд хлопает дверью, но «через четыре часа … подъезжает к подъезду с … нереальной, пятиметровой елкой, про которую даже и вообразить нельзя, откуда она взялась и сколько стоила. … На тебе, получай». Двенадцать дней спустя бойфренд хорошей девочки возвращается в квартиру и видит: «Украшенная, вся в шариках и фонариках, бережно хранимых бабушкиных игрушках и новых модных игрушках, опутанная дождиком и замотанная в гирлянды, мигает елка цветными радостными огоньками в душистой полутьме. Лежа. В спальне, по диагонали, немым укором. Двенадцать дней лежала. Выплаканные глаза, непонятные эсэмэски, в туалет надо перелезать через кресло, кризис, курение в спальне — теперь еще и огнеопасное и оттого совсем уж обидное, — синяя крона, малиновый ствол, звяканье шишек зеленых».
Еще одно современное воплощение елочной темы можно найти в романе Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», вышедшем в 2016 году. Несмотря на то, что само описание праздника у Сальникова довольно традиционно, нас не покидает ощущение сна, в котором герои романа кружатся с нами в безумном хороводе вокруг огромной новогодней елки.
И, наконец, еще одну елку дарит нам Татьяна Толстая в эссе «Ночь феникса» (входит сборник «Оккервиль» 1999 года): «Тем временем елка украшена-переукрашена, наряжена-перенаряжена; в борьбе домашних минималистов с домашними максималистами победили, как всегда, максималисты. Еще давайте сюда этот изумрудный, обсыпанный стеклянным сахаром шар, а вот сюда еще темно-синий, со складчатой впадиной, а сюда серебряно-барбарисовые цепи, а вот тут пусть висит крошечный немецкий домик, с будто бы заснеженной крышей, с будто бы уютно горящим в ночи окошечком, а тут — кукольный чайничек. А чудный желтый шар разбился, какая жалость!!! А вниз мы повесим старые игрушки, самодельные, — они не такие нарядные, но ужасно милые: вот эту куколку, ватную, обсыпанную бертолетовой солью, сделала в 1948 году Елизавета Михална; кто помнит Елизавету Михалну? Мы не помним». И дальше: «Мы снова дети, никто нам не указ! Вали всё подряд: мандарины, золочёные орехи, шоколадные конфеты (растают от тепла, и пусть себе тают), дождь золотой, дождь серебряный, дождь витой и дождь струящийся, свечи и лампочки, и невозможные, выкопанные с самого дна коробок золочёные кукурузные початки (откуда это? не с хрущёвских ли времён?), и плоские, картонные, с оторванными ногами сталинские дед-морозы, больше похожие на пьяниц, и просто золотые шарики, наверченные праздными пальцами из конфетной фольги. Да о каком тут, к чёрту, вкусе может идти речь, — мы празднуем смену времён, мы провожаем Великий Год, мы обновляемся, мы возрождаемся, мы начнём новую жизнь с нуля, с начала, с чистого, белоснежного, снежного листа. Свобода!……»
*Линор Горалик признана иноагентом на территории РФ

Доказательств нет
— Придумала, — сказала Соня. — Мы должны пообещать друг другу, что та из нас, кто умрет первой, явится во сне другим и всё расскажет.
Они стояли у окна в коридоре. Снаружи таял снег. Соня терпеть не могла раннюю весну: всё вокруг перестает быть волшебным и становится просто грязным, а потом начинают цвести деревья и у нее появляется аллергия.
— Я не хочу, чтобы мне снились покойники, — возразила Ира. Почему она не могла понять очевидную вещь? Мы все умрем. Нужно ведь делать с этим что-нибудь, иначе как вообще жить?
— Это будет знакомый покойник, так что не страшно.
— Довольно страшно, — вздохнула Ира. — Извини.
Соня помнила, как это случилось: она сидит на полу перед телевизором, а мама говорит в коридоре с дядей Антоном. Соня слышит «Таня» и «умерла» и вспоминает, как тетя Таня подарила ей «Твикс» и зеленый камешек с берега Черного моря. Ладно камешек, но «Твикс» кажется особенно нелепым: как можно подарить кому-то «Твикс», а потом умереть? Орет реклама, Соня переключает канал и натыкается на несуществующий — просто серые полосы и тихое гудение. Эти полосы внезапно накладываются на тетю Таню и «Твикс», и Соня понимает: «Я тоже умру, и ничего не останется, как когда по телевизору ловишь несуществующий канал».
Взрослые пытались ее утешить, но получалось до безумия неубедительно. «С тобой это случится очень нескоро», — сказала мама, но Соня знала, что весна вместе с аллергией все равно регулярно наступает, как бы она ни хотела прыгнуть из зимы сразу в лето, и какая разница, скоро это случится или нет. «Мы просто об этом не думаем, — подмигнул папа. — И ты тоже не думай. Храбрый умирает один раз, а трус — тысячу, ты понимаешь». В другое время Соню оскорбило бы сравнение с трусом, но сейчас смерть была намного важнее. «Ты попадешь в рай, — пообещала бабушка. — И там будет очень хорошо». «Но почему ты так уверена, что рай существует, если никто никогда его не видел?» — возражала Соня. «Просто опыт. Чем дольше живу, тем лучше понимаю, что Бог есть». «Но чем можно заниматься в раю, если там ничего не происходит и у тебя даже тела нет?» «Мы не можем этого понять, Сонь. Нас ограничивает человеческий опыт. Но вот умрем — и сразу поймем, я в это верю».
В парке, куда они с бабушкой ходили гулять по выходным, стояла церковь. Внутри, глядя на высокий светлый потолок, думать о Боге было легко и приятно. Интересно, переживает ли Он, что в мире столько страданий? Или Ему это нужно, как писателю для сюжета? И нельзя, конечно, представлять Бога как старика с бородой — но ведь как-то Его нужно представлять, да? Было бы правильнее представлять Его как весь мир в целом — яблони, солнце, музыку Моцарта и книжки про приключения — но ведь тогда Он точно не поймет, почему Соня так боится смерти. В мире постоянно кто-то умирает.
Иногда незнакомые старушки шептали Соне, что она неправильно крестится или зря надела джинсы, а не юбку. Но если Бог создал весь мир и успевает еще и на молитвы отвечать, неужели Ему есть какое-то дело до того, кто как крестится? Все это мучительно не сходилось.
Нужны были доказательства, но с Богом важно было именно верить, и всё.
— Как насчет Деда Мороза? — спросила Наташа. Весна уже шла полным ходом, и Соня грустно шмыгнула носом.
— При чем тут он?
— Он существует, так? Оставляет детям подарки, хотя это физически невозможно.
— Блин. — Соня остановилась прямо посередине лужи. — Наташ, это же чудо.
— Да. Так что можешь не приходить ко мне во сне, если умрешь первой?
Соня вздохнула.
— Могу.
Все было отлично до следующей зимы. Соня, как обычно, написала Деду Морозу письмо: «Чтобы прекратились все войны и чтобы я никогда не умирала, а если это слишком сложно, то я обрадуюсь кораблику в бутылке». Кораблики в бутылке вообще были самым красивым, что Соня когда-либо видела, так что мама с бабушкой тоже решили подарить ей кораблик: Соня нашла его на полке с постельным бельем, но ничего не сказала.
Папа приехал утром тридцать первого декабря и тоже подарил ей кораблик — поменьше, чем мамин спрятанный, но зато изумрудно-зеленый. Соня уже придумала историю о целой флотилии кораблей и даже начала ее записывать.
А ночью Дед Мороз, как обычно, оставил под елкой подарок — прямо в полночь, пока Соня слушала бой курантов. Соня разорвала хрустящую розовую бумагу и замерла. Это был кораблик — тот самый, который она нашла на бельевой полке в шкафу. «Дед Мороз-то переплюнул твоего папу», — заметила бабушка. Соня медленно встала и пошла в туалет, стараясь не поворачиваться к ним с мамой лицом.
На следующий день бабушка сказала:
— Рассказывай, что случилось.
— Бога нет. Как и Деда Мороза! То есть, может, они и есть, но нет никаких доказательств, и как же тогда умирать?!
Бабушка налила им чаю, поставила на стол вчерашние пирожные.
— Ладно, Сонь, давай так. Та из нас, кто умрет первой, придет ко второй во сне и всё расскажет. Будет тебе доказательство, идёт?
— А если Бог не отпустит?
— А мы объясним, что это очень важно.
— Спасибо.
За окном падал снег. Их пластмассовая елка, если зажмуриться, напоминала настоящую.

За ранец
Первые два года жизни Маша была кабачком. Так говорил папа. Неудивительно, что Новый год 2005 и 2006 она совсем не помнила — кабачки не обладают феноменальной памятью.
Когда Маше исполнилось два года, Дед Мороз пришел к ней домой и напугал до смерти громким голосом и резким запахом.
В три года «добрый волшебник» жестоко обманул девочку в игре в стульчики: бежал вокруг ели, прилепив стульчик к попе. Весь сад смеялся над Машиным позором, а у нее в тот момент сформировалось глубинное убеждение: мир не-спра-вед-лив.
Годом позже последний подлец украл все подарки в детском саду. А еще содержимое родительских карманов. Мошенник скрылся в неизвестном направлении, пока дети водили хоровод со Снегуркой. Мама объясняла потом, что под маской Деда Мороза в сад прокрался самозванец, но Маша отнеслась к объяснению скептически. Она давно ждала от Деда чего-то подобного.
В пять лет под Новый год у Маши крутило живот от нервов. Зато на унитазе к ней пришла гениальная идея — переждать праздник в туалете. Только она успела подумать об этом, как дверь в кабинку распахнулась. Ну конечно, Дед Мороз! Сквозь белила на лице проступил румянец, но злодей не растерялся:
— Наконец-то я тебя нашел, внученька! С Новым годом!
— Я тебе не внученька. Закрой дверь, — прошипела девочка.
В шесть лет Машу уговорили дать Деду последний шанс. Она по своей наивности пошла с бабушкой на ёлку в ТЮЗ. «Он там работает и не будет хулиганить», говорили они… «Будет шикарный подарок», говорили они… Ну-ну. Старый самодур издевался над детьми: заставил отжиматься и приседать на скорость. Потом Маша забыла дурацкий стишок. А потом Дед назвал ее смелым мальчиком и подарил — ранец. Маша прошептала: «За ранец!» — и со всей силы дернула курчавую бороду. Дед Мороз пообещал, что больше к ней не придет.
Но он пришел. К последней елке в детском саду Маша готовилась, как к войне. Она решительно настроилась отомстить за все, что ей пришлось пережить. Во-первых, выучила назубок пять песен Илиады — посоветовала бабушка; во-вторых, уговорила маму взять в аренду костюм Бабы Яги; в-третьих, спрятала в карман лохмотьев папин электрошокер. Но все это не пригодилось. На фразе «Елочка, гори!» старика хватил удар.
Все дети плакали, и только Маша тихо улыбалась в сторонке. Наконец-то праздник удался.

И чтобы до потолка…
Это папа. Он предлагает сегодня «заколоть» денек в школе. Папа любит нарушать ход вещей, и составить ему в этом компанию — самое великое счастье. В прошлый раз, когда мы «закололи» школу, внезапно возник дневной «Евгений Онегин» в Большом. Билетов не было, но папа кого-то уговорил, и уже под волшебные звуки дуэта Татьяны и Ольги меня посадили в ложу бельэтажа. А в мае мы отправились на огромном тягаче в лесную чащу за ландышами, застряли в болотистой колее, но выбрались. Папа всегда устраивает чудеса, он может все, как настоящий Дед Мороз. Это продлится еще какое-то время, но недолго. Потом его не станет, и все изменится…
А пока — мы отправляемся за елкой. В лес. Я сама ее выберу, самую красивую, и чтобы до потолка. Надо только завернуть к лесникам за порубочным билетом. Это быстро.
Цвет неба — пронзительный синий. На высоком грузовике мы едем по искристому заснеженному полю, и лес вдалеке кажется смутной припорошенной стеной. Как будто заиндевел горизонт. После теплых хмурых дней и снегопада — солнце и мороз не меньше двадцати градусов.
По укатанной просеке забираемся поглубже в лес. Папа выключает мотор. Мы переобуваемся в валенки. Я спрыгиваю с высокой подножки тягача, и мы замираем, слушая тишину. Поскрипывают и как будто стонут, слегка покачиваясь, рыжие сосны. Вглядываемся в заросли, укрытые снежной маскировкой. В тени снег кажется синим — от небесно-голубого до кобальтового. В причудливом переплетении ветвей мы пытаемся отыскать то, ради чего приехали. Может, это она? Уходим с дороги, пробираемся по целине. Нет, дерево меньше, чем кажется издалека. Смотрим вокруг. Дальше стоит пушистая стайка — сразу несколько елочек. Ноги проваливаются в снег, он быстро набивается в валенки. Я снимаю варежки, пытаюсь вытащить его рукой из широких голенищ. Снег разлетается на легком ветру, посверкивая в воздухе. Но тот, что остался внутри, уже растаял и щекочет прохладой.
Вот она, стоит поодаль — ровная, статная, плотная и как будто даже искусственная. Когда топор врезается в залубеневший ствол, в морозном воздухе разносится запах хвои и смолы…
Когда елка установлена, папа первым делом достает из кладовки ящик, похожий на посылочный, только гораздо больше и выкрашен черной краской. В нем неподъемный трансформатор, куда включаются звезда для елочной верхушки и гирлянда лампочек. Из другого фанерного ящика мы извлекаем гирлянду и пытаемся ее размотать, но лампочки цепляются друг за друга, а провод слишком запутан. Вся эта иллюминация кустарная — ее сделал знакомый мастер. Такой больше ни у кого нет. Пятиконечная звезда с ножкой-основанием выпилена из красного плексигласа. Внутрь вставлены лампочки, как из карманного фонарика, а к ним припаяны проволоки, собранные в толстый провод. Лампочки гирлянды чуть крупнее, они неровно покрашены вручную в разные цвета: желтый, вишневый, синий, зеленый. Цоколь каждой лампочки с проводком обернут изоляционной лентой. Когда гирлянду разматывают или сворачивают, лампочки, соприкасаясь, издают полый чмокающий звук, почти как медицинские банки, когда их снимают с твоей спины.
В новогоднюю ночь, чтобы дождаться подарков, надо открыть для Деда Мороза форточку — левую, на эркере, рядом с зажженной елкой. Мамины просьбы кажутся странными: то руки помыть, то ножницы принести из кухни. Мы с братом не спорим, знаем — родители хитрят, но подыгрываем им, как будто надеемся сохранить остатки зыбкого волшебства. Стараясь не отвлекаться и не упустить главное, мы забираемся с ногами на старенький желто-зеленый диванчик — я кладу голову на жесткий округлый подлокотник и начинаю изо всех сил ждать. Свет в гостиной погашен, горит только елка: гирлянда и звезда. Я не спускаю глаз с приоткрытой форточки и, конечно же, всякий раз засыпаю. Брат, очевидно, тоже отключается. Когда мы приходим в себя, под елкой, помимо ватного Деда Мороза, виднеются коробки и два слюдяных мешочка с конфетами и мандаринами. В дальнем углу за всем этим богатством едва просматривается черный ящик трансформатора.
Это мой сын. Ему еще нет шести. Мы тащим домой елку. Он гордо шагает чуть позади, ухватив ее за бечевку ближе к макушке — толстая часть досталась мне. В своей кроличьей шубке, подпоясанный тонким ремешком, с поднятым воротником, подвязанным шарфом, он как мальчишка с военной фотографии.
Аромат хвои и смолы побеждает привычные городские запахи. На улице темно и морозно. По дороге из детского сада, заглянув на новогодний базар, мы купили самую красивую елку. Она пушистая, с ровными ветками, и будет, как в детстве, под потолок. Нести тяжело. И идти тяжело: снега навалило по-зимнему, по-декабрьски, тротуары никто не чистит, все пробираются по узенькой утоптанной дорожке между высокими сугробами. Мы часто останавливаемся — отдышаться. Кто-то нас обгоняет, провалившись ногой в глубокий снег, оглядывается. Соседям у подъезда мы объясняем — папа в командировке, а елка уж больно хороша. Вдруг ее завтра не будет? Наконец, мы вызываем лифт, и тут мои затаенные сомнения подтверждаются — дерево не помещается в грузовой, как его ни крути. На шестнадцатый этаж по лестнице его не поднять, это не первый и не третий, как когда-то. Как же я не подумала? Надо срочно найти пилу… Или топор? Может быть, попросить соседей? У нас хорошие соседи… Они помогут… Мы обязательно что-нибудь придумаем…

Как я снегурила
Да-да, был грех.
Середина 90-х. Студенческая сессия ещё впереди, денег нет, мозгов тоже. В первую неделю нового года сдавать зачёт по латыни, в памяти лишь «Нон поссум дикере кваре» и ошмётки стишат Марциала. Надо бы сесть и нырнуть в глаголы. Лаборэ — лаборарэ…
А тут Гоша с актёрского звонит с предложением, от которого невозможно отказаться. Как раз по поводу «лаборарэ».
— В общем, моя Снегурь рожает. Прямо сейчас. Подождать не могла неделю. Самый же чёс! Ну не дура ли!
— Дистиллированная дура… — соглашаюсь я. — Могла бы и правда подождать недельку: Снегурка с животом на детском празднике — самый артхаус. Кустурица с Альмодоваром бы обзавидовались.
Гоша хрюкнул в трубку, заявил, что Снегурь ещё вчера была в строю, и празднику это ну ни капелюшечки не мешало.
Я поломалась для проформы (латинские глаголы обязывали) и на этот блуд согласилась. Деньги были нужны ну прямо очень. Гоша озвучил диспозицию: шесть квартир в Рыбацком плюс садик на Пролетарской. Садик, ясенпень, с утра. Начинать прямо завтра. Один нюанс: песни петь у Ёлочки он ни за какие деньги не будет. Принцип. Еврейская гордость.
— Без песен, так без песен, — согласилась я.
Костюмчик с беременного экс-снегуркина плеча сидел на мне плохо. К слову, там такая душегрея колоколом а-ля Васнецов, не то что живота, человека в ней не сразу найдёшь.
— Ты клёвая в этом ватничке, — сказал Гоша и сделал влюблённые глаза. Их так учили на актёрском — для мотивации партнёра по перформансу.
В садике не наливали. Это оказался единственный плюс. Дети были отвратительны. Гоша пообещал одному мальчику начистить рыло, когда тому исполнится хотя бы десять. Мальчик ответил, что когда ему исполнится десять, он сам отдубасит Дедмороза, а что сделает со Снегуркой, пока не знает, но к десяти годам точно будет знать.
В общем, начало чёса было бодряще, но деньги заплатили сразу. Была мысль сбежать, но Гоша цепко держал меня за запястье: впереди маячили квартиры в Рыбацком.
В первых двух были милые чистенькие девочки. Всё прошло по сценарию (хотя сценария у нас никакого и не было): стишки, загадки, подарки. Гоша честно отказывался от предложенной водки. Я им гордилась.
А в третьей квартире жила большая армянская семья. Водки не было, но был, отгадайтеспервогораза, армянский коньяк. Дед Мороз не хотел обидеть отца семейства, ереванскую диаспору, Акопяна, Сарояна и Джигарханяна и немно-о-ожечко пригубил. Насколько немножечко, я поняла в четвёртой квартире.
Гоша перепутал текст, но выкрутился, прочитав что-то из Саши Чёрного. Имел успех. Такой, что мой выход не понадобился.
Перед дверью в пятую квартиру по икоте Гоши я поняла, что сценарий придется изменить. Я барабанила текст, Дед Мороз стоял столбом, и лишь, когда я с силой стукнула кулаком ему по спине, согнулся к мешку и вынул подарки. Дети были в восторге, лазили по нему, и я боялась, что они Дедушку уронят.
А в шестой квартире произошел такой сюжет: мой Дед просто не вышел из ванны, куда завернул по пути в комнату, потому как к детям «надо с чистыми руками». Я поняла, что тянуть роль мне придётся самой, а без Дедмороза, пусть даже истукана, сложновато. Но на войне как на войне! Я запустила стартовую фразу «А что у нас за праздник наступает?» и наткнулась на злые детские глаза. Внутренний голос, сволочь, шептал, что глаза эти мне будут сниться долго по четным и нечетным дням.
Отбарабанив всё, что полагалось, и не наткнувшись на теплоту и человеческое понимание, я замолчала.
— А где Дед Мороз? — спросил злобный мальчуган.
Врать про то, что там сани задержались, подарков детишкам разносить много и гнать прочую пургу почему-то не хотелось. Выручила злобная сестричка.
— Я знаю. Он в нашей ванной. Блюёт.
Мальчик сощурил глаза, и мне показалось, что он творит проклятия.
— А давайте его в унитаз спустим!
Я представила, как вместо сакрального каминного дымохода мой Дед, кружась в водовороте, исчезает в унитазе, и испытала к Гоше нежную эмпатию.
Взрослые молчали. Взгляд у них был чуть менее зловещ, чем у детей, но, в общем, тоже неласков. Дети вооружились лопатками и направились в ванную.
Я, честное слово, не знаю, чем бы всё это закончилось, но вдруг из ванной донеслось:
— Не надо дети. Я вам лучше спою.
И Гоша запел «Посвящение Карузо». Пел он невероятно фальшиво, но восхитительно душевно.
— Пусть живёт, — сказала девочка.
Дети без энтузиазма порвали фольгу на подарках, с кислыми минами повертели в руках, что там кому полагалось, и пошли смотреть мультики.
Гоша же остановиться не мог. «Карузо» он пел на лестнице, в такси, в квартире на Моховой, которую он снимал с двумя другими товарищами. Во сне, по словам товарищей, он тоже пел.
А наутро позвонил мне и сиплым голосом сказал:
— Я так виноват! Прости меня. Ну как мне загладить свою вину? Хочешь, гонорар тебе вчерашний отдам?
— Не хочу, — буркнула я.
— Тогда я тебе спою, — сказал Гоша и затянул «Карузо».
К слову, больше я не снегурила. Но как только вижу сладкую парочку Дед-Снегурка, у меня неизменно включается в башке саундтрек:
Qui dove il mare luccica,
e tira forte il vento…

Подарок
Накануне позвонил брат с вопросом, что хочу на Новый год. Он никогда не мог придумать мне подарок, как и я ему, впрочем. И в результате в последние годы мы дежурно созваниваемся в декабре, говорим друг другу что-то вроде «ой, да брось, ничего не надо» или «слушай, денег как-то впритык, давай в этот раз без подарков, да?» и успокаиваемся.
После звонка я вспомнила, что и в нашем детстве с этим было так себе. Ёлки как таковой никогда не было. Я с самого начала знала, что чудес не существует. И все эти подмигивания взрослых и намеки на метафизические подарки на меня никогда не производили большого впечатления.
А теперь даже немножко жаль, что не было никакой такой ёлки: с расплывающимся гирляндочным обмороком и холодными руками Снегурочки, как в «Петровых в гриппе». Даже нечего вспомнить и рассказать — всё было обычное, изначально не сказочное. Может, это у всех так было в девяностые, а может, это я с самого горшка росла сильно приземленная и бородатым дедам (каждый год с голосом воспитательницы Елены Витальевны), раздающим дары хорошим мальчикам и девочкам, никогда не верила.
Я знала, что мне подарят пакет сладостей с загадочным названием «от профсоюза», что все взрослые семьи придирчиво осмотрят содержимое (Что в этом году положили? Как-то маловато, пожадничали! А денег-то содрали! Небось своим самое вкусное забрали) и обязательно потребуют делиться. Младший брат потянется за своей долей, и придется во избежание скандала и осуждения взрослых отдать ему сколько-то конфет. Сладости оберегать я не стану, и к 3 января с новогодним чудом от профсоюза будет покончено. Брат же как рачительный трехлетний хозяин сбережет свое конфетное имущество и потом со сладострастием будет меня дразнить, вытаскивая свой пакет откуда-то из темного угла в вечерний сеанс перед телевизором и с наслаждением шурша блестящими обёртками, медленно-медленно поедая в голубом отсвете экрана самые вкусные, шоколадные, выпучивая на меня искоса свои большие глаза: давай, дескать, проси, ну! У брата-то, наверное, ёлочные воспоминания получились что надо: шоколадно-барбарисовое счастье, ирисово-кис-кисовое веселье и настроение победителя.
Но моя память хранит другое — то, чего у брата никогда не было.
Дед. Был дед. Он смеялся, щекотал до слез и иногда играл на баяне. Громко сморкался прямо на землю или в эмалированный таз под умывальником, придерживая пальцами ноздри попеременно. И неизменно получал за это уже давно беззлобные, дежурные выговоры от бабушки.
— Куда? Иди сморкай на улицу! Вот, вышла за Грязнова, всю жизнь в грязи живу, а мама говорила… — ворчала она.
— Да пошла ты, Миля, — почти любовно отвечал дедушка и с наслаждением вытирал пальцы о штаны.
Дымил зимой с самодельным мундштуком в печку (бабушка всегда бухтела где-то на периферии), потом вытряхивал остатки табака в банку, а потом крутил его в самокрутки из желтой бумаги районной газеты «Звезда». Этот процесс меня завораживал, и я тогда страстно просила деда и меня научить этому искусству скручивания, а бабушка хваталась за сердце.
Дед называл собак «кычко», а кошек «кысками», шаркал по дому в обрезанных валяных ботах и звал их почему-то «коты» (или «каты»?). Летом он строил лодки и иногда давал мне помогать ему их смолить, если бабушка не видела. Брал меня с собой на рыбалку, и мы сосредоточенно молчали по несколько часов, и было это так хорошо и понятно. Выпивши, дед всегда хотел меня баловать. Завидев меня, он смешно подманивал к себе большим узловатым пальцем и, озираясь (нет ли рядом Мили?), доставал из кармана пряник или леденец. Они всегда были липкие, густо покрытые мелкой махоркой. Но вкусные очень.
Перед праздником дед приносил домой ёлку из леса. Это сразу все узнавали по запаху и бежали в прихожую. Первее всех была бесхвостая кошка Соня, мы с тобой ее очень любили. Она с умилявшей всех осторожностью обнюхивала пришельца. Бабушка спрашивала что-то про билет из сельсовета, дед кивал. Елка была замерзшая и подтаивала, от тонкого ствола натекала лужа. Сонька получала мокрой лапой по носу, брезгливо морщилась, отворачивалась и с самодовольной мордой возвращалась к печке. Дед надсадно смеялся и тянулся в карман за «Примой». Он ужасно кашлял, но бросить курить не мог. Он перекуривал у печки, а потом приносил с чердака потрепанных ватных Мороза и Снегурочку. И торжественно ставил их под елку, шутливо дергая нас за носы холодными пальцами.
Однажды дед пошел курить и упал в коридоре. Его нашли через полчаса, деревенский фельдшер только развела руками. Дед впал в беспамятство, прожил еще две недели и умер в ноябре. Я помню, какие у нас с тобой, брат, были красные лица на его похоронах, и как от твоих горячих от слез диатезных щек на морозе шел пар. Ты был совсем маленький, но так же безутешно плакал, как и все остальные.
Вот что я могу подарить тебе на Новый год — не какого-то мифического деда из детства, а настоящего, нашего, с его вечным куревом, трехэтажным матом и сморканьем прямо с ноздри. С его потрясающими пряниками с махоркой в карманах. Деда, кстати, тоже звали Сашей. В честь него тебя и назвали.
А еще у нас с тобой прабабка была. Анюта. Нянчила тебя в колыбельке. Хочешь, в следующем году я тебе её под ёлку положу?

Послушали
Середина семидесятых годов. Ленинский район. Новосибирск. Затон. Дело перед Новым годом. Идем от родителей со старшим братом и его женой к ним в гости. Брат на плече несет елку, которую он купил у знакомого магазинного грузчика. А они снимают домик в частном секторе. Легкий снежок кружится и падает на елку, на щеки, тут же тает и стекает. Как будто кто-то ласково щекочет тебя. У брата много пластинок, вот и решили повеселиться у них. И конечно, нарядить елку. Без нее какой же праздник! Навстречу два мужика.
— Во! — говорю брату. — Как у тебя радиолу несут.
— Хорошая вещь! — отзывается брат.
Приходим к ним. Жена брата бросается, ставит елк, накрывать стол, а его просит включить радиолу. Тишина.
— Да когда же ты включишь музыку? Сломалась что ли?
На пороге появляется брат.
— Радиолы нету.
Ну, что же! Наряжаем елку без музыки. Телевизора у них не было.

Рыба фиш
— Ну мам!
— Ни за что.
— Ну мам?
— Даже не думай.
Она сидит на кухне с сигаретой — незыблемая и категоричная.
— Прабаб Валя делала рыбу, бабушка Света делала рыбу! Какой же Новый год без рыбы? Я, считай, почти четыре часа летела только ради неё.
Она крепко затягивается, сбивает пепел. Я слышу как в гостиной, в «большой комнате», собака Мотя терзает резиновую игрушку.
— Будет оливье и холодец, мало тебе?
— Это не то, — отмахиваюсь я. — На столе должна быть гефилте фиш. Без неё Новый год — не новый.
— Вот сама с ней и разбирайся, с рыбой той.
Я сажусь напротив, беру в руки пачку, кладу обратно на стол. Обычно мы курим вместе — молчаливый пакт, но сейчас мы определенно не в согласии.
— Ты ведь в курсе, что вершина моих кулинарных талантов — это отбивная?
Она вздыхает:
— Знаешь, сколько с этой рыбой нужно мудохаться?
Я качаю головой.
— М-м.
— Сначала нужно добыть щуку…
— Так а в чем проблема? Полный базар щук.
— Мать послушай. — Она резко, почти царственно меня обрывает. — Щуку нужно добыть, толстую, здоровенную. Почистить, снять с неё шкурку, целиком, «чулочком», чтобы ни одного изъяна. Кости часа два пинцетом выбирать, они мелкие такие, вредные. Потом из этого сделать фарш — с булочкой, маслом, луком и морковкой. Запихать фарш обратно в шкуру, чтоб не порвалась не дай бог, и потом ещё плясать вокруг неё полдня, пока тушится, песни петь, уговаривать. Оно тебе надо? Мне оно не надо.
— А как же старая ашкеназская мудрость: не задолбался — не молодец?
— Вот ты и долбайся. Я за свои почти семь десятков лет уже отработала все повинности. Хочешь рыбу? В ресторане закажу.
Мне на это сказать нечего. Рыбу я хочу до дрожи. Сколько себя помню, у нас всегда на праздничном столе стояла рыба: на самом торжественном, в половину столешницы, блюде c ободочком. И петрушкой из щучьей пасти. Ёлка, «дождик», пара старых, советских ещё игрушек, заботливо завернутых в бумагу… Их помнит мама — как они с дедушкой вешали. Она до сих пор каждый день его помнит. И я тоже.
И рыба на столе, огромная, красивая. Только после полуночи, когда пережили уже старый год, когда уже можно.
— Ладно, — говорю я, — в ресторане закажем. Только мам?
— Ну?
— Ты правда расскажешь, как делать рыбу фиш? Серьезно, с подробностями. И как лук жарить, и в духовке под каким градусом. И про фарш, про фарш обязательно. Через мясорубку? Руками? В блендере?
Она смотрит на меня с подозрением, и я её понимаю. Где имение, а где наводнение. То есть я и готовка.
— Ты что, сама делать будешь?
— Буду. — Я недолго молчу. — Но не сейчас, конечно.
Я молчу и думаю о дедушке: о том, как он обожал щучью голову. Я думаю о том, как прабабушка Маня, должно быть, сутками колотилась вокруг плиты, чтобы накормить всю семью. Как то же самое делала пра-пра-баб Йоха, Йохевед — от мала до велика, под тридцать человек. Из которых после войны остались лишь несколько. И баба Геня, и баба Циля. Они видели всё самое худшее, и тем не менее каждый Новый год днями танцевали с рыбой. Потому что рыба — это любовь. А чем больше задолбался, тем больше любовь.
— Не сейчас, — добавляю я. — Но на следующий год — обязательно. С булочкой.

Сестра, утку!
1 декабря
Мой мир — больничная палата. Четыре метра на четыре. Серые стены, обваливающийся потолок, мутное окно во двор. Каждое утро начинается одинаково:
— Сестра, утку! Спасибо, дальше я сам.
Все предсказуемо.
Сегодня у нас дежурит новенькая. Крупная, щекастая. Сказала, что зовут Надей. Суетилась, разбила банку со спиртом, с трудом попала в вену, много разговаривала. Спорю, долго не продержится, сбежит. От меня все сбегают.
Приходили из благотворительного фонда, диагностику проводили, написали что-то на бумажке, проверили, могу ли я читать. Могу, конечно, я же в школе отличником был. Пообещали после Нового года прислать компьютер с голосовым управлением. Как раз для меня. Жду вот теперь.
7 декабря
Уже неделя прошла, а новая медсестра все еще работает. Неужели не испугалась? Слышал, как она по телефону говорила, что-то про клятву Гиппократа. Еще родители позвонили. Хотят на Новый год подарок привезти. Выполнить родительский долг, так сказать.
24 декабря
Через неделю Новый год. Сейчас бы лечь на ковер под елкой, мандарины лопать и смотреть, как лампочки мигают сквозь иголки. Только здесь у меня ни мандаринов, ни елки.
Заезжала бывшая жена, передавала привет от сына и бывшей тещи. Сын приехать не смог. У него жизнь — соревнования, сборы. Дала слово навестить после праздников вместе.
Вечером звонили ребята из команды по регби, приглашали на отборочный. Они скоро в Германию собираются на чемпионат, сказали, чтоб я не кис, мол, найдут мне врача за границей.
25 декабря
Опять снился кошмар — страшная черная дыра, в которую я падаю и уцепиться не за что. Каждый раз, когда снится что-то подобное, мне становится хуже. Проснулся и до утра лежал, представлял себя в той, прошлой жизни, три года назад. Полшестого утра, я еду на очередную тренировку, стою на остановке, укрываюсь от вьюги под козырьком. Через пять минут приходит трамвай, я сажусь, пятьдесят минут трясусь в холодном вагоне, заглядывая в украшенные окна жилых домов, схожу на конечной и мимо катка иду до кофейни. Симпатичная бариста спрашивает меня:
— Как всегда чёрный, без сахара?
Я киваю и думаю, а что, если вместо кофе взять молочный коктейль в следующий раз, вот она удивится, а я небрежно пожму плечами, что такого — в снежную погоду всегда пью молочный коктейль.
28 декабря
Сегодня Надя появилась не одна, привела парикмахера. Поставила зеркало на подоконник и подкатила меня к нему. Встала сбоку и смотрела, пока меня брили. На что смотреть-то? Обычное лицо, хмурое, улыбаюсь я теперь нечасто. До болезни как-то больше улыбался. А теперь лысый и злой.
29 декабря
Надя опоздала на работу на час, я испугался, что она больше не придёт. Но нет, пришла, волосы в снегу, а в руках елка, небольшая, пушистая.
— Меня, — говорит, — на машине сюда подвезли, а по дороге мы елку на базаре купили. Красивая? — и смотрит на меня так радостно. — Нравится, Саша?
— Красивая, — говорю. — Только у меня игрушек нет и подставки.
— Это ничего, мы ее в ведро поставим. А вместо игрушек лампочки повесим, так тоже хорошо. Празднично.
30 декабря
Мечтать в канун Нового года очень даже можно. Вот я давно хотел на Индигирку съездить, чтобы только я и стихия. Еще я всегда хотел собаку. Большую, мохнатую. Гулять с ней. Рассказал на днях Наде, она промолчала, а сегодня привела на поводке ретривера и ходила с ним по отделению, во все комнаты зашла. Собака обученная оказалась. Как раз с такими как мы, колясочниками, работает. Надя обещала, что собака будет приходить каждый месяц.
31 декабря
С самого утра хочется делать глупости. Сбежать из больницы, поселиться в лесу, чтобы меня все искали, а в газете дали объявление: пропал человек. Когда-нибудь, когда от болезни двигательного нейрона будет придумано лекарство, я так обязательно и сделаю, а пока спасибо, что печатать могу одним пальцем, и да:
— Надя, утку!

Хомяк, кот, дедушка и ёлка
Шел очередной обжористый день долгих новогодних праздников. Не помню, что мы ели, но точно не холодец. Потому что холодец спёрли. Выяснилось это так. Бабушка послала дедушку на веранду, где хранились недоеденные блюда с новогоднего стола, не влезшие в холодильник, за «последней мисочкой холодца». Дед, страдавший похмельем все эти дни, медленно встал с дивана и обреченно побрёл на веранду. Пару минут его не было. Потом он зашёл на кухню, где гремела тарелками бабушка, и робко спросил:
— А где?
— Что где?
— Холодец где?
— Где-где, ответила бы тебе в рифму, да при внучке не буду! На столе на веранде, где же ещё!
— Нету там.
— А ты зенки свои залитые разуй и увидишь.
Дед вздохнул и побрёл обратно. Теперь его не было чуть дольше. Но вернулся он снова с пустыми руками и упрямо пробубнил:
— Нету там.
— Да как нету-то?! Ты совсем допился, старый? Я-то знаю, что сделала четыре миски, три съели, одна осталась, последняя. Салатничек мой хрустальный любимый. Я помню, как позавчера вынесла его на веранду. Так что иди и ищи! А не то как тресну тебе!
Бабушка замахнулась поварешкой. Дед ретировался. Минут через десять он вошёл и с порога твёрдо заявил:
— Нету его там! Коли не веришь — иди сама ищи, ведьма старая.
— Ну ты сейчас у меня получишь! — Бабушка ринулась следом за ним на веранду, сжимая поварешку. Оттуда долго доносились ругательства и грохот переставляемых вещей, и, наконец, они вернулись: изумлённая бабушка и торжествующий дед.
— И правда нету! Спёрли, ебить твою мать! Вместе с салатничком моим хрустальным!
Тут надо пояснить, как такое могло произойти: входная дверь в дом почти никогда не запиралась. Заходя, ты сначала попадал в коридор, ведущий на веранду и в кладовку, а в жилые помещения вела отдельная дверь. Кто-то тихонько проник на веранду и спер салатник с холодцом. Может, ряженые. Бродили тут недавно.
Бабушка, впрочем, быстро отвлеклась: по телевизору стали показывать душевный русский фильм «Всё будет хорошо». Сели в зале за стол перед телевизором: я, бабушка, дедушка и их младшая дочь, моя тётушка Юлия. Еды и без холодца было море. Дед, воспользовавшись тем, что противник отвлекся, быстро употребил чекушечку и уснул на диване. Слева от дивана стояла ёлка: мощная, до потолка, с щетинистой хвоей, которую потом предстояло выметать до марта. Старые советские игрушки тоже выглядели угрожающе: огромные шары, под чьей тяжестью гнулись ветки, зайцы и лисички на зубастых прищепках, с облупившимися мордами. Внизу стояли помятые пластмассовые Дед Мороз и Снегурка в окружении несвежей серой ваты.
Внезапно тихую семейную идиллию нарушил страшный грохот в маленькой комнате. Все (кроме деда) кинулись туда. Навстречу нам с шипением вылетело мохнатое лупоглазое нечто.
Оказывается, старый здоровенный котяра Кеша воспользовался моментом и напал на клетку с хомяком, принадлежавшим тётушке Юлии. Клетка валялась на полу, открытая и пустая, а Кеша с шипением удрал. При виде этой картины юная тётушка забилась в истерике и завыла: «Он сожрал Жеку! Мама, он моего Жеку сожрал!»
От душераздирающих воплей проснулся дедушка. Он, видимо, подумал, что случилась какая-то ужасная катастрофа, вскочил с дивана и хотел бежать на помощь. Да вот беда, спросонья и после чекушечки он рванул не направо, в сторону двери, а почему-то налево, где стояла та самая ёлка. Дед на полном ходу врезался в ёлку, она страшно зашаталась, потом рухнула вниз и погребла его под собой. От нового оглушительного грохота из-под дедушкиного дивана вылетел окончательно ошалевший Кеша и умчался в неизвестном направлении.
Бабушка, охая и причитая, кинулась освобождать дедушку из ёлочного плена. Он лежал на спине, был бледен и настолько потрясен, что мог лишь бормотать что-то бессвязное. «Воды ему срочно!» — крикнула мне бабушка, и я мигом принесла из кухни ковшик с водой. Среди осколков игрушек и хвои, как санитарка в окопе, бабушка бережно напоила дедушку водой, а он все бормотал что-то жалобно и хватался за сердце. Тут взгляд бабушки упал на испуганно замершую в углу дочь. «Ты своими воплями отца в гроб вгонишь! Посмотри, что ты натворила! У него сердечный приступ! Отцеубийца!» — гневно завопила бабушка. «Чтооо?! — взвилась дочь. — Да вы меня совсем не любите, я вам не нужна! Все, я ухожу!» Она накинула куртку и выбежала вон. Как потом оказалось, рыдала в дровяном сарае.
Не переживайте, у этой истории позитивный конец. Дед вскоре пришёл в себя, бабушка вернула из сарая обиженную дочь, ёлку поставили на место, осколки убрали и снова сели за стол, чтобы перевести дух. И тут, когда никто не ждал, из оставшегося невредимым ватного сугроба у подножия роковой ёлки преспокойно выполз хомяк Жека. Живой и здоровый. Так что невинного Кешу вскоре реабилитировали.
С тех пор прошло много лет. Уже нет в живых ни Жеки, ни Кеши, ни моих бабушки и дедушки. Но мы в семейном кругу на Новый год любим вспоминать эту историю и смотреть фильм с жизнеутверждающим названием «Всё будет хорошо». А ёлка у нас давно искусственная. Маленькая и лёгкая.

Алиса
Вечером супруги Крыловы поссорились. Я знаю об этом потому, что Алиса Крылова пришла ко мне ночевать — впервые за двадцать восемь лет дружбы. Она кружила по кухне и переставляла случайным образом чашки, тарелки и упаковки с чаем. Разлад произошел из-за рекламного листка, который Олег Крылов обнаружил в почтовом ящике — это было приглашение на выставку фотографий, посвященных Алисе. Поскольку моя подруга никогда не была моделью, Олег нашел единственное объяснение такому происшествию: жена ему изменяет, фотографии на выставке — интимного характера, а приглашение — это изысканный способ сообщить об интрижке. Алису, только вернувшуюся домой после рабочего дня и очередной генеральной уборки у матери, подобные подозрения не обидели, а по-настоящему взбесили. Не привыкшая к ссорам, а значит, не умеющая мириться, она хлопнула дверью и уехала ко мне.
Все это я поняла из сбивчивого рассказа Алисы, которую бросало от обвинений супруга в недоверии и сожалений о собственной вспыльчивости до спутанных размышлений о загадочной выставке. Я хотела посмотреть на листовку, но Алиса в пылу чувств оставила ее дома, запомнив, однако, имя фотографа: Константин Данилевский. Мы сразу залезли в интернет и выяснили самую малость: мужчина много лет фотографировал дикую природу для журналов, и на его счету несколько самостоятельно организованных выставок, прошедших без ажиотажа. Никакой личной информации мы не нашли, и, расстроенные и взбудораженные одновременно, собрались спать, когда раздался звонок в дверь: Олег приехал за женой. Разбитый, будто стекший вниз, расплавленный жаром их ссоры, он молчал, не зная, как извиниться перед женой. Я вмешалась: «Послушайте, давайте вместе посетим выставку. Познакомимся с фотографом и убедимся, что это глупое недоразумение. А теперь кыш отсюда». Крыловы уехали, а я долго сидела на кухне с сигаретой, рассматривая в дыме образы прошлого. Мы с Алисой дружили с первого курса журфака — обе тогда мечтали вести журналистские расследования. Сбегали с пар, чтобы уехать на другой конец города ради интервью с очевидцами происшествий, несмотря на истерики мамы Алисы — «Я волнуюсь, ты меня убиваешь, останешься полной сиротой» — мы врали и выкручивались, лишь бы найти интересный материал. Где мы теперь? Я веду колонку об «удивительных москвичах» в газете, название которой никто не может запомнить, и удивительно в моих статьях лишь то, что кто-то дочитывает их до конца. Алиса устроилась чуть лучше: она заместитель главного редактора, но получить заветное повышение не может уже восемь лет. Ни одного мало-мальски интересного репортажа за все время, и вот: загадка!
Совместный поход на выставку состоялся только через пять дней после ссоры, в субботу. Каждый вечер Алиса звонила и предлагала все новые варианты, кто же является ее тайным поклонником. Мы единодушно пришли к выводу, что автор фотографий — это влюбленный в нее мужчина, который не рискнул с ней знакомиться, зная, что она замужем, но все же решил продемонстрировать свои чувства таким романтичным способом. Если в первый вечер Алиса больше рассуждала о том, как это жутко, что за ней следят, и собиралась писать заявление в полицию, то к моменту посещения выставки она почти прониклась к фотографу симпатией. Олег, однако, подобной трансформации сознания не пережил и всю дорогу до выставочного зала напряженно молчал, то и дело смыкая и раскрывая толстые губы. Любопытство Алисы казалось ему чрезмерным и только усиливало подозрения. Он даже буркнул мне на ухо: «Лучше было вообще забыть про эту чертову выставку». Пока мы туда добирались, я на секунду согласилась с ним, потому что на путь ушли добрых два часа: зал находился, как любила говорить моя бабушка, у черта на куличиках, на территории бывшего завода, и соседствовал с новомодными студиями для фотосъемок. «Слушала бы свою маму, — все ворчал Олег, — она тоже против этой затеи».
Кто бы чего ни ждал от выставки, мы трое ахнули, как только туда вошли. Центральная работа, помещенная в массивную черную раму, называлась «Ожидание». Кадр был простым: девушка, одетая скромно и не по погоде, сидит на автобусной остановке. Не было никаких сомнений, что это Алиса, только гораздо моложе: подпись указывала на 2001 год. Двадцать лет назад! Неужели слежка была такой долгой? Мы ходили от фотографии к фотографии, пытаясь найти в них систему, но ничего не сходилось. За какие-то годы не было ни одного снимка, за другие — целая серия. «Это был обычный день, и это тоже, совсем непримечательная дата», — приговаривала Алиса. Только у одного снимка она разулыбалась, притянула к себе мужа и сказала: «Олежа, помнишь этот день? Тот самый голубой костюм!» Олег морщился и продолжал чмокать губами. «Костюм как костюм. Что особенного?» Алиса остановилась, нахмурившись: «Тогда девчонка с моей первой работы проговорилась, что меня хотят премировать на новогоднем празднике как лучшего работника. Я хотела выглядеть идеально и набрала долгов на этот костюм, а премия их не покрыла. Это было так важно». На фотографии Алиса, яркая, молодая и счастливая, выходила из метро в распахнутом пальто, несмотря на летящий снег. «Ты здесь очень красивая», — сказала я. «Да, очень мне это нравится, — зашипел Олег, — как на мою красивую жену пялятся незнакомые люди». Я не стала отвечать, что на выставке, кроме нас, было всего трое молодых ребят, пришедших сюда скоротать время: они слонялись между фотографиями, ни у одной не задерживаясь. Гораздо больший интерес вызывала смотрительница, которая явно узнала Алису и не спускала с нашей маленькой группы глаз.
Досмотрев выставку, мы подошли к ней и спросили, не знакома ли она с фотографом. Женщина оживилась — выпятила объемную грудь, откашлялась и ответила:
— Так это же. Помер, говорят, пару месяцев назад. Выставка посмертная.
Я растерянно оглянулась на Алису с Олегом и увидела, как по-разному меняются их лица: губы Олега непроизвольно сложились в ухмылку, а у Алисы они, наоборот, затряслись, как перед плачем.
— Ну и бог с ним, — быстро сказал Олег. — Значит, больше не будет фотографировать. Нам такое счастье не нужно. Мы люди простые.
И, ухватив жену за руку, он направился к выходу.
…Хотя автор фотографий ушел из жизни, а выставка должна была проработать только три недели, она плотно засела у нас с Алисой в головах. Нераскрытая тайна мучила обеих. В один вечер Алиса пришла в гости и, отказавшись от привычного чая, поставила на стол бутылку рислинга.
— Вот скажи мне, — заговорила она, — что, по-твоему, больше любовь: если человек тебя двадцать лет боготворит, но не подходит, или если он о тебе заботится, но ни одного ласкового слова не скажет?
Обвинения Олега в неласковости показались мне преувеличенными. С институтских времен все девчонки с завистью смотрели на Алису, которую Олег опекал, как маленького ребенка — мы даже шутили, что он заменил ей погибшего до ее рождения отца. Я напомнила Алисе о том, как муж навещал ее каждый день в больнице — по два часа в дороге туда и обратно — но подруга лишь покачала головой.
— Так это забота, — сказала она. — Разве любовь и забота — это одно и то же? Есть же страсть, искра, обожание какое-то. Сумасшествие. Химия.
Алиса выдержала долгую паузу. Пальцами, чуть мокрыми от холодного бокала, она складывала пополам золотую обертку от конфеты.
— Знаешь, что страшно? — сказала, наконец, она. — Что я четверть века в счастливом браке. Но вот мне почти пятьдесят лет, а я так и не поняла, что такое любовь.
— Так даже если любви нет, а брак счастливый — имеет ли это значение? — возразила я.
В ответ Алиса лишь тряхнула головой, будто сбрасывая с себя назойливую мысль. И вдруг вскочила, убежала в прихожую к своему утепленному пальто и вернулась с зажатой в руке бумажкой, на которой размашисто был написан телефонный номер — «Аркадий». На мой вопросительный взгляд Алиса быстро объяснила, что втайне от мужа посетила выставку еще раз и разговорилась со смотрительницей, которая поделилась номером организатора. «Но вы не первая, кто интересуется этим фотографом, — сообщила смотрительница. — Недавно здесь была женщина, сильно старше вас, тоже расспрашивала и взяла номер, а потом, клянусь, расплакалась и разорвала листок».
— Слежка, умерший фотограф, еще одна женщина, — говорила Алиса. — И я в центре всего этого. Мы обязаны распутать клубок.
Глядя на подругу, я вдруг узнала в ней юную девочку, сбегавшую из дома ради своих расследований. Несмотря на позднее время, мы набрали номер. Алиса дрожащим голосом представилась, и на том конце трубки повисло напряженное молчание. «Ну наконец-то, Алиса Константиновна, — произнес мужской голос. — Я очень ждал вашего звонка». За следующие несколько минут Алиса договорилась с Аркадием о встрече через несколько дней. Положив трубку, она принялась ходить по комнате, хаотично переставляя книжки с тумбы на письменный стол.
Ресторан был темным и жарким: из-за мороза на улице в зале установили дополнительные обогреватели. Казалось, горячий пар поднимался не только от блюд, но и от официантов и посетителей, спешивших поскорее снять свитера и сидевших поэтому со всклокоченными, разметавшимися волосами. Мы с Алисой не были исключением — я, конечно, не отпустила подругу одну на встречу с неизвестным мужчиной. Перед тем как войти в ресторан, Алиса нервно сообщила мне, что последние дни не разговаривает с мужем. «Мы движемся по инерции былых чувств, — быстро сказала она. — Он привык ко мне и не хочет терять, но только из собственничества. Спроси его: а кто я такая? И он не сможет ответить». И хотя ее тон звучал убежденно, лицо говорило об обратном: бледное, с искусанными губами и потускневшими глазами.
Аркадий уже ждал нас за столиком, хотя мы пришли заранее. Это был мужчина нашего возраста, который мог запросто стать моделью для плакатов «Окна РОСТА» — широкие плечи, огромные ладони и суровое лицо с красноватым северным загаром. Он поздоровался с нами рукопожатием и помог усесться, сразу же предложив закуски. Есть было невозможно, и Алиса, вцепившись руками в сиденье стула, начала разговор.
— Аркадий, мне бы хотелось знать, что связывает вас с Константином, а Константина — со мной.
Аркадий усмехнулся сухими губами и выдержал долгую паузу, прежде чем ответить.
— Честно, я и не верил, что когда-то вас увижу. Вы были чем-то вроде призрака для Кости — вы уж простите, что я так фамильярно, Костя — но мы с ним много лет друзья и коллеги, хотя он и старше меня, так что для меня он Костя. Он говорил о вас редко, но когда говорил — остановить было невозможно. Говорил, говорил, а по сути — ни слова. Я так и не понял, кто вы и что вы, если бы не фотографии — не верил бы, что вы существуете.
— Вы тоже фотограф?
— Да, мы с Костей полмира объездили вместе. Боевые товарищи.
— И что же он говорил обо мне?
Аркадий снова соединил губы в усмешке и завел взгляд наверх, обращаясь мысленно к своей памяти.
— Что же он говорил о вас, если ничего толком не знал? — медленно произнес он. — В основном рассказывал, как счастлив, что вы есть.
Алиса шумно выдохнула воздух, и глаза ее разгорелись.
— Вы прекратите этот цирк или нет? — резко сказала она, подняв руки и хлопнув ими о стол. — Кто вы такой и кто такой Константин Данилевский? С какой стати вы лезете в мою жизнь?
Аркадий откинулся на спинку стула и выставил большие ладони перед собой, прикрываясь невидимым щитом.
— Вы совсем скоро все поймете, я обещаю, — произнес он твердо. — Я пришел сюда, только чтобы сказать пару слов о том, что случилось после того, как Костя нас покинул. Пневмония, сгорел за две недели. Последние годы он часто оставался у меня, когда приезжал в Москву из экспедиций. Не мог он без них, понимаете? Это была его свобода, его любовь. Но оказалась — не вся. Он фотографировал только две вещи: природу и вас. И я принял решение за Костю сделать то, что он так и не смог — показать его любовь вам.
На этих словах Аркадий нагнулся и достал из рюкзака толстый типографский альбом. На обложке — белый медвежонок прижимается к матери-медведице. Вокруг них — белая земля, белое небо и белый блик солнца.
— Костя уже вам всего не расскажет, — продолжил Аркадий. — Но эти фотографии расскажут лучше него. Это и есть он сам. Здесь собрано лучшее.
Алиса резким движением раскрыла альбом посередине и увидела на развороте фотографию желто-зеленой саванны, усеянной высокой слоновой травой.
— Почему мне должно быть интересно смотреть на эти фотографии?
— Потому что в них ответ, кто такой Константин Данилевский.
— Ну все!
Алиса вскочила из-за стола и, не оборачиваясь, твердыми шагами направилась к выходу. Я быстро попрощалась с Аркадием, схватила верхнюю одежду и побежала за подругой. Она уже стояла на улице, трясясь от негодования и приговаривая — «бред, бред, бред». Отбросив все, что было невозможно осознать, Алиса вернулась к исходной точке: Олег был прав, мама была права, о выставке нужно забыть и не дразнить себя неизведанными чувствами. «Мы люди простые», — повторяла она, не замечая, что стоит под мартовским снегопадом без пальто и шапки, оставленных в ресторане. Скрипнула дверь — это во двор вышел Аркадий. Он держал альбом, заложив указательным пальцем страницу. Подойдя к Алисе, он раскрыл разворот: на фотографии деревенский дом, цветущие гортензии в палисаднике и молодая девушка, чистящая над ведром грибы.
— Что это за дом? — спросил громко Аркадий.
Алиса остановила свое круговое движение и с усталостью произнесла:
— Это дача моей бабушки. Он и за ней следил?
— Кто эта девушка?
— Похожа на маму в молодости…
— Алиса Константиновна, кто такой Константин Данилевский?
И Алиса, еле слышно, скорее про себя, чем вслух, сказала:
— Это мой отец?
…Разговор с матерью иссушил Алису. Подтвердилось все, что мы узнали от Аркадия: на самом деле отец Алисы не погиб, а ушел из семьи вскоре после рождения дочери. Мать Алисы не смогла смириться с его экспедициями, длившимися по полгода — каждый раз она прощалась навеки, разрывая в клочья душу. Теряя любимого вновь и вновь, она начала его ненавидеть. И чтобы оградить себя и дочь от боли, молодая девушка вычеркнула Константина Данилевского из жизни. Ему оставалось делать только то, что он умел делать лучше всего на свете — фотографировать.
Алиса сказала мне: «Знаешь, я ведь так и не поняла, что такое любовь. Мать любила, но не так сильно, чтобы оголить свою рану. Отец любил, но не так сильно, чтобы бросить экспедиции. Муж любил, но не так сильно, чтобы попробовать меня понять». И потом она попросила меня записать эту историю.
Рецензия критика Валерии Пустовой:
«Интересный рассказ, выходящий на уровень притчи. Мне особенно понравилась эта динамика смысла и жанра: поначалу кажется, что нам рассказывают анекдот из поднадоевшей двоим супружеской жизни, потом включается авантюрный детектив — две дамы хотят вспомнить молодость и раскрыть «преступника», затем нас манит романтическая интрига о неуловимом поклоннике. И только к финалу открывается смысл истории — и очень удачно, что этот смысл реалистичный, психологически достоверный. Разгадка, с одной стороны, сметает все наносные слои — анекдота, поздней романтики, детектива, а с другой — парадоксально объединяет их. Оказывается, всю жизнь героиня была участницей затянувшегося психологического триллера, тяжбы о любви. И разгадка ничего не разгадывает: по-новому звучит тон рассказа и героини, когда в финале она подводит притчевый итог истории, показывая нам, что правда об отце скорее углубила ее детскую утрату и женское недоумение перед жизнью.
Стилистически рассказ написан чисто и точно. У меня есть только возражение против некоторой тягучести стиля. Иногда хочется опустить лишние подробности.
Несколько тяжеловесны, литературны и потому избыточны, на мой вкус, такие обороты: «Олег, однако, подобной трансформации сознания не пережил» или «И хотя ее тон звучал убежденно, лицо говорило об обратном». Мне кажется, иные логические мостики не стоит прописывать — лучше оставлять ощущение логического прыжка, пируэта.
Мне очень понравилась сцена-перевертыш в ресторане. Когда сначала Алиса вопрошает — а потом ее же вопрос адресуют ей: кто же он, этот загадочный Константин Данилевский? И оказывается, ей есть что ответить самой себе — просто тоска по упущенным переживаниям затмила правду: ей хотелось обрести поклонника, оправдать себя как женщину, добрать жизненной страсти — а оказалось, речь о старой семейной тайне. Очень ярко работает повтор реплики мужа: «Мы люди простые» — и рассказчица никак не оценивает эту реплику, только подсвечивает, мол, говоря это, Алиса не замечала, что выглядит не вполне адекватно, то есть не «просто».
Мне понравилось поведение рассказчицы: то, что она в принципе удерживается от оценок. Как и Алису, рассказчицу в этой истории привлекло приключение, возможность добрать остроты жизни, что-то себе доказать. Рассказчица не судья тут — а полноправная участница, поддавшаяся ажиотажу подруги. Очень удачно, когда в рассказе нет источника суда, «объективной» оценки — когда в нем не выносят героям приговоры и характеристики».
Рецензия писателя Романа Сенчина:
«Рассказ получился. Очень хороший. Финал неожиданный, хлесткий и достоверный. Много точных, художественных эпизодов. Мне больше всего понравился этот: «Не привыкшая к ссорам, а значит, не умеющая мириться, она хлопнула дверью и уехала ко мне». Есть замечания, но они небольшие, технического плана».

Анастасий
Поздней холодной весной, в родительский день, иерей храма Вознесения Господня Анастасий был отправлен настоятелем служить на кладбище соседнего села, а заодно как можно больше распродать свечей и собрать пожертвований. Дело это было ответственное и для церкви полезное, хоть и трудное, и муторное — абы кого не пошлешь. К тому же настоятель знал, что жена отца Анастасия загуляла, и его ждал развод, много дум и тяжелый духовный выбор, а потому считал, что священнику будет нелишним отвлечься и погрузиться в работу.
Несмотря на то что настоятель позволил в тот же день в храм не возвращаться, и при удачном стечении обстоятельств можно было закончить дело поскорее и использовать остаток дня по своему усмотрению, отец Анастасий был не рад. Семейная жизнь его давно разладилась; он до неприличия располнел, что при его маленьком росте выглядело нелепо — в особенности из-за того, что крест не держался ровно на круглом животе и постоянно съезжал то влево, то вправо, — он мучился одышкой, а главное, стал понемногу ненавидеть людей. Ему не нравились нищие у храма, которые слишком настырно звенели подаянием в стаканчиках, прихожане, которые чересчур неторопливо расступались перед ним и норовили обслюнявить руку, и даже, грешно сказать, настоятель, который в последнее время частенько сочувственно заговаривал с ним, но толковал все больше о каких-то глупостях. И когда утром отец Анастасий думал про село Бургустан, то в голове всплывала только одна мысль: «Как можно на четыре тысячи жителей не иметь своей собственной церкви или хотя бы самой завалящей часовни?» Отсюда он заключал, что люди эти неверующие, не богобоязненные и, в общем-то, недостойные. Куда ни посмотри, всюду ложь, фальшь и скудость веры. Но на глухой окраине села располагалось кладбище приличных размеров, и ехать было надо.
К полудню отец Анастасий был уже на месте и, благодаря смотрителю, смог приткнуть свой автомобиль у самых ворот кладбища. Он достал и установил складной стол, положил на него двухкилограммовую коробку восстановленных из огарков свечей сто сорокового номера и переносной ящик для пожертвований. Начинил и разжег кадило: в воздухе привычно запахло жженой смолой босвеллии и слегка запершило в горле. Действия эти он совершал по привычке, не смотря вокруг и не заботясь о том, достаточно ли собралось народу для начала службы. Только перед тем, как погрузиться в молитву, отец Анастасий поднял взгляд, но не на толпу, а на капризное весеннее небо, испрашивая у Бога терпения пережить этот тяжелый день. «Трисвятое» он затянул утробно, медленно и с чувством, как бы разминаясь, подрагивая под рясой большим животом и получая удовольствие от своего мастерства, но постепенно вошел в раж, все убыстрялся и закончил первое богослужение совсем уж скороговоркой. Все то время, пока он читал общую панихиду, к столу потихоньку подходили прихожане и прочие сочувствующие и разбирали серо-желтые макаронины свечей, опуская мелкие купюры в пластиковый ящик.
Разделавшись со вступительной частью, священник предпринял было попытку облегчить свою участь и предложил собравшимся сделать лишь несколько сквозных проходов по кладбищу, но неизбалованные церковным вниманием односельчане решительно и недовольно загудели, чем немало раздражили его. Сговорились на том, что сперва он огулом обойдет кладбище с молитвой, а затем за отдельные пожертвования будет служить панихиды у могил. Отец Анастасий запер оставшиеся свечи в багажнике автомобиля, повесил на шею ящик с деньгами и с каждением пошел по главной аллее, попеременно углубляясь в проулки. Как большой, черный, неповоротливый корабль он плыл по кладбищу, и впереди него спешно расступались косяки потревоженных бургустанцев. В фарватере людская масса вновь смыкалась и тянулась вслед за ним.
Отец Анастасий отправлял ритуал автоматически, отвлеченно, думая совсем о другом. Он не понимал, почему могилы были налеплены настолько плотно, что к некоторым едва протиснешься — местами лишь перелезая через ограды других участков, в то время как вокруг покоились непаханые поля. Из-за напускной нехватки места несколько неогороженных свежевырытых ям ожидали хозяев прямо на главной аллее. Ему досадно было смотреть на высокие заборы и навесы над столиками у надгробий: они высились, точно автобусные остановки, крыши гаражей и целые галереи, затеняющие по три-четыре могилы сразу. Оттого ли это, что люди испытывают особое благоговение и страх перед загробной жизнью? Может, ожидание внезапного и неминуемого удара судьбы заставляет их так рьяно обустраивать свои кладбищенские землевладения? Он замечал на надгробных плитах блины, крашеные яйца, пирамиды пасх, белые шапки куличей и зернистую, рассыпчатую кутью. На могилах попроще лежали конфеты и печенье. Многие совершали поминальный обед, не дождавшись своего череда, не сотворив молитвы. Некоторые чрезмерно пили и шумели. Отец Анастасий ясно видел все искажения и недостатки веры вокруг себя и находил в них подтверждение утренним мыслям.
Как обычно, усопшие были не настолько голодны, чтобы употребить раскиданную по участкам снедь, а уносить ее обратно домой приличному человеку казалось глупым, поэтому никто не возражал, если по окончании застолий нищие прибирали съестное в принесенные с собой пакеты. В такие дни к ним относились снисходительно: могли и стопку налить, и денежкой побаловать. Однако отец Анастасий и здесь не видел ничего хорошего и был уверен, что нищие, приставая к посетителям, распугивают их, а хуже того — конкурируют за подаяние, и когда он в очередной раз свернул в узкое ответвление от главной аллеи, то начал закипать сразу, едва приметив издали двух забулдыг. Они медленно шли навстречу, тяжело волоча меж собой наполовину заполненную хозяйственную сумку, сквозь полупрозрачные матовые стенки которой проступала разноцветная скорлупа яиц, раздавленных под тяжестью заупокойных деликатесов. Сложная смесь запахов перегара, нечистот и куличной сдобы волнообразно распространялась по ходу их движения.
Забулдыги, хоть и не были ни в чем виноваты, все же ощутили трепет перед надвигающейся процессией. Один из них — в вязаной шапке, с перебитым носом на круглом, дочерна загоревшем, припухшем лице — глухим хриплым голосом скомандовал: «Стоп, машина. Назад полный!» Они попятились задом, попросту не сообразив развернуться, но это не принесло успеха: расстояние между ними и толпой таяло неотвратимо, как последний сугроб на апрельском полуденном солнце. Окруженный дымом отец Анастасий пароходом пёр на несчастных и только сильнее пучил глаза и размахивал кадилом. Второй забулдыга запаниковал: «Сиплый! Что делать?» Тот отдал новый приказ, и они рванулись к краю прохода — на небольшую кочку у одной из могил. Оглушенные алкоголем тела слушались неохотно, и когда уже стоявший на кочке Сиплый потянул товарища за собой, на молодой влажной траве его нога вдруг поехала. Они качнулись в унисон и полетели в бок проходящему мимо отцу Анастасию. Все трое повалились на грязную землю. Толпа ахнула, молитва прервалась.
Отец Анастасий на мгновение задохнулся от гнева и ароматов, которые обрушились на него, а потом истошно заголосил, призывая смотрителя кладбища. Рослый, широкоплечий мужчина выступил из толпы и помог священнику встать.
— Прогнать! Чтобы духу не было. Прокляну! — трубил отец Анастасий.
Смотритель невозмутимо взял Сиплого за шкирку и на брезгливо вытянутой руке потащил на выход, в то время как его товарищ сам покорно пошел впереди. Сиплый не сдавался и отчаянно цеплялся за сумку — родительский день был сродни манне небесной, выпадающей всего несколько раз в году. Зимняя засаленная куртка угрожающе кряхтела на нем, но он бешено упирался и злобно шипел из-за плеча:
— Ах ты гад! Карбункул! Отстань! Сиплого еще никто так не унижал!
Неожиданно вторая ручка сумки зацепилась за металлический листок особенно вычурной ограды, и, не выдержав напряжения, пластик с треском лопнул и продукты посыпались в растоптанную грязь. Сиплый сник и перестал сопротивляться.
Когда они скрылись из виду, отец Анастасий поправил на шее съехавший набок ящик, поднял кадило и продолжил службу. Полностью изгнать нищих с кладбища не удалось. Изредка то там, то сям — из-за серого ли могильного камня, из-за одинокого ли ясеня — краем глаза отец Анастасий выцеплял их фигуры, мелькавшие вдалеке. Они ощипывали теперь могилы на почтительном расстоянии, стараясь не попадаться ему на глаза. Несмотря на то что литии отец Анастасий успевал пробалтывать за четыре минуты, а длинные панихиды умещал в пятнадцать, работы оставалось еще очень много, день был конечен, и он смирился с их периферическим существованием.
Около семи часов вечера намаявшийся священник наконец вернулся в машину. Спешить было некуда, он выудил из кармана подрясника телефон и долго водил пухлым пальцем по экрану. Когда телефон окончательно разрядился, он поднял голову и обнаружил, что вокруг давно потемнело и нанесло тумана, обезлюдела непроглядная ночь. Он вдруг подумал про бабушку, ее взгляд, наполненный пронзительной теплотой, и шершавые ласковые руки. Она была похоронена в дальнем конце этого самого кладбища, и ему стало стыдно не только от осознания того, что он не приходил сюда уже пять лет, но и потому, что за весь день даже и не вспомнил про нее. И хотя час был поздний, он решил сходить на могилку и вылез из машины. Гулкие ворота оказались заперты, но калитка, скрежетнув, пропустила его внутрь. Отец Анастасий вслепую пробирался по кладбищу сквозь туман и размышлял о том, где в его жизни — между счастливым детством и сегодняшним днем — была злосчастная точка, в которой все разладилось и пошло наперекосяк.
Внезапно налетевший ветер затрещал голыми ветвями деревьев. Отец Анастасий отвлекся, правая нога провалилась в пустоту, он боком рухнул на дно широкой ямы двухметровой глубины и ударился головой. В тот же момент острая боль проткнула бедро, и он потерял сознание.
Очнувшись, одурманенный отец Анастасий долго не мог понять, что произошло — хватал густой земляной воздух ртом, шарил вокруг себя руками, щупал холодную твердую глину могильной стены. Кочергой вывернутая наружу нога не слушалась, боль пульсировала в бедре и отдавала в пах. Через несколько минут голова прояснилась, он догадался, где лежит, и позвал на помощь. Он крикнул еще раз — громче, но вдруг понял, что на полкилометра ни души и попытался встать. Моментально отозвалась боль, да так, будто кто-то решил насадить его на железный прут. В голове снова помутнело, и отец Анастасий чуть было опять не потерял сознание. Он отдышался и заголосил: «Помогите! Эй, кто-нибудь! Помогите!»
Крики священника уже становились тише, когда Сиплый, три часа проспавший беспокойным пьяным сном на лавке под навесом одного из участков неподалеку, наконец проснулся. Он поежился, протер глаза и пошел на шум. У края могилы он присел на корточки и, всматриваясь в темноту, сказал:
— Кто здесь?
— Ах, это ты, — узнал его отец Анастасий и заговорил строгим голосом: — ты вот что, Сиплый, я ногу сломал, пойди…
— А, богомудрый наш, — перебил Сиплый.
— Не юродствуй. Смотрителя знаешь? Беги, брат, к нему…
— Кому Сиплый, а кому Алексей Андреич, — сказал Сиплый поднимаясь. — Ну, бывай, отче. Убрать швартовы.
— Подожди! Мм, Алексей, ты куда?
— Известно куда — за территорию кладбища. Не положено мне тут, — сказал Сиплый и скрылся из виду.
— А как же я? Стой, безбожник!
— А ты прокляни, — донеслось до священника.
Отец Анастасий хотел было вскочить, но побоялся тревожить бедро, и, вытягивая голову, закричал с места:
— Алексей, вернись!.. Сиплый!.. Вернись, скотина! Ушел, тварь. Подлец… Алексей, Лёшенька, Христом Богом, я же помру, не бери грех на душу… Лёшка, подлец ты! Нет в тебе ничего человеческого. Свинья ты — не человек! Сиплый твое название! Одна только эта характеристика в тебе осталась. Люди! Лю-у-ди-и-и! М-м-м… — замычал от боли отец Анастасий, нечаянно дернув сломанную ногу. На крик никто не отзывался. Осторожно поерзав, он медленно прислонился спиной к скользкой стене могилы, подождал, когда боль поутихнет, и забормотал:
— Господи! Не люди это — людишки. Жалкие, мелкие, бессердечные. Ни веры, ни самосознания, ни стремлений. Как кабачки подгнившие, лежат на земле, не шело́хнутся, разлагаются потихоньку. И вот они живут, а я — слуга твой — пропадаю. Хороши испытания, нечего сказать. Справедливо разве? Что? Кто здесь?.. Померещилось… Господи, прости. Что говоришь? Грех, гордыня это? Живут как могут, как велит закон?.. Какие глупости! Разве предписывает Твой закон пить, гулять, нищенствовать? Нет. Вот и получается, что они никчемные… Спрашиваешь: а сам-то чем лучше их, кто ты, отец Анастасий? Не отец ты, а поп, который литию в четыре минуты проглатывает ради денег. Лежишь, причитаешь. Проблемы у него. Ну жена уходить собралась, ну уронили тебя на землю случайно, но руки-ноги-то целы были, чего горевать-распаляться — не конец света… Могилы у него тесно понаставлены, видишь ли. Ряха наетая. Разманюнился. Веры в т-тебе нет, вот что. Потом-му и ос-суждаешь. У-у-у-у-у… — С продвижением ночи температура падала, плотная сырость все сильнее сбивалась у земли, и когда озябший отец Анастасий затрясся и несколько раз содрогнулся всем телом, то в бедре резко закололо. Он не мог ничего говорить и лишь старался шевелиться как можно меньше. Вскоре дрожь отпустила его, биение в ноге прекратилось, и он медленно сказал:
— Может, ты и прав, Господи. Сам виноват, что сижу в этой яме и что помочь мне некому. Видимо, и я нищий — духом нищий. Да и к черту, нечего тут рассуждать, словоблудие одно.
Отец Анастасий умолк, закрыл глаза и стал обращаться к Богу про себя с твердым намерением провести оставшиеся у него часы в молитве.
Спустя долгие минуты сквозь внутреннее бормотание проник какой-то шорох. Комья земли посыпались в могилу и накатились на руку отца Анастасия.
— Слышь, ты, Ваше Преподобие, на-ка, куличика пожуй.
Священник разлепил глаза. Слева, совсем близко от него, висела рука с белеющей в ней четвертиной кулича. Он повернул голову — на него смотрело круглое темное лицо Сиплого, тускло улыбаясь испорченными зубами.
— Лёша, — выдохнул отец Анастасий. Его подбородок выдвинулся вперед, блеснули глазные яблоки, и он почти что шепотом спросил:
— Что же ты вернулся?
— Да не уходил я, — пробурчал Сиплый. — Подумал — не до конца ж ты погибший человек.
Он отдал священнику кулич, а потом еще чищенное вареное яйцо, и ушел в село, на другую сторону реки, будить смотрителя кладбища. Отец Анастасий, всхлипывая, мусолил губами рыхлую сердцевину сдобы и возносил благодарение Богу.
Часом позже, когда в областной больнице обезболенный, отогретый и вновь обретший спокойствие священник продолжал славить Бога, в Бургустане погасли последние огни, по кругу побрехали и успокоились собаки, как полотенце на ветру захлопала крыльями и улетела потревоженная птица. На скамейке, кашлянув, поглубже зарылся в тряпье Сиплый. Затем настала совершенная тишина, и у ворот кладбища прозрачной ледяной коркой наморщилась лужа.
Рецензия критика Валерии Пустовой:
«Рассказ производит сильное впечатление благодаря стилю и цепкости к деталям. Автор пишет выразительно, а то, что он выражает, показывает автора наблюдательного, остро подмечающего как закономерности, так и несообразности обычной жизни людей. Это особенно трогает: ведь об обычной жизни, как нам кажется, мы все имеем представление, однако чаще всего это именно представления — расплывчатые, приблизительные, — и нужен взгляд писателя, чтобы заставить нас всмотреться в то, как устроены явления, проживаемые нами едва ли не автоматически.
Срыв автоматизма в этом смысле — и тема, и стиль рассказа. Герою нужно оттарабанить службу, сбросить с плеч долг, пастве — отдать должное дежурным ритуалам дня, и все это происходит в действиях почти автоматических, мелких, отработанных годами и поколениями. Но у автора получается увидеть дежурный день как в первый раз. И вроде автор ничего привлекательного не описывает — но описаниями хочется любоваться именно в силу их точности, освежающей отчетливости.
Скажем, на меня сильное впечатление произвел абзац «К полудню отец Анастасий…» — я так живо все представила: и день, и настрой героя, и голос его, и усталость, и ожидание людей, и их напор, и это блуждание с ящиком по тесному кладбищу. Быт кладбища тоже произвел впечатление, тут описания настолько попадают в цель, что доходят до символизма: скажем, глубоко задевает образ ям, ожидающих будущих покойников на главной аллее, резко поражает и сравнение столиков с остановками, затмевающими, закрывающими вроде как дорогие сердцу могилы.
Вызывает уважение углубление в быт священника: он описан не общо, а детально, изнутри. Удачно, что священник не абстрактная фигура, а живая личность со своими потребностями и тяготами, с грузом своих сомнений.
Однако есть у меня к рассказу и принципиальное замечание. К сожалению, в рассказе автору мало оставаться наблюдателем и бытописателем, и живой противоречивый священник автору быстро становится куда менее интересен, чем идея о нем. Идейность выпирает в рассказе, теснит его жизненную правдивость. Автор задает очень правдивые условия для сюжета — но сам сюжет ощущается мной как надуманный, навязанный герою. Интересно, что в свете этой надуманности меняется и стиль. Там, где в рассказе выходит вперед идея, стиль теряет жизненную цепкость, а образы становятся или приблизительными, или однозначными, двумерными.
Начинается это уже с фразы про развод героя: «и его ждал развод, много дум и тяжелый духовный выбор, а потому считал, что священнику будет не лишним отвлечься и погрузиться в работу». «Много дум и тяжелый духовный выбор» для читателя — абстракции. Так можно писать в публицистике, брошюре, и то не очень это будет действенно. В художественной прозе уход в абстракции приводит к разрыву контакта между читателем и текстом.
Далее напор идеи усиливается, неизбежно наполняя образ главного героя абстрактным, психологически не укорененным рассуждением. Я верю в располневшего священника, у которого разлад с женой и который сейчас вообще не в настроении молиться и отпевать. Потому что это о человеке. Но мне трудно на слово поверить рассказу, что: «Отсюда он заключал, что люди эти неверующие, не богобоязненные и, в общем-то, недостойные. Куда ни посмотри, всюду ложь, фальшь и скудость веры»; «Отец Анастасий ясно видел все искажения и недостатки веры вокруг себя и находил в них подтверждение утренним мыслям». Потому что это уже не о человеке — это об идее рассказа. Мне как читателю рассказ не показывает, каким образом человеческие свойства героя, его жизненный опыт и текущая ситуация приводят к огульным выводам о скудости веры прихожан. Да, теоретически тут может быть связь, и психологическая, и, глубже, духовная. Но эту связь в таком случае стоит показывать. Или уж не наделять героя установочными мыслями, оснований которым в рассказе нет. Иначе получается, что доверие мое к идее рассказа изначально непрочно. Я не вижу в рассказе, почему должна верить именно таким мыслям героя.
И поэтому я еще меньше верю в то, что, упав на землю вместе с «забулдыгами», он «трубит»: «Прокляну». Это сильная сцена — но ее стоит вырастить в рассказе, подвести к ней, довести до нее героя. Здесь я как читатель изначально вижу схематизацию: рассказ нарочно сталкивает отверженных, нищих, внешне опустившихся персонажей — и внешне авторитетного, благообразного священника, чтобы перевернуть их роли — священника столкнуть в яму презрения, а нищих показать благородными и великодушными людьми. Этот ход просматривается, получается, с начала рассказа: священник так нарочито и вне связи со своей психологией и обстоятельствами осуждает людей, что неизбежным становится его показательное посрамление в финале и превознесение им презираемых. Это не художественный — идеологический ход. И идея художественность вытесняет.
Скажем, мало убедительно звучат реплики упавшего в яму священника — потому что это реплики показательные, в них нарочито показано его посрамление и ожидаемое преображение. То же можно сказать и о репликах Сиплого, о его действиях. Он нарочито агрессивен — ведь нужно проучить священника, а потом нарочито великодушен — ведь нужно перевоспитать священника. В последнем образе рассказа, где автор от идеи обращаетесь снова к реальности, в рассказ возвращается сила детали, убедительность художественного слова.
Я предложила бы автору впоследствии поэкспериментировать с мыслью рассказа. Например, попробовать рассказать его, выключив все оценки и весь план рассуждений. Просто показывать проявления героев. Свести к минимуму их саморазоблачение в слове. Смягчить контраст между священником и забулдыгами — сейчас он слишком явен, видно, как автор сводит намеренно контрастных героев. Или можно этот рассказ оставить как есть, но попробовать в будущем распоряжаться эволюцией героя иначе. В задачи художественной прозы не входит ведь непременный урок герою, непременное его исправление (или гибель). Потому что проза вообще не занимается ответами и оценками. Проза ставит вопросы, обостряет противоречия, заставляет удивляться, замечать незамечаемое, вводит читателя в продуктивное недоумение.
Рассказ сейчас идет от сложности к очевидности. Сложный образ уставшего священника сменяется простым образом проученного и перевоспитавшегося священника. А хорошо бы, наоборот, идти от простоты к сложности. Когда поначалу кажется, что все ясно, а к концу диву даешься, откуда что взялось. У Романа Сенчина есть книга «Петля», где рассказы построены на вопросе об эволюции, о жизненных и душевных переменах. Скажем, можно посмотреть для примера рассказ «Немужик»: вот в нем как раз движение от простоты к сложности — поначалу кажется, что все элементарно и однозначно, а к концу понимаешь, что у этой истории много слоев, и вот так запросто тут не разобраться, кто прав и виноват и в чем корень проблемы героя. Предложила бы постепенно разворачивать свои истории в сторону неоднозначности, сложной устроенности героев и смысла. Стилистически проза автора сейчас убеждает. Но саму историю автор невольно упрощает, ориентируясь на однозначный, показательный путь героя. Словно что-то доказываете своей историей. А для прозы продуктивнее не доказывать — а заострять и усложнять вопрос».
Комментарий писателя Романа Сенчина:
«Рассказ близок к прозе Лескова, Леонида Андреева, в том числе и в художественном плане. Несмотря на некоторые недостатки — автор написал, по моему мнению, настоящую прозу. Великолепный финал, и эта покрывающаяся льдом лужа показывает нам, что отец Анастасий замерз бы, если бы не Сиплый»

Большая Мэри
Помню хорошо этого Рыжего, как его звали, Уолтер, точно, Уолтер Элбридж. Мы с его папашей, Элбриджем-старшим, работали одно время вместе на угольной шахте, хороший был напарник, работящий, немногословный. Не расставался со своей губной гармошкой, такие трели на ней выводил, чисто Моцарт. Пил, это да, как лошадь. А кто не пьет в Эрвине? Грязное, убогое, богом забытое место, забитое повозками, палатками и чумазыми детьми шахтеров. Таких городов в Теннесси хоть пруд пруди. Как подвели железную дорогу, так стало еще хуже, город выглядит, как нескладный подросток в лопающихся по швам бриджах, из которых он давно вырос. В городах платят больше, чем на фермах, нужда гонит людей в города. Думают, что тут лучше. А здесь жизнь совсем не сахар. Работаешь от зари до зари, а когда не в шахте, то пропиваешь те жалкие крохи, которые остались после оплаты счетов. Полная безнадега. А если что случится, как с моей рукой — мигом пошел вон на улицу. Так, вот, старший Элбридж сгорел от чахотки, не старый еще был, жить да жить, а за ним и жена его вскорости померла, спаси Господь их души. Парнишка остался один, было ему шестнадцать или семнадцать, какая разница, помыкался в Эрвине туда-сюда, а потом исчез, уехал куда-то в поисках лучшей доли. Говорили видели его в Сэйнт-Поле, в Вирджинии, работал портье в местном отеле «Риверсайд».
И вот я вижу Рыжего Уолтера на спине Большой Мэри, огромной слонихи из «Великолепного Цирка Чарльза Спаркса», который каким-то чудесным ветром занесло в нашу дыру. Сидит в красивом костюме, приосанился, лыбится, ну чисто звезда цирка. Я аж глаза протер кулаками, подумал, может хватанул лишнего. Нет, точно он, только возмужал, конечно, в сравнении с тем, когда его последний раз видел. Хороший парень, в отца, не зазнался, узнал старого Пьянчугу Фрэнка, помахал мне рукой и прокричал что-то радостно. А что прокричал, разве услышишь. Весь город собрался на пыльной главной улице посмотреть на цирковой парад, яблоку негде упасть. Духотища страшная, дышать нечем, как всегда перед грозой бывает. Шум, гам, идет шествие. Впереди — духовой оркестр с бравурными маршами, медные трубы блестят на солнце, как лысина шерифа Гэллахана. Рожи у музыкантов красные от усилия и наверняка бурбона уже приняли на грудь, меня не проведешь, глаз наметанный. Прямо за ними Рыжий Уолтер на Большой Мэри, и три слона поменьше позади топают, их двое слонят торопливо догоняют. Смешные такие, ушами шевелят, хвостами от надоедливых мух отмахиваются, прямо как коровы. За слонами наездники-ковбои гарцуют на белых лошадях. Верблюды идут задумчиво, качают горбами, жуют свою жвачку. Красивые цирковые повозки, окруженные жонглерами, акробатами и клоунами. Пестро, ярко, громко, аж душа поет. Сегодня вечером будут два представления. На пустыре, недалеко от станции уже собирают цирковой шатер.
Порадовался за Рыжего, что возвращается в родной город даже не на коне, а на слоне. В люди выбился. Мне потом рассказали, что ему повезло, устроился на подхвате у дрессировщика слонов в цирке Чарльза Спаркса, ухаживать за животными и готовить их к парадам и выступлениям. Хуже мошенников, чем владельцы цирков, не бывает, страшные прощелыги, им бы только честного человека обсчитать и своих циркачей обмануть. Но этот Чарльз Спаркс порядочный бизнесмен, из глубоко верующей семьи, в его цирк, как в воскресную школу, можно смело детей отправлять, там ничего непристойного не будет. Жалованье своим артистам платит день в день, солидное семейное предприятие. Жена его, миссис Спаркс, статная женщина, кровь с молоком, работает в цирке ветеринаром и готовит для всей труппы. Стряпня у нее — пальчики оближешь. Каждый может съесть сколько влезет, не жизнь, а рай на земле, мне бы так. Но одно правило четко — за стол только умытым и причесанным. А за плоские шутки можно схлопотать поварешкой по кумполу. Женщина строгая, с принципами, но отходчивая, с добрым сердцем. Детей им с мистером Спарксом Бог не дал, вот она и относится к циркачам, как к своим детям. А самый любимый их ребенок — это Большая Мэри.
Говорили, что маленького игривого слоненка купил покойный отец мистера Спаркса, основатель семейного цирка. Торговец, который продал его, хвалился, что это первый слон, рожденный на американской земле, но этот жулик наверняка приукрасил, чтобы продать подороже. Мистер Спаркс, тогда еще маленький Чарли в шортиках, был на седьмом небе от счастья. Он и назвал слоненка Мэри. Всю жизнь они вместе — друзья не разлей вода. Сейчас мистер Спаркс уважаемый владелец цирка в костюме, очках, шляпе и неизменной сигарой в зубах, а Большая Мэри — главная звезда его труппы. Люди ломятся посмотреть на самого большого слона в Америке, который стоит к тому же целое состояние — двадцать тысяч долларов. Это ж сколько виски можно купить на такие деньжищи. Говорят, что Большая Мэри не обманывает ожидания и отрабатывает каждый пенни, который публика потратила на билеты. Она играет разные мелодии на музыкальных рожках, танцует, крутится на голове и отбивает бейсбольные мячи. А когда «бейсбольный судья» якобы по ошибке не засчитывает ей очки, она гневно трубит ему в ухо, выражая свое фу и зрители катаются по полу от смеха. Словом, одиннадцать тысяч фунтов чистого таланта, которые к тому же приносят мистеру Спарксу отличный доход.
Как только шествие прошло мимо меня, Большая Мэри внезапно остановилась, как стоп-кран дернули, и весь парад гармошкой собрался за ней. Слониха подумала немного и хоботом взяла половинку спелого арбуза с тележки миссис Роббинс, торговки фруктами. Стала задумчиво жевать, двигая ушами. Уолтер держал в руке багор для погонщиков слонов — толстую деревянную палку с металлическим острым наконечником и крючком. Он легонько постучал багром Большую Мэри, мол, пойдем, хорошая моя, надо идти, парад как никак, работу надо доделать. А ей хоть бы хны, доела арбуз и потянулась за новой порцией — взяла еще одну половинку. Толпа начала улюлюкать и подначивать Уолтера: «Эй, слоновий ковбой, ты до вечера тут стоять будешь?», «Эй, Рыжий, может, слезешь и подтолкнешь», «Дай палку, я тебе покажу, как слонов погонять». Миссис Роббинс торопливо пыталась переложить арбузы со своей тележки куда подальше. Рыжий занервничал и ткнул Большую Мэри багром — ноль внимания, фунт презрения. Еще сильнее — никакой реакции. Мальчишки стали кидаться в Уолтера огрызками яблок и разным мусором, всем, что попадалось под руку. Тут парень совсем потерялся. Был бы его босс-дрессировщик рядом, он бы ему помог, да не было его, черт знает, куда он подевался. Уолтер от отчаяния стукнул слониху со всей мочи и ткнул ее багром посильнее. И тут Большая Мэри вздрогнула. Клянусь, я это видел. Как разряд электричества сквозь нее прошел. Она бросила арбуз на землю, корка хрустнула, и красная мякоть разлетелась в пыли. Потом она крепко обхватила Уолтера своим хоботом и подняла его легко как перышко. Парнишка заорал от страха. Слониха с размаха бросила его в тележку с фруктами, и тележка от удара разлетелась вдребезги. Рыжий лежал на земле, струйка крови стекала из его рта. Люди в ужасе разбегались кто куда. Большая Мэри подошла к бездыханному Уолтеру, громко протрубила, а затем подняла переднюю ногу и с размахом опустила на его голову. Раздался такой же хруст, как раньше от упавшего арбуза. Я стоял, как парализованный, не в силах ничего сделать. Какой дьявол в нее вселился? Из своей кузни с ругательствами и кольтом в руке вывалился Хенч Кокс, подбежал к слонихе и расстрелял в нее в упор целый барабан своего револьвера. Пули не причинили Мэри никакого вреда, они просто отскочили от ее толстой шкуры, как от брони. Хенч Кокс от досады запустил кольтом в голову Мэри. Она стояла как ни в чем ни бывало, помахивая ушами и хвостом. «Убийца! Убийца! — стали скандировать люди. — Бешеный слон. Кровавая Мэри».
Шериф Гэллахан, когда потом играл в покер со своими приятелями, рассказал, что мистер Спаркс на следующее утро после смерти Уолтера умолял его отпустить Большую Мэри, решить вопрос полюбовно. Мол, в цирке разное бывает — несчастные случаи, травмы и даже иногда люди гибнут. Страшная трагедия, конечно. Деньги большие предлагал, ведь она ему как родной ребенок, ничего не жалко было для нее. Главное, чтобы жила дальше, можно было сменить ей имя и продать куда-нибудь на Запад или в Канаду. Что делать, ужасное стечение обстоятельств — миссис Спаркс осмотрела Мэри, и оказалось, у нее зуб воспалился, парнишка неудачно ткнул ее в больное место, вот она и взбесилась. В словах мистера Спаркса была правда, и шериф был склонен договориться. Но у нас новости распространяются, как огонь летом в сухом лесу. Газетчики прознали про то, что случилось, и как водится, все преувеличили и переврали. «Джонсон Сити Стафф» написала, что бешеная слониха затоптала восемь человек. Шерифы соседних графств оборвали телефон шерифа Гэллахана. Они настаивали, чтобы он убирал сам свое дерьмо, мол, им беспорядки не нужны. Никто не хотел видеть слона-убийцу в своем городе. Люди были взвинчены. Из Кингспорта выехали пять активистов со старой пушкой времен Гражданской войны. Хотели линчевать слониху. Хорошо, что ливень размыл дорогу и пушка застряла в грязи. Угрюмый Хенч Кокс дал понять шерифу, что если он не решит вопрос сам, они с парнями это дело так не оставят и возьмут правосудие в свои руки. Уолтер был из наших, из местных, а за своих в Эрвине любому глотку перегрызут, хоть бы и слону. А потом, когда шериф Гэллахан уже озверел от бесконечных звонков и угроз, его набрал губернатор штата, сказал, что он не позволит бешеным животным топтать его избирателей и снисходительно напомнил, что кто-то должен лучше делать свою работу. Дело было кончено. Большая Мэри должна была умереть.
Буйные головы предлагали, прости, Господи, привязать Большую Мэри к двум локомотивам и разорвать на две части, или наоборот, раздавить ее между двумя паровозами, но шериф Гэллахан сказал, что такого изуверства он не допустит. Несколько лет назад, в Нью-Йорке казнили электрическим током бешеного слона, но на станции не было достаточной мощности, и этот вариант тоже отпал. Пистолеты и ружья не годились, никакой мало мальской пушки не было. Мистер Спаркс, убитый горем, с красными, опухшими от слез глазами, хотел легкой смерти для Мэри и дал ей еду, начиненную стрихнином, но Мэри отказалась есть. Она как будто чувствовала, к чему дело идет. Ее приковали к столбам у станции, и она грустно покачивалась из стороны в сторону, не понимая, почему мальчишки злобно швыряются в нее камнями.
В итоге решили Большую Мэри повесить. Подогнали большой железнодорожный кран. Паровым экскаватором выкопали неподалеку, в трехстах ярдах, большую, как амбар, яму для могилы. Народу собралось поглазеть на казнь — мама дорогая, сроду столько не видел. Ночью прошел ливень, и люди стояли плотной толпой по щиколотку в ржавой грязи. Моросил противный дождь. Места на террасах зданий напротив места казни продавались по пять долларов, и отбою от желающих не было. Все близлежащие деревья и крыши домов были усеяны мальчишками, которые сидели, как нахохлившиеся мартышки. На крышах вагонов разместились железнодорожники. Чего, спрашивается, собрались, ироды? Побоялись бы Бога. Ладно бы негра линчевали, но повесить слона, божье создание, не по-христиански это, противно, неправильно.
Большая Мэри отказалась идти на казнь сама, никто не смог сдвинуть ее с места. Пришлось идти на хитрость — привезти других слонов, и она, привычная к парадам, весело махая хвостом, прошла с ними до места, где стоял железнодорожный кран. Когда слоны уходили, они оборачивались и трубили, как будто прощаясь с Мэри. Животные — а все чувствуют, как люди, честное слово. Много я видел за свои пятьдесят лет, но вот это просто сердце мое сжало и защемило, аж дышать было тяжело. Шею Мэри обвязали цепью и стали поднимать, ее ноги оторвались от земли, и она повисла в воздухе. Раздался громкий щелчок, массивная цепь лопнула, и Мэри грузно рухнула на землю. Толпа ахнула, и началась паника. «Кровавая Мэри всех затопчет! — в ужасе кричали зеваки, разбегаясь в разные стороны — Спасайся кто может!» Рейнджеры изготовили ружья. А толку? Ей их пукалки, как укус комара. Но Мэри никуда не побежала. Она сидела на задних ногах, как огромный лопоухий кролик, недоуменно крутила головой и жалобно трубила, ее уши повисли. В глазах у нее, я клянусь, были слезы. Она плакала. Мистер Спаркс подбежал к ней и обнял ее за ногу. Из его глаз градом катились слезы. Так они и плакали вдвоем — слон и человек.
Шериф Гэллахан рассказал потом, что мистер Спаркс рыдал от счастья — он думал, что второй раз нельзя казнить за одно и тоже преступление, что-то твердил про пятую поправку к Конституции. Шериф сказал, что так-то оно и есть и что он был готов отпустить Мэри, он не мясник какой, а представитель закона. Но дело было плохо. Миссис Спаркс осмотрела слониху, и оказалось, что у нее сломано бедро. Что делать со слоном со сломанной ногой? Шериф Гэллахан, теперь уже из сострадания, дал команду вешать Мэри второй раз. Мистер Спаркс отвернулся и ушел в слезах, весь поникший, чтобы этого не видеть. Мэри что-то тихо трубила ему вдогонку. Прощалась. Она уже не так брыкалась, как в первый раз, когда на нее снова набросили цепь. В этот раз ее обмотали несколько раз, чтобы наверняка, и кран снова поднял Мэри вверх. Она подергалась немного и вскоре затихла навсегда. Потом ее похоронили, народ разошелся, и цирк уехал. Я напился в тот день до полного беспамятства, чтобы эта повешенная слониха не стояла перед глазами. Говорили, что еще несколько месяцев слоны «Великолепного цирка Чарльза Спаркса» не могли привыкнуть к тому, что Большой Мэри с ними уже нет, искали ее, ждали. Джамбо, огромный слон из цирка Барнума и Бэйли, который был на целых три унизительных дюйма ниже Мэри, стал самым большим слоном в Америке. А наш Эрвин, пропади он пропадом, навсегда остался городом, в котором повесили слона.
Рецензия писателя Романа Сенчина:
«По моему мнению, просто замечательно. Повествование от лица Фрэнка окрашивает сюжет настоящей художественностью, дает автору много стилистических возможностей, убирает из текста некий налет публицистичности, который так часто встречается в произведениях, написанных об исторических событиях. Получился, по сути, монолог человека, который не вторгается в происходящее — образцовый наблюдатель. Яркий, эмоциональный, остроумный — «Порадовался за Рыжего, что возвращается в родной город даже не на коне, а на слоне».
В целом чувствуется, что строй языка англоязычный, это автору удалось.«Все близлежащие деревья и крыши домов были усеяны мальчишками, которые сидели на них, как нахохлившиеся мартышки». «Мальчишки» — «мартышки» мне нравятся.
Последнее предложение — «А наш Эрвин, пропади он пропадом, навсегда остался городом, в котором повесили слона» — отличное, образцовый финал.»
Рецензия критика Валерии Пустовой:
Яркое достоинство рассказа — в его цепкости к реалистичным деталям. Всё, что происходит, очень легко рисуется в воображении, потому что автор позволяет рассмотреть именно те подробности, которые важны для понимания ситуации. В рассказе выбрано повествование от имени наблюдателя-очевидца, явно не совпадающего с автором, это особенно ярко проступает в его реплике о том, что казнь негра бы он еще выдержал, в отличие от казни слонихи — тут видна примета времени, противоречия прошлого. И прием очень удался — это другое достоинство рассказа. Текст действительно порождает ощущение, что мы стоим с рассказчиком в толпе и сами всё наблюдаем.
Кроме того, автору удалось схватить и передать интонацию устного рассказывания, так что повествователю начинаешь доверять с первой фразы: очень живым, непосредственным слышится этот голос. В самом строении сюжета найдены острые, неожиданные повороты. Рассказ глубоко трогает прежде всего благодаря этой резкой изменчивости. Например, картина шахтерского городка резко сменяется образом парада, на котором опять же резко преображается образ человека из Эрвина — юноша на слоне кажется вестником большого мира, больших возможностей. Мирная, скорее, комичная сцена поедания слонихой арбузов резко обращается в трагедию. И, как и герою, читателю надолго запомнится сцена казни — именно в силу введенных автором подробностей: как слониха не сразу шла, а пошла только по цирковой привычке, как на парад, как с ней прощались слоны, как все оборвалось и вроде бы закончилось, но оказалось, что теперь ее важно умертвить из своеобразной человеческой жалости, как обнимал ее за ногу и рыдал вместе с ней ее хозяин.
Отдельно хотелось бы отметить сатирическую убедительность картины общества — автор очень метко и едко описал волну реакции на трагедию, участие в судьбе слонихи разных общественных сил. Образ застрявших линчевателей особенно запоминается. В рассказе есть интересное, хоть и не впрямую — что тоже удачно — выраженное противопоставление реакции людей и поведения слонихи: слониха на фоне людей выглядит правдивей, подлинней, поскольку в ее поведении нет двойной природы, она животно честна и в своем гневе, и в своих жалобах, тогда как люди разыгрывают карту слона, кто во что горазд, причем это касается и хозяина Мэри, который, с одной стороны, зарабатывает на ней, с другой, относится к ней как к ребенку, а с третьей, опрометчиво передоверяет слониху юноше, не умеющему с нею справиться.
Есть, однако, в рассказе и свойства, на которые стоит обратить внимание, чтобы уйти от них в дальнейшей работе. Первое — это нарушение границ и стиля в выбранном типе повествования. Да, рассказчик звучит очень убедительно и живо — но есть фрагменты, где автор заставляет его говорить больше, чем он мог бы сказать. Причем больше — и по смыслу, и стилистически. Смысловые границы выбранного повествования нарушаются, когда рассказчик открывает нам полную историю слонихи, тайны семьи владельца цирка, особенности циркового быта. Рассказчик просто не может всего этого знать. Как в цирке обедают, из каких тайных чувств владелец очень полюбил Мэри, как Мэри обычно выступает и т.п. Или в сцене казни: мол, Мэри не понимала, почему в нее швыряют — но рассказчик не может так выразиться, для него закрыто знание о душевном состоянии слонихи. Он может говорить только как очевидец, регистрирующий все, что ему важно заметить, что он сам пережил.
Стилистически рассказчик изменяет себе, когда выражается чересчур литературно, и устная речь вытесняется письменной: «Весь город собрался на пыльной главной улице», «верблюды идут задумчиво», «красная мякоть разлетелась в пыли», «сидели, как нахохлившиеся мартышки» — тут рассказчик слишком усердствует в описаниях, и видно, что это автор рассказа хочет создать образ поярче, пообъемнее, потому что рассказчику было бы плевать на эпитеты и сравнения. Лучше было бы не превышать полномочия рассказчика — а напротив, заострить ощущение, что эту историю нам рассказывает очень конкретно живший и понимавший жизнь человек.
И вот тут второе — вопрос о смысле истории, о том, для чего и кем она рассказана. Автор начинает рассказ с очень интересного контрапункта — рассказчик ощущает свою жизнь в городе бесперспективной и бесправной и вдруг видит сына товарища, которому удалось сбежать от общей жалкой судьбы, вернуться в город если не на коне, то на слоне, как это остроумно в рассказе подмечено. Но вдруг оказывается, что судьба и рассказчика, и этого юноши абсолютно не важны: рассказ выходит на вневременной и потому довольно-таки абстрактный сюжет противостояния общества и природы, человека и животного. Боюсь, это достаточно банальный поворот истории. Да, слониху жалко, но жалость к ней предсказуема, как и реакция людей на трагедию, как и сама трагедия. И не открывает нового смысл рассказа: мы оплакиваем животное, которым люди заигрались, изъяв из его естественной среды и погубив, едва она перестала вписываться в среду человеческую, ей чуждую. При этом совершенно теряется из виду судьба и особенности того, кто нам все это поведал, и того, кто стал жертвой этой действительно страшной и жалкой, постыдной истории. В перспективе было бы удачно соединять линии рассказа: случай со слоном важен не сам по себе, а потому, что он что-то открыл рассказчику именно как человеку с конкретной судьбой. Сейчас же случай со слоном важен сам по себе, а рассказчик совсем не важен, случаен, на его месте мог бы быть любой другой человек, как и на месте пострадавшего юноши. То есть, герои оказываются только поводом к рассказу о слоне, но сам этот рассказ не открывает ничего нового: каяться перед природой люди начали давно, сейчас этот процесс набирает обороты.
Ну и третье — про соотношение истории и сейчас. Рассказ убедительно рисует время и место действия. Но остается вопрос о связи этой истории с сейчас, о том, как современность может актуализировать и повернуть такой сюжет. Ведь невозможно читать этот рассказ вне времени, вне знания о том, как развиваются отношения человека и природного мира, как усложняется понимание и человека, и, условно скажем, слона. Остается вопрос, почему автор выбрал именно это время и место для такой истории. Чем эти время и место удачнее, чем любые иные, почему именно они выбраны для раскрытия этого смысла. Намеренная актуализация сюжетов может выглядеть поверхностно и пошло, но и игнорировать историю, след темы в литературе и обществе для писателя невозможно. Образы страдающего животного и безжалостного человека уже прочно вошли в культуру, в историю вопроса. Неизбежно перед автором, берущимся за эту тему сегодня, встает задача пересмотра, обновления или актуализации темы, раскрытия ее в новом ракурсе или новыми средствами. Тогда читатель ощутит, что эта история про него сегодняшнего, к нему сегодняшнему обращена, тогда его рассказ не только тронет — но и заденет глубоко. Эти замечания я высказываю, имея в виду дальнейшую работу автора в прозе. Если же говорить именно об этом рассказе, то он производит в целом убедительное и трогательное впечатление.

В добрый путь
В распахнутое окно видно зеркало и кусок давно не крашенной стены. Чешуйками сползает на пол потерявшая цвет краска. В раме зеркала, она знала, стоит фотография — Элена и Роже в день свадьбы. Двадцать лет покоится Роже под тяжелой плитой деревенского кладбища, а жена по-прежнему разговаривает с мужем:
— Видишь. — Она выглядывает в окно и кивает белой головой в сторону вспотевшего правнука. — В футбол бегает, хорошо ему тут, места много.
Петя бьет по мячу, отодвигает тяжёлую ветвь яблони с редкими бело-розовыми цветами, улыбается прабабке. Он знает, что здороваться необязательно: она разговаривает только с мужем. Элена распахивает окно, вдыхает весенние запахи, любуется садом и семьей с верхнего этажа их общего дома. Она не уверена, что помнит, как зовут детей, внука и правнука, и еще какая-то молодая женщина нюхает розы, но приветливо кивает каждому деревцу, посаженному мужем, каждому колокольчику, своей главной сирени и любимым цветам дочери — пионам, еще в бутонах. Элене девяносто восемь, так написано в письме швейцарского посольства. Роже родился швейцарцем, и посольство Конфедерации каждый год поздравляет вдову с днем рождения. Сама Элена полячка — ее родители приехали убирать урожай с полей Франции, когда девочке было два года, да так и не вернулись.
Спускается Кристин, морщится при виде матери. Кристин не любила мать в детстве, не любит и сейчас, не за древность же ее любить, в самом деле. Это только вина улучшаются со временем, да и то не все. Кристин уже предупредила сына и невестку, что не хочет лежать под одной плитой с матерью. Роже был рачительным хозяином. Он построил дом, разбил сад и выкупил две могилы на кладбище. Первая уже занята наполовину — им самим. В семье их четверо — если Элену похоронят над мужем, то Кристин предстоит соседствовать с братом. Этого она тоже не хочет.
Все утро сегодня Кристин вытирала пыль, начищала ванную и зеркала. Ее маленькая квартирка из трех комнат на среднем этаже большого дома покоится в белом свете чистоты. Та же опрятность и умиротворенность в самой Кристин: вот уже сорок лет как она начинает день горсткой антидепрессантов. До депрессии Кристин работала директрисой поварской школы, не «Кордон блю», конечно, но тоже с хорошей репутацией. Школа была далеко от дома, далеко от любимого отца и обожаемого сына. Через три года она вернулась в парижский регион, получила должность в лицее Нантера и заболела депрессией из-за общения с большим количеством юных арабов, её учеников. Арабов она не любит почти так же, как не любит свою мать.
Пока Элена щебечет мужу о весне, цветущих яблонях, маленькие саженцы которых он посадил еще в прошлом веке, дочь ее жалуется невестке. Невестка русская, назовем ее Наташей.
— Матери давно пора на свалку. — Кристин поджимает губы, руки в молитве, немного дрожат. — Ты только посмотри, сколько вокруг ухоженных пожилых женщин! А она не хочет даже одеваться, слоняется по квартире в халате, ее надо скрутить силой, чтобы заставить принять душ. Но как она ест! — Кристин поражена и хочет поразить собеседницу: — Она съедает тарелки с обедом и ужином еще за завтраком!
Каждое утро Кристин должна открыть ставни окон в квартире Элены, а вечером — закрыть их, это ее единственная забота о матери. Всем остальным занимаются муниципальные службы, в пятницу вечером приносят еду на все выходные. Кристин сложно выходить из дома целых два раза, тем более что весенними вечерами еще прохладно, она может заболеть, простудиться. Поэтому и старается закрыть ставни еще в два часа дня. Невестка возражает: Элена и так видит мало дневного света, ладно зимой, но весной, когда все живое радуется солнцу, обидно оставаться в темноте. Кристин лишь пожимает плечами. Она рассказывает о своем детстве, как любила отца, радовала его хорошими оценками, а мать не устраивала праздников в дни рождения детей. Когда Кристин исполнилось четырнадцать, ее отправили в парижский пансион. Элене было сложно справляться с домом, огородом и двумя детьми, и было решено, что к замужеству дочь подготовится в пансионе.
Наташа слушает монолог Кристин без осуждения, но немного удивлённо. Ей непонятно, как уживаются в свекрови страстное обожание Христа — которого любят уже два тысячелетия миллионы людей, целуют его раны и поют ему песни — и равнодушие к её собственной, ещё живой, матери. Зачем Христу столько любви? Наташе кажется, что любить Христа уже общее место. Любить мрамор, музыку, холсты, созданные ради него, хорошо, но эта любовь стерильна, она никого не согреет и не спасет. Она так рада, что у ее сына есть прабабушка, своих прабабушек она в живых не застала. Как много бы она отдала за возможность поговорить со своими бабушками, просто прижаться к ним, поластиться — к русской бабушке Дусе и армянской, папиной маме — Гаяне. Каким добрым светом они наполнили её мир в самом начале пути! Цветные картинки, навсегда сохранённые в памяти сердца, меняются, как преломленные солнечные лучи внутри закрытых глаз. Сжать посильнее — и иссиня-черные и фиолетовые круги плывут вокруг зрачков — русская бабушка с раннего утра заговаривает дрожжевое тесто на пирожки. Скворчат на сковороде золотистые кружки кабачков. Бабушка лепит пельмени и выгоняет деда из дома за смородиновым листом: внуки наелись свежих огурцов, пришла пора малосольных. Если потихоньку поднимать верхние веки, блики запляшут красными, жёлтыми, оранжевыми всполохами — у бабушки армянской из еды только яичко всмятку и хлеб с маслом нарезан длинными полосочками — солдатиками. А в маленьком кухонном окне — полоска бескрайнего моря, и где-то совсем рядом, бабушка знает наверняка, несётся на всех парусах корабль. А на корабле и Незнайка, и Буратино, и Чиполлино, и Алиса, и, конечно же, капитан с бородой. Они плывут к ней, от скорой встречи сдавливает восторгом сердце, ей еще хочется вспомнить, как по-разному пахли морщины так рано ушедших бабушек, но надо лезть под машину за мячом сына. Щедрое черноморское солнце из детства припекает маленький подпарижский городок.
— Петя, надень кепку!
Ребёнок делает вид, что не слышит. Кристин опять морщится: ей не нравится, когда при ней говорят на непонятном русском. Из всех иностранных языков она признает только английский. Когда-то даже дружила с английской семьей, вообще до депрессии была важным, уважаемым всеми человеком.
Женой Кристин побыла недолго. Мужа выбрали по критерию — живет рядом, родители-работяги, брат порядочный. А муж оказался скандальным, кричал, возвращаясь с работы, бросал стулья на пол, сейчас уже никто и не помнит — зачем. И все это в общем доме, хоть и на разных этажах. Роже поговорил с дочерью, что так продолжаться не может, и Кристин выставила мужа и запретила общаться с сыном. Петиному папе был год, когда мать подала на развод. Это была эпоха, когда матери сами решали, будет ли у ребёнка отец. Но церковь, так горячо любимая Кристин, развод не признавала, и молодая женщина испугалась, впервые в жизни, остаться без духовной поддержки, без Бога в каждом своем дне. Отчаявшись, она подкараулила деревенского священника после службы и поделилась своим горем. Отец Луи попросил произнести всего одну фразу: «Христос, я люблю тебя!» Кристин вложила в нее столько искренней любви и никому, кроме Бога, не нужной нежности, что священник простил ей развод, и Кристин вновь вернулась на почетное место ближайшей от алтаря скамьи.
Петя мастерски ведет мяч по асфальту от дома до сада. Мяч пролетает между маминых ног. Мальчик весело кричит и сам себя обнимает от радости за забитый гол. Он занимается футболом в том самом Нантере, в котором в семидесятые годы прошлого, неизвестного Пете века, Кристин потеряла равновесие и уверенность в том, что она — это она. Не справилась — с чем? С пониманием, что её Бога не существовало для этих шумных неопрятных детей? Со страхом за их жизнь без бога? Со страхом за собственную жизнь? С тем, что этим детям и слово нельзя сказать вопреки — тут же прибегут отцы и старшие братья? С тем, что учителя были каждый за себя, и за детей никто и не боролся? Как ни пыталась объяснить невестке, точнее сформулировать не удалось. Знала только, что именно тогда все понеслось в тартарары, и республиканские и христианские ценности распались на атомы и вновь соединились — в серо-белых таблетках, без которых она не может ни встать, ни заказать такси, ни растолочь картошку в пюре непритязательному внуку.
Невестка выводит Элену в сад, помогает сесть на неудобный пластиковый стул. Кристин тут же предлагает матери конфеты, купленные для Пети. Она предпочитает, когда у матери занят рот, тогда она не может говорить. Элена сначала пытается разговаривать с конфетой во рту, но Роже не отвечает, а когда отвечает кто-то другой, прабабка не слышит: в слуховом аппарате сели батарейки, и поменять некому. Поэтому Элена грызет карамель — у нее до сих пор целы зубы, отмечает Кристин, — иногда вскрикивает весело, совсем как Петя, что так и носится с мячом. Мальчик уверен, что прабабка восхищается его игрой и начинает отбивать мяч носком правой ноги. И все торжественно считают: мать по-русски, прабабка по-французски, Кристин — на английском.
Вечер потихоньку приходит на смену жаркому одинокому дню. Время готовить ужин, но и ужинать они будут каждая на своем этаже. От Элены немного пахнет старческим недержанием, и когда ветер меняет направление, Кристин привычно морщится и отодвигает свой стул.
Несмотря на быстрые сумерки, она все говорит и говорит, оттягивает час возвращения в одинокую квартиру, где из всех радостей — тоненькая книжка Псалмов на тумбочке и розовые четки, привезенные Наташей из Ватикана.
Просто Кристин не может знать, да и никто не может, что сегодняшний вечер — последний, что она быстро заснет в пахнущих лавандой подушках и больше не захочет просыпаться. Чистое зеркало на секунду отразит ее испуганный дух, еще не полностью покинувший тело. Дух повисит в лунном свете как будто сомневаясь, а потом расправит крылья, окрепнет в душу и уже ничего не боясь и почти не страдая, устремится за белым столбом света навстречу отцу.
Рецензия критика Валерии Пустовой:
Рассказ получился атмосферный, дышащий настроением дня, домом, воспоминаниями, которые, в свой черед, тоже атмосферно напитаны. Автору удается показать движение момента, драгоценное сверкание вроде бы обычного семейного дня. И бабушки в воспоминаниях, и правнук в саду, и напряженная нелюбящая дочь, и нездешняя уже, не со здешними говорящая прабабушка — все тут предстает в деталях, жестах, движении.
Рассказ написан скользяще, легко. Иные его фразы скрывают сильное напряжение — например, заметна внутренняя ирония в описании Кристьян, когда говорится одно, а подразумевается другое: внешне нам предлагается ее точка зрения, но фраза скрывает подтекст, переворачивающий смысл сказанного. Такой стиль — скользящий, поворотливый, вбирающий подтекст, непрямой, мне очень нравится. В нем видна именно творческая работа со словом.
Очень интересна и сама сцена. И то, что по сути весь рассказ — это всего лишь сценка. Сценка, вобравшая в себя так много. Мы видим обычный день большого дома, в рамках этого дня ничего не случается, напротив, участники даже утомлены привычным течением дня. Но автор раскрывает контекст все шире, и оказывается, что за простыми жестами — поесть, поиграть, поздороваться, пожаловаться — таится множество конфликтных линий, старых обид, невысказанных возражений.
Сами герои тоже удались. Беспечный правнук, идиллическая, потому что не контактирующая с настоящим временем, прабабушка, напряженно безупречная внешне, болезненная Кристьян.
К тексту у меня есть одно принципиальное замечание. Мне все же кажется, что было бы хорошо очистить его от давления, от авторских оценок. Просто показать этот день, этот сад, эти воспоминания, тихие шепотки и едва видимые жесты конфликта, тихую мирную смерть. Этого было бы достаточно — и более того: это бы и ошеломило читателя, сам этот контрапункт внешне благополучно устроенной, сверкающей, большой жизни семьи — и тесноты, болезненности конфликтов и переживаний. Автор же словно не доверяет истории, не доверяет и читателю. И пытается сам расставить оценки, все объяснить, проанализировать, сопоставить. Читатель ведь сам хочет во всем разобраться. Если рассказ сводится к выводу, к морали, то достаточно прочесть этот вывод в кратком содержании. Но суть художественной прозы в том, что сам строй ее, сами образы — это не формулируемый в двух словах месседж. Если суть произведения можно сформулировать в двух словах — то нужно оставить эти слова, а произведение не писать. Художественный текст не занимается ответами, оценками, судом. Он показывает, он создает этот мечтаемый план жизни, дополнительную реальность нашего опыта.
Вы же сводите весь рассказ — такой атмосферный, тонко выписанный, — к морали. И мораль эта проступает и в оценке Кристьян, которая показана явно негативно, и в рациональном противопоставлении человечности и религиозности, и в финале, где автор прямо отражает свое отношение к этой семье, выделяет любимую героиню, можно сказать, благословляет ее. Тема «последнего» вечера очень болезненная, многие переживают об этом. И конечно, это интересный поворот. Но мне непонятно, зачем писать об этом вот так — педалируя, наседая на читателя, заставляя его разделить осуждение героев, которые, мол, не знали, что вечер последний. Я не очень понимаю, как тот факт, что вечер последний, может помочь нам разобраться в героях и ситуации, в этой семье? Они ведь проживали свой обычный день, не хуже и не лучше прочих дней в году. У каждого из них свои интересы и травмы. Как и у этой прабабушки — ей уже столько лет и она настолько душой перенеслась за мужем, что ее уход более чем ожидаем. Мне не понятно, что именно автор подчеркивает, когда говорит: «Просто Кристьян не может знать, да и никто не может, что сегодняшний вечер — последний, что она быстро заснет в чистых, пахнущих лавандой, подушках и больше не захочет просыпаться». Что это меняет для восприятия дня, рассказа, героев? Тут видно, что автор хочет провести свою линию. Но эта линия не кажется органичной строю рассказа. Откуда тут картина загробья? И как эта картина соотносится с темой религиозности в рассказе? Ведь про отношения прабабушки с Богом не сказано, она говорит с цветами и мужем. Религия — мотив Кристьян. То есть финал получился оценочный, напористый по смыслу, но то, на чем он настаивает, не соотносится с тем, что нам показано в рассказе.
Предложила бы в будущем уходить от рациональности и оценочности. Попробовать в плане эксперимента просто рассказывать историю, показывать ситуацию и людей. Если временно себя дисциплинировать, отказаться от соблазна делать выводы и судить за читателя, постепенно эта склонность уйдет. Мне кажется это важным, потому что выводы в рассказе замещают образы, а прямые оценки отнимают у читателя возможность живого контакта с историей, в которой он мог бы разобраться и сам».
Комментарий писателя Романа Сенчина:
«Рассказ в общих чертах получился. Главное, есть атмосфера. И гнетущая, и в то же время сладковато-грустная. Есть три героини, и переходы от одной к другой у автора, я считаю, почти получились. Повествователь-демиург есть, и он здесь очень кстати.
«…внуки наелись свежих огурцов, пришла пора малосольных» — отлично. И это тоже: «ей еще хочется вспомнить как по-разному пахли морщины так рано ушедших бабушек, но надо лезть под машину за мячом сына. Щедрое черноморское солнце из детства припекает маленький подпарижский городок».

Васька
«Тот кто честен, добр и смел,
Тот и есть волшебник!»
Детская песня на стихи В. Лугового
Выйдя со двора, он понял, что забыл переобуться, хотел было повернуть назад, но увидел, как из дверей высыпала компания школьных хулиганов, и двинулся дальше. Ноги утонули в легких сугробах. Снег мгновенно забился под брюки и жгучим холодом обхватил голые щиколотки. «Недоделанные какие-то! Одно название!» — вспомнил он, как возмущалась бабушка его короткими носками, провожая в школу. Каждый день. До болезни. И мысли вновь устремились в тревожное русло, ставшее уже привычным за последнюю неделю.
— Васька! Васька! — раздался позади голос Илюхи. — Да подожди ты!
— Ой-ой-ой, опять котик убежал, — громко выкрикнул кто-то из компании. — Сейчас мой ротвейлер его остановит!
Остальные разразилась дружным гоготом, а Васька залился краской, вспоминая, как на глазах у всей школы упал в обморок при виде собаки.
— Ты что, совсем обалдел?! Переобувайся давай! — Илюха пихнул в него сумку с ботинками.
— А смысл уже?! Тут три шага осталось, — буркнул в ответ Васька.
— Ты, вообще, как на улицу ходить собирался?! Сегодня же последний день, потом школа на неделю закрыта будет.
— Подумаешь… Ира мне новенькие стильненькие закажет.
— Ну, нет, — протянул Илюха и улыбнулся — Лучше тогда дома посидеть. От твоей будущей stepmother ничего хорошего не жди. Она, наверняка, выберет серебристые дутики.
И они рассмеялись.
— Если серьезно, Вась, я все понимаю. Ты переживаешь. Но раз врачи оставили твою бабулю дома, значит, все у нее норм. Мой дед вот три недели в больнице провалялся и ничего. Вернулся — опять дымит как паровоз.
— Да… Я бы и не переживал, если б можно было видеться…
— А в чем проблема-то?! Ключи от ее квартиры у тебя есть. Маску надень, перчатки там и — вперед. Из коридора ручкой помашешь, парой слов перекинетесь. Все окей. Ире вообще не обязательно об этом знать. У нее и без того нос, как у Шапокляк. А папа поймет тебя. Если, конечно, узнает. — Илюха хитро подмигнул.
— Ты это серьезно?!
— Absolutely! Я бы давно так сделал!
До дома Васька бежал, не останавливаясь, и перед самым подъездом чуть не врезался в старую дворничиху Надью. В длинном цветастом балахоне под светоотражающим жилетом и с метлою под мышкой она гордо выходила расчищать свежие сугробы. Высокая, с неизменно прямой спиной, в сдвинутом на затылок платке, из-под которого выбились длинные, с проседью косы, дворничиха больше походила на сурового индейского вождя.
— Здрасьте! — еле сумел выдавить из себя Васька и, как обычно, боясь даже взглянуть ей в лицо, прошмыгнул в подъезд, на ходу достал ключи и не в силах ждать лифт в одно мгновение взлетел по лестнице на шестой этаж.
Не закрывая тамбура, он кинулся к бабушкиной двери, привычным движением вставил ключ под нужным углом и ловко открыл вечно заедавший замок. Бережливая бабушка наотрез отказалась менять его после старых хозяев, как и что-либо другое в квартире, купленной отцом специально для нее рядом со своей. Внутри было тихо и холодно. В зале стояла искусственная елка. Они вместе собрали ее в тот день, но так и не успели нарядить, потому что бабушке стало плохо. Позабыв не только надеть маску, но и разуться, Васька прокрался к спальне и осторожно заглянул. На неубранной постели никого не было. Рядом с диваном стоял журнальный столик, на нем кружка, какие-то таблетки и рамка с фотографией. Мама, смеющаяся, с развевающимися на ветру волосами, держит на руках пухленького Ваську, у которого все лицо перемазано тютиной 1. На кухне старые часы пробили четыре. Его собственное сердце гулко отдавалось каждым ударом в ушах. Васька побежал на кухню. Никого. Рванул дверь туалета, потом ванной. Бабушки нигде нет. Он ринулся назад и в тамбуре столкнулся Ирой, вышедшей из их квартиры.
— Где бабушка? — закричал он.
— Мальчик, это что за тон?! — начала было Ира, вскинув вверх тонкую, искусно нарисованную бровь, но, сделав над собой усилие, терпеливо продолжила — Во-первых, почему ты не закрыл входную дверь? Во-вторых, кто тебе позволил заходить в эту квартиру? И, наконец, почему ты в кроссовках?
С каждым вопросом она аккуратно, чтобы не испачкать длинное облегающее платье, по фэн-шуй щедро усыпанное серебристыми пайетками, изящно наклонялась, по одной поднимала брошенные Васькой вещи и складывала их на длинную тумбу.
— Где моя бабушка? — чеканя каждое слово, повторил Васька.
— Успокойся, мальчик. Твой папа пристроил ее в больницу и…
Не дожидаясь продолжения, Васька достал телефон и набрал отца. Ира забеспокоилась.
— Ты кому звонишь? Он сейчас занят. У него важное совещание.
Отец сбросил его звонок. Вася набрал еще, потом еще, пока не услышал уставший голос:
— Я занят. Перезвоню…
Но Васька не дал ему договорить:
— Где бабушка? Я знаю, что ее нет в квартире. Где она? Что с ней?
В трубке повисла тишина, потом отец тяжело выдохнул и сказал:
— Она в реанимации, на ИВЛ. Состояние критическое. Но врачи говорят, что еще есть шанс. Я созваниваюсь с ними каждые два часа. Васька, прости, что…
Рука опустилась сама собой, телефон выскользнул. Он присел на корточки, обхватив себя руками. Ира подхватила телефон, прощебетала что-то с приторной улыбкой и поспешно отключилась.
— Так, нечего тут театр устраивать. Живо поднимайся и иди собираться. Через час приедет такси. Отец будет ждать нас у ресторана.
— Я никуда не поеду, — тихо сказал Васька.
— Это еще почему? Ты вообще понимаешь, какой чести мы удостоились, получив приглашение на этот праздник?
— Да какой может быть праздник, если бабушка умирает?!
— Тоже мне трагедия. Пожила достаточно, грех жаловаться. Ты, мальчик, подумай лучше о чем-нибудь позитивном. Например, что в подарок к этому новому году тебе достанется собственная квартира, — и Ира брезгливо кивнула на бабушкину дверь.
— Да хватит! И прекратите называть меня мальчик! У меня вообще-то имя есть! — вдруг заорал Васька и вскочил на ноги.
— Что ты?! — прошипела Ира и на ее красивом лице проступила ненависть. — Смотри, как заговорил! Да ты такая же безмозглая деревенщина, как и твоя мамаша, которой ума не хватило дать тебе человеческое имя, а не какую-то кошачью кличку…
— Не смейте оскорблять мою маму! Вам и не снилось стать такой, как она была! Илюха льстит, называя вас Шапокляк. Вы даже старушке с крысой могли бы дать фо…
Договорить ему не дала звонкая пощечина. Там, где накладные ногти прокололи нежную кожу, налились четыре красные капельки. В тамбуре повисла тишина, которую изредка прерывало тихое мяуканье, доносящееся с лестничной площадки. Уже мало заботясь об элегантном образе, Ира схватила стоявший в углу веник и яростно кинулась к входной двери. Но Васька первым выскочил из тамбура и отогнал к лестнице рыжего бабушкиного кота. Тот как будто только этого и ждал, метнулся по ступенькам вниз, на каждом пролете оглядываясь, словно проверяя, бежит ли за ним Васька. На первом этажа кот еще раз оглянулся и ловко нырнул в приоткрытую дверь квартиры дворничихи. Судя по доносившимся звукам, Надья уже вернулась домой. Васька застыл в нерешительности.
— Теть Надь, — Вася осторожно заглянул в щель, но зайти не решился.
С самого первого дня переезда и вот уже третий год подряд он ужасно боялся дворничихи, ее акцента, ее смуглого морщинистого лица и черных, словно полностью состоящих из зрачков глаз.
— Теть Надь, извините, пожалуйста. Это…
— Заходи, Василий, заходи, — раздался голос дворничихи, и дверь перед ним плавно распахнулась. Надья показалась в глубине кухни все в том же наряде, только без фирменной жилетки с названием района на спине. — Я тебе уже и чаю налила.
Квартира ее была под бабушкиной, но изнутри оказалась совершенно другой. Васька будто бы вошел в старый деревянный дом, такой же, как тот, куда бабушка водила его «лечить испуг». В кухне было тепло и сладко пахло мятой и медом.
— Ирка? — спросила дворничиха, разглядывая Васькину щеку. Он молча кивнул. Надья тихо выругалась.
— Прости, что скажешь. Ну, не бойся меня, Василий. Проходи, садись.
— А я и не боюсь.
— А вот Федор говорит, что боишься.
— Федор?!
— А разве ты не знаешь его? — и она указала на кухонный шкаф, где, свесив передние лапы, лежал и наблюдал за ними бабушкин кот.
— Бабушка его просто Рыжиком зовет, — неуверенно возразил Васька.
Кот поднялся, медленно потянулся, спрыгнул Надье на плечо и коротко, но громко мяукнул.
— Нет. Говорит, что Федор. — Надья ласково потрепала кота по загривку. — Умный он у вас. Рассказал мне и про бабушку твою, и про тебя.
Васька тяжело вздохнул и впервые посмотрел дворничихе прямо в глаза. Они оказались даже черней, чем он представлял. Но не было в них ничего пугающего и отталкивающего, наоборот, они лучились теплотой и заботой. Совсем как у бабушки. И слова хлынули из Васьки безудержной волной.
— Теть Надь, я знаю, вы не простая дворничиха. Прошу вас, помогите моей бабушке! Я все, что хотите, для вас сделаю! Хотите, буду вместо вас снег чистить! Всю зиму! Да что всю зиму! Всегда! В любую погоду! Вы не смотрите, что я маленького роста. Я все могу делать. Мы с бабушкой в деревне всегда наравне работали. Все сделаю, все отдам, лишь бы бабушка жила дальше! Теть Надь, прошу вас! — голос его задрожал, слезы навернулись на глаза.
— Ну, спасибо тебе, Василий, за предложение. Не простая дворничиха — это ты хорошо сказал, — она улыбнулась, помолчала и со вздохом продолжила. — Но такие вопросы, к сожалению, за пределами моего участка. С этой просьбой обращаться надо выше, если не боишься.
— Не боюсь! — моментально выпалил он.
Надья пристально посмотрела на Ваську, словно ждала, что он отступится и по своему обыкновению опустит глаза. Но он упорно отвечал взглядом на ее взгляд. Наконец, она продолжила.
— Хорошо. Но тебе нужно знать еще вот что, — голос ее вдруг зазвучал иначе, потеряв привычный акцент. — Энергия нашей планеты обладает поистине волшебной силой и удивительно связана с душой каждого живого существа. Увидеть ее невозможно, но такие, как я, чувствуют ее повсюду. С давних времен на поверхности Земли появляются особые места, где она наиболее сконцентрирована. Их иногда называют местами силы, но скорее они напоминают ее источники. В таких местах любые желания исполняются с невероятной быстротой. Как хорошие, так и плохие. Когда-то любой мог прийти к источнику силы и просить. Но очень многие пользовались ими неправильно. Если доброе и справедливое само порождает энергию, то использование силы во вред сущему, либо со злым умыслом тратит ее безвозвратно. Потому-то был наложен запрет на свободный доступ к источникам силы, за соблюдением которого строго следят хранители. И теперь только больным и убогим дано беспрепятственно пройти к источнику, чтобы просить исполнить их желания, не подвластные или оставленные без ответа другими людьми. Я могу помочь тебе попасть к месту, где находится источник силы. Но если же тебе будет отказано пройти к нему, ты никогда не сможешь вернуть свой прежний облик.
Через полчаса, в новом обличье и в сопровождении Надьи, Васька бежал вниз к главной набережной города. Теперь он был не тощим десятилеткой, а диковинным городским калекой. Его левая нога раза в полтора вытянулась и, чтобы хоть как-то сравняться с правой, от бедра изгибалась в сторону неестественной дугой, словно вместо костей в ней была проволока. Лишь походка осталась такой же легкой и стремительной. Со стороны казалось, будто он от радости каждый раз подскакивает на левой ножке. Так и бежали они по центру города под непрекращающимся снегом, растрепанная старуха с метлой и подпрыгивающий калека, но в новогодней суете никому не было до них дела.
Когда они подошли, перед заброшенным зданием старинных складов топталось уже десятка три калек и нищих разных сортов и мастей. Среди них то там, то тут вспыхивали светоотражающие полоски фирменных жилеток.
— Теть Надь, а что все дворники…? — Вася запнулся, не зная, как выразить вопрос, чтобы не обидеть ее.
— Не все, конечно. Но большинство, — она подмигнула ему и потом уже очень серьезно добавила. — Смотри, Василий, мне с тобой входить нельзя. Внутрь пойдешь сам. Я буду ждать тебя здесь. Никто не знает, кем на самом деле является и как выглядит хранитель источника. Он принимает разные образы. Неизменно лишь то, что будет он справедлив и страшен. Ибо страх не дает загадать желание, если оно не рождено самой душой.
Вдруг раздался звук, похожий на протяжный вой, и собравшиеся медленно двинулись к центральной части здания, где зияли три проема: широкий и два узких по бокам. Васька покорно последовал за остальными. Он вошел в широкий проем последним, но, к изумлению, оказался один в огромном зале. Сплошные кирпичные стены по всему периметру поднимались метров на шесть вверх и тонули в темном декабрьском небе. Несмотря на отсутствие крыши, снега на полу не было, только идеально ровный лед, из-под которого в центре зала струился изумрудный свет. Вдруг на дальней от входа стене скользнула чья-то тень. И сразу же в Васькиной голове отчетливо прозвучал властный голос:
— Кто ты и зачем пришел?
— Я… я… Я Василий Николаев, но все зовут меня просто Васькой. Мне очень нужна Ваша помощь. Моя бабушка, Нина Ивановна, умирает. Прошу Вас, спасите ее!
— Ее участь решена. И она с ней смирилась. Ты не должен был входить сюда и просить за нее. Энергия мира требует равновесия. За жизнь нужна будет жизнь!
— Возьмите мою! — не помня себя, Васька кинулся к тени и угодил прямо в изумрудный поток.
Свет прошел сквозь него и в воздухе возникла объемная, слово вытканная из серебряных нитей, картинка. На ней в мельчайших подробностях возникали и стремительно сменяли друг друга образы. Вот легковая машина мчится по трассе, металлические ограждения мелькают с обеих сторон. Вот на встречной полосе показала широкий металлический лоб и стала приближаться белая фура. В легковой машине играет музыка, ветер рвется в открытое окно. Васька сразу же узнал в водителе маму. Она улыбается, откидывает льнущие к лицу пряди волос. Внезапно перед мамой на дорогу выскочила собака. Взвизгнули тормоза, легковая машина резко кинулась на встречную полосу.
— МАМА! — что было сил закричал Васька и инстинктивно закрыл голову руками.
Голос его смешался и утонул в переполнивших зал звуках. Визг, удар, скрежет металла, звон стекла — и видение осыпалось на пол ледяным дождем, сквозь звон которого прогремело.
— А тебе одну — должны!
В этот момент тень спрыгнула в ледяной зал и перед Васькой предстал огромный белый пес.
— Протяни мне руку! — приказал беззвучный голос.
Васька повиновался. Пес подошел и положил морду Ваське на раскрытую ладонь. По центру пола побежала трещина, толстый лед раскололся пополам и ушел из-под ног. Васька и пес стояли друг против друга в мерцающей сине-зеленой дымке. И в тот момент, когда голубые глаза собаки встретились с переполненными страхом детскими, яркая вспышка озарила зал. Свет погас, и Васька свалился без чувств.
Очнулся он в своей комнате, в ногах у него сидел Илюха. Увидев, что друг открыл глаза, он весело выпалил заготовленную фразу:
— А я уж думал, придется тебя целовать, Спящая красавица.
— Как я здесь оказался? Что со мной произошло? И как тебя Ира пустила-то?
— Если мне не изменяет память, ты вообще-то здесь живешь. Хотя после зимней прогулки в кроссовках вполне мог и в больницу загудеть. Скажи спасибо дворничихе Надье. Это она случайно наткнулась на тебя и домой привела. А Шапокляк, насколько я понял, скоропостижно вас покинула. Просто она не смогла отказать себе в удовольствии и без твоего папы, который бросился на поиски тебя, отправилась на королевский бал, где и подыскала себе нового принца. И это еще не все подарки от Деда Мороза. Папа отправился за самым главным.
Не успел он договорить, как щелкнул входной замок, и Илюха побежал в коридор встречать вошедших.
— Ну как наш беглец?
— Нормально. Проснулся вот только. Здравствуйте!
— Здравствуй, Илюша! Как дела у тебя? Как дедушка?
Услыхав родной, с детства любимый голос, Васька вскочил и, как безумный, помчался в коридор.
Вечером, провожая Илюху домой, он выглянул в окно. Двор снова щедро засыпало снегом, в свете фонарей дворничиха Надья сметала его в аккуратные горки. Словно почувствовав на себе Васькин взгляд, она обернулась и победно потрясла метлой.
- В Ростовской области исключительно так называют шелковицу[↑]

Встреча в сочельник
Вечер перед Святым Рождеством 1637-го года в Париже и его окрестностях был особенно промозглым, холодным и тёмным — зимняя мгла быстро спустилась на город, тяжёлые тучи, полные снега, закрыли собой небо и путеводными звёздами парижанам были отблески свечей и каминов через щели деревянных ставень. В латинском квартале шатались ватаги подвыпивших студентов, задирая прохожих непристойными шутками. На узких улочках можно было увидеть благочестивых буржуа, торопившихся к своим семьям, иногда мелькали на этих улочках и черные сутаны, но еще чаще — юбки «ночных красавиц».
Среди поздних прохожих был и студент-медик Жильбер Ромье — молодой человек двадцати двух лет, высокий, плечистый, с черными волосами и карими, очень живыми глазами. Но сейчас взгляд его потух, потерял обычную живость, и опустив голову, он медленно брёл вдоль Сены, не замечая ни её сырого дыхания, ни ледяного ветра, пытавшегося резкими порывами содрать с него плащ. Его голова горела, а в сердце, казалось, образовалась черная дыра — до того бездонная, что Жильбер даже поглядывал время от времени на тёмную воду Сены слева от себя, но каждый раз вздрагивал и тут же отводил взгляд. Вот уже три месяца как он был одержим любовью, но не знал, как приблизиться к объекту своих нежных и страстных чувств — белокурая Анна была дочерью богатого аптекаря и просить её руки, не имея приличного состояния за душой, представлялось абсолютно невозможным.
Уже несколько ночей он провёл без сна — думал, как разбогатеть. Заняться алхимией? Научиться превращать низкие металлы в золото? Нет, это долго, можно не успеть — отец выдаст Анну за другого, пока Жильбер будет протирать штаны за чтением трактатов и тратить драгоценное время на бесконечные опыты.
Начать ухаживать за Анной тайно? Добиться доказательств её взаимности, а затем поставить родственников перед фактом — и они сами потребуют женитьбы? А может, чтобы быстро достать денег, нужно ограбить, убить? — подумал, и сам ужаснулся своим мыслям. Вздрогнул, оглянулся — как будто кто-то мог услышать его внутренний голос. Никого не было рядом, но с тех пор ему постоянно чудилось чьё-то незримое присутствие, пристальный взгляд на все его мысли и поступки, а в голове стали крутиться дьявольские, искушающие мысли. Чтобы хоть немного избавиться от любовного наваждения, он шёл в Собор Парижской Богоматери и молил Бога дать ему знак, как поступить и что сделать для своей любви.
После занятий на медицинском факультете ноги сами несли Жильбера к дому Анны — он бродил вокруг него кругами, заходил в лавку аптекаря в надежде встретить её там, и, чтобы как-то оправдать своё частое присутствие — тратил скудные средства на покупку ненужных ему лекарственных трав. Аптекарь, слуги и покупатели уже даже стали раскланиваться с ним, принимая за выдающегося мэтра медицины и ученого.
Сначала купленные травы гнили по углам его коморки, но вскоре пригодились — Жильбер вплотную занялся фармакологией и изготовлением лечебных эликсиров. До факультета медицины как раз дошли слухи об ухудшении здоровья кардинала Решилье — требовалось лекарственное средство, способное облегчить сильные желудочные и невралгические боли. Жильбер работал над составом лекарства упорно — делал из трав отвары, настои, процеживал, фильтровал — но рецепт не давался.
И вот наступил Сочельник. Уже утром удалось увидеть Анну возле булочной Толстяка Жермена. И — она посмотрела не него! Ах, эти кроткие голубые глаза! А кожа! Нежная, молочно-белая и даже как-будто светится изнутри! Она ему даже улыбнулась — и чудесные, милые ямочки появились на её щечках! Её тонкие, маленькие пальчики покраснели от холода — и Жильбер еле сдержался, чтобы не броситься к ней и не покрыть её ручки страстными поцелуями.
Восторг и оживление утихли к вечеру — отчаяние и сомнения снова захватили его целиком. В подавленном настроении он дошёл до площади Нотр-Дам, которая была освещена факелами. Глаза его наполнились слезами, он посмотрел вверх, на громаду Собора — туда, где стояли статуи святых и где сидели страшные горгульи, подстерегая заблудшие души. Вдруг ему показалось, что большая тень метнулась к нему вниз с высокой каменной стены, но, когда он сделал шаг вперед, чтобы приглядеться, что же это было, налетел дикий порыв ветра, он поскользнулся и упал бы, если бы вдруг его не поддержала сильная рука.
Перед ним стоял высокий, немолодой уже человек, богато, но несколько старомодно одетый. Выслушав благодарность Жильбера, человек представился господином Николя де Бари, землевладельцем и путешественником. Его голос был резким и гортанным, и сам весь он производил впечатление человека, приехавшего из дальних краёв, особенно привлекали внимание окладистая борода и пронзительный взгляд из-под густых и нависших бровей. Тут же завязалась беседа — господин де Бари живо интересовался философией, медициной и имел большие познания в алхимии. Жильбер тут же получил приглашение выпить стаканчик вина в его доме. Отказываться показалось неудобным, и, пройдя несколько шагов по темной и узкой улочке, Жильбер и господин де Бари поднялись в большие и просторные комнаты. Уже горели камин и свечи, слуга принёс вино, вскоре язык Жильбера развязался, и он поведал все свои горести и безнадёжные чаяния под внимательным и участливым взглядом.
— О, как я вас понимаю, молодой человек, как понимаю! Вы начали терять веру в возможность любви и счастья, только потому что бедны! Но деньги не должны быть препятствием для любви — вот моё твёрдое убеждение! И никогда не нужно терять веру — даже если — и особенно если (тут господин де Бари весело засмеялся) — она с горчичное зерно! Ну да ладно, об этом позже! А пока у меня к вам предложение — вы человек необычайной живости характера, начитанный и образованный, умеете поддержать беседу (тут Жильбер, как мог, приосанился, и, несмотря на винные пары, попытался придать себе важный и умный вид). А у меня, — продолжал господин де Бари, — в Сочельник из года в год одна и та же история — беспокойство, непонятная тоска и печаль охватывают меня. Я не могу усидеть на месте, неизведанная сила толкает меня вон из дома и заставляет бродить всю ночь по темным улицам, как будто я должен найти что-то, что я давно и безвозвратно потерял. Не хотите ли составить мне компанию и быть мне спутником? А я уж щедро отблагодарю вас — не пожалеете!
— С удовольствием! Сочту за честь! — воскликнул Жильбер.
— Вот и прекрасно! В путь! И смотрите в оба — в эту ночь, я в этом уверен, вы узнаете кое-что новое для себя! И о любви, и о том, к чему может привести порочная страсть! — усмехнулся господин де Бари и быстро накинул на плечи Жильбера подбитый мехом и диковинно украшенный плащ с золотым вензелем.
С трудом оторвав взгляд от причудливого золотого шитья на плаще, Жильбер оторопел — оказывается, они уже не в доме господина де Бари, а быстро поднимаются по какой-то узкой и извилистой улице вверх по холму. Тучи внезапно разошлись, полная луна сияла на небе, ветер стих. Оглядевшись, Жильбер убедился, что идут они как раз по улице Святой Женевьевы-на-Горе. Вот только дома стали какие-то другие, да и каменная стена аббатства Святой Женевьевы сильно раздалась и вдоль и вширь.
— А как… — начал было Жильбер, но его спутник дал знак молчать. Они стояли возле небольшого и неприметного дома, входная дверь которого была приоткрыта.
Прислушавшись, господин де Бари прошептал:
— Уже ушли. Зайдем. Здесь живет один наш хороший знакомый — отличный знаток философии и теологии, но и не менее подкованный знаток в любви! Вот за неё-то он как раз и расплатился в этот вечер сполна!
Когда они вошли в дом, то увидели слабый свет из комнаты, в которую вела старая деревянная лестница. Вдруг оттуда раздался слабый стон, полный боли и муки.
Взбежав вверх по лестнице, Жильбер рывком открыл дверь в комнату и замер — на разостланной кровати, в одной лишь ночной рубашке, задранной до спины, лежал на животе мужчина, закусив от боли подушку, — он был без сознания. По ногам мужчины текла алая кровь и уже пропитала простыни большими, мокрыми пятнами. Схватив масляную лампу со столика возле кровати, Жильбер быстро осмотрел пострадавшего. С окаменевшим лицом повернулся к господину де Бари:
— Да его же оскопили! Оскопили, как домашнюю скотину! Католика, христианина! Да как же…
Не договорив, Жильбер разорвал простынь на куски и стал осторожно останавливать кровотечение. Затем забинтовал, как мог, рану. Господин де Бари протянул ему маленькую фляжку:
— Нужно дать ему выпить немного вина.
Разжать стиснутые зубы удалось только с большим трудом. После нескольких глотков, мужчина немного пришел в себя:
— Элоиза, Элоиза… помогите… — прошептал он слабым голосом.
— Ваша возлюбленная Элоиза и ваш сын — в безопасности, — строго сказал господин де Бари. — Он их не тронет. Всё таки родная кровь. А вот вы — чудом избежали смерти, — благодаря медицинским способностям господина Ромье. Он в этот вечер расплатился сполна за знания, которые вы ему дали!
— Но я не знаю этого человека! И знаний от него никаких не получал! Всех моих преподавателей на факультете я знаю в лицо, — воскликнул Жильбер.
— Получали, молодой человек. Перед вами — господин Пьер Абеляр, научивший целые поколения людей размышлять и отстаивать свою точку зрения. Он пострадал от рук родственников своей возлюбленной, которую совратил до того, как женился на ней. А вы только что спасли ему жизнь, — без вашей помощи он бы истёк кровью и умер в этот вечер. А сейчас будьте любезны, поднимитесь этажом выше и потрудитесь разбудить старую служанку господина Абеляра, пусть позаботится о нём. Да постучите в дверь как следует — она глуховата и спит крепко. Нам пора бы уходить. Ночь перед Рождеством не длится вечность.
Когда вышли на улицу, голова Жильбера кружилась, он ничего не понимал. С одной стороны, не верить увиденному своими глазами он не мог, но ведь… Пьер Абеляр, известный философ, теолог и диалектик жил и умер четыре века назад! В конце концов Жильбер решил пока вопросов не задавать — лицо господина де Бари было мрачным, он шёл молча и быстро. Погода тоже поменялась — резко похолодало, стал подниматься ветер и гнать с запада тяжелые тучи. Луна будто истончала и растаяла, но всё ещё освещала дорогу. Жильбер стал наконец то узнавать улицы — вот показался и приземистый, крепкий, построенный на века архиепископом Тристаном де Салазаром Отель де Санс. Но что это? Перед Отелем были разведены костры, шумела и гудела пестрая толпа. В кольце вооружённых солдат стоял небольшой деревянный помост, на нём лежал связанный по рукам и ногам человек, а невысокий мужчина в красной шапочке, с мощными плечами и бычьей шее, — видимо, палач, о чем-то тихо, но сердито спорил с высоким, статным военным. У военного в руках была маленькая коробка, которой он в запале спора указывал на окна Отеля.
— Что это? Что здесь происходит, господин де Бари? — Наконец осмелился спросить Жильбер своего спутника.
— А это, господин Ромье, ещё один пылкий влюблённый будет сейчас платить за свою любовь! Мы на месте казни графа де Вермона!
— Граф де Вермон?! Ревнивец, застреливший молодого любовника королевы? — Жильбер не верил своим глазам. Да и что думать, он тоже не знал — ведь нашумевшая казнь случилась уже как тридцать добрых лет тому назад!
— Да, вон он, лежит, перевязанный веревками на помосте, — точь в точь как рождественский гусь, перед тем как хозяйка сунет его в печь! А вот и сама хозяйка! — и господин де Бари указал на распахнувшееся окно и силуэт женщины, показавшийся в нём.
Толпа тоже увидела женщину в окне — и завыла, заулюлюкала, засвистела на все лады.
— Какая милая и красивая женщина, не правда ли? А ведь в шкатулке, которую держит начальник караула — её кружевная подвязка, которой она приказала медленно задушить графа, своего бывшего любовника, чтобы сполна насладиться его страданиями!
— Господи помилуй! — выдохнул Жильбер. Так вот почему они спорят!
— Да, господин Ромье, палач — в некотором смысле честный и праведный человек, если так можно выразиться о человеке, чья профессия — рубить головы. И лишний грех на душу, как Вы видите, он тоже брать не хочет.
Тем временем возникла давка, и караул солдат не смог сдержать натиск, оцепление вокруг места казни порвалось. Караульный в беспокойстве глянул на толпу, затем на распахнутое окно Отеля.
— Казнить!! — тонко выкрикнул женский силуэт из оконного проёма.
— Старая шлюха! — ещё громче заорала толпа. — Убирайся, откуда пришла!
Жильбера под напором давки вынесло к самому помосту. Он, неожиданно для самого себя, ловко заскочил на него и вырвал из рук военного коробку. Караульный на мгновение опешил, но тут же пришел в себя и свалил сильным ударом Жильбера с ног. Тут же чья то сильная рука сдёрнула студента с помоста, толпа радостно заревела. Комья грязи, старые башмаки — всё, что было у зрителей казни под рукой, полетело в палача и караульных.
— Рубите ему голову! Рубите! Рубите! — пронзительно кричала фигура в окне.
Бедный Жильбер от сильного удара, криков и пережитого волнения потерял сознание и пришёл в себя только в жилище господина де Бари — в тепле у очага, в мягком и удобном кресле — слуга потихоньку вливал ему в рот вино, а сам господин де Бари сидел напротив и с весёлым блеском в глазах наблюдал, как его спутник приходит в себя.
— Ну, господин Ромье, повеселили так повеселили! Вот так и надо веселиться в ночь перед Рождеством! Я, конечно, подозревал в вас определённую живость характера, но чтобы настолько! Как же резво вы туда заскочили! — И господин де Бари, не удержавшись, громко захохотал. — А вы видели их лица? Не успели? Ну да, верно, ведь и господин Товенон тоже не промах! Кулаки у него крепкие!
Отсмеявшись, господин де Бари подлил Жильберу вина и его взгляд снова стал острым и пронзительным:
— А что это вы там держите в руках?
Жильбер тут только заметил, что всё еще крепко прижимает к груди коробку и с отвращением оттолкнул её от себя. А господин де Бари тут же её перехватил, щелкнул замком, открывая крышку.
— Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что там наша красавица приберегла для своего бывшего возлюбленного? Неплохо, неплохо! Какие кружева, какой фасон! Кстати, не хотите обменять эту шкатулку и её ценное содержимое на другую шкатулку, не менее ценную? Вам-то она без надобности, а мне ещё пригодится!
«Да я её и даром рад бы отдать» — подумал Жильбер и кивнул. Сил говорить у него не было.
— Ну вот и прекрасно! Завтра утром вы получите от меня не только шкатулку с подарком, но и возможность усвоить прекрасный урок по алхимии в наивысшем её проявлении — вы увидите, что даже золото можно превратить в материю более высокую и более ценную!
Господин де Бари ещё долго что-то говорил про любовь, высшие материи и действенные формулы алхимии, но Жильбер, как ни пытался прислушаться и запомнить хотя бы что-то — был уже не в состоянии ни слушать, ни запоминать. Усталость от холода и сильного волнения, огонь в камине и крепкое вино сделали своё дело — голос господина де Бари становился то громом с небес, то тихим звенящим ручейком, в какой-то момент его окладистая борода вдруг отделилась от лица и поехала в сторону, да и сам он весь начал двоиться, а то и троиться, а вскоре и вовсе провалился куда-то в темноту — Жильбер заснул.
Сон ему приснился чудный и прекрасный: из золотистой дымки вышла женщина с младенцем на руках, и столько было в ней красоты, материнской любви и светлой печали, что ноги Жильбера подкосились и он упал перед женщиной на колени. Женщина ласково улыбнулась, малыш на руках у неё радостно засмеялся, и Жильбер увидел, что теперь перед ним стоит его любимая Анна и протягивает ему букетик душистой травы. Запах показался ему знакомым, а вот название он вспомнить не мог. Еще раз вдохнул приятный запах — нотки цитруса, мёда и мяты.. Догадка молнией мелькнула в голове: Melissa officinalis! Мелисса! Настоящая «услада для сердца» согласно Парацельсу! Вот он, главный ингридиент лекарства для кардинала! А ещё добавить гвоздику, корицу, мускатный орех и кориандр! Тут же раздался радостный перезвон колоколов, чудесное видение пропало, и Жильбер проснулся — уже в своём жилище, в тёплой кровати, а колокола Собора всё продолжали звонить к праздничной литургии.
«Вот и Рождество!» — на душе стало вдруг светло и легко, как в раннем детстве, когда мать брала на руки и прижимала к теплой груди.
— Как же я оказался дома?! Или мне всё приснилось?!
Он сладко потянулся, сел в кровати и вдруг увидел шкатулку из красного дерева на каминной полке. Открыл дрожащими руками. Внутри — три слитка чистейшего золота.
Жильбер быстро оделся и направился к дому, где был накануне. Вот и знакомая улочка, знакомая дверь. На стук никто не ответил. С этажа выше на шум спустилась заспанная кухарка и сообщила, что именно в этой квартире случился пожар и в ней уже долгое время никто не живёт.
Жильбер обрадовался подарку, но не оставил золото себе. Он отнёс его в то рождественское утро в Собор и перво-наперво заказал заупокойные молитвы на несколько лет вперёд для графа де Вермона, для Пьера Абеляра и его жены Элоизы. На это золото был также построен приют для детей-подкидышей и детей-сирот при Соборе. Сам Жильбер всё-таки разбогател — благодаря патенту на рецепт лекарства, изобретённого им во сне, — и смог счастливо жениться на своей любимой Анне. Он стал прекрасным врачом и знаменитым мэтром медицины, построил несколько больниц для бедных и совершил за свою долгую жизнь множество больших и маленьких добрых дел. Но вся эта вереница радостных и закономерных событий случилась чуть позже.
А в то Рождественское утро Собор Парижской Богоматери был для Жильбера особенно красив и наряден. Святые, Цари и Апостолы величаво стояли на фасадах, как-бы воспевая с людьми Рождение Того, кто спас мир. И даже горгульи, казалось бы, утратили на время свой грозный вид и в тихой задумчивости смотрели на землю, укрытую пушистым белым снегом и на весёлых, празднующих людей.

Вторая премьера
Есть такие люди, от которых все вокруг приобретает живость; все, чего они касаются, меняется, наполняется жизнью. Если бы человеческий мир был наделен определенного рода способностями, именно они оживляли бы погибший цветок, одним прикосновением возвращали бы раненую лошадь в табун, подхватывали бы падающие звезды и отправляли их обратно в небо. Что-то высшее и очень разумное решило, что пока вещественный мир не готов к таким откровенным чудесам, его нужно поддерживать чудесами другого рода, такими, которые не увидишь глазами, а увидишь только сердцем. Именно к таким людям Небесный Комитет приставляет таких, как я — особое пожизненное сопровождение. Из всех моих подопечных (а было их очень много) мне хочется рассказать об одном. Не потому, что он был лучше всех других, а потому, что его история отличалась от многих.
***
Помощник прокричал: «Стоп! Снято!», и эти слова вытолкнули из своего кресла режиссера. Он наконец распрямил ноги, чтобы отделаться от мерзкого ощущения прилипших к коже брюк. Все лето было плюс тридцать. На площадке поставили три кондиционера, но сидящего долго и в напряжении это не очень-то спасало.
Знакомьтесь, это мой подопечный, Артемий Зимовец. В прошлом году он попал в топ лучших режиссеров России. Как и в позапрошлом, как и…
— Эй, хватит меня воспевать!
Это он мне. Кстати, видит меня тоже только он. Ну как видит — чувствует, что я здесь. Я и сам себя никогда не видел. Меня приставили к Артемию с рождения. Частично его киноуспехи — это моя заслуга.
— Ага, щас! — Артемий захлопнул дверь автомобиля и выехал с территории киностудии. Водит он очень смело, поэтому я сейчас прервусь, пристегнусь и буду держать ухо востро.
…Припарковав машину в подземном гараже, Артемий вышел во двор посмотреть, как там прижилась туя, которую он посадил пять дней назад. Пять мохнатых сочно-зеленых кустиков, по форме напоминавших гигантские капли, уверенно сидели в земле своими корнями, а верхушками еще более уверенно тянулись к небу. Артемий наклонился проверить, влажная ли почва или уже пора полить, когда его окликнул знакомый голос:
— Привет, сосед! Я весь день за ними наблюдаю!
Это Иван. Год назад он попал в аварию, ему сильно перебило ноги, и теперь он передвигался на инвалидной коляске. Жена Ивана собрала вещи и ушла. Иван получил от нее письмо с просьбой подписать заявление на развод. Вместе с заявлением из письма выпорхнули невидимые оправдания своего невеликодушного поступка, и Иван открыл пошире окно, чтобы дать им покинуть его жизнь. Заявление он подписал. Потянулись дни новой жизни. Управление своей долей строительного бизнеса он делегировал партнерам, на объекты больше выезжать не мог, но раз в месяц проверял отчетность, бухгалтерию и ставил свои подписи на новых контрактах. Однажды я решил проведать его, пока мой Артемий разговаривал по телефону, и увидел, как он, набрав в раковину воды и опустив туда голову, беззвучно кричал, и только огромные пузыри воды вырывались из его рта с приглушенным бульканьем. Я кинулся обратно к Артемию и рассказал ему все, что видел. На другой день мы поехали в приют, который спонсировал Артемий, и забрали оттуда молодого белого кота. Сначала Иван отпирался и становиться хозяином животного не хотел, но когда заглянул в его синие-синие глаза, сдался и поблагодарил Артемия. Снова у Ивана настала новая жизнь. Впрочем, у кота тоже.
Артемий поднял голову и поздоровался: Иван сидел в своем кресле, облокотившись на балконный подоконник, а на плече у него устроился Буня и время от времени бодал любовью своего Ивана.
Когда Артемий зашел в квартиру, было уже почти темно. Я повис на люстре и следил, как он снимал часы, переодевался в домашние штаны и футболку, делал себе бутерброд, а потом включил ноутбук. Дома он тоже всегда работал. Я сполз с люстры на плечи Артемия и заглянул в монитор. Замелькала раскадровка завтрашней сцены, направление движения камеры, ракурсы… Я зевнул, переместился на диван и уснул.
Через месяц Артемий доснял свой фильм, еще через год он вышел на экраны. В день премьеры собралась вся творческая знать Москвы. Сверкая дорогими украшениями на пальцах, эти декоративные люди тянули к моему Артемию руки, и я перебрался к нему за правое плечо, чтобы быть начеку. Насчет успеха фильма я не волновался: я знал его судьбу. Поэтому когда последние титры убежали наверх и зрители встали, аплодируя, нисколько не удивился. Облетая зал и показывая Артемию жесты, за которые Небесный комитет, как пить дать, снова объявит мне выговор, я вдруг заметил серую тонкую женщину. Она была именно серой, потому что среди всей этой аляпистой толпы ее невзрачный наряд только так и можно было назвать. Она стояла у входа прямо напротив сцены и Артемия, не сводя с него глаз. В руках у нее что-то было, я подлетел поближе и увидел сложенный лист бумаги. От нее не веяло опасностью, Артемию она ничем не угрожала. От нее исходили долгоживущее горе и надежда.
Зрители стали покидать зал, я снова занял свое место у Артемия за правым плечом. Мы вышли с ним в коридор, и тут я снова увидел эту женщину. Она вглядывалась в толпу, увидела Артемия и неуверенно подошла к нему.
— Артемий, пожалуйста, выслушайте! — выпалила она и опешила от своего напора. Я засмотрелся на нее, не заметил, как Артемий остановился, и врезался ему в затылок. Серая женщина не дала Артемию ответить и сразу продолжила: — Мой сын, ему тринадцать, он очень хотел увидеть ваш новый фильм…
— Его начнут показывать завтра. Он еще успеет. — Артемий улыбнулся.
— Нет, он не сможет прийти ни на один из показов. Я за этим пришла. — И она протянула ему сложенный лист и достала ручку из кармана. — Сына зовут Дима.
Лист оказался чистым, и Артемий широко шагающими буквами вывел «Диме от А.З.» и расписался. Толпа обтекала нас, иногда толкая.
— И вот еще что… — снова заробела женщина и протянула конверт. — Это вам от Димы.
Весь фуршет Артемий рассеянно отвечал на поздравления с премьерой, стоял чаще отдельно от толпы и мял в кармане письмо. Да и мне самому не терпелось узнать, что же там. Это не первый раз, когда Артемию писали письма поклонники, но мы оба чувствовали, что каждая буква этого письма займет место не только на бумаге. Двое известных артистов и один влиятельный кастинг-директор спросили у Артемия, почему он в такой день стоит сиротой. Они не знали, что Артемий был не один.
Первым делом в такси Артемий включил фонарик на телефоне и развернул письмо. Я прильнул к нему и тоже стал читать. Машина шла мягко по ровной дороге, и тряска не мешала чтению.
***
В больницу мы вошли около десяти утра. Трудно искать пациента в таком огромном бетонном канапе, когда ты знаешь только его имя. Артемия никто не узнавал, люди здесь были заняты реальностью, и я воспользовался своим служебным положением — напряг все силы, уткнулся подбородком в грудь, глубоко вдохнул и повел Артемия к палате Димы.
Мы вошли внутрь. На кровати в полусидячем положении лежал мальчик. Он смотрел в окно, на голове — большие наушники, как у пилота. Волос у Димы не было, под глазами — синие тени. Я почувствовал, как у Артемия сжалось сердце.
— Привет, Дима, — сказал он. Мальчик не расслышал, и тогда Артемий сделал шаг. Дима уловил движение и повернулся. Я много прожил, но даже я изумился, как такое слабое человеческое тело могло испытывать такой водоворот эмоций — удивления, восторга и непонимания. Я даже испугался, что мальчик не выдержит.
— Вы прочитали письмо, да? И пришли… — Мальчик хотел подняться навстречу Артемию, но силы в ногах не было. — Мама говорила, что отдала письмо, но я и подумать не мог, что вы прочитаете его, да еще и придете! Кстати, как вы меня нашли?..
— Куда без халата и бахил? — На пороге появилась женщина с ведром и шваброй. — И наверное, без допуска… — Она прищурила глаза. — Щас охрану позову!
И угрожающе подняла швабру. Я протиснулся между ней и косяком и дал Артемию знак, что нам пора. Техничек побаиваются даже в Небесном комитете.
— Слушай, Дима, я обязательно еще к тебе вернусь. Обещаю.
И Артемий дотронулся до желтой руки ребенка.
***
— И когда ты собираешься это сообразить?
— Завтра. Врач сказал, что времени почти не осталось.
Мы с Артемием сидели у Ивана на балконе. После дождя вкусно пахло мокрой землей. Я с удовольствием дышал и легонько дергал Буню за хвост. Кот поворачивался, бил передними лапами невидимого врага.
— Возьми меня с собой, Артемий! Хочется тоже чего-то такого сделать, ну хоть косвенно поучаствовать, понимаешь?
Артемий понимал.
— Тогда до завтра, — сказал Иван, провожая Артемия. И тут же, в дверях, добавил: — Чёт ты как ни придешь, Буня будто валерианки налакался, нервный какой-то. Может, пиво наше подлизывает… без тебя-то я не пью.
***
Окна холла занавесили плотной темной тканью. Принесли раскладные стулья, пуфы, лавочки. На них сидели те дети, которые могли ходить, а еще врачи, медсестры, технички. На подоконники накидали подушек из пустых палат для детей послабее. Я насчитал троих ребят, которых привезли даже на их собственных кроватях. Дима был среди них. Рядом с ними стояли системы, капали лекарства, так что наш кинопоказ не пошел им во вред. Были и родители. Диму привезла из палаты мать, та самая серая женщина с премьеры. Только сейчас вся ее серость куда-то исчезла. Кинопроектор бросал немного тусклые, но все же яркие цвета ей на лицо, и она улыбалась. Сдается мне, что не из-за сюжета.
Я витал вокруг проектора, который Артемий подвесил посередине потолка, и считал взрослые и детские головы. Насчитал пятьдесят две! Иван разъезжал то с левой, то с правой стороны зрительного зала и раздавал всем желающим попкорн и газировку. Про себя он тоже не забывал и то и дело стряхивал с груди крошки.
Когда титры побежали наверх, я вспомнил премьеру, которая прошла неделю назад. Эта нравилась мне больше. Я чувствовал каждое благодарное биение сердца в этом зале. Я видел, как с каждым вдохом те, кому уже не победить болезнь, смирялись, а те, кто еще мог бороться, набирались сил и упорства. Никому не хочется покидать этот мир, даже самым маленьким. Иван прослезился и отвернулся. Необязательно быть таким, как я, чтобы это понять.
На следующий день о больничном кинопоказе узнал весь город, потом область, а следом и вся страна. Я переключал каналы — во всех новостях говорили об этом. Показ не был тайной, но и привлекать внимание к нему мы не хотели. В недуге нет ничего стыдного, но это то, что обычно оставляют при себе или делят на семью и близких.
Артемия завалили письмами, звонками, сообщениями. От постоянного пиликания даже у меня чуть не разболелась голова. Журналисты хотели интервью, поклонники и просто неравнодушные граждане — выразить свое восхищение. Его звали на все шоу, во все программы. Артемий отказывался, говорил, что много работы. Письма и сообщения писали даже Ивану, когда узнали и о его участии. Иван, конечно, тоже отказывался от интервью и шоу, но отвечал на все письма и сообщения. Буня даже обиделся, что остался без положенного внимания, и я иногда залетал, щекотал ему белый загривок.
И в больницу, и родителям на счет стали приходить деньги. В больнице всего хватало, и главврач решил перенаправить неожиданный денежный поток на благотворительность. Родители тоже делились. В тот год Небесный комитет сбился со счета, пытаясь внести в Небесный реестр всех выздоровевших.
Спустя две недели после показа мы паковали чемоданы — вечером улетали в Сочи (фильм Артемия попал в фестивальную программу). Наши сборы прервал звонок. Звонок был нехороший, но не неожиданный. Артемию стало жарко. Я раскрыл окна и усадил его на диван, положил руку на плечо. Футболка под рукой была мокрая от пота. Он ходил по квартире, снимал и снова надевал носки, врезался в косяки, и если я не успевал подлетать, расшибался до ссадин. Снова перечитывал письмо. Все хотел что-то сказать, но не получалось. Мне и не нужно было, я и так все знал. Потом выбежал босиком в подъезд и стал стучать в двери Ивана.
До вечера сидели у Ивана на балконе. Буня скрутился калачиком у хозяина на коленях и даже не мурлыкал. Все молчали, смотрели на небо, пока не появились звезды. Убедились, что Димина душа попала именно туда, куда нужно.
Мы с Артемием провели пять дней в Сочи. Его фильм то хвалили, то критиковали. Одни говорили, что это лучший фильм за всю карьеру Артемия Зимовца, другие — что худший. В общем, в земном мире все было как всегда.
Когда мы приземлились в Москве, шел дождь. Иван встретил Артемия в аэропорту. Из его не до конца застегнутой куртки сквозь меня таращились два синих глаза.
Тропинки на кладбище развезло. Иван буксовал, и Артемий несколько раз его подталкивал. Могилу мы нашли почти сразу, мать Димы рассказала Артемию, как к ней пройти. Рядом с ней было еще несколько свежих глиняных куч — смерть Димы не изменила установленного миропорядка. Фото в аккуратной рамке, под стеклом — мальчик в белой рубашке. Несколько венков, искусственные цветы. Ничего особенного в этой могиле не было, оттого двое живых чувствовали себя так, словно ворвались, нарушили все устройство.
***
Это было много лет назад. Некоторых из тех, кто стоял на кладбище, кто был в том больничном кинозале, уже нет в живых, в том числе и Артемия. История его жизни хранится в картотеке Небесного комитета под номером… Даже не знаю, как назвать этот номер, люди еще не владеют такими цифрами. За те жесты на премьере Артемия меня все-таки пожурили и вызывали на ковер к Михаилу, но, в общем-то, обошлось. Вам, наверное, интересно, что там, после жизни? Где сейчас Артемий, Иван, Дима и Буня? Недавно забегали из Небесного профсоюза, искали самый большой кинопроектор, какой только может быть. Получила ли жена Ивана по заслугам за то, что ушла от мужа? За это ответственен Небесный суд, у Небесного комитета другие заботы — подопечные, отчетность, дрязги с Небесной канцелярией… Только я вам этого не говорил.
Рецензия критика Валерии Пустовой:
«Рассказ получился трогательный, написан он грамотно, легко. Автору удалось создать живые образы востребованного режиссера, пораженного неожиданным контактом с чужим горем, «серой» от горя матери, больного ребенка, даже кота. Убедительно звучит фантастический повествователь — это именно личный голос наблюдателя, имеющего возможность немного подняться над ситуацией, но не избегающего эмоционального вовлечения в нее. Внятной, убедительной получилась интрига — и месседж, к которому она выводит читателя: автор показывает, как несколько потерянных людей нашли себя в одном благом событии, устроенном наперекор смерти.
В рассказе есть выход и на философское утешение: автору удалось показать, что успех и горе земные относительны, а безусловно ценен только совершаемый человеком выбор, именно он остается с ним в посмертии и в конечном итоге определяет смысл прожитой жизни. Поэтому уход героя из мира земного в финале не сокрушает читателя, как и ранее смерть мальчика: автор позволяет взглянуть на бесповоротное с позиции существа, для которого ничего не кончается, а впрочем, и не приобретается навсегда. Рассказ помогает приподняться над земным, над жаждой и страхом. Он действует умиротворяюще.
В то же время в самом устройстве рассказа я вижу свойства, от которых впоследствии хочется предложить уходить. Первое мое замечание к рассказу — к заведомой и однозначной расстановке акцентов, даже — оценок. Жена ушла от инвалида — она плохая, режиссер купил инвалиду кота — хороший. Публика щеголяет богатством и успехом — плохая, больные дети радуются чудесному подарку — хорошие. Рассказ давит на читателя. Особенно сильное сопротивление это давление вызывает у меня в сопоставлении двух премьер: почему нужно прославлять одну ситуацию именно за счет другой, в сравнении с ней? — и в образе кота, который и собой хорош, и ярок, и все время умилительно проявляет свою привязанность к хозяину. Это умиление котом и это осуждение успешных в сравнении с обделенными — очень ожидаемые ходы с заведомо просчитанным действием. Можно поэтому назвать их манипулятивными: автор словно нажимает в читателе на готовые кнопочки, вызывая ожидаемую реакцию. Тогда как художественная проза работает с неоднозначностью и скорее нащупывает в читателе новые рецепторы, открывает новые возможности восприятия и чувства.
Вызывает сомнение и сама настроенность рассказа на непременное утешение. Инвалиду купили кота — и его жизнь счастливо преобразилась. Детям показали фильм — и они смогли кто смириться с уходом, кто приготовиться к борьбе. Получается, что и герои действуют по нажатию готовой кнопки. Слишком просто и ясно рассказ разбирается со сложными вопросами, слишком торопится предложить читателю «хороший» ответ. Но проза не занимается ответами. Задача рассказа — обострить вопрос, ввергнуть в противоречие, удивить, задеть, довести до парадокса. Проза не решает проблемы — она их открывает. Там, где для обыденного сознания все просто, для художника — все сложно. И уже на основе этой сложности может рождаться новая, выстраданная, глубокая простота.
Наконец, техническое замечание: вводя фантастическое допущение, важно продумать его следствия. В рассказе совсем осталась непонятной природа рассказчика. То он витает, как невидимый дух, то он должен пристегнуться и у него обозначаются части тела. То он знает все наперед — то волнуется, как земной человек, не имеющий возможности преодолеть ограниченность личного взгляда. То он представитель загробного мира, которому открыты тайны — то вместе с героями-людьми суеверно наблюдает, как душа мальчика звездочкой поднимается на небо. Не очень удачно и то, что именно из-за этого фантастического повествователя в рассказе включается назидательность, предвзятость. Не будь его — некому было бы показательно сравнивать две премьеры.
Интересно было бы предложить автору эксперимент: что, если написать эту же историю с точки зрения невовлеченного наблюдателя, такого, который не может заглядывать в души персонажей, читать их мысли и выносить надмирные оценки? Как тогда выстроится рассказ, куда сместится его смысловой центр, в чем будет его идея? Автор несколько облегчил себе задачу, наделив наблюдателя свойствами демиурга: много видеть, много знать, подниматься над ситуацией. Этот ход не может не выглядеть условностью. И поэтому текст читается хоть и приятно, и трогательно — однако не совсем всерьез. Как если бы нам рассказывали условную, гипотетическую ситуацию. Это не самый продуктивный способ контактировать с читателем. Все же лучше добиваться доверия читателя — полного, серьезного. Убедительной может быть любая фантастика, если она продуманно взаимодействует с закономерностями жизни. Но данный сюжет, мне кажется, в фантастическом допущении не нуждается. Возможно, если попробовать выключить этот план, в рассказе для автора откроются новые задачи и оттенки смысла.»

Второй кифаред
Заметив, наконец, яркие всполохи, мерцающие далеко внизу, император утомленно прикрыл глаза. Он не спал почти двое суток и теперь с особой остротой ощущал все звуки и запахи жаркой июльской ночи — стрекотание цикад, слабое движение горячего летнего воздуха, прикосновение к телу жесткой, намокшей от пота туники. Ему было душно.
Вместо занимающегося внизу пожара он все еще видел перед собой лицо юноши, умершего прошлой ночью. Его рука помнила тепло воды, смешавшейся с вытекшей из открытых вен кровью, помнила его кожу, до которой он не мог не дотронуться, настолько она вновь поразила его своей смуглой гладкостью.
Его губы невольно кривились в усмешке, которую так точно запечатлеют многочисленные мраморные бюсты, когда он вновь и вновь возвращался к одной мысли: как странно, что жизнь с такой одинаковой лёгкостью покидает тело раба, воина, патриция или поэта.
Неужели для богов нет никакой разницы в том, кто именно прощается с земным бытием.
Словно он ожидал, что лезвие сломается о нежную кожу запястий, или гром небесный поразит слугу, совершающего убийство.
Словно до последнего он верил в чудо, которое не произошло.
***
За день до Великого пожара Рима в городе состоялась малозаметная казнь, одна из тысяч других казней, к которым уже привыкли люди, как привыкали они и в более поздние века к проявлению жестокости своих правителей.
В покоях Нерона был казнен молодой греческий кифаред, за свой совершенный голос прозванный беотийским Орфеем, победитель соревнований, не раз увенчанный лавровыми венками.
Слава о его пении дошла до императора, и он приказал привезти его в Рим, чтобы самому убедиться в красоте его голоса и проникновенности стихов, а также посостязаться с ним в пении перед главными судьями страны.
Когда юношу привели в императорские покои, Нерон поразился его сходству со статуей Аполлона, стоявшей в атриуме. Не желая, чтобы кто-то еще заметил это сходство, император приказал набросить на статую ткань.
Юноше принесли одну из императорских кифар, инкрустированную золотом и драгоценными камнями, предварительно обрезав одну струну. Императору хотелось посмотреть, как музыкант выйдет из положения. С легким поклоном взяв кифару из рук слуги, юноша проверил струны и, не подав виду, что одной не хватает, начал играть.
С первых звуков всем собравшимся стало ясно, что диапазоном голоса, гибкостью пальцев и силой стиха он может тягаться с самыми прославленными кифаредами империи.
***
Когда пение кончилось, собравшиеся увидели, что император исчез. Кто-то пояснил, что он приказал отнести себя в сенат, сказав, что не пристало императору ради развлечений отрываться от государственных дел. Однако на самом деле, покинув дворец, Нерон незаметно вернулся обратно и, встав за колонной, неотрывно смотрел на юношу.
Вечером, пройдя в атриум и сдернув ткань со статуи Аполлона, Нерон несколько раз аккуратно провел по ее прохладным мраморным изгибам. Затем он приказал принести вина. Он чувствовал, что этой ночью не сможет заснуть от давно забытого ощущения сладостной тревоги, которое так часто испытывал в юности, слушая игру мастеров, и которое давно покинуло его, когда лучшие поэты, стараясь угодить императору, начали исполнять плохие стихи.
***
Через три дня были назначены публичные состязания. Император приказал не беспокоить себя и три дня и три ночи сочинял стихи и музыку. Юноше отвели покои во дворце императора, и иногда оттуда доносились приглушенные звуки лиры.
Накануне состязания император послал судьям по десять тысяч сестерциев, велев передать, что это скромное вознаграждение за их тяжелый труд выслушивать не только лучших из лучших.
Нерон выступал первым. Больше всего он любил именно эти мгновения, когда, выйдя на сцену в простом одеянии кифареда, он старался представить себя той Великой пустотой, в которой зарождаются и принимают бесконечно разнообразные формы мельчайшие частицы, в таинственном, одним богам известном порядке, заполняющие Вселенную.
Как обычно, полностью отдавшись музыке и стихам, он не мог в точности сказать, дурно или хорошо у него выходит, но на этот раз краем сознания он понимал, что голос его звучит мощнее, а сочиненные накануне строки получились сильнее, чем обычно. Он знал, что выступил хорошо, возможно, лучше, чем когда-либо. Окончив игру, он оглядел первые ряды зрителей и по их взволнованным лицам понял, что не ошибся. И услышав аплодисменты, он, ожидавший их, скромно склонил свою аккуратно завитую голову.
Вернувшись на балкон, император стал внимательно наблюдать за кифаредом, вышедшим на сцену после него. Юноша провел длинными пальцами по струнам. Юноша запел. Все, кто уже ранее слышал молодого певца, ожидали, что он будет выступать превосходно. Но на этот раз он превзошел самого себя. Самые смелые из тех, кто был на трибунах, шепотом уверяли потом, что видели небесную колесницу, мелькнувшую в облаке над амфитеатром — боги спустились, чтобы послушать пение смертного.
Нерон увидел себя стоящим на высоком холме. Свежий ветер холодил его растрепавшиеся волосы. Он видел перед собой Вечный город в розовых лучах восходящего солнца. Он владел этим чудеснейшим из всех городов. Новый день занимался над ним. Матери нежили детей, просыпавшихся на вышитых подушках. Мужья целовали жен, прежде чем покинуть уютные жилища. Торговцы и пройдохи с кожей всех мыслимых цветов отправлялись на Форум, чтобы менять, торговать и воровать с непревзойденным умением, присущим лишь этому сословию. Утомленные ночными празднествами патриции возвращались домой в своих пышных лектиках. Бродячие оборванцы брели к городским воротам, чтобы поведать жителям Рима о небывалых чудесах, творимых когда-то простым плотником из далекого Назарета. И весь этот город жил, двигался, дышал согласно воле величайшего и сильнейшего Императора на свете. А сейчас прекраснейший из городов парил на облаке из утреннего тумана. Слезы умиления застили глаза императора.
Юноша закончил петь. Трибуны молчали. Юноша стал удивленно оглядывать зрителей, и в его глазах проступила растерянность, вдруг очеловечившая лицо, казавшееся за минуту до этого лицом юного бога.
Тогда Нерон первым сдвинул ладони, и, последовав его примеру, сначала захлопали приближенные императора, а затем аплодисменты перекинулась с трибуны на трибуну, и, наконец, весь амфитеатр загрохотал, зашумел, увлекая сам себя этим новым звуком, сбрасывая удивленное оцепенение.
Юноша продолжал стоять на сцене, смуглый и стройный. Его глаза заблестели, на лице проступила улыбка. Он знал, что победил.
Ждали решения судей. Посовещавшись, те объявили, что победил император Нерон. Император, склонив голову, рассматривал складки своей тоги. Он ждал, что услышит рев возмущения, но по трибунам прошел лишь гул одобрения. С недоумением еще раз оглядев зрителей, он направился на сцену, чтобы принять лавровый венок. Там он внимательно посмотрел на судей, восседавших на преторских местах. На их полные холеные лица патрициев, светившиеся подобострастием и раболепием. Он вспомнил, сколько сотен тысяч сестерциев его личных денег осело в их глубоких кошельках. Сколько страха было в их глазах, когда он приказал казнить одного из них, предварительно забрав все его имущество. И с каким рвением они начали присуждать ему победу за победой, вновь и вновь провозглашая первым кифаредом Империи. Недобрая усмешка тронула его нервные губы.
***
После состязания император приказал устроить во дворец пир и привести юношу.
— Не обидно ли тебе, что ты не первый, а второй кифаред? — спросил он молодого певца.
— Разве можно говорить об обиде, когда во всем мире известно, что великий цезарь — первый кифаред, — отвечал юноша, очевидно, наученный кем-то этим неискренним словам.
— Считаешь ли ты, что я спел сегодня лучше тебя, что мои стихи были проникновеннее, а пальцы ловчее перебирали струны?
— Да, император, я слышал вашу игру, и она была искуснее моей.
Нерон внимательно и грустно посмотрел на юношу, словно жалея, что тот не ответил иначе.
— А знаешь ли ты, что на самом деле ты принадлежишь к великому роду Агенобарбов и что ты должен быть сейчас на моем месте?
— Вы ошибаетесь. Я знаю своего отца. Он служит счетоводом в Левадии.
— А я говорю тебе, что навел справки о твоей родословной, и что ты — великий владыка Римской империи, я лишь пыль у твоих ног. Вот лавровый венок, который ты сегодня получил по праву. Вот мои покои и мои слуги. Теперь они принадлежат тебе, а я буду твоим главным и покорнейшим рабом.
С этого дня семь дней и семь ночей во дворце бушевала оргия. Молодого кифареда обрядили в императорские одежды, а придворных заставляли целовать его ноги. Юношу носили по городу в императорской лектике с криками «Вот идет владыка», и слуги кнутами стегали людей, заставляя их вставать на колени перед носилками. Нерон послал к юноше своего скопца Спора и велел им возлечь вместе, уверяя, что это его преданная любящая жена. Сам же он плакал и восклицал, что не видел зрелища прекраснее.
Однажды во дворец для развлечения императора привели бродягу, что сидел на ступенях храма Диоскуров и рассказывал, как в Иудее научились превращать хлеб в вино, лечить расслабленных и воскрешать мертвых. Нерон спросил юношу, виновен ли этот человек в распространении вредного суеверия? И юноша, растерявшись и желая угодить, произнёс: «Виновен». После чего бродягу засекли до смерти.
Напоследок, призвав к себе несколько видных патрициев, Нерон спросил, признают ли они нового императора, рожденного первой женой его отца и отправленного в далекую Беотию. Не смущаясь разницей в возрасте, патриции признали нового повелителя, и Нерон отпустил их, снабдив драгоценными дарами, а затем приказал казнить.
Наконец, утомившись, Нерон велел юноше удалиться в свои скромные покои, сказав, что императорская власть, очевидно, оказалась слишком тяжела для него. Однако сначала он попросил певца исполнить что-нибудь. Но руки кифареда дрожали от частых возлияний, а голос осип от бессонных ночей.
— Теперь-то ты убедился, что ты не первый и даже, пожалуй, не второй кифаред в империи?
Этой ночью Нерон приказал казнить кифареда. Слуги императора положили юношу в теплую ванну и вскрыли ему вены. Когда все было кончено, император пришел взглянуть на тело певца. Утомление последних дней исчезло с лица юноши.
Перед императором вновь лежал прекраснейший из смертных.
***
До утра он не сомкнул глаз. В подступающем бреду ему чудилось, что пламя охватывает стены дворца. Он встал и надел плащ, словно готовясь к бегству, но затем снова лег, не снимая плаща. Он явственно слышал шум огня и полные ужаса крики людей. Переворачиваясь с боку на бок и обливаясь потом, он с ненавистью думал о толпе, которая, казалось ему, в панике металась по охваченному огнем городу.
Один раз ему послышались звуки лиры, и он застонал.
На рассвете, измучившись, он приказал подготовить десять тысяч факелов.
Рецензия писателя Марии Кузнецовой:
«Блистательная работа — что тут еще скажешь? Меня не оставляет чувство, что я об этом эпизоде читала где-то (не в источниках, в беллетристике), но гуглила и не нашла. Если даже такой эпизод был описан, это ничуть не умаляет глубины, тонкости и изящества этой истории. Но если нет, если автор взял несколько разных эпизодов (например, публичное едва ли не обожествление Спора приходит на ум), несколько разных жестокостей и на их основании построили такое мощное, архитектурно совершенное здание — автор не просто «молодец», а гораздо, гораздо больше.
Автору удалось везде выдержать слог, причем используя чистую стилизацию в редких случаях и самую малую: «не мог в точности сказать, дурно или хорошо у него выходит», «услышав аплодисменты, он, ожидавший их, скромно склонил…» и т.п.
Название выбрано отлично. Безупречный сюжет. Написано так хорошо (кажется, единственный в моей работе случай, когда я могу слово «красиво» употребить в положительном смысле!), что тянет перечитать еще — просто для удовольствия. И поделиться с другими.
Я бы хотела немного поспорить об эмоциях, испытываемых Нероном. «…он искренне забывал о своей имперской власти и чувствовал себя той Великой пустотой…» — не верю. Но это уже то, что относится к области вкусовщины. Ведь мне могут возразить, что, во-первых, никто не знает, что могло происходить у Нерона в голове, а во-вторых, он у автора является одновременно и героем, и как бы рассказчиком , поэтому вполне допустимо, что он сам верил, будто мог «искренне забывать о власти».
Огромное спасибо за такую прекрасную работу!»
Рецензия писателя Натальи Ким:
«Рассказ пробудил во мне желание углубиться и восполнить разные упущения. Здесь Нерон — абсолютно живая фигура, прекрасный портрет, глубокие разнообразные рефлексии, дающие возможность читателю благодаря тонкой вязи из уст роскошного повествователя-демиурга увидеть многообразную сложнейшую историческую личность, о которой лично я помню фразу «И ты, Брут», а также о неимоверных жестокостях, которым подверг император христиан, ну и пожар, конечно.
Ритмически всё безупречно, темперамент героя — убедителен, великолепные детали. Я не знаю, опирался ли автор на какой-то реально описанный в истории случай, и если нет, то сюжетный ход — когда завистливый император неделю мучает кифареда почестями — отличный. Хорошо выбрано название.»

Зеленое утро
Заурчал телефон, появился зелёный флажок во входящих. Оповещение было одинаковым для всех писем, но Глеб угадывал безошибочно, что это именно такое письмо — с пометкой «для Дины Юрьевны». Один день — одно такое письмо. Приходило оно поздно вечером, а чаще ночью. Глеб сохранял его под новым номером, затем читал, не вставая с подушки, и ворочался в своих мыслях.
№1 Олег Егоркин
Не помню этого Олега, второго, третьего, сколько их было… Не из нашего класса. И написал, прямо скажем, не очень, но зато прислал первым и потому молодец.
Я вообще кого помню? Прошло пятнадцать лет. Своих одноклассников разве что по именам, но со многими не сказали ни слова. Чужие классы и вовсе в тумане. Хорошо, что теперь не пришлось слишком долго разыскивать всех и дозваниваться.
Прочесал социальные сети, разослал приглашения: поздравить Дину Юрьевну с юбилеем и передать ей письмо. Фотографии тоже неплохо. Сбор посланий — через мою почту.
Пусть сами дозваниваются до собственной памяти.
Зачем затеял всё это! У людей своя жизнь, разбежались давно после школы. Это ты — как телок, не оторванный от пуповины.
Ну кто станет оглядываться через столько-то лет, они, поди, ничего и не помнят…
Однако ж вот оно — письмецо. Лёд тронулся, поглядим.
№2 Дмитрий Котов
Пфф! Красавчик, ты кому пишешь — коллеге, похвастаться или всё-таки своей школьной учительнице? Зачем ей твой живописный отчёт о карьерных ступенях? Зачем фотки с женой и роллс-ройсами? Это, кстати, жена?..
Как же им объяснить, что общих слов и протокольных звёздочек не надо.
Как живёшь-то ты, Кот? Что ты помнишь о времени, когда ты был котёнком с репейниками на хвосте?
№3 Гоша Снижко
Другое дело, от души написал, хотя и с ошибками. По школьной парте, правда, не скучает. Еще бы мелкий ушастик скучал! Зато теперь он эльф восьмидесятого уровня в World of Warcraft. Отлично верю. Спасибо, Снежок!
№4 Анастасия Суворова
Ну наконец-то, длинное письмо.
У Насти память как у слона. Среди прочего помнит, как я тогда вышел рассказывать про «Зелёное утро» Рэя Брэдбери. Запинался на неблагозвучной фамилии Дрисколл и загнул философию о марсианском дожде. Приятно, что помнит и даже не издевается.
Я был для них, одноклассников, как марсианин: «У тебя опять в глазах мысль» — упрекали. Зато Дина Юрьевна сразу подумала: «О!» — про мой пристальный взгляд. Она потом мне рассказывала. Я подумал о ней то же самое.
Это был её первый урок в нашем классе, знакомство. Парты стояли необычно, по кругу. Мы попали как будто на творческий вечер. Мне тогда показалось, что таких — не бывает. Учителей.
Каких — таких?
Настя, в целом-то, правильно пишет: Дина Юрьевна была мастером в расцвете сил. Но удивительно то, что, несмотря на груз опыта и несколько цепких, уже не «молочных» морщин, она казалась современной и свободной. Любопытной в отношении всего нового. Могла и Чехова, и Мураками обсуждать, и совсем неизвестных начинающих авторов. А Суворова, значит, мотала на ус и искала по книжным. Ну, возможно, возможно. Я был слишком ленив, не искал.
…Была символом интеллигентности, настоящей, без зауми. Филологом с первым техническим, потому в любом деле ценила логику и дисциплину. Была элегантной стремительной женщиной с безупречной фигурой и собственным стилем. Камертоном порядочности.
Это всё сочеталось в фантастический эликсир. Принимать надо было по каплям, жалко тратить впустую. Думал, я только вижу, но вот и Суворова… Ну, понятно, отличница.
Однако, всё же обидно, что Суворова столько запомнила! Почему она помнит дословно, что Д.Ю. говорила о том и об этом, а я — только брызги какого-то неземного сияния? Ни уроков, ни книжек. Всё потом перечитывал. Тоже мне, лучший ученик.
До сих пор Дина Юрьевна иногда отсылает к невыученному: «Помнишь, я вам давала…» — я стараюсь прикинуться помнящим.
Суворову, а не меня надо было в любимчики брать. Вон какая прилежная умница! Медаль золотая, диплом красный… Стоп-стоп-стоп, диссертация? Что, серьезно? Настя, ясное дело, способная, но она ж без полёта!
Теперь, зараза, не засну. Хорошо, что мне завтра ко второму уроку.
Лезет в голову Настя в профессорской мантии через лет этак двадцать. Такая важная — на кафедре сидит, усами шевелит. Располнеет, наверное, от научной работы.
№5 Ульяночка Шварц
Ха-ха! Прочёл трижды! Улька сумела переплюнуть Чехова:
«Боюсь, Дину Юрьевну схватит инфаркт, прочитав моё послание, так как, уехав в Бельгию пятнадцать лет назад, моя родная речь оставляет желать лучшего».
Блеск! Покажу-ка своим шалопутам из десятого «А».
Написала все кубарем, в этом вся Уля. Вижу, как коготками в смартфоне настукивала, сидя, естественно, за рулем. Содержания ноль. Энергия выплеснулась в ми-ми-ми… И непременно «передать любимой Диночке Юрьевне коробку бельгийского шоколада». Поле Чудес.
№6 Таня Бондарь
Врёшь ты всё: не бывало у нас на уроках интересных дискуссий. По крайней мере, нечасто. А обычно молчали, тупили, ленились, стеснялись. Д.Ю. пыталась возбудить мыслительный процесс, но получалось-то не очень. У неё не было системы принуждения. Обаяние — да, через край, и упрямая вера в пустых недопёсков.
Они тогда уже нарождались пустыми, а грядущее племя и того бестолковее. Вот сейчас: одного-двух из класса найдёшь поумнее — для них и стараешься, остальных бы на речку снести, чтоб не мучились.
Что ты всё сочиняешь: «мы ценили», «мы каждое слово ловили», «Дина Юрьевна нас вдохновляла»…
Ты, видно, Танька, уже подзабыла. Ты сидела с девчонками — Веркой, Светкой и Женькой, вы были заняты друг дружкой и мальчишками, не такими, конечно, как я. Когда Д.Ю. задавала вопросы — одна Суворова и поднимала руку. А я…
Помню, Серый толкнул меня локтем: «Чего молчишь?» Тут я заметил, что все на меня оглянулись и ждут. Дина Юрьевна задала, очевидно, какой-то любимый вопрос и повернулась специально ко мне, но уже отводила глаза, отчего становилось особенно стыдно. Постойте, я просто ещё не успел!.. Я принимался думать над упущенным вопросом. Иногда пара дней уходила на это. Но подойти с неурочным ответом робел и пристраивал его в следующее сочинение, к месту или не к месту. Д.Ю. всегда замечала и ставила плюс на полях или спорила в комментариях. Я знаю, что её глаза при этом становились добрыми. «Мы с тобой одной крови», — однажды прочел под пятеркой, хотя написанное было тщательно, той же ручкой зачеркнуто.
А бывало, молчал, даже сразу имея ответ! Просто так надувался, от трусости и высокомерия. Кому, если не мне, проявлять настоящее, мол, ученичество! Потому и молчал, в знак презрения к стае и ко всей этой классно-урочной системе. В сочинениях после отыгрывался и оправдывался.
В одном Таня права: Д.Ю. всегда держалась жизнерадостно. Что бы там ни было. Но я стал замечать к концу школы, что и она несчастна чем-то. И я догадывался — чем! Проговорилась однажды, что сердце не бьётся уже ни от музыки, ни от стихов и что работа учителя бессмысленна. Её слова на последнем звонке, криком, без микрофона, сквозь музыку: «Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь»! Она повторяла это в сотый раз. В зале, помню, смеялись.
Ты, Танька, тоже хихикала. А чего же теперь распинаешься: «уникальный учитель», «особенный»!
Может, я заблуждаюсь насчет недопёсков… Да не… Спрошу завтра у Серого.
№7 Серый
Сговорились вы, что ли?! Тоже помнишь живые беседы и лица воспитанников — благодарных, разбуженных, полюбивших читать? А где я тогда был, что такого и близко не помню?
Глупо спорить, конечно. Проехали. Память — штука коварная.
По-любому спасибо, что нашёл время и силы. Голос в точности твой, ни с чем не спутаешь. Прямо слышу, как Серый бурчит и толкует о жизни, выходя на балкон покурить.
Про себя хорошо написал, но про Д.Ю., извини, мог бы лучше. Ты провел педантичный анализ…
«Она учила структурировать мысли, думать головой, а не учебником». Еще бы! Д.Ю. читала нам собственный авторский курс, в котором литература драпировалась искусством и нашивалась на корсажную ленту истории. Какой учебник мог такому соответствовать.
«Театральные постановки заставляли нас работать над речью и выходить из зоны комфорта». Это ты про свою неказистую дикцию и застенчивость так сказанул? Ну ты даешь, дружище. Инженерная служба тебя причесала.
Что, правда приводишь примеры коллегам из уроков Д.Ю.? Представляю, каким занудой считают тебя и её заодно.
Да нет, ты всё верно, конечно же, пишешь. Но легло суховато, не отражает задора.
Как Д.Ю. улыбалась — ты помнишь? — обезоруживала человечностью. А когда рассмеётся — ну просто ребенок!
Однажды вечером мы уходили последними, Дина Юрьевна увлеклась репетицией и забыла про время. Потом бежала вниз по лестнице за шубой — а техничка уже запирает совсем гардероб — и кричала: «Бегу-бегу, подождите! Карета превращается в тыкву!» Сердитый профиль технички обмяк и расслабился, как от солнечных зайчиков.
Понимаешь, о чём я?
Жду, короче, твою доработку.
И ещё — напиши про Кусаку, как ты вытащил пса с того света и вылечил. Ну и что, и пускай не относится к Дине Юрьевне. Зато относится к тебе и к тому, кем ты стал. Ей это будет интересно. Хватит ныть уже про медицинский. Дети, внуки поступят — тогда и порадуешься. Но история про Кусаку — огонь! Наизусть её помню. Хочешь, сам напишу, если некогда?
Согласился. Напишет. Серый — он человек. Хоть и занят всегда под завязку.
№8 Олеся Вронская
Скайсёрфинг? Танец живота? Ничего себе — главный бухгалтер.
Все девчонки пошли в экономику, хотя Д.Ю. не советовала. И теперь строчат сметы, отчеты и аналитические обзоры вместо «проклятых» сочинений. Небось с радостью поменяли бы сметы на сочинения.
Если верить Олесиной исповеди, она до сих пор любой текст, даже паршивый бизнес-план, пишет так, будто сдаст Дине Юрьевне на проверку. Во как! Держу пари, боится услышать: «Написано гладко и грамотно, но твоего мнения, тебя, тут нет».
А ещё, уверяет Олеся, то и дело всплывает в ней что-то из школьного, буквально при каждой встрече с искусством. Мировая культура залегла в подсознании и иногда пускает пузыри.
Могу представить, как в короткий свой корпоративный отпуск мадам Вронская гуляет чинно с семьёй по Флоренции. И вдруг её пулей простреливает, только не в поясницу (пока), а в башку: это ж — как его — точно! — тот самый — о котором нам Дина Юрьевна… Муж зевает, дочка тянет к мороженому. Отстояв полкилометра в Уффици, они текут по линейным её галереям, как молочный кисель, в одном русле с другими туристами. Только Олеся вся располошилась и застревает на каждом углу — у неё внутри пулеметная очередь… даже жаль её бедную.
А что Дина Юрьевна? Кроме того, что есть в путеводителе, она всего лишь делилась, как стояла сама перед «как его» и что думала, видела. У тебя, Олесь, нет своих мыслей, ты до сих пор по жизни списываешь и не зря опасаешься высшей рецензии!
Что я так завожусь! Аж во рту пересохло. Фонари погасили, через час мне вставать…
Ну и сноб же ты, Глеб… Ладно, будем считать, семена проросли! У Олеси, у Насти Суворовой, Серого, ещё у кого? Ну, допустим, у всех, кто хоть что-то прислал и пришлёт.
Каждый вечер приходит письмо. Одно, ни больше, ни меньше. Я уже и привык. Вчера казалось, что последний огурец достал из банки, а сегодня пошарил там вилкой — и еще один вынырнул. Если так пойдет дальше, то к сроку будет — двенадцать. Символично, но, Боже мой, всего двенадцать ответов на сотню с лишним приглашений?! Причем Серого лично, по дружбе, просил, Вронской напоминал, а то и столько бы не было…
Порадовать Дину Юрьевну хочется. Ох как хочется!
Её работа похожа, по сути, на дело Бенджамина Дрисколла у Брэдбери. Он шёл по бескрайней марсианской пустыне и сажал непрерывно деревья, чтобы на Марсе выросли сады. Семена не всходили, очень долго никак не всходили. Но потом грянул дождь — и все разом взошли в полный рост. «Утро было зелёное». Очень хочется, чтобы у нас вышло так же! Полцарства бы отдал! Но чудес не бывает. Да и нет у нас волшебной марсианской почвы.
№9 Игнат Солоухин
У, какой дядька на фото. Тебя тоже не помню. Что ж так мало-то написал? Привет, конечно, передам и поздравление. Но ты так просто не отделаешься, у нас и так дефицит. Не поверю, что рассказать больше нечего. Хотя бы вот — про эту рыбину черкни, которую ты обнимаешь на фото.
Даже Серый прислал нынче сказ про Кусаку. И недурно совсем!
Нам слова нужны, понимаешь? Слова, точно листья деревьев, вырабатывают кислород, чтобы легче дышать. Потому-то чудак этот Дрисколл и работал над озеленением Марса. Как же ты, Игнат, вымахал — такой дуб здоровенный, а листвы-то и не дал?
Ладно, что я пристал к мужику. По фото видно же, что он не из словесных.
Что я сам-то могу написать?.. Д.Ю. и так всё знает обо мне, а что не знает — о том догадывается…
У неё на запястье поверх водолазки были надеты чёрные массивные часы. Я за ними следил в восьмом классе. Точно в ногу с минутами продвигался урок, и на доске непринужденно появлялись записи — такие ровные, как английский газон.
А в девятом смотрел на субтильную дужку очков. Д.Ю. крутила её так и сяк, держа в другой руке раскрытый томик Пушкина. Она только что прочитала отрывок и закончила шепотом, а теперь вместе с нами к чему-то прислушивалась и покусывала эту дужку.
«Какая же она красивая» — мог сказать тогда я, не имея пока других слов, хотя эти слова к ней не шли. Черты её лица не были академически верными. Но, говоря словами классика, они пропускали лучи и от этого делались «привлекательнее красоты». Я смотрел зачарованно. О чём только я думал!
На другой год я вытянулся, осмелел, оброс шерстью и думал уже обо всём. Уточнять неприлично. Эта вспухшая дума у меня в голове — я не знал, что с ней делать. Хотелось тронуть её и не трогать. Случайно встретиться и не встречаться в коридоре.
Пришел в одиннадцатый класс аккуратно постриженным, но в растрёпанных чувствах. Старался слушать урок и писать хладнокровный конспект, но куда там! Если вот она — рядом и дышит. Надо же, она тоже, как все люди, дышит. На вздохе проступают ключицы. В основании шеи пульсирует тёплая ямка на выдохе. Ох уж эти открытые воротники…
Д.Ю. сказала бы, что не надо об этом. Как недавно писала: «Между нами всегда были отношения ученика и учителя. Слава богу, держалась их высота…» Да, держалась и держится, потому что я трус и могу лишь «брести в суровом плаще ученика».
Ладно, ладно, не буду. Не это же главное.
№10 Вера Хохлова + Женя Колесников
Ну и ну, поженились. В школе Верочка, помню, гуляла с другими.
Верка… вертушка, дискотечная попрыгунья с такой прозрачной белой-белой кожей, точно рисовая бумага. Всё сидело на ней удивительно ладно, как на уточке пёрышки! И всё было (отец ходил в море)! Я боялся с ней рядом стоять: вдруг подцепит от меня прыщи или хандру. Вдруг и я подцеплю от неё дозу глупости.
На выпускном сидел внизу у гардероба, пока все праздновали наверху. Верка, выскочив зачем-то вниз, меня заметила, подсела, спрашивает: «Почему такой грустный?» Ну что за глупый вопрос, это вам всем по кайфу, что школа закончилась! Она мне руку на плечо положила, я сбросил. Верка как-то потупилась и затихла. Я ж говорил: подцепила хандру.
А с Колесниковым они только потом, после вуза, сошлись. Она, оказывается, совсем маленькая, по пояс этому дылде.
Кто бы мог подумать, что конспекты хранит, пересматривает. Наверное, свои дети пошли — оценила. Ого! Целых трое, четвёртого ждут! Совета спрашивает у Д.Ю., какие книжки им читать.
Может быть, и не стоило убирать её руку.
Где-то была бутылка коньяка…
№11 Письмо не подписано
Хм, этот некто начитан, какой наваристый сочный язык. Да что там язык, всё письмо обалденное! Даже сверх того — одушевлённое, личное. Нашёл, гаденыш, нужные слова и как-то запросто всё понял, объяснил.
Да кто он такой?! Почему не подписано? Нет, я спрошу:
— Привет, спасибо за отличное письмо. Напиши своё имя, из какого ты класса и выпуска? Будет обидно, если Дина Юрьевна тебя не узнает.
— Надеюсь, узнает.
— Ну, как хочешь. Ты здорово пишешь. Где-то учился? Чем занимаешься? Хоть пару слов о себе.
— У Дины Юрьевны учился. Одновременно с тобой. Сейчас вожу поезда.
И всё? Какие ещё поезда?
Успокойся, Глеб, успокойся. Ты его вычислишь. Кто из наших способен на такое письмо? Да никто! Только ты? Даже ты!
Д.Ю., правда, хвалила всегда твои письма, но сам-то ты знаешь, чего они стоят!
Как он там написал? Надо перечитать.
«Дина Юрьевна говорила, что это счастливое время для неё как учителя литературы: без искусственной идеологии стало проще выращивать души. Культура, особенно русская, она вся ищет Бога. Про человека можно было говорить и раньше, под цензурой, а про Бога — гораздо труднее. Её уроки запомнились тем, что почти что во всем, в каждой книге, картине, она отыскивала зёрна высшего смысла, столь дорогие ей по памяти атеистического прошлого. По той же памяти и привычке она делала это весьма деликатно и тонко. Наверное, для многих школьников это звучало просто как “библейские мотивы в творчестве…”. Мимо них невозможно пройти, ведь в этом “все мысли веков” и “всё будущее галерей и музеев”. Но я понял больше. Через несколько лет пришёл к вере, которая, в свою очередь, привела меня к важному повороту жизни…»
Ох… Думай, Глеб, думай! Потом выспишься!
Зря коньяк вчера спустил в раковину…
№12
Что ж, сегодня дедлайн. Сегодня ночью все закончится. Мигнёт последний зеленый флажок — придёт последнее письмо. Может, парочка бонусных подоспеет к утру.
Вот и всё наше малое стадо. Что и требовалось доказать!
Так и не вычислил анонима вчерашнего. Ну и чёрт с ним, он такой один, он исключение из правила.
Однако, странно: со мной учился неведомый гений, а я его в упор не видел. Честно сказать, я никого, кроме себя, не видел и обожаемой Дины Юрьевны.
…Пошел за ней, по стопам, хотел попасть в свою школу учителем, чтобы вместе работать. В свою не вышло, но это неважно: к тому времени между мной и Д.Ю. сложилась прочная воздушная перекличка. Я служил её делу и ей, как умел. Возрастал, удивлял, завоевывал и в конце концов стал для неё достойным собеседником. Я бы даже сказал — паладином.
Слова разматывались и протягивались между нами так щедро, как нитки, выпущенные на свободу с катушек. Я учился ткать смыслы, во всем желая дойти до идейных основ. Среди множества нитей я вплетал и признания. Но Д.Ю. их как будто не видела. И напротив, её внимание становилось острее, теплее, когда беседа выходила к одной из моих однокурсниц, к одной из новых молодых коллег, к очередной интересной знакомой. Д.Ю. неминуемо спрашивала: «Сердце дрогнуло?» От чего, от кого? От девицы, которая и бледнее, и плоше?
Для Д.Ю. я такой — одинокий, не спаренный, хотя давно уже пришла (прошла) пора, — становлюсь все скучнее. Больше высшего смысла её занимает, как выяснилось, самодвижная жизнь.
Переписка совсем исхудала, встречи стали короче, практичнее. Д.Ю. жалеет, что я отделился от кровотоков своего поколения. Непроизвольно, увлекаемая чем-то свежим, проворным, она отворачивает от меня родное — клянусь, нестареющее — лицо.
Невозможно же ей ничего напрямик объяснить!
Эти письма чужие, составленные из летучей эссенции памяти, — они давали мне шанс. Они ценнее и действеннее, чем даже самый дорогой букет цветов. Я подарил бы ей окно в духовный сад, когда-то ею посаженный и жизнью выращенный. Как она любит. В нем поднялись и повзрослели разномастные деревья, его охватывают сорняки и порывы цветения. Иногда даже кажется: он не кем-то посажен, а просто ветром надуло и выросло. Но у сада есть общая память, и след сходных душевных усилий отразился в осанке, в дыхании крон. Даже новая поросль повторяет похожее чем-то движение…
Парадокс заключается в том, что если бы такой чудесный сад существовал на самом деле, то это значило бы, в частности, что я напрасно из него бежал.
Да, дилемма.
Но сада все-таки нет и не будет, хромая дюжина писем — не сад. Может, так даже лучше. Правда лучше иллюзий.
Теперь хотя бы могу отдохнуть…
Глеб проснулся от стука дождя. «Дай поспать, прочту утром». — Он с досады заткнул телефон под подушку. Но тише не стало. Глеб удивился и пришёл в себя.
За окнами по гибким жестяным водоотливам долбил настойчивый и наглый дождь. Прошла минута, и проехала одна машина. Ночь вращалась и таяла без проволочек. Посмотрев на часы, Глеб заодно проверил почту, нет ли новых зелёных флажков:
12, 13, 14, 15…
Что?
Он разом сел на диване. Протёр глаза, снова глянул на список входящих и перебрался за стол к ноутбуку.
16, 17, 18, 19, 20…
Забыв включить лампу, он начал хищно пролистывать письма и просматривать наискосок. Попадались как беглые, краткие, так и вдумчивые, с замедлением, не только мелочь какая-то. Чем дальше, тем чаще встречались подробные многостраничные письма, над которыми много работали и, очевидно, тянули с отправкой.
21, 22, 23, 24, 25…
Экран гудел и сиял в темноте, бил в лицо, по щекам, глаза Глеба слезились. Он пустился ходить по квартире. Схватил за лапы старого кота и пропыхтел ему в морду: «Дурак! Какой же ты дурак!» Затем упал на диван, зарычал и упрятал лицо в одеяло от стыда и раскаяния. И снова бросился к ноутбуку.
26, 27, 28, 29, 30…
Глеб читал до рассвета, читал вместо завтрака и по пути на работу. «Тридцать писем, уже тридцать писем».
Провел уроки на одном дыхании, а на большой перемене закрылся в туалетной кабинке, упёр голову в дверь и, счастливый, уснул. Прежде чем он очнулся, еще столько же писем взмахнули свежими зелёными флажками. Утро было зелёное.
Рецензия критика Валерии Пустовой:
«Рассказ произвел сильное впечатление интригой, смелой многослойностью, тонко переливающейся эмоциональностью, широким спектром чувств от низких, скрытных, разрушительных, до светлых, чистых, окрыляющих. Построением рассказ напоминает детектив: некто притаился, устроил ловушку и вычисляет приманенных подозреваемых, по уликам и признаниям и собственной памяти судит о них — что открыли, что припрятали, что могли иметь в виду, а как живут на самом деле. При этом занятно, что детективная пружина внедрена в как будто совсем не интригующую, почти избитую ситуацию «встречи выпускников». Вы придумали такой формат этой встречи, что у читателя есть возможность не только рассмотреть тех, кто пришел, но увидеть их двойным зрением, сопоставив явленное с давними намерениями, предположениями, склонностями.
Самое же занятное в рассказе, что двойной этот слой важен не сам по себе, а как способ рассказать о слое третьем. Все, кто показан в рассказе — фон, персонажи, обрамляющие центральную фигуру, которая словно стерта с фрески, и теперь по контурам, по позам и жестам фоновых персонажей мы только и можем догадаться о том, кто же в центре, какая она, эта удивительная учительница, оставившая след в каждом из своих учеников. Непрямой взгляд на центральную фигуру делает ее особенно светящейся, приковывающей внимание, насыщенной смыслом.
Есть вещи, о которых в принципе лучше не писать, не говорить прямо, потому что при прямом взгляде, прямом высказывании пропадает объем, сложность восприятия. Любовь в слове «любовь» обращается в абстракцию. И любимая учительница — одна из наиболее избитых абстракций. Именно с таким, обобщенным, прямым, плоским, упрощенно уложенным в памяти образом учительницы сражается герой-рассказчик, выуживая, выцеживая живые подробности, неоднозначности, нюансы. И это очень интересный конфликт, не бытового уровня, не уровня личных отношений, который, однако, создает и удерживает напряжение в рассказе: конфликт умозрительный, конфликт идеи и живой памяти.
И этот конфликт у автора получилось сделать острым и живым благодаря эмоциональной вовлеченности рассказчика, его личной заинтересованности в исходе конфликта. В рассказе убедительна интонация этого рассказчика: устная, верткая, разговорно-неформальная, местами переходящая в фамильярность и даже грубость, и в то же время показывающая, что говорящий напряженно думает, что ему важно доискаться до какой-то правды. Мыслящий герой, таким образом, в рассказе показан тоже не абстрактно: мы видим, что даже умник — это живой человек со своими мотивами, умеющий едко и точно высказаться и о других, и о себе.
Устная интонация отлично удалась благодаря внутреннему ритму и напряженной эмоциональности речи: рассказчик сам себя перебивает, иронично цитирует чужие свидетельства и возражает им, сопоставляет детали из писем с тем, что помнит сам, выражает противоречивое отношение — восхищение, к примеру, смешанное с ревностью, или самоупоение, смешанное со стыдом.
Замечаний технических у меня к рассказу нет. Есть два принципиальных сомнения. Рассказ в целом, как конструкция, очень убедителен, ловок, прочен. Но вот в смысловом отношении я вижу тут два недоумения, с которыми мне текст справиться все-таки не помог. Первое: я так и не поняла, в чем же сердцевинный мотив рассказчика, почему он все это затеял, да еще с таким острым азартом, переживанием, тревогой и надеждой. Второе: мне не очень все же понравилось, что центральный символ рассказа — это образ заимствованный, образ-цитата из фантастики.
Эти два сомнения в итоге сводятся для меня к одному: несмотря на то, что все персонажи, включая так и не рассмотренную нами прямо учительницу, получились живыми и противоречивыми, конкретными и динамичными, в целом рассказ вырастает в абстракцию. Так получается потому, что неясен мотив рассказчика, и потому, что в центре рассказа оказывается аллегория прорастающих семян — этот образ и сам постепенно прорастает в рассказе и в итоге его венчает.
Про рассказчика вот в чем, мне кажется, проблема: автор отлично закрутили внешний конфликт — конфликт идеи и живой памяти, конфликт абстракции «лучшей учительницы» и Дины Юрьевны, дорогой сердцу рассказчика, но не ввел конфликт внутренний. Элементы внутреннего противоречия в рассказе есть. Да, мы можем догадаться, что эта учительница в какой-то момент стала для него предметом романтического, запретного увлечения, да, мы можем предположить, что он не во всем доволен собой как ее ученик — и поэтому ревностно отслеживает и стиль писем, и жизненные достижения других учеников. Но это не выстраивается в стержень внутреннего конфликта, который бы вел героя по рассказу, уточнял бы его задачу, подвел бы его к личной кульминации.
Кульминация внешнего конфликта и его разрешение есть, и эйфория сыплющихся писем, изобильных всходов внимания и памяти в финале — итог именно внешнего конфликта. Но почему герой так лично это переживает, почему ему именно лично так важно всех собрать, все вспомнить, не дать подменить живой образ учительницы абстракцией? Это осталось неясным. Личного мотива у героя в рассказе, на мой взгляд, нет. И мне не очень верится в такой его азарт: я не понимаю, чем он питается, на что нацелен. У героя нет личной сцепки с учительницей сейчас, во взрослом возрасте, ему ничего не надо от этой ситуации, кроме исполнения ритуала памяти. Такое осталось у меня впечатление.
Теперь о Брэдбери. Мне кажется, не стоит в принципе возводить свой рассказ к чужому символу, к образу-цитате. Тут ведь сразу совершается усыхание образной глубины: то, что у Брэдбери изначально было образом живым, свежим — при цитировании становится аллегорией, а аллегория близка к абстракции. В чем отличие аллегории как образа? В том, что аллегория не акцентирует внимание на образной составляющей — в аллегории важнее смысл. Например, стрекоза и муравей — аллегории опасного легкомыслия и трудолюбивой дальновидности. Да, мы видим стрекозу и муравья — как мы видим всходы и деревья. Но этот образный ряд нам важен не сам по себе — а в свете его смысла. Аллегория в этом плане очень близка к абстракции: абстракция просто убирает образ-носитель, чувственное воплощение, картинку — и выдает толкование в чистом виде, как понятие, как информацию.
И вот этот рассказ в итоге восходит к информационному, а не к образному плану. Рассказчик боролся с идеей «лучшей учительницы» — но идея побеждает. Рассказ доказывает, что да, учительница была лучшей, и семена ее взошли. И этот итог перекрывает живую историю Дины Юрьевны и ее отношений с рассказчиком. Или скажу так: рассказ стремился выйти за рамки парадного снимка выпускников любимой учительницы — а в итоге эти рамки утвердил. Финал рассказа — это и есть конфигурирование парадного снимка, картинка застывает, а образ учительницы обращается в памятник нерукотворный, памятник из писем и судеб учеников. Не получилось, на мой взгляд, сломать сам шаблон отношения к учительнице как памятнику, и это удивительно в рассказе, где герой так азартно добивался живого, человеческого контакта с памятью об учительнице и прошлом.
Полагаю, в будущем стоит подумать о том, чтобы акцентировать внимание не на внешнем, а на внутреннем конфликте героя, сделать именно внутренний конфликт стержнем истории (хотя, конечно, внутренний конфликт неизбежно прорастает во внешнее противостояние, сопротивление), а также о том, чтобы ставить задачу рассказа еще смелее, чтобы рассказ умел обмануть ожидания читателя, умел уводить читателя от заготовленной картины мира, человека, отношений. Сейчас от заготовленного восхищения лучшей учительницей уйти не удалось, потому что это, видимо, и не входило в задачу рассказа. От этого финал рассказа получился несколько ожидаемым, словно успокаивающим читателя: лучшая остается лучшей, семена взошли, все не зря, учитель — это святое, уроки любимого учителя — на всю жизнь. Все это очень приятно получить в качестве итога рассказа, но ведь к такому итогу мы шли изначально, и читатель был к такому итогу готов. Потому что это такой «правильный», утешительный, комфортный взгляд на реальность.
Однако куда глубже задевает нас сюжет, выводящий к дискомфортному, непривычному, удивительному, парадоксальному восприятию, вскрывающий инерционность наших понятий, предлагающий взглянуть на то, что нам ценно, под новым углом. Так повернуть сюжет и глубже поработать с внутренним конфликтом героя — это, мне кажется, следующий уровень художественной задачи».
Рецензия писателя Романа Сенчина:
«По форме рассказ интересен и нов. Герой — Глеб — комментирует письма, которые мы не видим, не читаем, но с его слов понимаем в общих чертах, о чем они. Внутренний монолог Глеба опосредованно переходит в диалог с одноклассниками. Тоже интересный прием. Но есть и проблема, по моему мнению, цель писем — поздравления учительницы русского и литературы с юбилеем — уходит в густую тень фигуры самого Глеба. Мы очень быстро забываем, что это письма-поздравления, так в них много самого Глеба, явно одного из лучших учеников класса, и уж наверняка самого оригинального. Стоит усилить именно фигуру Дины Юрьевны».

Зеленый бог
1
— Форма 45, форма 367 и форма 08-К299, мисс Ковальски. Заполнено неверно.
Блеклый юноша неопределенного возраста, рано начавший лысеть, устало оттолкнулся от стола и прокатился в неопреновом кресле до дверей кабинета. — Вот здесь и здесь. — Он сунул несколько раз пальцем в формуляр, пахнущий свежим клеем. — До прошлой недели не нужно было указывать всех двоюродных родственников со стороны отца. Но с девятнадцатого сентября это необходимо. Мне жаль. Следующий!
«Ах ты, скотина».
— Мистер Эндрю… — Мари сощурила миндальные, в россыпи веснушек и первых морщин глаза на бликующий бейдж клерка. — Донован.
Донован закатился за стол, как будто снизу были рельсы. Кабинет, в котором принимал этот щегол, имел форму неправильной трапеции — и Мари, изрядно уставшая от жары и отсутствия перспектив, вдруг почувствовала, что стены сжимаются, как сломанная кем-то бледно-зеленая коробка.
— Я все равно улечу на Марс с сыном. — Мари почему-то не могла отвести взгляд от странной безделушки на столе Донована. Пластиковая птица качалась из стороны в сторону и клевала по капле зеленую воду из бокала — а потом падала и изливала все обратно. — В агентстве мне сказали, что шансы на релокацию высокие. И ваши бумажки меня не остановят.
— Желаю удачи. — Донован равнодушно пожал плечами. Он слышал такие слова примерно шестьдесят раз в день — ровно столько посетителей ему положено было принимать с восьми утра до восьми вечера.
«Ну, держись, сволочь».
Мари подошла к дверям и демонстративно сорвала со стены заботливо приклеенный Донованом формуляр нового образца.
— А вы как сами, уже смирились, что сдохнете здесь? — Мари ухмылялась. — Какие шансы выжить у вас? На Марсе не нужны клерки, ведь так? — Она больше не сдерживалась и била словами наотмашь.
— Вы забываетесь. — Донован медленно перевел на нее взгляд прозрачных, ничем не наполненных глаз, но Мари было уже не остановить.
— Готова спорить, вас нет даже в резервных списках. И эти бумажки — только в них вы и находите смысл, чтобы не сойти с ума от ужаса приближающейся смерти. Я права?
Эндрю Донован слишком внимательно смотрел на качающуюся птицу.
— Мисс Ковальски. Вы же взрослый человек — и не можете не понимать, что в сложившейся на Земле ситуации… я выбираю наименьшее из зол.
— Понятно. — Мари усмехнулась, собираясь продолжить, но Донован зажмурился и закричал:
— Следующий!
2
— Я чуть с ума не сошла, Арт, где ты был полночи?! — Голос Мари сотрясал обшарпанные бетонные стены — Ты что, опять по заброшкам шатался?!
Сын молчал, стойко выдерживая натиск. Он сидел напротив — загорелый, длинный, одни лодыжки и локти, кадык, торчащий нагло и остро — почти подросток, боже, куда ушло все это время, ну куда.
— Я был в Национальном музее.
— Я даже знать ничего не хочу. — Она часто заморгала и уставилась в потолок.
Кухня дымилась от жара, хотя на часах было только семь утра. Откуда-то с нижних этажей несло горелым торфом. Мари недовольно сощурилась на потолочный кондиционер: он выплевывал противный воздух из желтых пластиковых губ и гонял его внутри замкнутой системы небоскреба. Кондиционер никто не чистил, кажется, с момента постройки здания — но и это было роскошью по нынешним временам.
— Сейчас это «призрак», — осторожно продолжил Арт. — Он засыпан песком, хоть навигатор его и показывает. Но когда он был еще открыт — до песчаной бури три месяца назад — там были выставлены образцы растений. Говорят, и те самые тоже. Я… Мам, я почти их нашел.
— Артур, это же легенда, детские сказки!
Арт смотрел на нее так, будто потерял что-то очень важное.
— Скажу тебе как биолог — нет растения, способного выдержать этот климат. Нет никакого «Зеленого бога», которого можно вырастить в пустыне и остановить глобальное потепление. Ты меня понял?
Он закатил глаза и кивнул, подперев голову ладонями в свежих ссадинах.
— Кстати, мне снова не выдали регистрационное разрешение. — Мари вздохнула, обхватила себя за шею, почувствовала позвонки натруженной рукой. Рыжие волосы топорщились практичным каре. — Но я буду пробовать еще раз.
Она нырнула в стенной шкаф — и вынырнула уже с черным квадратным рюкзаком.
— Дерево не забудь полить!
Хлопнула дверью и осталась одна в тишине подъезда. Рюкзак давил на плечи. Почему-то хотелось плакать.
«Я хорошая мать, я хорошая мать».
Пискнула браслетом на руке («Беги, беги, долг по коммуналке сам себя не оплатит») и побежала вниз по одинаковым пролетам лестниц, мимо черных провалов пустых лифтовых шахт, а на ее руке заторопились цифры — по киловатту, по капле отдавая то, что они задолжали за свою жизнь здесь, за возможность дышать относительно чистым кондиционированным воздухом в пространстве небоскреба.
Песчаная поземка лизала ноги в балетках («Бегайте и копите энергию в любом месте с “Найк”»). Мари сжала шершавые ручки бирюзового велосипеда. Краска на нем облупилась, но огонек аккумулятора все еще мерцал — и она привычным движением вставила браслет в центральную часть руля.
Очки, противогаз, красная бандана, чтобы быть заметной внутри песчаной бури — вроде ничего не забыла. Ветер усиливался, постепенно скрывая мутные силуэты высоток за плотной стеной песка. Как кривые пальцы внеземных существ, они торчали отовсюду, складываясь в архипелаг посреди пустыни, которая уходила к невидимому горизонту.
Мари рванула к пустому перекрестку: светофор мигал желтым. Он вел себя так весь последний год — с тех пор, как началась миграция.
上帝就是感覺。上帝是常青樹
God is the feeling. God is evergreen.
«Бог — это чувство. Бог вечнозелен», — гласил наполовину ободранный рекламный щит на другой стороне дороги.
Мари только грустно усмехнулась: до самой кромки мутно-желтой, перевернутой чаши неба не было видно ни одного зеленого пятна.
3
Рабочий день близился к концу. Эндрю Донован терпеливо писал отказы, пока за дверями не осталась пара человек — и он почему-то забеспокоился.
Глянул на часы — 19:45. Замер, прислушиваясь к звуку капель, стекающих с клюва птицы. Посмотрел на перекидной пластиковый календарь: 25 сентября.
И вспомнил.
Эта стерва, мисс Ковальски, была записана на сегодня. Но не пришла.
Внутри Донована азартно заскреблась радость: неужели сдалась? Поняла, что дергаться бесполезно?
— Ну-ка, посмотрим.
Подкатился к компьютеру (регистраторы были теми избранными, кому компьютеры в Новом Чикаго еще полагались) и резво вбил ее имя в поисковик прибывших.
Ковальски, Мари.
Регистрация в Новом Чикаго от 4 марта 2120 года
Протокол допроса. Аудиозапись 1
Донован торопливо нажал на «плей».
«Раз, два, три… а запись идет?
Так, надеюсь, этой исповеди будет достаточно, чтобы вы смогли впустить нас в город. Извините, я вообще-то биолог и интеллигентный человек, но мне зачем-то нужно объяснить, почему из всего автобуса выжили только мы. Короче, когда объявили эвакуацию…»
Эндрю промотал вперед.
«…и вот мы бежим с сыном в сторону автовокзала в толпе… Я впервые слышала, как он кричит матом: я вцепилась ему ногтями в руку до крови и не выпускала. Я знала — если выскользнет, затопчут и его, и меня.
Мы пробились ко входу в автобус. У меня была вода в сумке, литровая бутылка, и пакет апельсинов — сама не знаю, почему я их схватила в последний момент из холодильника, они оставались с моего дня рождения — дорогие, долларов триста они стоили, кажется. Я показала бутылку водителю и закричала “В пустыне нужна вода! Возьмите нас в Новый Чикаго!”
Нас взяли. Мы мчались со страшной скоростью и подпрыгивали, как на кочках — это были тела. Но мы уже минут через пятнадцать перестали их считать.
Заряд автобуса закончился через пару часов. Люди высыпали наружу и побежали по пустыне — они думали, что в сторону Нового Чикаго. Мы шли с Артом медленно, по солнцу. Оно было справа, когда мы выезжали из города — дурацкая моя привычка запоминать детали. Я сняла с себя рубашку, с сына — футболку, и мы покрыли головы. Достали апельсины и сосали сок из них — буквально по капле, я запрещала больше. Постепенно те, кто бежал впереди нас, стали попадаться на пути. Стояла ужасная жара. В какой-то момент Арт не выдержал и подошел к одной еще живой девочке. У нас оставалось всего два апельсина. И я… запретила ей их давать. Не знаю, что на меня нашло… я всегда была интеллигентным человеком… но в тот момент…
*слышен сдавленный всхлип*
Мы ни в чем не виноваты. Это биология. Выживает… сильнейший. Я даже сохранила в кармане косточку от последнего апельсина… Надеюсь, посажу ее здесь. В Новом Чикаго».
Донован с вытянувшимся лицом уставился в экран. Рассказ Мари был похож на десятки других рассказов прибывших, но что-то его беспокоило — как песок, попавший за шиворот.
Эта женщина просто не могла перестать бороться.
Почему же она не пришла?
Эндрю быстро напечатал что-то несколько раз в поисковой строке. Минут через пятнадцать он снял трубку и набрал номер из базы. Долго слушал длинные гудки. Наконец, что-то щелкнуло.
— Мисс Ковальски?
— Да, а кто это?
Донован стушевался.
— Кто вы такой?
— Это неважно. Сходите в архив и поищите там все, что найдете на Альберту Райт и вашу фамилию. Не благодарите.
И Мари с удивлением осталась слушать короткие гудки.
4
Октябрь в Новом Чикаго ничем не отличался от сентября: жара еще хлеще, чем летом; кучи песка вдоль плохо расчищенных дорог; оранжевые всполохи нарисованных на стеклах небоскребов тыкв — как напоминание о времени, когда эти тыквы еще не стоили целое состояние. Редкие люди на велосипедах клонились от ветра, словно маленькие привидения, летящие сквозь шторм.
Донован с трудом оторвался от окна и посмотрел на дверь.
— А, мисс Ковальски. Вас давно не было.
— К счастью для вас, да. Я могу получить билеты? — Довольная, она бросила на стол желтую папку. — У меня есть живой родственник на Марсе. Согласно пункту 7 директивы 56 имею право на релокацию.
Донован медленно перевел взгляд на свою птицу.
— Они закрыли программу позавчера днем. Мне жаль.
Радиоточка, встроенная в стену кабинета, дежурно бормотала номера отходящих с Земли рейсов.
— Что ж, поздравляю, — сказала Мари после долгого молчания. — Теперь у вас наверняка будет гораздо меньше работы.
— Это уже неважно. — На физиономии клерка отчетливо проступала боль, но мисс Ковальски было плевать на его душевные терзания.
Она резко подтянула к себе папку.
— А знаете… Я даже благодарна этой дикой ситуации. Хотя бы знаю теперь, что я — потомственная полька, и прапрабабушка моя жила при костеле в Щодре. Помогала повстанцам после Второй мировой.
Мари с вызовом глянула на Донована и пошла к выходу, физически ощущая, как качаются стены картонного кабинета. На пороге она вдруг обернулась.
— Просто интересно. Когда вы поняли, что надежды нет?
Донован почему-то схватился за шею.
«Ну скажи ты правду хоть раз в жизни, сукин сын».
— Я видел пожар, — сглотнул Донован, немного помолчав. Он уставился в стол, покрытый дешевым ламинатом, будто призывая его в свидетели. — Горел лес — он был уже мертвый, сухой и легкий, как хворост. Мы даже не поняли, когда огонь перекинулся на окраину города — но дым был повсюду… Мой офис находился в высотке. Я и еще несколько человек собрались на крыше, думая, что за нами приедут спасатели. Или пожарные. Хоть кто-нибудь.
Мари внимательно смотрела на него. Он надеялся, что она уйдет или перебьет его — но она молчала.
— Огонь надвигался с огромной скоростью. Мы пытались звонить, но телефоны пожарных просто не отвечали. И тогда я понял — никто не приедет. Мы никому не нужны.
Мари медленно отпустила ручку двери, за которую держалась.
— Когда пламя почти добралось до крыши, мы вдруг увидели пожарный вертолет. Он пролетал над нами очень быстро, даже не снижаясь. Мы начали кричать и прыгать… Они долго летали кругами — наверное, решали там, наверху, жить нам или умереть. В последний момент все-таки снизились — и забрали нас. Но, кажется, я уже умер к тому времени.
Мари стояла оцепеневшая.
— Но почему… они не тушили пожар?
Донован криво ухмыльнулся и посмотрел на свою птицу. Она качалась едва заметно, тоскливо кивая маленькой головкой.
— Есть пожары, которые бесполезно тушить. Наверное, это был один из них.
5
Нотариальный перевод. Нотариус Пол Регри.
25 мая 1946 года, Щодре (Szczodre), архив костела св. Павла
Тамара, я пишу тебе это на случай, если начнутся аресты. Солдаты повадились ходить к нам на службы и столоваться в трапезной. Если вдруг среди них соглядатай, знай, что я и отец Никола собираем деньги для «Свободы и незалежности». Wstyd, ты скажешь, ганьба тебе, Эдна, но я верю в Господа Бога нашего и в малые дела, которые могут помочь противостоять злу. Люди жертвуют нам — по копеечке, кто еду приносит, кто кроликов и кур — мы их прячем в подполе костела, в комнате за алтарем, а потом передаем в СИН. Если вдруг меня схватят, знай, что…
— Я все вижу! — прокричала Мари из коридора.
Арт поспешно запихнул распечатку в папку, которую мать оставила на кухонном столе.
— Как там релокация? — беспокойно вытянул шею Арт. — Тебе нужна помощь?
— Ешь, пожалуйста, я страшно опаздываю! — Мари вот уже несколько недель подряд уходила затемно со своим черным рюкзаком и только сегодня припозднилась — за окном снова была раскаленная утренняя пустыня. Она подтолкнула к Артуру стеклянную зеленую банку с синтетическим йогуртом, но сын не успел ее схватить — и она грохнулась о пол и разлетелась зелеными осколками и грязно-белыми кляксами по всей кухне.
Мари застонала и потащилась в душевую за тряпкой. Сунула руку под заросший известью кран, покрутила вентиль туда-сюда.
— Опять воды нет! А-а-арт!
Он уже знал, что это значит: мать убежит, а он останется ждать воду, убирать на кухне и пялиться в экран планшета в ожидании урока. Сегодня первой шла, кажется, география.
— И кому нужна эта география теперь, — тоскливо вздохнул Арт.
— Воду дождись и дерево не забудь полить! — Она уже стояла в дверях.
Арт коротко махнул на прощание и пошел в душевую.
Мари скрутило от боли: мелькнувший темно-русый затылок сына был взрослым. И ведь это она на днях подстригла его машинкой, обрезала детство, его смешные выгоревшие космы — а под ними он давно уже был темным и серьезным, она просто не замечала — днями, неделями, годами куда-то спеша.
«Я хорошая мать, я хорошая мать».
Она вышла за порог, пискнула браслетом и снова побежала.
6
— Ето последнее? — Шай Го, дилер Мари, плохо говорил по-английски.
— Да. — Мари быстро вытряхнула остатки почвы из квадратного рюкзака. Маленькое дерево (это был клен) Шай Го уже припрятал — будто слизнул.
— Где билеты? Ты обещал. Я внесла полную оплату, это даже больше, чем мы договаривались. — Мари сдвинула брови.
Шай Го пристально смотрел на нее и издевательски причмокивал губами.
— Отличница ты, что ль? — От недоброй улыбки по лицу Шай Го побежали трещины. — Ну, так это, у нас тут не школа. Это черный рынок. По секрету, слух прошел, что корабли эти одни из последних — по крайней мере, для простых смертных и таких дурочек, как ты. Отходят через два часа. Стало быть, цена выросла. Тех деревьев, что ты привезла, хватит теперь только на один билет. И то если успеешь, отсюда до космопорта ехать часа три! — Он захохотал и начал катать самокрутку на ладони.
Мари проглотила крик, придвинула руку с браслетом к его браслету, который валялся на столе, и металлическим голосом сказала:
— Давай сюда билет.
7
Арт набрал кружку долгожданной воды и толкнул в сторону дверцу шкафа-купе. Впереди сияла ультрафиолетовыми лампами глубокая ниша. Он тихо охнул: от маминой незаконной оранжереи остались только круглые пятна на полу — в тех местах, где стояли горшки. Уцелел лишь маленький, на три веточки, кустик, который Мари гордо именовала апельсиновым деревом. Под гладкими темными листочками светился одинокий оранжевый плод, который никто из них не решался сорвать.
Артур полил дерево и, испуганный, быстро задвинул створку шкафа. Заметался, побежал на кухню, наступил босой ногой на стекло и зашипел от боли. Поднял осколок — и вдруг браслет на его запястье завибрировал.
— Арт, привет! — Мари говорила очень быстро. — Проверь сейчас же входящие — я тебе скинула билет. Бросай все, садись на велик и дуй в космопорт!
— Что? Прямо сейчас?
— Да! — разъярилась Мари, и Арт поспешил повиноваться.
Только в дверях он понял, что все это время сжимал осколок в руке.
Раскрыл ладонь — и увидел на ней мелкие блестящие капельки крови.
8
Мари выбежала на улицу и заметалась на пустом перекрестке. Она не надела противогаз и закашлялась надрывно: все вокруг было в песчаном тумане, в непроницаемой рыжей взвеси. Схватилась за часы: нет, никак не успеть, вообще.
«Его же не пустят в космопорт без взрослых».
Выдохнула, замерла. Думай. Думай.
Тупик.
Мари застыла, глядя прямо в гудящее, призрачное тело песчаной бури. И вдруг велосипед рухнул в песок, а Мари судорожно начала шарить по карманам рюкзака — и вытащила смятую бумажку, которая лежала там месяцами. Руки тряслись, когда Мари ее разворачивала.
«Форма 45. Правила заполнения.
Дополнительная информация по номеру телефона +576 847 39, доб. 45, мр. Э. Донован»
Она продиктовала номер браслету. Долго слушала короткие гудки. Еще раз. Еще.
— Регистрационная инспекция космопорта Нового Чикаго. Эндрю Донован. Чем могу помочь?
— Пока не знаю. Может быть, и ничем.
— Что?.. — Голос человека с той стороны дрогнул.
— Я умру. Вы умрете. Мы все умрем — и не останется вообще ничего, совсем.
— Кто это? Мисс Ковальски, это вы?
— Но я… верю… в бога… — Мари почти плакала. — И в малые дела, которые могут помочь противостоять злу. Я знаю, весь пожар нельзя потушить. Но кого-то еще можно спасти… Мой сын сейчас на пути в космопорт. У него есть билет. Но его не пропустят без взрослых. Вы же взрослый человек…
Она запнулась.
Только треск телефонной связи доказывал, что на том конце ее все еще слушают.
— Да, — тихо ответил Донован и повесил трубку.
9
Космический корабль плыл в послеорбитной темноте. Пассажиры припали к иллюминаторам, стюардессы проходили между рядами, раздавая напитки и буклеты.
«Уважаемые пассажиры, — радостно звенели динамики корабля, — вы покидаете Землю. Через два месяца мы прибудем на Марс. К вашим услугам — купольные дома, зерновые теплицы и озера, а также сотни деревьев, выращенных и заботливо перевезенных с Земли для вашего комфорта».
Заплаканный Арт наблюдал в иллюминатор, как серый шарик планеты медленно тонет в бескрайнем пространстве космоса.
Арт вытащил из кармана маленький осколок стекла и посмотрел сквозь него на Землю.
Она была зеленой.
Комментарий писателя Романа Сенчина:
«Очень интересный и, по-моему, оригинальный рассказ. Жанр постапокалипсиса, кажется, уже исхожен вдоль и поперек, но автору удалось найти новые штрихи. Финал — стеклышко, делающее планету зеленой, отличный!»

Ивент
Silverman: Оч классно админы придумали, канеш, ачивки в полночь раздавать, меня жена убьет, если я сейчас за стол не вернусь!
Гидеон: В этой зоне нет пвп, ачивка и так упадет, оставь перса просто, две минуты ж осталось.
Silverman: Я убедиться хочу.
Сервер: Уважаемые игроки! Поздравляем Вас с Новым Годом! Мы рады, что вы встречаете его в «Призрачных мирах». В благодарность мы дарим вам уникальное достижение «Врата в Двадцать Первый», а в своих почтовых ящиках вы найдёте небольшой праздничный подарок.
Гидеон: И?
Вальтонка: А я не поняла, ачивка сейчас должна быть?
3венящий4ерт: Фейерверк одноразовый в ящик кинули, ачивки нет.
Silverman: Я ради этого в 12 ночи у компа торчал???
Vadoom: Да мож у них серваки на час назад
FinistFalcon[Служба поддержки]: Друзья! Просим прощения за небольшие проблемы, сейчас я попробую разобраться, в чём дело.
Гидеон: Я на форуме читал, время точно должно быть московское.
Silverman: Да ***, потому что *** криворукие жадные дебилы! Провели свою распродажу и свалили из офиса, а нас тут, как лохов ***
Vadoom: Харош материца, э!
FinistFalcon[Служба поддержки]: Просим прощения! Мы знаем о проблеме и работаем над её устранением.
Silverman: Да вы нормально даже не тестите ничего, не надо ***! Работают они.
Molideus: А компенсации админы думают давать, Фалькон?
Гидеон: Какая компенсация? День премиума они тебе пропишут и все. Им плевать на нас и на игру, им лишь бы бабла срубить.
Гоша смотрел на поток сообщений в чате. Оскорбления, оскорбления, жалобы и ещё оскорбления. Гоша отодвинул пластиковую коробочку с оливье из супермаркета. Придётся писать продюсеру.
«Все понял, Гошыч, Сереге-дизайнеру не дозвонился, а Ринат обещал посмотреть логи с самого утра. Ты там пока успокой всех, мол, все починим, все будьте хорошо. Ну, ты все знаешь. Отправлено с iPhone» — прилетело в ответ.
Гоша опустил кулаки на клавиатуру, и в окошке почты появилось «явльыяьвбчявбвяылдвячлю». Он подержал курсор на кнопке «Отправить», а затем резко вдавил «backspace». Раздался предупреждающий звук Windows. Не глядя на экран, медленно набрал: «Не первый раз в НГ за компом.)».
Разработчики игры чувствовали себя демиургами и не общались с игроками, зато все знали модераторов, а модераторы знали Гошу. А Гоше нужно было писать официальную новость на игровой сайт. Перед длинными праздниками он всегда методично очищал электронную почту от непрочитанных сообщений, и теперь его очень раздражала цифра сорок семь возле папки «Входящие». Сорок восемь. Пятьдесят два.
Он зашёл в тёмную кухню и поставил чайник. В поисках кружки уронил заготовленную бутылку шампанского. Пришлось включить свет. Пропитанная шампанским половая тряпка полетела в урну вслед за осколками.
Гоша вернулся в комнату, поставил кружку рядом с монитором и закрыл глаза. Шестьдесят три. «Любимые наши игроки…» Нет. «Дорогие игроки?» Пожалуй.
Официальное сообщение на всех ресурсах игры — есть.
Гоша открыл окно и пару минут наслаждался обжигающе холодным воздухом. Теперь нужно было зайти в чат модераторов и избавиться от этой цифры в почтовом ящике. К двум часам ночи, успокоив своих, он добрался до форума игры. Заснул под утро на неразложенном диване.
В полдень началось экстренное совещание.
— Чего ты им пообещал? — поперхнулся Серёга-дизайнер.
— Такой же ивент стартует на Старый Новый Год, чтобы они достижение получили. И золотой статус на две недели. Я говорил, что, может, дать ачивку пораньше, недели за две до праздников, когда мы все в офисе…
— Да, это принципиально! Это их привязывает. А про компенсации… Мы тогда столько раздадим бесплатно! Им ни в январе, ни в феврале ничего покупать не надо будет. А ещё золотой статус! Ты не игрок, Гош, ты работаешь тут вообще-то.
— Секунду, Сергей, — перебил его продюсер. — В общем, вот такая ситуация, Александр Иванович. Сейчас мы должны решить…
Гоша переключил окошко Zoom и стал рассматривать других участников встречи. Александр Иванович — это, видимо, директор и основатель компании, первый разработчик «Призрачных миров». Пять лет назад он уехал во Флориду, и Гоша видел его только на фотографиях в корпоративной вики. Вот он, загорелый, с ухоженными усами. Сколько времени в день нужно тратить на такие усы? Продюсер то и дело улыбается, говорит даже больше, чем обычно. Серёга-дизайнер теребит нос, хмурый Ринат в камеру не смотрит, копается в коде игры, ищет ошибку. А это кто?
— Да, Лёш, я всё понял. — сказал Александр Иванович. — Так, друзья, я, конечно, предполагал сделать это чуть более торжественно, но представлю, эм, Марина Фёдорова, мой новый заместитель по коммуникациям. Что скажете, Марина?
— Всем доброго утра. Георгий, правильно? Я видела вашу новость и ответы на форуме, всё чётко, ёмко, по делу и, главное, с эмоцией. Клиент верит. Предложение по компенсации поддерживаю, — Марина улыбнулась. Гоша непроизвольно улыбнулся в ответ и всмотрелся в монитор.
— Это же игроки! Они по любому поводу будут требовать компенсации! — Серёга подался вперёд. — Арпу вдвое упадёт! Минимум!
— А «Призрачные миры» — это наша главная игра, семьдесят процентов оборота, — то сцепляя, то расцепляя пальцы, просвистел продюсер.
— Хм…
Все ждали.
— Я понимаю, из чего вы исходите при вашей оценке, Марина, — произнёс, наконец, директор. — Но если средний доход от игрока упадёт вдвое, то…
— Да это не просто игра! — вырвалось у Гоши. Лица застыли. Гоша сжал мышку. — Нам десять лет в этом году! У многих игроков уже дети родились. Семьями уже играют! Поэтому и относятся так. Если бы они не любили игру, давно б ушли. Десять лет к нам возвращаются! Для игроков наши «Призрачные миры» — это как старые ботинки, в которых ходят по даче. Это часть их жизни! Я не знаю, как у нас в смысле финансов, но если Серёга, э, Сергей, даже прав, то главное — дотянуть до марта и сохранить игроков. Они нас обязательно поддержат!
— Нашёл!
Ринат щурился в камеру.
— Кто ивент настраивал?
— Я, — сипло сказал Серёга.
— Ты тут вместо первого января двадцать первого года поставил первое января двадцатого. Дата в прошлом, вот и не начисляется ничего.
— Мы проверили! Всё начислялось! Я для этого специально дату ме… — Серёга застыл в живом стоп-кадре.
Директор вдруг расхохотался. Гоша улыбнулся. Марина тоже. Гоша нащупал рычаг и приподнял кресло. Непонятно, на кого она смотрит.
— Апдейт в последний момент накатывали? — сквозь смех спросил Александр Иванович.
— Ну, мы… — протянул продюсер.
— Ну понятно, понятно, я сам так делал десять лет назад. Но тогда это была просто игра. А сейчас… Я согласен с вами, Марина. Георгий, прекрасное предложение. Мне кажется, вы работаете на должности ниже своей компетенции. Мы поговорим, Лёш, что можно сделать, да? Марина, как видите, в нашей службе поддержки есть исключительно квалифицированные специалисты.
— Безусловно.
Теперь точно. Улыбалась и смотрела.
— А вам Сергей, по инструкциям Георгия подготовить ивент и компенсацию. И 10 числа версия должна быть у тестировщиков. А то мы сами начнём придумывать ивенты, понимаете?
— Да, — сказал Сергей, не глядя в камеру.
— Так, ну тогда спасибо всем, что собрались. Я полагаю, мы всё решили, да, Александр Иванович? Тогда, во-первых, я подготовлю задачи и повешу их на доску… — заторопился продюсер.
Гоша не хотел выключать микрофон, подумают, что отвлёкся. Набрал личное сообщение, стараясь, чтобы клавиатура не издала ни звука.
«Вот это первый день:)»
«Да уж… А у Вас-то, наверное, ночка была!»
«Могу рассказать»
«+85854444234 Давайте в вотсап»
Вотсап был только на телефоне. Продюсер закончил видео-конферецию, как всегда, без предупреждения, но Гоша этого не заметил.

Мама и Морок
Мама перестала плакать по ночам. Именно тогда Юлька впервые подумала, что маму подменили. Конечно, ей вовсе не нравилось, что с самого переезда мама все плачет и плачет, но эта ее новая веселость была какая-то неправильная. Вот мама поет, вмешивая мюсли в йогурт, закручивается на компьютерном кресле, звонко целует Юльку в переносицу — и все как-то мимо. Мамины пальцы, больно ткнувшиеся под лопатку, скользящая улыбка — не ей. Она не смотрит Юльке в глаза, вот в чем дело.
До переезда, летом, мама тоже и хватала, и чмокала, и крутилась на кресле — правда, на папином, свое у нее появилось только здесь, но главное — она была теплая. И обнимать ее было приятно, и заворачивать лицо в ее длинные черные волосы. Мама готовила смешных человечков из слоеного теста, которых Юлька перед тем, как ставить в духовку, поливала сиропом агавы. И дом из лего они строили вместе: мама говорила, что куда прищелкнуть, и двухэтажный дом с балконом вырос буквально за несколько дней. Папа сказал, что Юлька «прирожденный архитектор» и по случаю переезда купил ей новый набор лего — целый замок. Но здесь, в Люберцах, мама больше не сидела с Юлькой над конструктором, она сидела за компом и работала.
— Это нужно для ипотеки, — объяснила мама. — Мы продали нашу квартиру в Филях, взяли денег в банке и смогли купить дом. Но банку деньги надо возвращать, и для этого я должна работать. Такие дела, Юлик, ничего не поделаешь — всем нам придется поднапрячься, чтобы получился хороший дом.
Вот почему с самого лета, уже раз-два-три-четыре-пять месяцев мама напрягалась за компьютером, папа напрягался, отделывая дом в далеком и чужом Озерецком, а Юлька напрягалась на полу, возле маминого стола, в одиночку пытаясь собрать из скучных и одинаковых белых блоков замок для принцессы. Мама отстригла волосы, и от нее осталась будто четвертинка.
— Ксюх, ты похожа на мальчика, — сказал папа, когда приехал их проведать.
— А я думала, я похожа на сильную женщину, — ответила мама.
— Ты моя самая сильная.
— Знаю. Но мне бы не хотелось такой быть.
И папа уехал. Поначалу Юлька пыталась считать дни до его следующего приезда (мама сказала — тринадцать), но скоро сбилась, слишком выходило долго. Так что мама просто говорила: «Сегодня», и Юлька понимала — папа приедет, когда маленькая стрелка укажет на восемь. Мама к этому времени приготовит ужин с супом и салатом, и они втроем сядут за стол. Потом папа покажет маме на телефоне фотки из дома:
— Межкомнатные перегородки почти готовы, можно теплый пол прокладывать… Смотри, это будет кухня — просторная, правда? Это кабинет. Спальня, детская.
Юлька заглянет через мамино плечо, но там все серое и непонятное, скучно. Тогда папа обыграет ее в шахматы, немного повозится с ней, пока мама убирает посуду, и Юльку уложат спать.
Когда папы нет, мама кладет ее с собой на диване, и Юлька, хоть и слышит, как мама плачет за ее спиной, но притворяется спящей. Раньше она тоже начинала плакать — так грустно было за маму, но потом привыкла. Плач затихает, и Юлька чувствует мамино дыхание на своем затылке.
Когда приезжает папа, ее отправляют спать в кресло, такое смешное кресло, из которого выдвигается кровать. Засыпая, она видит через открытую дверь светлый проем кухни, угол стола и стул, слышит родительские голоса, и ей совсем хорошо, почти так, как было в Филях. Потом мама с папой выключают свет и идут в ванную, «смывать две недели строительной пыли», а Юлька засыпает под смех и гул текущей воды.
Всю субботу папа проводит с ними, они ездят в бассейн или на батут и гуляют в старом парке, где она с визгом съезжает по горке-трубе. Вернувшись домой, они доедают вчерашний ужин. Наутро же дома будет только мама — папа уедет в Озерецкое с утра пораньше, чтобы успеть поработать в доме. Отсчет тринадцати дней начнется заново.
Постепенно папины возвращения проходили все менее радостно.
Мама говорила:
— Может, ты все-таки будешь ночевать здесь?
Папа устало вздыхал:
— Ксюх, мы уже сто раз обсуждали. Я успеваю в будни поработать полных четыре часа. И что мне сюда ехать — просто спать? Дорога лишних полтора часа съест — полтора часа моего сна.
— Тогда работай в Озерецком только на выходных. Или наоборот, только в будни, а выходные проводи здесь!
— Ну. И ремонт будет тянуться вдвое дольше. Думаешь, мне нравится, что ли? Там в помещении сейчас те же десять градусов, что на улице, между прочим. Сплю на бетонном полу возле котла, в спальнике, как бомж. Я делаю все, чтобы мы как можно скорее могли туда переехать.
— Может… Может, будешь приезжать каждую субботу? А на воскресенье уезжать.
— Ну хватит. Суббота — это как минимум десять-одиннадцать часов работы, считай, половина недели.
— Мне очень грустно тут одной… — говорила мама, утыкаясь макушкой ему в грудь.
— Мне тоже, Ксюх, мне тоже, — отвечал папа, и Юлька понимала — ничего не изменится.
Так что мама работала, Юлька шуршала страницами лего-инструкции и смотрела мультики на планшете. Человечков из теста мама больше не лепила — ели сосиски с макаронами или вообще бутерброды. Не читала книжку на ночь — говорила, устали глаза. Но все равно это была мама — с усталыми глазами, с остро торчащими иглами волос — мама. И если ее обнять, она была теплая.
По вечерам они ходили гулять — близко, на площадку, до парка-то их папа на машине возил. Здесь было всего ничего: песочница, горка для малышей и качели, но Юльке после целого дня взаперти было не скучно. Пока тепло, даже и весело — детей много, есть с кем поноситься в салки-заморозки. Потом начало холодать, и в темный слякотный двор выходило все меньше народу, пока Юлька с мамой не остались совсем одни. Они обе садились на качели и раскачивались, кто выше. Мама проигрывала и говорила:
— Ты спринтер, а я стайер. Спорим, в медленном темпе я прокачаюсь дольше.
И они качались долго, очень долго, пока Юльке не начинало казаться, что она сейчас уснет и свалится в собравшуюся под качелями лужу. Тогда они шли домой спать, и, лежа в кровати, Юлька чувствовала, что внутри у нее что-то продолжает качаться. А мама плакала.
Зарядил дождь, и по этому случаю они купили два дождевика. Не одноразовых полиэтиленовых, а твердых, из блестящей плотной ткани. Маме — ярко-красный, а Юльке — ярко-желтый. Когда Юлька его примерила, мама почему-то сказала: «Вылитый Джордж Денбро, только кораблика не хватает», а потом расстроилась, стала искать другой цвет, но глупый розовый Юлька брать отказалась наотрез, а зеленый не понравился им обеим. В результате мама дома достала красный лак для ногтей и целый вечер рисовала на желтом плаще вишенки.
— Все, теперь ты Юлька и точка, поняла? — сказала мама.
Юлька не возражала, вишенки были замечательные.
На следующий день они опробовали плащи на прогулке — оказались то что надо. Во-первых, они были легкие, не то что промокшие куртки, во-вторых, капли легко соскальзывали, оставляя блестящую поверхность почти сухой. А яркие цвета сияли в темном дворе, как новогодние лампочки.
Однажды с переулка завернул сосед. Он жил на той же лестничной клетке, что и Юлька с мамой, и всегда здоровался первый. Они пересекались почти каждый день — он приходил с работы ровно в то время, когда мама выключала компьютер и торопила Юльку на улицу, «успеть проветрить голову, до того как ты уснешь».
Ещё она говорила: «Это наше время, Юлик, твоё и моё. Я весь день редактирую тексты, когда ещё мне побыть с тобой?» Иногда мама рассказывала сказки или истории из Юлькиного детства, иногда пела, но чаще они просто бродили вдоль домов и наблюдали, как укорачиваются тени, когда они проходят под фонарем, а потом становятся все длиннее, пока не теряются в темноте окончательно. И снова. Или качались вместе, кто дольше. Сегодня они гуляли во дворе уже довольно долго, когда тень соседа пересекла песочницу:
— Дорогие леди, я наблюдаю за вами третий день и не могу не спросить — почему вы гуляете под дождем?.. — Он слегка поклонился, и его очки и круглый лоб сверкнули, отразив свет фонаря.
Юлька перестала раскачиваться, а мама, наоборот, увеличила скорость.
— Простите, это, наверное, прозвучало странно. Моя кухня, она на третьем этаже, ну, вы знаете. Я возвращаюсь с работы, ем и смотрю в окно. Двор у меня как на ладони. А вы всегда в это время гуляете, и я думаю — это хорошо, это правильно, но дождь же!..
— У нас дождевики, — сказала Юлька и остановилась, хлюпнув сапогом по луже. Мама продолжала качаться.
— Прекрасные дождевики! Яркие. Но все-таки — сырой воздух, как бы вам не простудиться. Может, можно пару вечеров в квартире посидеть?
— А что если от квартиры — тошнит? — пропела мама и вытянула ноги вперед, а спину назад, так что красный капюшон слетел с колючей черной головы.
Сосед смутился. Юльке стало его жалко. Какой-то он был нелепый, как те человечки из теста — длинный, большие мягкие руки. И нос тоже длинный, мама защипывала тесто пальцами и вытягивала такие.
— Как вас зовут? — спросил сосед. Мамины качели постепенно замедляли ход, она молчала, и Юля ответила за нее:
— Маму зовут Ксюха, а меня — Юлька.
— Ой, я так не умею: «Ксюха», у меня не получится.
Мама впервые взглянула на него. Хмуро, выставив колючую макушку.
— Можно я буду звать вас «Ксения»? Прекрасное греческое имя, переводится как «Гостья». Будете гостьей, Ксения?
Мама села на качелях. Она терла лоб и не отвечала, Юльке было неловко.
— А как переводится Юлька? — спросила она.
— О-о, отлично переводится! Юлия — это уже латынь, означает — «кучерявая». Ты кучерявая?
Юлька тоже скинула капюшон, и мягкий кудрявый пух начал обмякать под дождем.
— Вижу-вижу, прячься скорее! Дождь!
— Ну а вас как звать, заботливый сосед? — спросила мама сердитым голосом.
— Евгений, музейный работник! — отчитался сосед, выпрямившись солдатиком.
— Ну и отличненько, Евгений, музейный работник, — сказала мама. — Сейчас, пожалуй, мы и вправду достаточно погуляли. Пойдем домой. Спасибо за заботу, и все такое. Но на будущее рекомендую — не компостируйте мозг усталым матерям.
Мама сдернула Юльку за руку с качелей и поволокла к дому. Сосед догнал их и пристроился рядом.
— Да я вовсе не…
— Никаких. Советов. Матерям. Ясно?
— Ясно. Понял! Виноват, исправлюсь, лежачего не бьют.
Втиснулись в маленький лифт.
— Что, серьезно? Не хватило такта поехать на следующем? — огрызнулась мама.
— Ага, — ответил сосед. — Я ужасно бестактный. — Он внезапно подмигнул Юльке. — Но иначе я не имел бы шанса извиниться. А теперь могу: Ксения, простите. Это вообще не мое дело…
— Не ваше.
— Просто я… Просто…
Мама уже открывала дверь ключом.
— Ксения…
— Ну?
— Просто я не знал, что вас тошнит от квартиры, — наконец сказал он. Мама замерла у двери и обернулась. Она посмотрела спокойно, и ее лицо было зеленоватым от лестничной лампы. — Если тошнит, то, конечно, надо гулять! Чем больше, тем лучше. Может быть, вы даже маловато гуляете. Я тут подумал, наверное, меня тоже чуток подташнивает от моей квартиры. Наверное, потому я к вам и вышел. Завтра пойдем гулять вместе!
Мама хотела что-то сказать, но не успела, сосед Евгений, музейный работник, прыгнул в свою квартиру и закрыл дверь. Прозвучал щелчок замка а потом, кажется, зазвенела цепочка.
— Вот псих, — сказала мама. И улыбнулась.
В эту ночь мама не плакала и не дышала в Юлькины сырые от дождя кудри. Она сидела на кухне, уткнувшись в телефон, и Юльке пришлось звать ее целых три раза, пока она, наконец, легла. А на кровати мама откатилась к краю и лежала на спине, улыбаясь потолку.
На следующий день сосед действительно вышел на прогулку вместе с ними. Не сразу, но вышел. Он остановился на бордюре, разделяющем площадку и дорогу, будто не знал, можно ли его перешагнуть. Мама крикнула:
— А я вас погуглила, Евгений! Я теперь знаю, что вы — бла-го-род-ный.
— Ну… да. Во всяком случае, так считали мои родители. — Он решился и перешагнул бордюр. — Хотя я не знаю, интересовало ли их значение имени. Вполне возможно, они просто назвали меня в честь Евгения Петросяна.
Мама хрюкнула и натянула капюшон поглубже.
— Вы не против, если я с вами погуляю? Пусто в квартире, скучно.
— Да во дворе тоже скучно.
— Ну, может, вместе будет лучше.
Он облокотился на столб качелей рядом с мамой:
— Вы, наверное, думаете, что я странный?
— Есть немного, — хмыкнула мама.
— Я сам думаю, что я странный… Отвык от разговоров. На работе молчу, прихожу домой — молчу. Если бы не ел, рот бы уже сросся, наверное. А как начинаю говорить, то не могу остановиться. Вы меня останавливайте, если будет заносить, ладно?
— Да говорите уж. Я тоже отвыкла.
— Будем учиться, значит!.. Вы сказали, вас тошнит от квартиры, Ксения. А почему?
— Ох, даже не знаю, как вам ответить…
Сосед помолчал, потом сказал:
— Я у себя под кроватью нашел протухшую курицу. Ума не приложу, откуда она там взялась. Но здорово воняла! Выкинул, проветрил, и на сердце полегчало. Может, вам тоже надо что-нибудь выкинуть?
— Выкидывать я люблю, — сказала мама. — Только нечего уже: столько при переезде в мусорку отправила. Больше, чем нужно было.
— И вы жалеете об этом.
— Ну да… Вишневую настойку, например, вылила в раковину, перелить некуда было, не в графине же везти. А сейчас бы пригодилась. Ангела из янтаря, он у меня на кухне висел, покрылся толстым слоем жира. Мылом не отмылся, я его даже разбила от расстройства. А потом прочла, надо было в лимонной кислоте замочить. Волосы опять же. Думала, веселее будет, а вышло… наоборот. Жалею, что переехала, короче.
— Даже так.
— Ага.
— А здесь, значит, вам совсем-совсем не нравится. Все-таки ваш новый дом, вы можете сделать его каким угодно, нет?
— Неа. Это квартира свекрови.
— Так. Я, кажется, запутался. Вы переехали в квартиру матери вашего мужа без?.. В смысле, вдвоём? Только с дочкой?
— Ага.
— А где?.. Ну, в смысле…
— Муж?
— Э-э, да, муж. Или мужа вы тоже выкинули? Простите, занесло, я зря это сказал.
— Не, он сам. Да уж не смущайтесь. И можно на ты, коли у нас тут душевный стри… приватный танец. Муж — в селе Озерецком. Отделывает там дом. Раньше жили в Филях, квартира крошечная, но моя… Для троих — ну совсем никак, надо было что-то делать. Вот, купили. Денег впритык, поэтому строит сам. Как будет пригодно к жилью, так и переедем. Стану хозяйкой, блин, поместья. А пока — мать-одиночка. Нет ничего более постоянного, чем временные меры…
— А если эту квартиру продать и…
— Неа. Свекровь против, она ж её сдавать хочет. Разрешила жить бесплатно, пока строимся, и даже обещала после переезда делиться арендой нам на ипотеку — я уже по гроб обязана.
— Понимаю, да… Нелегко вам.
— Тебе. Да че-то как-то ваще.
— Сочувствую тебе.
— Ладно, закроем тему — не люблю быть нытиком.
— О, ты тут совсем ни при чем, это все я. У меня гормоны какие-то, или феромоны, уж не знаю. Стоит человеку со мной заговорить, сразу выдаёт все свои печали. Чистая химия!
— Вам в психологи надо.
— Тебе? Ой нет, я слишком восприимчивый, ко мне и простуда-то любая липнет, а уж чужие неврозы и подавно табуном набегут, где я их пасти буду?
— Чем же ты занимаешься, музейный работник? Сидишь на стульчике и сторожишь картины, чтоб бездуховные посетители искусство грязными руками не лапали?
— Я в Кузьминках, там картин негусто. Так, по мелочи всякое. Сейчас вот архивы разбираю, бытовая переписка по поводу приезда императрицы Марии Федоровны. Восстанавливаю, видишь ли, дворянский усадебный быт.
— Ну точно — Ев-ге-ний.
— Смейся-смейся. Я хоть и назван в честь комика, но работу свою люблю трепетно и нежно, могу и пасть порвать.
— Серьезно? И что, есть за что любить?
— А то! Знаешь, например, что Мария Федоровна увлекалась токарным делом? Натурально на токарном станке вытачивала.
— Что, железяки всякие?
— Зачем так грубо? Янтарь, слоновая кость. И вот ее управляющий списывается с Кузьминским мажордомом — как лучше: привезти с собой свой или на месте подготовить такой же. Вдруг ей захочется поточить на досуге?
Мама засмеялась, и сосед заговорил увлеченно, а Юльке сразу стало скучно. Когда мама рассказывала про них самих, было интересно и почти понятно, но замысловатая речь соседа вгоняла в сон. Юлька пошла на горку проверить, можно ли съезжать по ней в дождевике. Раньше мама запрещала — джинсы промокали моментально, но теперь у нее был длинный плащик, ниже попы. Съехала — скользил отлично! Как на ледянке со снежной горки! Видимо, скользкость ткани прибавлялась к скользкости горки и получалась двойная скользкость. Юлька обернулась крикнуть об этом маме, но та слушала соседа, а может быть, просто засмотрелась, как он плавно и широко двигает руками.
Она съехала шестнадцать раз, прежде чем снова глянуть на маму и соседа. Качели стояли под фонарем, а горка в тени, и отсюда были четко видны их силуэты. Сосед сел на освобожденное Юлькой сиденье, повернувшись полубоком к маме. Мама сидела так же, только лицом к нему, как если нарисовать кляксу на листке, а потом сложить вдвое, открываешь, а их уже две, одинаковые, но повернутые друг к другу. Мамина правая рука висела на цепи качелей, и мама оперлась о нее лбом. Сосед точно так же оперся лбом о свою левую руку. Юлька отвернулась. Она решила спрятаться от дождя. Честно говоря, ей уже надоела эта мокротища, а под горкой было сухо. Между столбами обнаружилась маленькая скамейка, и Юлька устроилась на ней с ногами. Стало уютно, она закрыла глаза и собралась помечтать о Филях. Юлька часто вспоминала старую квартиру, когда ей было грустно или нечем заняться. Где что лежало в комнате, что видишь, когда выходишь из подъезда, где булочная, где поликлиника… Сырой воздух пах песком и мокрой древесиной, и Юлька не заметила, как уснула.
Она слегка проснулась, когда мама взяла ее на руки и понесла в дом. Мир покачивался, сосед суетился вокруг, мамин голос звучал спокойно и мягко. Потом запах чистого белья, мама дергает за штанины, чтобы стянуть с неё джинсы. Тепло, тепло, тепло.
С тех пор сосед Евгений гулял с ними каждый вечер. Юлька больше не качалась — ее сиденье занимал он. И Юлькино с мамой общее время, и Юльке принадлежащее мамино внимание — все занял он. Ей разонравились прогулки. Она закидывала на себя мамину руку иа бормотала в холодное ухо, что замерзла и хочет домой, но мама руку убирала и отмахивалась:
— Брось, с чего это вдруг домой? Мы всегда гуляем в это время.
И продолжала болтать с соседом. Тогда Юлька и подумала впервые, что маму подменили. Нет, она, конечно, была уже достаточно большая, чтобы не верить в такие вещи, но мамина чужеродная легкость, этот холодок, смотрящие мимо глаза заставляли Юльку ёжиться и прекращать попытки. Долгий скучный день сменялся долгим скучным вечером, даже вспоминать Фили ей надоело. Иногда она подходила поближе и слушала. Мама говорила:
— Он так увлечен… «Спальня, кабинет» — для него это все живое, ему дает силы картинка будущего. А для меня это абстракция. Я тут тоскую ради ничего.
— Ну да, он в процессе, он видит прогресс, а для тебя это пауза…
— И конца-краю ей не видно.
— А ты говорила ему о своих чувствах?
— А смысл? Раз сказала, два сказала, ничего же не поменяется. Во всяком случае пока.
— Ну он должен идти навстречу. Твоя жизнь должна быть для него не менее важной, чем дом.
— Понимаешь, он как бы верит и не верит. Жалеет меня, старается порадовать, когда приезжает, но в целом он считает, что я развожу сопли на пустом месте. Думаю, он не может отделаться от мысли, что я тут целыми днями бездельничаю, в отличие от него.
— Ты же работаешь!
— Меньше, чем он.
— На тебе Юлька!
— Она большая. Думаю, он считает, что проводить время с Юлькой — это отдых. Для него это так и есть… А я утром просыпаться не хочу.
— Скажи ему. Он должен знать!
— А что это изменит?
— Как минимум сочувствие… Как минимум поддержка. Если бы он просто каждый день с тобой разговаривал, тебе уже было бы легче.
Мама посмотрела в грустное лицо соседа Евгения. А потом сказала, и голос её звучал ниже, чем обычно:
— Ты со мной каждый день разговариваешь. И мне уже легче.
Он ничего не ответил.
— Как вышло, что ты один? Такой понимающий и заботливый.
Сосед пожал плечами:
— Вот уж не знаю. Как-то так всегда выходило… Что ничего не выходило.
— Расскажи!
— Да ну, скучно это, если честно.
— Ну хоть вкратце. Я хочу понять.
— Только если вкратце! Была девочка в институте. Я c ней домашки делал, конспекты давал списывать, шпоры писал. Был бы портфель, портфель бы за ней до дома носил. Все пять лет!
— А она что?
— Ну, у нее была сумка через плечо, она ее сама носила. С другими парнями встречалась. То совета попросит, то рассказывает, как счастлива, то рыдает, что расстались. Я думал: «Вот сейчас, сейчас!» Говорил: «Люблю тебя», а она: «Я тоже тебя люблю, ты такой хороший!» и через неделю с новым встречается.
— Вот коза!
— Да не знаю, может, это со мной что-то не так…
— Ну а потом? Или ты все эти годы хранишь память о студентке с сумкой?
— Да нет, были еще. Одна на стажировку приехала из Гейдельберга. Ей очень неуютно здесь было одной, я ей помогал со всякими бытовыми вопросами. Мы начали встречаться, прожили вместе год, а потом стажировка кончилась, и она уехала. Пытались, конечно, по переписке, но как-то раз она вышла замуж, и переписка закончилась. Вот и все.
— Печальная история. Неужели все?
— А разве мало? По правде была еще одна, коллега по работе. Мы просто дружили, а потом у нее разладились отношения с мужем, она это тяжело переживала. Оставалась на работе по вечерам, сидела одна. Ну, я стал с ней оставаться. Разговаривали, потом все кафешки в округе изучили, потом пошли на танцы вместе. Ну, чтобы она почувствовала себя внутренне лучше. Мы стали очень близки. Даже ночевать у меня время от времени оставалась, когда было совсем плохо.
— А потом?
— А потом у нее с мужем все наладилось.
— Мда… «Хороший левак укрепляет брак» — так, что ли?
— В смысле? Ничего же не было.
— Да ладно? Ночевали вместе и не было?
— Ну да. Вернее, почти… Понимаешь, танцы. Там дистанцию не так воспринимаешь, как в жизни. И все эти слезы в обнимку, ночные задушевные разговоры — наверное, какие-то границы мы все же перешли. Во всяком случае, муж ее теперь не одобряет, если мы с ней оказываемся рядом. Ну и она старается его не раздражать, чтобы сохранить отношения.
— Но… но как тебе удалось с ней не переспать?
— Ну как же — я не мог. Наверное, все к тому шло, она совсем потеряла голову. Но я знал, что она потом сама себя сожрет и меня возненавидит. А мне дорого её самоуважение…
— Охохо, Евгений, тебе нимб голову не жмет?
— Ха-ха, — грустно ответил сосед.
— Я серьезно, ты удивительный.
— Да брось. Я себя чувствую лопух лопухом.
— Не говори так. — Мама протянула к нему руку. — Пожалуйста.
Сосед взял мамину руку двумя своими.
— Ты замерзла.
Юлька робко спросила:
— Может, домой? Я тоже замерзла. И спать хочу…
И оба, будто проснувшись, спрыгнули с качелей и поспешили к подъезду, говоря одновременно:
— Да, домой!
— Пора спать, конечно!
— Поздно уже!
— Загулялись сегодня!
На лестничной клетке замерли, мама морщилась, медлила.
— Ну, до завтра? — спросил сосед, открывая свою дверь.
— Постой… Юлик, иди в дом, разувайся. — Мама прикрыла дверь, но Юлька не стала разуваться, села на пол и прислушалась.
— Не знаю, что я хотела тебе сказать.
— Скажи: «До завтра».
— Ладно… Ладно, до завтра.
И мама зашла в квартиру. Когда Юлька легла, ей несколько раз пришлось звать маму, пока та наконец, не отозвалась с кухни:
— Спи, Юлик, я позже приду.
Назавтра сосед не пришел. Они погуляли совсем недолго, и мама решила его проведать. Евгений открыл дверь не сразу, и по его виду было ясно — заболел. На шее шарф, длинный нос покраснел и распух, глаза сонные.
— Ай-ай-ай, это кто ж это у нас под дождем гулял?.. — с упреком сказала мама, и сосед повесил голову.
— Виноват!.. Влекло меня и манило, никак не мог удержаться.
— Безобразие, — припечатала мама. — Ну, топайте в кровать, господин больной. «Постельный лежим», как говорит Маша.
— Э-э, Юля?
— Маша из «Маши и Медведя», — пояснила Юлька. — Когда Дед Мороз заболел, она ему сказала: «Постельный лежим», а сама пошла подарки раздавать вместо него.
— Какая прекрасная история… Только как бы теперь тебе не заразиться!
— Ничего, — крикнула мама, отправляясь на кухню. — Мы закаленные. Ты вон боялся, что мы от дождя простынем, а мы как гуси.
— Какие гуси?.. — спросил сосед, обессиленно вытягиваясь на кровати.
— С которых вода! — крикнула мама.
Он закрыл глаза, Юлька огляделась. Квартира была такая же по планировке, как и их, только не пустая, а заваленная книгами и стопками бумаг, и очень пыльная.
— Чай с лимоном! — объявила мама, входя с чашкой в руке. — Не знала, какой ты любишь, сделала, как себе.
— Прекрасный, — ответил сосед, делая глоток. — Как и следовало ожидать. А теперь вам все-таки лучше домой. Дождь ладно, но дышать с такой заразой, как я, одним воздухом — это не шутки.
Но они не ушли, пока мама не померила ему температуру, не вымыла посуду, не подмела пол и не проветрила комнату.
— Ты нужен мне здоровым, — сказала она. — Поэтому в моих интересах, чтобы ты лечился в правильных условиях.
— Ты тоже, — сказал он, протягивая к ней руку.
— Что я тоже?
— Нужна мне, — ответил он.
Мама нахмурилась и сказала Юльке:
— Ладно, Юлик, лучше нам пойти домой. Не хватало ещё, чтоб ты свалилась с соплями.
Было ещё не очень поздно, и дома мама включила Юльке мультики на своем компьютере. Днём мама на нем работала, и Юлька смотрела на планшете, а это было не так здорово, как на широком мамином экране. Мама крутанула кресло, чтобы поднять повыше, и Юлька с удовольствием откинулась на пружинящую спинку. А когда они выключили свет, то ощущение стало, будто она в кинотеатре.
Мама пошуршала коробочками из аптечки и ушла. Следующие несколько дней по вечерам у Юльки был кинотеатр вместо гулянья. Она не возражала — прогулки все равно давно были не в радость. К концу мультфильма мама обычно была уже дома. Веселая и чужая, она раскладывала диван, и Юлька засыпала, так и не решив, нравится ей новая мама или нет.
Один раз мама не успела вернуться к концу мультика, и Юлька тихо пошла в квартиру соседа. Обе двери были открыты. Юлька заглянула.
Они сидели на кухне.
— Так странно, что ты сидишь здесь.
— Мне самой странно. Может быть, это не я?
Юлька мысленно ахнула: «Значит, мама тоже это чувствует!»
— Как будто гудит все внутри… Или, может, этого не происходит вообще? В книжках в такие моменты герои себя щипают.
— Мне себя жалко, можно я тебя ущипну? — Сосед протянул руку, а Юлька пискнула:
— Мама!
Они оба дернулись и уставились на неё.
— Реальность вторглась в нашу идиллию. Здравствуй, реальность!
— Привет, — хмуро ответила Юлька. — Джинн кончился.
— Джин? Ты даёшь ребёнку джин, чтобы сбежать к бедному больному?
— Джинн — в смысле Алладин, — устало сказала мама. — Пошли домой. А ты уже не болен, между прочим.
Со следующего дня прогулки возобновились. Юлька сопротивлялась, не хотела отказываться от домашнего кинотеатра, но мама сказала: «Хватит сидеть дома, и так уже головы скоро опухнут». К тому же как-то резко повалил снег, и двор стал чистым и сказочным. Мама достала с антресолей зимние куртки. Только вышли, а сосед был тут как тут:
— Тебе бы поберечься после болезни, — сказала мама.
— Ничего, я надел три свитера, — ответил он. И больше они к этой теме не возвращались.
Через несколько дней приехал папа. Мама увидела из окна подъезжающую машину и пошла встречать к двери. Открыла до того, как он вставил ключ, взяла за отвороты пальто и втянула через порог.
— Ух, какая встреча!.. — удивился папа.
— Это ещё что! — Мама осторожно сняла с него пальто за рукава, а потом резко отшвырнула на пол, так что пальто проскользило по коридору, и потянула папу в ванную.
— Пойдём. Пришло время смыть двухнедельную строительную пыль.
— Сейчас? Дай хоть ботинки сниму. А Юлька?
— А у Юльки будет домашний кинотеатр. Снимай свои ботинки, я пока включу. Не возражаешь, Юлик?
И мама включила «Холодное сердце». Когда она наклонилась, Юлька увидела, какими чёрными стали у неё глаза. Зрачки расширились, и от карей радужки осталась едва заметная тонкая полоска. Юльке было не по себе, она смотрела, как мама выходит из комнаты, как ждёт папу в дверях ванной, закусив нижнюю губу, а удивленный папа спешит к ней. Ванная закрылась, послышался щелчок замка и звук льющейся воды. Но из колонок заиграла песня ледорубов, и Юлька переключилась на мультфильм. В какой-то момент Юльке послышался звон из ванной, потом оказалось, это разбился стакан с зубными щетками, стоявший на стиральной машине.
На следующий день утром папа предложил Юльке взяться за замок, который она совсем забросила. С папой дело пошло на лад, и они выстроили целый этаж. Мама была задумчивой и тихой, вся в себе. Сказала, что устала, хочет побыть одна. Папа удивился, но поехал в бассейн вдвоём с Юлькой. Они много смеялись и плескались, а потом папа отобрал у неё нарукавники и учил плавать. Юлька пугалась, хохотала и без толку молотила руками по воде, но под конец научилась задерживать дыхание и проплывать пару метров под водой с зажмуренными глазами. Папа пообещал в следующий раз купить ей очки для подводного плавания.
Юльке хотелось поделиться с папой своими мыслями про чужую маму, но она не знала, какими говорить словами, чтобы он понял. Она рассказала про Морока из «Сказочного патруля».
— Понимаешь, это такой злодей, он может принимать любой облик. И поначалу его все принимают за хорошего, пока он не сделает что-то плохое.
— Наверное, это страшный герой?
— Да… И мне кажется… — Дальше Юлька очень смутилась и сказала совсем тихо: — Маму-заменил-Морок.
— Чего-чего Морок?
Юлька бухтела под нос, но папа все же расслышал.
— Мама Морок?.. Ну ты скажешь!
— Она стала другая, — буркнула Юлька.
— Ох, Юлька… Нет, думаю, это не Морок. Просто маме… трудно. И она справляется как может. Иногда человеку, чтобы с чем-то справится, нужно стать немного не таким, как раньше.
— А тебе трудно?
— Конечно. Только по-другому. Я устаю физически — руки болят, ноги, спина. Но когда я ложусь спать, я сразу засыпаю, у меня нет сил думать. А мама устает от своих мыслей.
— Это все из-за соседа.
— Какого соседа?
— Да, гуляет с нами каждый день теперь. Маме с ним интересно, а мне скучно.
Папа выслушал Юлькин рассказ про музейного работника Евгения, сжал зубы и кулаки. Юлька подумала, не заменил ли и его Морок.
— Па-а-ап?..
Папа вздохнул и сказал:
— Поехали-ка домой.
Когда они вернулись, мама встретила их целой стопкой блинчиков.
— Отдохнула? — спросил папа.
— Да как сказать?.. Очень странно было. Непонятно, что делать, когда ничего не нужно делать. Вот, не удержалась, за готовку взялась. Но все равно приятно.
— Юлька мне выдала твой секрет.
— Да? — Мама быстро глянула на дочку и встала, чтобы заварить чайник.
— Что с вами теперь гуляет длинноносый сосед в очках, похожий на человечка из теста.
— Да? — повторила мама. — А, ну да, гуляет один. Он учёный, искусствовед. Интересные вещи рассказывает.
— Интересные, значит?
— Очень! — жестко сказала мама.
— До того интересные, что надо каждый день их обсуждать?
Мама поставила перед папой чашку и сказала:
— Ну тебя-то рядом со мной каждый день нет.
Папа посмотрел в окно.
— Я скучаю по тебе, — сказала мама. — Ищу способы хоть как-то отвлечься. Мне плохо. Кроме того, мы только болтаем, не надо меня за это расстреливать.
В этот раз папа принимал ванну один, мама гремела чашками на кухне.
Наутро Юлька проснулась от сердитых голосов.
— Если ты не можешь приезжать чаще, давай мы с Юлькой переедем туда!
— Ксюх, ну что ты несёшь, там жить невозможно!
— Ну ты же живешь как-то? Ты говорил, тёплый пол уже есть, значит, там нормальная температура?
— Я там не живу, я только работаю и сплю. Тепло, но там же вообще ничего! Электричества нет, кухни нет, все каменное. Ткнуться некуда! Что вы там делать будете днём, когда я на работе?
— Возьмем с собой лего, будем строить замок.
— Ага, супер. А есть что будете? Я обедаю на работе, а вечером ем доширак. У вас там со скуки крыша поедет.
— У меня и здесь крыша едет, не вижу разницы!
— Исключено, Ксюх, это нереально.
— Тогда сними нам там квартиру! Там же есть многоквартирные дома? Наверное, не очень дорого.
— Если бы у нас были на это деньги, я бы нанял бригаду делать ремонт, а сам мог бы жить здесь.
— Если мы переедем в съемную, то эту твоя мама сможет сдавать, будет отдавать нам аренду, и эти деньги пойдут на оплату съемной в Озерецком.
Папа тяжело опустил голову на руки.
— Я подумаю, ладно? Это очень непростая схема.
— Подумай, прошу тебя. Я могу повесить объяву на «Циане» про сдачу этой квартиры.
— Нет-нет, без мамы этого делать нельзя — ей же иметь дело с жильцами. Я ей позвоню. А сначала узнаю про съемные квартиры в Озерецком, идет?
— Как долго…
— Все будет хорошо, не вешай нос.
Папа поцеловал маму, взъерошил ей волосы, потом подкинул Юльку к потолку, прижал к себе напоследок и уехал. Пошел отсчет следующих тринадцати дней. После этого прежняя мама на какое-то время вернулась: все воскресенье валялась с Юлькой на диване, читала ей Винни Пуха, и Юлька думать забыла про Морока. Гулять они не ходили: немного строили замок, иногда делали кинотеатр, пару раз звонили папе по громкой связи. В один из таких звонков мама спросила, нашёл ли папа квартиру в Озерецком.
— Нет пока. Совсем новое все. Большая часть квартир пустые стоят, тоже без отделки. А кто ремонт уже сделал, сами живут.
— А маме звонил, спрашивал, согласна ли она?
— Неа… Какой смысл ее беспокоить, если переезжать пока некуда?
— А такой, чтобы быть готовыми сорваться, когда ты найдешь подходящий вариант. А то как начнем маму уламывать, как начнем жильцов искать, чтоб некурящие, без детей да без собак, да славяне с высшим образованием и айкью не ниже ста двадцати, так квартиру из-под носа и уведут!
— Ксюх, не начинай. Я ж говорю — непростая схема… Поищу варианты в деревне поблизости — может, какая-нибудь бабуля комнату в доме сдаёт.
— Ужас какой!
— Можно оставить как есть, Ксюх. Я движусь в хорошем темпе. Еще полгода потерпеть — и уже в свой дом въедем!
— Полгода!.. Тогда согласна и на комнату у бабули. Ну ладно. Скажи, ты приедешь на Новый год?
— Ммм… Первое у нас понедельник? Давай приеду двадцать девятого вечером после работы. Субботу проведу с вами, как обычно, а тридцать первого двину в Озерецкое.
— Серьезно? Ну хоть праздник с нами побудь!
— Никогда не любил Новый год. Брось, Ксюх, выходные — значит, смогу больше поработать.
— А как же Юлька? Подарки под ёлкой, бой курантов и все такое?
— Ну, притворимся, что праздник — с пятницы на субботу.
— Нетушки! Либо останься на два дня (я уж молчу про четыре!), либо вообще праздника не будет. Даже с ужином заморачиваться не стану!
— Почему ты не идешь на компромиссы?
— Это ты не идешь на компромиссы! Ты всегда все устраиваешь так, как хочется тебе. Почему мы не купили двушку на окраине, в которую смогли бы сразу переехать? Дом — это твоя идея! Носишься с ним, возишься и счастлив! Тебе просто удобно, когда семья обременяет тебя не чаще, чем раз в две недели!
— Ты несправедлива! Мы вместе решили, что собственный загородный дом — это здорово! И для Юльки, и для нас. И я тут не развлекаюсь! Именно потому так ценю каждый выходной, в который можно что-то сделать — я вижу, как дом становится домом.
— Ну а я не вижу. Я вижу только, как семья перестает быть семьей.
— Не говори так…
— Как хочу, так и говорю. Ладно, пока. Увидимся в пятницу.
Мама выключила телефон.
— Папа, наверное, расстроился… — сказала Юлька.
— Я тоже расстроилась, — сердито ответила мама. — Пошли на улицу!
Она кинула Юльке теплый свитер с высоким горлом, и через пять минут они вышли во двор. Снег казался оранжевым в свете фонарей, а в тени, за пределами площадки — голубым. Было очень тихо. Юльке было тепло, она двигалась медленно, будто закутана в одеяло. Не успела она подумать о том, выйдет ли на улицу сосед, как он уже махал им рукой.
— У тебя есть жилетка? — спросила мама, не здороваясь. — Я буду в неё плакаться.
— Плачься на здоровье, дорогая, — ответил он. — Жилетки нет, но мы притворимся, что она есть.
— Проверь горку, Юлик, — сказала мама. И по её улыбке Юлька поняла, что чужая мама снова здесь.
Папа приехал, как и обещал, в пятницу. Привез пиццу, попросил Юльку показать кино про Сказочный патруль. На мамином экране и в темноте они смотрелись ещё волшебнее, чем на планшете. На следующий день они вдвоем съездили за елкой. Их осталось совсем мало, выбрали лысую, неказистую, но когда установили ее дома, оказалось, что от неё идёт чудный запах. Днем вешали игрушки и лампочки, а вечером папа отвез их в парк — там играла музыка, вдоль всех дорожек висели гирлянды, а некоторые деревья были обмотаны лампочками, так что казалось, это у дерева светящиеся ветки и листья.
— Ну что, праздник удался? — спросил папа, купив всем по хот-догу.
— Да! — крикнула Юлька.
Мама пожала плечами. Потом улыбнулась:
— Ладно, я ценю, что ты стараешься для нас.
— Постарайся для нас тоже, я тебя прошу. Ты же мой товарищ. Мой лучший боец. Моя самая сильная… — Папа притянул маму к себе и обхватил полами пальто. — Ну что, мир?
— Мир, — глухо отозвалась мама из своего укрытия.
Утром папа уехал. День был белый-белый, и лампочки на елке поблекли. Мама с Юлькой сходили в магазин и взялись за готовку — сделали пирог с яблоками, запекли целую курицу в духовке, нарезали салатов. Вечером заскучали: есть почему-то не хотелось, и странно было, что они приготовили такое угощение только для самих себя. Убрали все по контейнерам. Юлька предложила маме почитать или пособирать замок, но мама отказалась:
— Неподходящие это занятия для тридцать первого декабря.
— А какие — подходящие?
Не успела мама ответить, как в дверь позвонили. Это был сосед Евгений с большим пакетом в руке.
— С наступающим! Представьте, мне не с кем отпраздновать! — сказал он и протянул маме пакет. Она будто и не удивилась.
Сказала:
— Проходи, будь как дома, — и понесла пакет на кухню.
Юлька топталась в прихожей. Ей казалось неловким бросить его в прихожей одного и бежать смотреть, что в пакете. Наконец, они все оказались на кухне. Сосед принёс двухлитровую бутылку кока-колы и еще одну — стеклянную, зеленую, с золотой фольгой. И шоколадные конфеты. И две лохматые шапки с заячьими ушами торчком — одну взрослую, другую детскую.
— А это что? — спросила мама про целую стопку разрисованных звёздами коробок и палочек.
— Фейерверки, хлопушки, бенгальские огни. Поедим и пойдём на улицу. У вас найдется что-нибудь на прокорм голодному страннику?
Юлька с мамой бросились доставать контейнеры из холодильника. Аппетит сразу проснулся. Сосед разлил по чашкам кока-колу, Юлька сделала большой глоток, и у неё зашипело в носу.
— А шампанское? — спросила мама.
— Потом. Под бой курантов!
После ужина Юлька помчалась надевать сапоги и куртку и нетерпеливо поджидала, пока они соберутся. Мама натянула на нее заячью шапку — великовата, но мягкая!
— Мам, ты тогда тоже!
Когда чёрные волосы спрятались под белый мех, мама стала милой, как Снегурочка.
— Спасибо, — сказала она и повернулась к соседу. — Хороший подарок. А у нас для тебя ничего нет…
— Ну и ладно, — пожал плечами сосед и спел голосом Волка из «Ну, погоди»: — Лучший мой подарочек — это ты!
А дальше был настоящий праздник. Сосед запускал фейерверки один за другим, они грохотали и взрывались разноцветными огнями. Когда фейерверки кончились, в ход пошли хлопушки, а потом сосед раздал им бенгальские огни, и они сидели рядом на лавочке и смотрели на тонкие ломаные искры.
— Как красиво, — сказала мама. — Я чувствую себя счастливой.
— Это правильное чувство, — отозвался сосед.
— Еще я чувствую себя очень-очень слабой. И мне это нравится.
Юлька устала держать тонкий прутик, тем более, он становился все горячее, и пошла воткнуть его в сугроб. На снегу заплясали огоньки, и она повернулась показать его маме. Она видела их со спины. Мама прижалась левым заячьим ухом к плечу соседа. А сосед гладил рукой правое заячье ухо. Юлька не стала звать маму. Она боялась, что опять увидит чёрные, почти без радужки, глаза.
Когда бенгальские огни прогорели, они пошли в дом. Мама уложила Юльку на диван. Гирлянда на елке сияла тёплыми разноцветными точками, и было очень уютно. Но ей не спалось, и она прислушивалась к тому, что происходит на кухне. Сначала раздался хлопок — это сосед вскрыл и разлил по чашкам ту зеленую бутылку с фольгой. Потом, видимо, мама включила планшет: бубнил какой-то голос, а они хихикали. Потом раздался мелодичный звон.
— О, куранты! — сказал сосед. — Загадывай желание!
Звон кончился, и он спросил:
— Успела?
— Ага! — Юлька услышала по маминому голосу, что она улыбается. — Ещё как!
— А что ты загадала?
— Вот уж не скажу, а то не сбудется. — Она помолчала. — А ты?
— Я тоже тогда не скажу. Только… Разве это не очевидно?
Они замолчали надолго, и Юлька уснула.
Следующий день был сонный, мутный. Проснулись они поздно, позавтракали пирогом и холодной курицей. Юлька вместо чая пила кока-колу, хотя она уже не так шипела в носу.
— Пошли, что ли, погуляем?
Они вышли в заячьих шапках. На снегу повсюду были черные подпалины от фейерверков и валялись разноцветные блестяшки от хлопушек. Ощущения чистоты и сказочности, которое давал снег вечером, в дневном свете уже не было.
Они немного побродили, но мама оглядывалась на дом и не хотела уходить с площадки. Как и ожидала Юлька, скоро появился сосед.
— С Новым годом! — крикнул он издалека.
Мама поспешила к нему навстречу.
— С наступившим! Я жду тебя, чтобы сказать спасибо — вчера было чудесно.
— Сказочно… — отозвался он грустно.
— Отлично, волшебно, нереально!..
— Вот именно — нереально.
— Ты о чем?
— Ну, ты же понимаешь — дело в границах.
— А-а, ты опять об этом…
— Нельзя их нарушать. А как понять, где они? Зыбки ведь, как дворянский усадебный быт.
— И что? Ты вовсю погружен в дворянский быт. Почему бы не заниматься тем, что нравится? Если это никому не вредит.
— А не вредит ли? Дворян нет, и никогда не будет, мечтать о них совершенно безопасно. Как ни старайся, не совершишь ничего непоправимого. А мы с тобой — увы.
— Я вчера… — медленно заговорила мама, рассматривая что-то под ногами. — Была очень близка к чему-то непоправимому.
— Аналогично, шеф! — ответил сосед. — Так что… Я пойду и почитаю про визит в Кузьминки Марии Фёдоровны с царевичем Сашей. Ведь говорят, как встретишь Новый год, так и проведёшь. А я планирую весь год дышать архивной пылью и мечтать о несбывшемся.
— Может, хоть обнимемся на прощанье? — тихо сказала мама.
Он раскинул руки, длинные мягкие руки, и обхватил ее так, что она почти исчезла.
— Не горюй, ежонок, все будет хорошо. — Он закрыл глаза и спрятал лицо на маминой макушке между заячьих ушей.
Мама стучала ногой и что-то шептала ему в грудь, Юлька не могла расслышать.
— Ну все, все. Это нужно закончить. — Сосед отодвинул от себя маму, сжал вытянутыми руками ее плечи, будто устанавливая покрепче, чтобы не упала. — Пока, Ксения, дорогая гостья, рад был познакомиться.
— Куда!.. — выдохнула мама, но он, не оглянувшись, только помахал шапкой.
И мама вернулась. Побежала к Юльке, схватила в охапку, уткнулась лицом в кудри, в заячий мех.
— Юлик, ты мерзнешь?
— Нет, мне уже тепло, — сказала Юлька.
— Все равно. Ну-ка, бегом до остановки! Поедем в путешествие.
И они побежали, сели в первый же подошедший автобус, ехали, бегая от одного окна к другому, а когда Юлька закричала: «Парк!», выскочили. Это был другой парк, не тот, в который возил их папа. Совсем маленький и без гирлянд, но там тоже играла музыка, хоть, кроме них, не было ни души. Зато были извилистые узкие дорожки, скамейки с навесами, замёрзший пруд и тарзанка над ним. Они обошли парк целиком и одобрили, договорившись, что будут ездить сюда в выходные. Дома они доели салаты и вместе посмотрели «Полярный экспресс».
Праздники кончились, Юлька с мамой почти забросили прогулки. Иногда они оставались дома и делали кинотеатр, иногда читали, а еще были близки к тому, чтобы достроить замок принцессы. В один из таких вечеров по громкой связи позвонил папа и сказал маме вешать объявление на «Циан» — он нашел квартиру в Озерецком, и бабушка согласилась оплачивать ее из аренды.
Несколько раз они все же ходили гулять, и тогда на лестничной площадке мама медлила: долго возилась со шнурками и застежками, искала ключи и возвращалась за забытым мобильником. Даже придумала игру в счет машин. Юлька должна была смотреть в окно — оно выходило не на двор, а на улицу — и считать машины. Как насчитает десять, можно идти. Но соседа они больше не встретили. Наверное, теперь он возвращался с работы в другое время.
Впрочем, Юльку это только радовало. Теперь мама была прежняя, Юлькина: тёплая и плачущая по ночам.

Мимо мишени
«Снова мимо! Да что с тобой сегодня?» — к пятому промаху у тренера начинается истерика. Я приперлась сюда 31 декабря казнить несбывшиеся желания, представляя их вместо мишени, но даже это у меня не получается.
Зря только Ильича дергала. Он еще не успел вылезти из своей вечно грязной Daewoo Nexia, как с хрустом провалился правой ногой в заледенелый сугроб и сорвался:
— Аля, твою мать, какого хрена ты придумала? У самой праздников нет, другим решила испортить?
Праздников у меня и правда нет, я в этом городе совсем одна. В начале года переехала в это захолустье. Любовь типа. Любви больше не существует, а мое существование в этой дыре продолжается (любви повезло больше, чем мне).
«Паф!» по мечте быть вместе с Мишкой. Мишкина нынешняя меня постоянно караулит и пытается напугать, чтобы я сбежала из города. Встала однажды ночью в черном домино в темноте подъезда. Поставила запись какого-то загробного воя. И тянет ко мне руки, пока прохожу по лестничной клетке. А у самой из-под капюшона торчат белые патлы. И динамик хреновый, всю правдоподобность воя сжевывает. Короче, никакого запределья, кроме запредельной глупости. Работу бы нашла, хотя нет тут, в этом захолустье, работы.
«Паф!» по переезду в дыру. Здесь никогда не убирают снег, которого очень много практически круглый год. С завода выплывает какое-то облако отходов, оседает на город, поэтому сугробы всегда черные. Делаешь в снегу «ангелочков», а выходят чернокрылые демонята. Говорят, именно из-за этого пепелища в городе вообще не устанавливают золотые купола. Все черные. На золоте пепел был бы заметен, нехорошо — какой-то, выходит, диавольский след. Снеговики все получаются темнокожими. Один плюс — дети воспитываются толерантными к расовым различиям.
Кстати, о детях. «Паф!» по настырной мечте, чтобы Новый год был таким же волшебным, как в детстве. Я повторяю себе — забудь, darling, детства больше не будет, бабушка не зайдет в комнату в алой блузке под Верку Сердючку, тебе больше не дадут впервые попробовать шампанского, потому что впервые бывает лишь однажды, ты больше не пойдешь на ёлку у дома культуры, потому что она сгорела. А самое главное — потому что мама умерла 1 января в 13:00, рак, пережила свой любимый праздник и всё, ушла. Не будет больше того Нового года, по которому ты тоскуешь, потому что нет больше той семьи.
У нормальных людей отсутствие семьи компенсируется карьерой — снова не мой случай. «Паф!» по собственной нереализованности. В школе я была первой отличницей, положила всю юность на учебу, мотивировалась заоблачной карьерой в будущем — видела себя в 25 на Мерседесе и в кресле руководителя корпорации. В универе всё пошло не по плану, и я вынуждена признать, что детство оказалось напрасной жертвой. Я проехалась катком собственных амбиций по самому лучшему периоду в жизни человека, но не взяла ничего взамен.
«Паф!» по отсутствию перспектив. В Москве совсем ничего не осталось, ни контактов, ни зацепок. Возвращаться — начинать всё с нуля, поздно и страшно. Вряд ли что-то заставит меня уехать отсюда. Жить мне тут и умирать в черной вьюге.
«Паф!» по… Блин, сбили с мысли! Пришли вызвать Ильича на ресепшн:
— Ну только если это… вы девушку одну с оружием не боитесь оставить…
Оставить не побоялся, но вернулся очень быстро:
— Слушай, Алька, как его… короче, там режиссер из Питера, баба, тьфу, дама приехала, ищут срочно снайпершу в фильме снимать… Это, ну ты не хочешь попробовать? Ты ж у нас в тире единственная баба и вроде ничего…
Идем на ресепшн. Режиссерша стоит в окружении свиты, такая нездешняя. В смысле не просто не местная, а вообще не отсюда, не с этой планеты. Самая натуральная фея, если они бывают в натуре. Высокая, худощавая, элегантная — шлейф от плаща тянется по полу, в блондинистой укладке — перья…
— Аля, Аля, собирайтесь, мы едем в Петербург, мы уезжаем, — полушепотом повторяет она, сжимая воздух у лица пальцами левой руки. Сигналы из космоса, а не человеческая речь!
— Вы к переезду готовы? — индифферентно повторяет заученные фразы администратор картины. — Жилье предоставляем, роль перспективная, кино фестивальное, гонорар достойный, обсудим чуть позже, — оглядывается на режиссершу и бригаду, — лично.
Осмотрела меня, покрутила немножко, объясняет, что изначально планировалось появление моего персонажа всего в нескольких эпизодах, которые снимают в нашей дыре, поэтому они не повезли с собой актера из Питера, а хотели вызвать кого-нибудь из местного драмтеатра. Уже после приезда режиссерше пришла в голову идея развить линию моей героини и задействовать ее в питерских съемках. В драмтеатре на эту роль никого не нашли, готовы взять непрофессионального актера, главное, чтобы с оружием обращался умело.
— Ну что, соглашаемся, едем? Минута на размышления, минута на собраться, время пошло.
— Аль, твою мать, я нахрена пёрся сюда через весь город — чтобы ты сбежала с тренировки?
Дважды подставлю Ильича — сначала вызвала, а теперь кину. Сегодня мы снимаем в дыре все эпизоды из «девяностых», а утром вылетаем в Питер. У меня появились планы на новогоднюю ночь — буду паковать вещи. Конечно, это не те желания, которые я загадывала, но это точно тот случай, когда мимо мишени — даже лучше.

Мира во всём мире
7 марта 2020
Мира
Сегодня отменили все рейсы в Гонконг. Я зависла здесь минимум на месяц. А максимум? Хрен знает. Но самый прикол в том, что сегодня утром сделала тест. Две полоски. И мы как бы обсуждали, планировали, да. Но это были планы на неближайшее будущее. Я вообще думала, что у нас сразу и не получится. И представляла это не так, чтоб я сидела здесь, а он там. Это бесит.
А больше всего бесит то, что я не хочу ни с кем об этом говорить, и уж тем более с ним по телефону. Я представляю его реакцию. И — вот блядство! — Макс привёз сюда свою беременную невесту, и мы с ней, получается, подруги по несчастью. Или это принято называть счастьем. Но я так не чувствую. Я, нафиг, чувствую, что я в полной жопе.
Никогда не понимала, зачем маме столько детей. Дети — эти, блин, цветы жизни. Мне лично и двоих было бы слишком много. И я дико не хочу толстеть. Уродство какое-то. Живот этот. Ограничения всякие. То нельзя, это нельзя. Я ещё слишком молода для всего этого.
Ну и камон, этот ребёнок спутал мне все карты. Дико не вовремя. И по работе, и вообще.
Макс всегда троллил меня: Мира во всём мире. Да, я хочу побывать везде — проехать по всем странам и континентам. И что? Это кому-то мешает? А если ему самому не в лом сидеть под юбкой у своей жены, ну так кто ему режиссёр?
Конечно, двигаюсь я по шарику малость хаотично, но в Европе и Англии уже была, в Испании и Эмиратах, в Китае, конечно, и в Индии. Вот Индия мне больше всего понравилась. Может, потому что последняя из всех? Мы Новый год там встречали. А следующий год я загадала встретить в Австралии. А теперь что же, не выйдет?
Мама
Поглядела в окно — щавель вырос, пора варить зеленый борщ. Вышла во двор, а там — настоящая душистая и звенящая весна: абрикос осыпает лепестки, а груша-красавица только начала разворачивать свои крупные белые чашечки с длинными тычинками. Пчелы летают вокруг, как безумные, и гудят-гудят. Работают. Птицы, коты, собаки — все живое носится, снует и щебечет. И как-то это хорошо, правильно.
У нас не все дома. Шучу. Это Мира нас называет сумасшедшим домом. Она сбежала от нас, как только смогла — уехала учиться и так и не вернулась. Кажется, мы здесь всё время слишком давим на неё, ограничиваем её свободу. Но про «не все дома» правда — дочки все в сборе, даже Мира из Гонконга прилетела. Макс в отпуске с невестой. А вот Дани не хватает, но его теперь и не отпустят. Он в Склифе. Два отделения отдали под коронавирус. Профессоров в возрасте отправили по домам. Ординаторам разрешат работать, если врачей не станет хватать.
Вышли всемером вечером за дом в поле — обычно гуляем там одни, соседи возятся в огородах, работают на участках. Только мы шатаемся без дела. А сегодня — аншлаг! По всему полю то тут, то там кучки людей. Гуляют. Очень насмешила парочка братьев разного возраста: старший на гироскутере — едет, сложив руки на груди, устремив взгляд вдаль, а за ним мелкий на обычном самокате — пыхтит, старается не отставать, ногой отталкивается, лицо красное, пот течет. И чем-то эта парочка мне Миру с Максом напомнила: вот так же и Макс всегда тянулся за сестрой, старался не отставать.
Перед сном посмотрела на себя в зеркало — в волосах розовый лепесток абрикоса.
Макс
Подслушал сегодня случайно, поржал — Мирка с малой болтала про Мишу.
— Ты зовёшь его «Малыш»? Это супер орно.
— Если я тебе расскажу, почему я так его зову…
— О, расскажи! Плиииз!
— Блин. Ладно. Мы уже жили вместе, а я всё время забывала, как его зовут. Ну да, да, лол. Ну хватит ржать!
— Ты сама ржёшь!
— Ну да, да. Прикинь, поворачиваюсь к нему, хочу что-то попросить и не помню, что он Миша. Не помню, и всё. И говорю такая: «Малыш». А он двухметровый такой шкаф — ну ты видела. И самый прикол: ему понравилось! Типа это такое ласковое прозвище.
— Но теперь-то ты помнишь, как его зовут?
— Ну за пять лет выучила, да. И он злится, если я его зову по-другому, считает, что это я тогда, когда хочу подчеркнуть, что чем-то недовольна.
— А ты недовольна?
— Да хрен его знает. Наверное, он прав. Я часто на него злюсь. И имя-то дурацкое, если честно. Миша. В жизни никого не знала с таким именем.
— Ну, не знаю. Михаил Горбачёв.
— Ага, скажи ещё — Михаил Архангел.
30 марта
Мира
А теперь и здесь карантин. Добро пожаловать в реальный мир! То есть я зависла капитально. Теперь буду любоваться на Макса с его семейным счастьем. Больше тут делать нечего. Малые учатся онлайн просто беспрерывно: с утра любуются на своих учителей, после обеда делают уроки. Бедные. И задают им столько, будто завтра конец света и надо успеть всё выучить.
А эти голубки всё время у меня на глазах. Если честно, то их отношения — это такой пруд со стоячей водой, тишь-гладь-Божья благодать. Ни разу не слышала, чтоб они друг другу что-то с чувством сказали, всё как-то — ну не знаю, без огонька. Не верю я в эту фигню.
То ли дело мы с Мишей. Хе-хе. Даже по телефону умудряемся рамсить друг на друга. Он, конечно, псих ещё тот. Помню, как разбил мой новый телефон, который сам же мне подарил. Психанул и разбил его о стену, только кусочки полетели. Одну деталь нашли потом на люстре.
Мне кажется, что, если мы перестанем творить всякую дичь, нам станет друг с другом скучно. Хотя иногда я понимаю, что это уже слишком. Зато секс бомбический после того, как. Вот чего мне здесь сильно не хватает. Хоть устраивай секс-минутку онлайн.
Вот кринжово будет, когда кто-нибудь ворвётся в тот самый момент. А они ворвутся, сто пудов, они все врываются. Личное пространство? Постучать? Нет, не слышали. Прут, как к себе домой. Ну да, ну да, это же и есть их дом. Наш дом. Очень густонаселённый, блин, дом.
Мама
Они не любят друг друга.
Они не любят друг друга так, как я хочу, как я себе это представляю. Мне всегда казалось, что родные братья и сёстры — это такая безусловная вечная любовь. Наверное, это потому, что у меня самой никогда никого не было. Никаких братьев-сестер, даже двоюродных. Может, я и детей рожала, чтобы сбылась моя розовая мечта об этой самой любви?
А они всё время соперничают, всё время ссорятся. Что-то доказывают. Всегда так было. Помню, когда они были маленькими, сидели вдвоём за одним столиком, ели что-то вкусное, не помню, и Мира взяла, облизнула ложку и стукнула Макса по лбу со всего размаха. Я в этот момент к ним повернулась и увидела. Видимо, у меня был на лице такой ужас, что Макс быстро среагировал и сказал:
— Прости меня, Мирка!
То есть он взял и попросил прощения за то, что она его стукнула.
А я разразилась монологом о любви между братьями-сестрами, о том, как это важно. Может, надо было просто Миру наказать? Но разве наказание могло бы вызвать добрые чувства, сблизить их?
Понятно, что это смешно, но с тех пор, как она узнала, что старше Макса, всегда хотела быть во всём первой. И была. Пока Макс не перерос её, резко и сразу очень ощутимо. И тогда она внезапно меня упрекнула:
— Макса ты больше любишь.
И что бы я ни говорила, я не смогу убедить ни того, ни другого в том, что я люблю их одинаково сильно, хотя и по-разному.
Но то, что происходит между ними сейчас, мне совсем не нравится. Они не просто соперничают, они доказывают друг другу, кто круче.
Мне кажется, она и в Гонконг уехала, чтобы доказать, что её китайский более востребован, чем его немецкий.
Да, с этого и началось — с того, что он выбрал немецкий. Как она его ни уговаривала, как ни давила, он пошёл в другую группу. Там и Лику свою встретил.
7 апреля
Мира
Кажется, я уже готова её задушить. Макс прыгает вокруг, будто это не беременность, а какой-то подвиг. Мама, похоже, тоже просекла фишку и подкладывает ей лучшие кусочки за столом. Если так дело пойдёт, она от нас уедет в два раза толще, чем была, а приехала она не худышкой.
А меня постоянно тошнит. Ничего есть не могу. Даже самые вкусные блины с вареньем и фирменные пироги — у мамы тесто подходит в холодильнике, а не в тепле. И когда она печёт, запах стоит по всему дому такой уютный, сладкий. Фу, нет, только не про запах… Это раньше он был уютный и сладкий, а нынче просто выворачивает наизнанку, беее.
Вчера уже совсем окончательно собралась сказать Мише вотэтовсё, но он как начал эту свою обычную муть про то, как ему плохо без меня, типа пожалейте меня бедненького. Короче, не стала я его добивать. Кому я вру? Вовсе это была не жалость. Мне просто стало так противно, так мерзко. Он меня дико раздражает.
Зато Максу сказала. Как так получилось, даже не поняла. Мы сидели с ним вдвоём, он обнял меня как-то так по-прошлому, как он всегда делал, когда хотел меня утешить. И я ему всё рассказала. Он прямо расцвёл. Классно, говорит, наши дети будут, как мы с тобой. Только мы с ним близнецы-двойняшки. Это совсем другое.
Мы с Максом были ближе не бывает. Нам и друзей-то не надо было, мы всюду вдвоём ходили, всюду вместе. И даже сейчас иногда бывает, что мы звоним друг другу одновременно. Или говорим одну и ту же фразу вместе. Все завидовали всегда. И никто не смел лезть между нами, даже малые. Да, малые бесили своей приставучестью, их всегда было много, слишком много, но никогда — между нами. Они всегда были вокруг. И я мечтала, чтобы их было меньше. А сейчас сама умножаю количество малых. Вот нафига?
30 апреля
Мама
В машине обсуждали, чего хочется сегодня больше — поехать в кино или посидеть у камина всем вместе. Внезапно вспомнили, что если в кино, то можно ещё и за продуктами заехать в «Метро». Младшая фанат гипермаркетов с самого рождения.
— А помните, маленькой она не хотела из тележки вылезать, хоть вези её домой вместе с покупками.
— Мам, ну не начинай!
— Да, да! А как она заснула на полке в «Ашане»?
— Ну чего вы? Зато ты сам ушёл за руку с чужой тётей!
— Точно-точно! Она думала, что он её сын, вот ор!
— А вы про фильм этот читали в тырнетах? Долин уже отписался?
На глухом закрытом повороте, который в народе называют «тещин язык», прямо в лоб выскочила встречная «лада».
— Не верь Долину!
— Чё, Долин норм.
Мне показалось, что машины вдруг замедлились и двигались навстречу друг другу, будто сквозь воду. Звуки тоже растянулись.
— Да блииин…
За эти секунды муж вывернул руль и поставил «витьку» левым передним колесом к носу «лады». А сам от удара вылетел из своего кресла и врезался Мире головой в грудь, выбив при этом ногой торпеду. Она и ойкнуть не успела. А после этого сразу затихла, стала как-то странно дышать. Её последнее время укачивало в машине, мы и посадили её на переднее сиденье. И вот уже я кричу:
— Скорую, срочно!
Макс
Мы все за неё испугались. Она из тех, кто упадёт со второго этажа, встанет и пойдёт. Типа: а что такого? Она меня в детстве учила:
— Макс, если ударился, упал, не обращай внимания, делай вид, что не больно. Тогда и правда болеть не будет!
А тут она сидит в кресле и не двигается. И не дышит почти. Только смотрит. Глаза испуганные. И ничего не говорит. А она ведь у нас оратор, иногда думаешь: ну хоть бы заткнулась уже. А здесь я всё спрашиваю, как она, а она одними губами изображает «норм». Вот я струхнул!
Скорая на удивление быстро приехала, с мигалкой. Я с отцом остался на месте разбираться, а мама с Миркой поехала в скорой, ещё и малых прихватила.
Мама
Скорая оказалась действительно очень скорой, везла нас с сиреной, а в больнице сделали рентген и нашли трещину ребра. И беременность.
Сразу её в стационар положили — сказали, так проще избежать последствий. Опасность кровотечения, возможно воспаление лёгких. И мы согласились, конечно. Хотя Мира пыталась возражать.
Я сразу Дане позвонила, он как раз операцию закончил, повезло. У него друг, оказывается, в нашей больнице работает, бывший однокурсник. Мир тесен! Он пришёл, взял Миру под своё крыло. Такой хороший парень. Приходил к нам, когда они с Даней учились вместе, я его вспомнила. И он помнит нас. Рассказал, что Миру считал самой крутой. Мира улыбалась глазами, успокоилась, дышала потихоньку, но молчала. Зато я говорила за двоих. Кажется, много лишнего наговорила. Хорошо, что девчонки были со мной, надо было держаться, а то я бы… не знаю.
Макс
На следующий день пришли её проведывать все вместе, нас не пустили, конечно, карантин долбаный, только передачу. Но я потом уговорил сестричку, прорвался. Потом малые просочились как-то с мамой, пока нас не погнали. Палата прямо первая у входа, очень удобно.
Мы столпились вокруг, все разом что-то говорим, стараемся шёпотом, чтоб нас не засекли, а Мирка лежит и улыбается. И молчит, что характерно. Я сначала не врубился, а потом мы вышли, а мама мне говорит, мол, что-то тревожно, что Мира замолчала. И тут до меня дошло: точно, такого раньше не было.
И мы все вместе решили ей написать. Целую тетрадку исписали в первый же день. Рассказали ей, какая она классная, вспомнили всякие истории. Даже Лика написала, как она рада, что наши дети будут ровесники, как ей хочется, чтобы они дружили.
Даня следит за ситуацией, всё время на связи, вроде пока всё хорошо. Говорит, что ушиб внутренних органов может позже проявиться, поэтому пока пусть полежит в больнице. Ну, что делать. Пусть лежит, конечно. Хотя я знаю Мирку — ей дома было бы лучше.
7 июня
Мира
Я дома наконец-то. Весь ужас позади. Самое страшное, что я боялась дышать. Вдыхать было супербольно. И страшно, как там малыш внутри. Или малышка. Но дико страшно, что я его потеряю. Мне кажется, что там внутри мальчик. Но когда делали узи, он повернулся кверху попой, ничего не разглядеть. Такой маленький и беззащитный, а уже с характером.
Моё семейство меня завалило всякими своими письмами счастья. В первый же день целую тетрадку мимимишностей мне накатали. А сегодня кто-то из малых нашёл дневник прабабушки, притащили мне. Листы пожелтели, чернила выцвели, некоторые страницы вырваны, но первые две — прямо начало романа. Судя по именам, краснофлотец сбежал бесследно. Но судя по тому, что все мы — потомки нашей прабабушки, она встретила того, кто благополучно стал её мужем. Надо маму расспросить.
Сидели тут с Максом и малыми, болтали обо всём, вспоминали детство, случаи всякие, а потом — достали старый советский проектор и смотрели слайды. На стене. Родительскую свадьбу, потом мы там малые. Я чуть не расплакалась от милоты этой. Слайды портятся от времени, выцветают, так жаль. Макс говорит, что можно ещё всё сохранить — надо только оцифровать. Конечно, это будет уже не то. Но хоть что-то.
Кажется, я старею. Всё время глаза на мокром месте. Или это так действуют беременные гормоны?
И я вот что думаю. Не люблю я Мишу. Враньё это всё. Зря мы с ним мучаем друг друга пять лет. Орём, трахаемся, чудим. Зачем это всё? Почему я вообще во всё это влипла? Вот нет его, и мне хорошо, спокойно. А его звонки не помогают, а бесят. И я не хочу больше притворяться, что мне это нравится. Я не знаю, я виновата, наверное. Я же чувствовала с самого начала, что это не то и не так.
И — да, я хочу, чтоб мой ребёнок рос здесь, с ними со всеми, в этом самом доме. В этом, блин, сумасшедшем нашем доме.
Рецензия писателя Романа Сенчина:
«И сюжет хороший, и композиция, а особенно — монологи. Каждый персонаж говорит на своем языке, со своей интонацией. Конечно, выделяется Мира. И лексика у нее яркая, и характер интересный. Такой персонаж просится в повесть, а то и в роман. По сути, о современной молодежи пишут удачно нечасто — их ровесники еще не обрели писательского опыта, а старшие пишут неправдоподобно. У автора если не опыт, то отличные способности очевидны. Советую автору развернуть этот рассказ в повесть или маленький роман. Даст бог и книжку издадут — запрос на книги о молодежи есть… Да, композиция хорошая, но не так давно автора опередил Иван Шипнигов с романом «Стрим». Стоит посмотреть, чтобы не повториться. В рассказе много отличных словосочетаний, выражений, они, как крючочки, цепляют читательское внимание. «Беременные гормоны» — замечательно. Только название, по моему мнению, стоит изменить. Каламбуры в качестве названий лучше не использовать».

Мозаика
Ма говорит по телефону, мне слышно.
— Ну что у нас, у нас как всегда перед Новым годом… стоит целый день у окна, даже поесть не могу заставить… с тридцатого… боюсь оставить… не выходила…
Ма не понимает. Я смотрю в окно, потому что это очень важно. Там огни загораются и гаснут, их все больше, они сверкают, перемещаются, сбивается порядок, и только я могу все поправить, но отвлекаться нельзя. Вон там не горит, нет золотого прямоугольничка, а он должен быть. Я вижу, там темно в комнате и звонит телефон, но парень не отвечает, он лежит на диване, закинул руки за голову, смотрит в потолок, он устал, и не хочет говорить ни с кем, и думает: да идите вы все, и ты тоже, ни фига ты не понимаешь. Телефон умолкает, парень поворачивается лицом к стене, в холодильнике у него нет даже шампанского, нормально, чо.
Ма подходит тихонько ко мне, встает рядом.
— Феденька, ты чаю не хочешь? И что ты в темноте, может, свет зажечь?
Нет, свет не надо, не наадооо!
Ушла, поставила на подоконник чашку и два пакетика фруктового пюре «Агуша».
Я вижу другое окно, должно быть темно, а оно светится, слабый розоватый свет виден там, далеко-далеко. Девушка сидит за столом, горит настольная лампа, она в платье с блестками и уже в сапогах, куртка на спинке стула. Она снова и снова набирает номер, шепчет: ну ответь, я же не хотела, ну прости, и телефон подсвечивает голубым ее лицо. Я сосредотачиваюсь. Поезжай, он ждет тебя. Нет, не ушел. Нет, не прогонит. Ты должна приехать и зажечь свет в его окне. Она встает, надевает куртку, набирает номер такси: да, на ближайшее время, пожалуйста. Вот так, молодец.
Ма опять входит ко мне, теперь у нее в руках мои таблетки.
— Федя, лекарство. Давай-давай, надо принять.
А вон окно чуть мерцает, а должно гореть ярко. Там старушка, она ждет свою дочку, которая обещала приехать к ней с мужем и с детьми встречать Новый год, но позвонила: ой, мам, такие пробки, мы задержимся… И вот нет их и нет. Стол накрыт, в вазе лежат рыжие мандарины, праздничные тарелки с цветочками, старенькие, но такие любимые, графин с рубиновым морсом для внучек и зеленая бутылка шампанского. Пирог она испекла, он остыл уже, накрытый белым жестким полотенцем. Она сидит за столом одна, чинно выпрямив спину, и смотрит на часы. По елке пробегают разноцветные огоньки, а она не зажигает свет.
Ма снова подходит ко мне.
— Ну что ты смотришь, сынок? Отошел бы уже от окна, ты же с утра так стоишь.
Она очень мягко прикасается к моему плечу, но нет, нельзя же! Ма! Нельзя, не сейчас! Я отстраняюсь — не сейчас! Она вздыхает.
В веренице красных тормозных огней, в пробке, я нахожу нужную машину. Старушкина дочка, муж за рулем, дети на заднем сиденье, две девочки. Надо было раньше выезжать, говорила же… — Надо было на метро ехать. — Мама, а мы скоро уже приедем? – Скоро, сидите смирно.
Я прикрываю глаза, на светофоре загорается зеленый, ну, быстрее, быстрее давайте, пока я держу!
Я чувствую, как время закручивается воронкой, все быстрее, летит мимо, чуть-чуть холодя мои волосы. Огни, музыка, окна, телефонные разговоры, фонари, запах хвои, смех, фиолетовые искры в трамвайных дугах, фейерверки. У меня начинает кружиться голова, я стараюсь успеть, успеть расставить все по местам, весь город передо мной мерцает и переливается, еще немножко, одно окно вон там и два совсем рядом, мозаика складывается, все будет так, как должно быть.
Ма снова подошла и встала рядом, в руках два стакана сока — ей и мне. Вдруг начинается снег, он косо летит мимо окна, я слышу, как бубнит по телевизору президент. Куранты. Снежинки взвиваются, и я вижу сквозь них старика с белой бородой. Он улыбается, машет мне рукой: ты все сделал, как надо, сынок, спасибо! — и как с горки летит вниз, навстречу людям в моей мозаике.
— С Новым годом, Феденька, — говорит Ма и еще что-то шепчет, я не слышу.
— Ну что ты, Ма, у меня все получилось, вот видишь, я могу, — хочу сказать я, но получается только «Ма». Поэтому я просто прислоняюсь к ней плечом, и мы вместе смотрим, как цветные звезды фейерверков мешаются со снежинками.

Море пахнет хризантемами
Рано утром вода в море ледяная. Я чувствую, как волны толкаются в ноги, тяну подол серого рабочего платья повыше, чтобы не намокло. Цветы качаются вокруг меня, подчиняясь движению воды, уплывают в разные стороны. Намокшие хризантемы терпко пахнут. Ветра почти нет, утренний воздух свеж, и на безупречном кремовом песке только мои следы. Я смотрю на серо-голубую бесконечность перед собой. Тело само начинает двигаться вслед за волнами — я качаюсь вместе с белыми пушистыми цветами. Губы привычно шепчут древние слова: «Обойа! К тебе обращаюсь, Йеманжа. Здесь только ты и я. Ты знаешь, что мне нужно…»
На работу я опоздала и сразу столкнулась с Паулой. Она старшая медсестра в нашем пансионе для пожилых, и мы все ей подчиняемся. У нее строгий взгляд, и она хмурится, когда произносит мое имя: «Мария де лос Анхелес!» Я стесняюсь своего старомодного имени и прошу называть меня Анхела. Если Паула забыла мою просьбу, значит, она действительно сердита. Брови Паулы съезжаются к переносице, и кажется, что это одна прямая линия. Вторая прямая линия — ее рот с поджатыми губами. Паула держит у груди папки с личными делами постояльцев пансиона. У нее сильные жилистые руки с широкими запястьями. Когда я на них смотрю, то невольно втягиваю шею, словно меня вот-вот возьмут за шкирку и будут надежно удерживать. Меня нужно удерживать и направлять, так мне спокойней, я слишком слабая, чтобы действовать самостоятельно. На работе это делает Паула, дома — бабуля.
Если бы не моя бабуля, я бы давно сгинула. Она забрала меня к себе, когда погибли родители. А после школы пристроила сюда за стариками ухаживать. Наш пансион похож на семейный отель: трехэтажная коробка из поседевшего от морской соли кирпича, почти до крыши увитая плющом и фиолетовой бугенвиллией, крошечный холл с дверями лифта, гостиная с низкими уютными диванчиками, заваленными подушками всех мастей, запах лаванды от засохших сиреневых букетов в простых стеклянных вазах. Кабинеты старшей медсестры и директора, процедурные, дальше по коридору — прачечная, склад медикаментов. Верхние этажи заняты комнатами постояльцев. Немного в стороне от основного здания разместились две одноэтажные постройки — столовая с кухней и «корпус милосердия». Небольшой сад, среди коротко стриженной травы полоски асфальта для колясок. Гуканье горлиц, пересвист черных дроздов, вниз по дороге — море.
Сначала я была сиделкой, потом Паула заставила на медсестру учиться. Сама бы я не решилась. Я очень стараюсь, скоро сдам на сертификат и буду делать внутривенные уколы, капельницы ставить. Иногда Паула так смотрит на меня, словно сожалеет о чем-то, и говорит, что мне нужно вырваться из старческого окружения. Окружение — слово такое, словно старики в плен меня взяли и не отпускают. Но мне же так лучше, так я под присмотром. Я за ними смотрю, они за мной.
Паула сердится, потому что сегодня суббота — день посещений. Я не люблю это время, мне неприятно, когда много чужих людей рядом. Если ко мне обращаются с вопросами, я немею, не могу ни звука издать. Представляю, как глупо это смотрится со стороны. Но Паула требует, чтобы мы все присутствовали, были опрятными и улыбались, тогда родственники стариков увидят, что они не зря платят деньги. Поэтому я обычно прячусь в углу нашей гостиной и стою там, все время улыбаясь, не размыкая губ — между передними верхними зубами у меня большая щель, и я ее очень стесняюсь. Если растянуть губы и удерживать их так, а голову немного повернуть к окну, то можно спокойно думать о своем и наблюдать за морем.
Я обычно думаю про Йеманжу, про то, как хорошо быть такой могущественной. Ничего не бояться. Во мне так много страха, что я иногда задыхаюсь от него. В глазах темнеет, грудь словно камнем придавили — воздух застревает и не проходит внутрь. Паула научила складывать руки раковиной и в них дышать, тогда становится легче. Меня многое пугает, но больше всего смерть бабули. Я помню, когда этот страх забрался внутрь меня. Я сидела в огромной комнате на металлическом стуле, слишком высоком и жестком. Сидела долго, и у меня заболела спина. Вокруг были чужие люди, другие чужие люди входили и выходили через стеклянные двери. Пахло незнакомо и горько. Чужие люди разговаривали между собой, шуршали бумажками, звонили по телефону. И никто не смотрел на меня. Я даже подумала, может, дети исчезают вслед за своими родителями, и теперь я невидимка? Мне стало весело, и я оглянулась по сторонам — наверняка где-то так же тихонько сидят на стульях мама и папа, и это наша общая игра. Но вокруг все было чужое. И я была совсем одна среди чужого. И в этот момент в груди стало тяжелеть и наливаться, и я начала открывать рот шире и шире, потому что не могла вдохнуть. А потом в стеклянную дверь вошла бабуля.
Про Йеманжу, религию кандомбле и других богов-ориша мне рассказала бабуля. Она родилась и выросла в Бразилии, в городе Салвадор. Когда вышла замуж, уехала сюда, в Каталонию. Здесь уже появилась на свет моя мама, потом я. Бабуля все-все знает и про ориша, и про ритуалы. Мой день рождения в сентябре, поэтому моя покровительница Йеманжа. Она мать всех богов, королева морей и океанов — околоплодных вод земной жизни, потому она мать всего живого.
Когда я родилась, бабуля по традиции кандомбле носила меня к медиуму гадать на раковинах каури. Медиум сказал, что мне повезло, и у меня два могущественных хранителя-ориша — не только Йеманжа, но и Ошала, отец богов. И что я родилась очень сильной девочкой и буду служить другим людям и делиться своей силой. Я не очень-то верю этому предсказанию. Мне нечем делиться. Я представляю себя взъерошенным от воды цветком хризантемы, брошенным в море. Куда несут меня волны? Там, на берегу, я прошу Йеманжу выгнать страх из меня, возможно, тогда освободится место для обещанной силы. А бога Ошалу я побаиваюсь. На картинках в книгах бабули он нарисован сердитым стариком с палкой. Этой палкой он три раза ударяет о землю, когда кто-то умирает, сообщая о возвращении души. Ошала — конец пути, начало смерти. Йеманжа — рождение и начало жизни. Это звучит так слаженно, как правила внутреннего распорядка в пансионе, охраняемые Паулой.
Последние дни я все время сонная на работе: бабуля плохо себя чувствует, и я мало сплю, занимаясь ею, а еще приходится много учить перед экзаменами на сертификат медсестры. Я старательно таращу слипающиеся глаза и слушаю, как Паула меня отчитывает. Она говорит, что я не должна везти сеньору Эмилию к парикмахеру на укладку третий день подряд, иначе ее денежный депозит опустеет раньше времени. Но что же делать, если она настаивает? Сеньора Эмилия умеет так властно говорить и смотреть, что я готова сделать что угодно, лишь бы она не мучила меня.
На помощь приходит Серхио, он меня часто выручает. Вот он уже увозит кресло со старухой, хитро оглядываясь. Слышно, как они переговариваются:
— Вези меня к парикмахеру, я сказала.
— Ваше желание для меня закон, королева. Но хочу напомнить, что сейчас в столовой дают чуррос с горячим шоколадом.
— Наглец ты, Серхио.
— Да, королева, наглец и балабол. Так что прикажете: чуррос или укладка волос?
Сеньора Эмилия смеется, и я тоже смеюсь, закрывая рот ладонью. Серхио всегда меня смешит. Он говорит, что ему нравится моя улыбка и просит не прятаться за рукой. У Серхио тоже смуглая кожа, широкий нос и карие глаза, как у меня. Мы вообще с ним похожи, только у меня волосы прямые, а у него в мелкий жесткий завиток. Я однажды пошутила, что мы совсем как брат и сестра, но он ответил, что не хочет быть моим братом. И смотрел на меня при этом так, словно хотел что-то еще сказать. Как бы понять, что это значит? Про мужчин я ничего не знаю. Они не приживаются в моем роду — дед рано умер, отец ушел вместе с мамой, брат матери погиб совсем мальчишкой.
Вот уже два месяца я работаю в «корпусе милосердия». Здесь находятся те, кто едва ли еще сможет подняться. Весь корпус — это большая комната с шестью кроватями и шкафчиками, помещение для гигиены с душевой, унитазом и огромной ванной и кладовая. Паула приходила сегодня, спрашивала, хочу ли я вернуться в основное здание, но я отказалась. Мне тут лучше. Я хорошо умею обходиться с лежачими — бабуля давно не встает с постели. Мне привычно мыть ее, переодевать, аккуратно перекатывать сначала на один бок, затем на другой, чтобы поменять простыни или помассировать тело и протереть лосьоном от пролежней. Я люблю вечером забраться к ней в кровать, устроиться голова к голове и слушать истории о богах-ориша и жизни в Бразилии. Иногда я просто лежу рядом и дышу с ней в одном ритме, от этого мне спокойно.
У сеньоры Эмилии был инсульт, и она очень плохо его перенесла. Теперь она в моем корпусе. Я сразу ловлю ее взгляд, когда вхожу в комнату. Взгляд потерявшегося в толпе ребенка: недоуменный, беспомощный, ищущий. Так смотрят все жители «милосердия». Мне кажется, что так я должна была смотреть на бабулю, когда она приехала за мной после гибели родителей. Я догадываюсь, что чувствуют эти постаревшие дети, распластанные на одинаковых деревянных кроватях. Я глажу сеньору Эмилию по голове, потом беру щетку и, устроившись на стуле, начинаю расчесывать ей волосы. Мне хочется повторить ее обычную укладку — челку вправо, белые прядки убрать за уши. Я напеваю песенку про храброго ежа, которую бабуля пела мне в детстве, когда я боялась. Хорошо, что в кармане форменного платья у меня всегда лежат бумажные салфетки — удобно сразу вытирать слезы на сморщенных впалых щеках. Сухие серые губы женщины шевелятся, она пытается что-то сказать. Я наклоняюсь к ней ближе, чувствую привычный душный старческий запах и кислоту дыхания.
— Не хочу.
— Чего вы не хотите, сеньора?
— Не хочу. Так.
Я понимающе киваю и продолжаю расчесывать ей волосы и петь. Это все из-за слабости нашего тела. С этим тяжело смириться. Бабуля рассказывала, как проходят «сеансы милосердия» в храмах-террейру. Духи богов-ориша вселяются в медиума, и он помогает всем-всем пришедшим на сеанс: советует, отвечает на вопросы, исцеляет. Но в какой-то момент медиум падает без сил, его тело не выдерживает мощи бога. Он бы и рад помочь другим нуждающимся, но тело не может подняться. Наверное, наши тела тоже не могут долго носить человеческий дух: изнашиваются, устают. Тем более, у таких волевых людей, как сеньора Эмилия или бабуля. Я представляю, как души мечутся внутри пришедших в негодность оболочек, толкаются наружу, просят свободы.
На этой неделе у нас в «милосердии» освободились сразу две кровати. Я меняю постели и собираю в пластиковые мешки вещи из шкафчиков, чтобы отдать родственникам: одежда, фотографии, никому теперь не нужные безделушки. Сложенный пополам лист с детским рисунком — пузатые улыбающиеся фигурки держатся за руки-палочки, детским почерком накарябано «Луция любит бабулю». Я подхожу к окну с рисунком в руках, отсюда видно кусочек моря. Вода сверкает на солнце. Я улыбаюсь — Анхела свою бабулю тоже любит. В груди сейчас очень тепло и непривычно легко. Свободно. Мне хочется обнимать море и Йеманжу. Я не знаю, как это сделать, может, нырнуть в глубину и развести руки широко в стороны?
Сегодня в «милосердии» со мной работает Серхио. Паула всегда посылает санитаров помочь с процедурами — чтобы передвигать обездвиженных, нужны сильные руки. У Серхио кисти лопатами, широкие плечи и крепкая шея, он хорошо подходит для этой работы. Я вижу, что ему не нравится здесь — он постоянно морщит нос и сжимает челюсти. Поэтому я отсылаю его за чистым постельным бельем, когда меняю старикам подгузники. Потом мы вместе несем грязные простыни в прачечную, и он спрашивает, почему я остаюсь в «милосердии».
— Здесь я на своем месте.
— Да это отвратительное место для красивой молодой девушки!
— Не надо так, Серхио. Мне совсем не противно ухаживать за лежачими. Что ж теперь, если так устроено человеческое тело. Все имеет свое устройство — море тоже выбрасывает на берег водоросли и дохлую рыбу, которые потом гниют на солнце. Но все равно я не знаю ничего прекраснее и величественнее моря.
— Как ты, оказывается, умеешь красиво говорить. Что еще скрываешь? Давай, давай, расскажи своему дорогому Серхио.
От этих слов мне неловко, я краснею и отворачиваюсь. Серхио замечает, обегает меня с другой стороны, волоча прямо по земле мешки с бельем, начинает тараторить:
— Я ведь не об этом, мало кто хочет работать в «милосердии», только если деньги очень нужны. У тебя что-то случилось? Я ведь могу помочь. Знаешь, вдвоем лучше, все трудности легче решать.
— Не нужна мне помощь, что ты придумал? Мне просто тут нравится работать и все.
— Да что же тут может нравится?
— Я не смогу объяснить.
— Паула права на твой счет, — кивает он головой задумчиво, а я удивленно смотрю на него, не понимая, с чего бы эти двое могли говорить обо мне.
— Ты действительно очень сильная.
— Что?! Да ты с ума сошел! Я ведь… Да посмотри на меня!
Серхио вдруг притормаживает, поворачивается ко мне и как-то неуверенно спрашивает:
— Там же смертью пахнет, разве ты не чувствуешь? Они все — почти покойники.
— Мы все будущие покойники, если ты не знал.
— Знал, но я не хочу, чтобы мне напоминали об этом каждый день. И еще так, мучительно.
— Серхио, неужели ты боишься?
— А ты нет?
— Нет.
— Вот об этом я и говорю.
Он стоял передо мной, большой и смущенный, а я вдруг почувствовала то, что обнаружила только в «милосердии» — словно у меня есть что-то, что я могу дать другому. Я взяла его огромную ладонь и широко улыбнулась. Сейчас мне не хотелось прикрыть рукой щель между зубами.
Это началось ночью. Бабуле было совсем плохо, я нервничала и повторяла про себя заученный из справочника медсестры порядок действий: усадить в кровати, голова и грудная клетка подняты, аспирин для разжижения крови, затем нитроглицерин. Стоп, сначала давление и пульс.
— Анхела, девочка, не суетись, не нужно ничего…
— Подожди, подожди, сейчас я быстро подключу тонометр, не сильно давит?
— Сильно, больно… Не нужно, послушай меня.
— Сейчас, ах ты ж, давление очень низкое и слабое сердцебиение. Бабуля, нельзя тебе нитроглицерин… Я звоню в скорую.
— Мария де лос Анхелес, сядь.
Я замерла на стуле, разглядывая ее. Кожа на лице и руках совсем белая, потливость, одышка.
— Не нужно ничего, мое время пришло, уже не изменить, я знаю.
Предчувствие смерти — это тоже симптом.
— Анхела, просто возьми мою руку. Да, так, посиди со мной. Мне сейчас нужна твоя сила, очень страшно.
— Да, бабуля, я знаю. Так все говорят, я не рассказывала тебе раньше. Все вот так боятся сначала, это обычное дело. Просят держать их за руку или обнять.
— А потом?
— А потом успокаиваются. Я наблюдаю, как меняется взгляд. Они мне в глаза всегда смотрят, что-то нужное там видят, я не знаю что. Я в их глаза тоже смотрю. Сперва там темно от страха, а потом словно двери открываются. Свет сначала слабенький, как будто в щелку пробивается, а потом все больше и больше света. И вдруг, знаешь, так светло и спокойно становится, так правильно. Словно все на свои места встало.
— Твои глаза, Анхела…
— Да, бабуля, смотри в мои глаза, будет легче.
— Анхела, девочка, твои глаза. Какое благословение, ты же иао-медиум, дух Ошала сейчас завладел твоей головой. Вот он, смотрит на меня через твои глаза. Сам ориша Ошала пришел проводить меня, какое благословение. Так совсем не страшно, идти вдвоем с тобой… Вечное умиротворение… Равновесие… Все на свои места… Завершается круг и начинается новый. Какое благословение…
Бабуля все говорила, благодарила богов, а я, кажется, заснула от усталости. Во сне меня покачивало из стороны в сторону, на губах сами собой рождались незнакомые слова. Мне снилось, как свет постепенно заливает тело бабули, потом в нем растворились кровать и вся комната. Я видела, как тонкий силуэт уходит куда-то все дальше и дальше, и наконец почувствовала, что можно отпустить чужую ладонь. Потом я услышала три глухих удара и с удивлением обнаружила длинную светящуюся палку в своей руке.
Ветра совсем нет. Воздух стоит и не колышется. От насыщенного цветочного запаха горький привкус во рту. На работу сегодня нужно пораньше — я получила сертификат медсестры, и Паула назначила меня старшей по «милосердию». Серхио пошутил, что теперь я задеру нос и перестану с ним даже разговаривать. Я разрешила ему провожать меня домой после работы, чтобы мы могли наговориться вдоволь. Море едва шевелится, нехотя подбирается к берегу. Чуть скользнет по песку и уходит обратно. Белые пушистые цветы качаются у кромки воды. Море пахнет хризантемами. Бабуля говорила, что для жертвоприношения нужны белые розы, и что хризантемы — цветы для похорон. Но Йеманжа сама меня просила. Я слышала. Так она сразу знает, что это я. Море пахнет хризантемами — Мария де лос Анхелес заняла свое место на берегу.
Рецензия писателя Романа Сенчина:
«Мне очень понравилась героиня — простодушная, наивная, но и крепкая, сильная. Место действие — не Россия, и в это верится, что со мной редко бывает. Да, если бы действие происходило у нас, рассказ был бы совсем другим. Органичная лексика, стиль, интонация. Единственное, несколько выбивается очень русское слово «бабуля», но и к нему я привык и принял.
Приведу наиболее понравившиеся мне эпизоды: «Я стесняюсь своего старомодного имени и прошу называть меня Анхела. Если Паула забыла мою просьбу, значит она действительно сердита» (психологически очень точно); «Если растянуть губы и удерживать их так, а голову немного повернуть к окну, то можно спокойно думать о своем и наблюдать за морем»; «Чужие люди разговаривали между собой, шуршали бумажками, звонили по телефону. И никто не смотрел на меня. Я даже подумала, может дети исчезают вслед за своими родителями, и теперь я невидимка?»; «Взгляд потерявшегося в толпе ребенка: недоуменный, беспомощный, ищущий. Так смотрят все жители “милосердия”».
Замечаний у меня в общем-то нет. Небольшое: «Я замерла на стуле, разглядывая ее. Кожа на лице и руках совсем белая, потливость, одышка, усталость, заторможенность речи». Перед этим бабуля произнесла очень сильную фразу наверняка четко, так, что героиня «замерла на стуле». Всё остальное описание — лишнее, понижающее напряжение. Героиня замерла, поняв, что бабуля умирает и хочет сказать важное. Так мне видится эта кульминационная сцена. А в целом рассказ — очень сильный».
Рецензия писателя Марии Кузнецовой:
«Прекрасная работа. Глубоко раскрыт характер Анхелы, в достаточной мере — бабули, Серхио, Паулы. Сюжета как будто не видно — но он есть, это взросление Анхелы, раскрытие её силы. Причем совершенно неясно, действительно Анхела находится под покровительством древних богов или это для нее просто удобная форма общения с миром — и это неважно! Термин «магический реализм» тут, наверное, подходит.
Текст гармоничен с первого абзаца до последнего, нигде ничто не выбивается. И все время держится слегка качающийся ритм — как цветы Анхелы качаются на воде. Он может чуть-чуть убыстряться, может замедляться, но ощущение раскачивания на воде не исчезает. Вообще текст кажется словно бы не «сделанным» (хотя я отлично видела этапы того, как он делался), а сам собой излившимся. У автора очень сильное чувство слова, оно не дает сфальшивить.
Серьезный вопрос у меня один. Непонятно, о чём именно Анхела просила Йеманжу. Что ей нужно — избавиться от своих страхов, или получить побольше обычных человеческих сил, или научиться проявлять свой особый дар, или продлить жизнь бабушке, или ещё что-то? Надо бы это пояснить — легко, одной фразой или просто несколькими словами».

Одаренные девочки. Монолог
Перед камерой монитора сидит девушка. За ее спиной в кроватке спит ребенок. На плечиках висит большой мужской пиджак. Серый.
«Понимаешь, Марго, я больше всех хотела быть как все, — начинает, включив запись, девушка шепотом. — И когда убегала через заросли борщевика подальше от бани — особенно. Здесь такие не растут, а тогда ядовитые стволы щекотали ноги, потом полотенце упало, и ветка хлестнула меня по щеке. Пахнет тиной, кружат мушки. В классе они летают углами. Я слышу его шаги, он жилистый такой, подтянутый — идет быстро и палкой разбивает заросли борщевика по сторонам. Снова этот вжух-вжух. А потом он остановился. В тот момент, единственный раз в жизни, я пожалела, что не уродилась еще меньше. Такой, чтобы он меня никогда не нашел. Но тут он, Васюк, хм, Сергей Сергеич, крикнул прямо над головой: “Даша!” Прислушался. И опять: “Даша! Дарья, учти, кругом л-лес, а ожоги от борщевика надо обработать обязательно”. Голосом, которого ослушаться в школе “ИКС” было немыслимо. Мы шли на этот голос, мы ему верили. Думаю, если бы он сказал мне тогда: “Съешь борщевик и ложись спать”, я бы так и сделала. Не проснулась бы на утро. Но сделала.
Школа “ИКС” не потому икс, что это секретное какое-то видео будет, наоборот. Ты его увидишь. Хотя… Много лет пройдет. А название — аббревиатура, которая понравилась маме моей. “Интеллект, красота, совесть. Половина выпускников в МГУ прямым ходом. Даш, ну, чего молчишь-то? Кроме того, тут же, в Ясенево, возить тебя не надо будет”.
Из интервью с сотрудником НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского: «Прикосновение к нему [борщевику] не доставляет никаких неприятных ощущений. Именно в этом и есть его главное коварство. Ведь после контакта с растением ожог появляется не сразу, а спустя время — через несколько часов или даже дней».
Я тогда еще медленно очень ходила и сейчас сижу высоко на стуле, потому что подушку подкладываю специальную, для невысоких. Официально я не карлик, если что. Но это все спасибо аппарату Илизарова. Нас там много таких было, в НИИ нашем, курганском, с диагнозом… Ну, с разными диагнозами, травмами. Аппарат выглядел страшно: металлические кольца, штыри, — зато мог сантиметров десять в росте дать, для маленьких это значит дотянешься ты до кнопки лифта или нет. Я год этот аппарат носила на ногах, потом полгода к старшим классам восстанавливалась. Но руки у меня все равно коротковаты и голова большая. Мама, забирая меня из “отделения регуляции роста детей”, подписывая бумаги, кивнула врачу. Вроде как довольна ремонтом.
Мы с ребятами из палаты общаемся до сих пор. Не со всеми, конечно, у нас группа своя ВКонтакте, с кем-то вижусь лично. Они меня на прощанье обнимали — такое теплое-теплое объятие, наверное, тогда я запомнила, как обнимают по дружбе, а как — по-другому… Обниматься у нас в семье не было принято. Не знаю почему, может, мама, смотря на меня, надеялась, что мой рост — какая-то оптическая иллюзия. Дотронешься — а это реальность. Мне только исполнилось пятнадцать, я экстерном окончила девятилетку, прочитывала все, что мама присылала. Она экзаменовала меня из командировок. А я отвечала. Мама и раньше понимала (ну и по оценкам тоже), что обычной, несмотря на все ее связи, я уже не вырасту, умной — весьма вероятно. Я врачом стать хотела… Математика мне не давалась, вот мама на “ИКС” и вышла. По рекомендации».
Даша слышит плач, останавливает запись, подходит к кроватке, качает ее, открывает книжку с картинками, читает вслух: «Туся, Туся! Смотри, это же наша любимая: “Скорлупа грецкого ореха служила ей колыбелькой, голубые фиалки — тюфяком, а лепесток розы — одеялом. Ночью она спала в колыбели, а днем играла на столе”». Плач затихает, Даша возвращается за стол.
«Так, ну вот. Из-за восстановления я пришла в школу зимой, а не осенью, как положено. Вообще, в “ИКСе” не было классов для девочек и для мальчиков, но так как брали одаренных детей и стоило это все прилично, и методика была новая (некоторые родители побаивались), получилось, что в моем классе одни девочки. Они ходили парами, на каблуках, показывали друг другу какие-то эсэмэски. На меня смотрели с недоверием, будто я у них отнимаю что-то ценное. Шушукались, надолго запирались в туалете перед алгеброй или геометрией (их вел директор, Васюк) — накраситься или повторить в тишине домашку. Учились мы до ночи, по университетской программе, на олимпиады-турниры учителя возили нас лично, и мы часто возвращались с призами.
В конституции школы, которую завуч выдал мне, обняв сзади за плечи, было указано, что у них принято “красиво мыть пол, целоваться и иметь любимчиков”, с которых и спрос ого-го. Фамилия завуча была Ягода.
Из конституции элитной московской школы: «Насилие — любое ограничение прав и свобод, любые действия против личности, любое принуждение. Действия, вызывающие применение насилия, должны быть известны заранее, а процедуры применения насилия, по возможности, неизменны».
Ягода встречал нас у входа в школу. И целовал в щеки, часто промахиваясь. В моем случае, как он ни нагибался, мясистые красные губы прикасались лишь к моему лбу. Он называл учениц «мои ласточки» и просил, чтобы ему рассказывали обо всех делах с родителями, ведь дома нас не понимают, потому что родители — обычные, советские, а мы — «одаренные девочки». Ягода выполнял роль школьного психолога. Когда мы с Риткой мыли пол — она приносила воду, ведро мне было не поднять, — пришла эсэмэска от Ягоды: “Дашенька, срочно в мой кабинет на беседу”. Ритка заглянула через плечо: “Не ходи”. Она не красилась к алгебре, не носила каблуки. От линолеума, который я натерла старой тряпкой, пахнуло гнилью.
В “ИКСе” училось всего полсотни человек, 8-11 классы. Следующим утром Ягода был не в духе, собрал линейку и говорил о том, что мы — избранные среди избранных и должны поддерживать традиции. “Если не научитесь дружить, нашу семью придется покинуть. Мне искренне жаль такое говорить, но это так”. И тем же днем Ягода принимал в своем кабинете и моих одноклассниц, и параллельный поток. Еще на линейке я отметила, что мальчиков в “ИКСе” совсем мало, и их кумиром был Васюк. Основатель, в прошлом крутой программист. Вот… Васюк настаивал на том, что мы взрослые люди, которых стоит оградить от родителей: “Инфантилизм — вот чем болеет ваше поколение. Ну, н-ничего”. Он обещал дать нам свободу, которая встанет аж поперек горла: запрокидывал голову и ладонью бил себя под бородой. Знаешь, Марго, а ведь мы аплодировали».
Даша усмехается без радости. Ребенок за спиной фыркает, хрипло плачет. Даша вскакивает, одной рукой качает кроватку, другой держит книгу, читает со случайного места и показывает ребенку картинки: «Тусь, смотри, какой важный крот!» Читает: «Крот взял в зубы кусок гнилушки — она ведь светится в темноте — и пошел вперед, освещая длинный темный коридор». Ребенок засыпает. Даша стоит над кроваткой, возвращается за стол, кладет книжку рядом с собой.
Из родительского чата «ИКСа»: — Подскажите, пож, вы Кате репетитора брали по математике? Че-то наша не тянет…— Да мы не брали, у нее с СС такие хорошие отношения, думаем, пройдет по Всероссу. А ваша, что, не дружит с ним?
«Да, Васюк. О нем сложно так говорить… Особенно с тобой. Свитер колючий, заикался слегка, цвет глаз я не помню. Взгляд такой… Знаешь, я ночью еще открыла фотографии школьные — ведь он был выше меня едва ли на две головы…
Васюк мог кивнуть любой девочке в классе, и та становилась знаменитостью. К ней сразу приглядывались другие учителя, одноклассницы норовили подсесть к ней в столовой, копировали ее стиль. Девочки еще росли, у них круглились формы, на них красиво сидели юбки. Клетка и шелк были в моде. Мое тело выросло сколько могло и все, застыло, становясь лишь более рыхлым от конфет. Мы бесконечно шуршали фантиками под партой, и Васюк не цыкал. После новогодних каникул красавица Катька сказала, что Васюк занимался алгеброй с ней лично на даче в Лесуново. Остальные тут же увели ее шушукаться в туалет. А Васюк, появившись в классе, гнал к доске новую “любимицу”. Он начинал урок так: “Итак, представь, что на Земле…” Расхаживал вдоль доски, за ним вертелись головы — одуванчики за солнцем. Он выстраивал программу для человека “универсального”. Думаю, по его лекциям и ты могла бы сейчас учиться».
Дернувшись, Даша останавливает запись. Пытается обрезать видео, но программа зависла, не отвечает, потом запись перезапускается сама.
«В общем, ладно. К маю я провалила пробный ЕГЭ по математике. Васюк оставлял меня после уроков, и, устав объяснять, взял меня за руку, подвел к стене и стукнул об нее головой: “Зачем тебе голова? Зачем тебе голова?” Я не чувствовала боли, только ненависть к себе, что я его расстроила. И теперь не буду среди любимчиков. Хоть раз, как все… На стук из соседнего кабинета заглянул Ягода. И тут же вышел. Больше мне не приходили его эсэмэски.
На родительском собрании (они редко, но бывали), один отец сказал, что его дочь домогался кто-то из учителей. Васюк публично проверил рейтинги (оценок у нас не ставили): оказалось, девочка в самом низу, и ее “тянут” по всем предметам. “Вот и я говорю, фантазерка. Жаль, ты не видел. Что? Ой, да бука, такая же, как наша, вот и злится, — смеялась в трубку Риткина мама. — А он, прикинь, забрал документы, грозился привлечь еще всю эту “богадельню”. Нда, яжотец, не иначе. Как она теперь поступит?»
Еще до летних каникул Катьку положили в больницу — перитонит. Васюк объявил мне и двум отстающим, включая Ритку, что мы приедем к нему в Лесуново заниматься алгеброй. Дачные семинары директора были в порядке вещей, а в сентябре мы всей школой собирались в Крым: изучать историю не по картам — и после уроков мы радостно шили спальники, куда влезало бы трое. Мама страшно гордилась, что за меня взялся такой Учитель, и сама отвезла меня в деревню. Помню, еще был дождь, дорогу развезло, и Васюк вытолкал мамин BMW из лужи.
Лесуново… Дома в деревне съежились на фоне могучего леса. Опушки стерегли зонты борщевика, всхлипывали в лесу болотные звери. “Какой воздух, не хочется в город”, — сказала мама, подняла стекло в окне машины и уехала.
— Ну что, р-располагайся, — сказал Васюк, провожая меня мимо дома на задний двор. — Лучше давай-ка в баню.
— Как в баню? А алгебра?
— В бане позанимаемся. Представь себе, как при высокой температуре разжижается кровь и работает мозг. Ты же сечешь в биологии.
— Э-э, ну, наверное, да.
— Ноу-хау мое. На себе опробовал. Д-да ты не тушуйся, все ребята ко мне приезжали, работали, потом мылись, в доме же душа нет. Девочки, потом мальчики. Шторку видишь?»
Даша останавливает запись, хотя ребенок спит. Опускает голову на руки, потом читает сама себе: «Куда не проникал свет ясного солнышка, потому что крот его терпеть не мог». Молчит. Запускает запись снова и говорит очень быстро.
«Баню эту его первые выпускники строили. Там пахло березой, горела лампочка, шторка действительно отгораживала душ. Мы в полотенцах: я по грудь, он по пояс — сидели в парной и решали задачи. Точнее, я решала, а Васюк то выходил, то заходил. Я стеснялась своих ног: они — короткие, розовые, — не доставали до пола. Соображалось мне и правда лучше — Васюк сел рядом, касаясь моего плеча загорелой жилистой рукой, ставил галочки зеленой ручкой (красная убивала креатив, ей не пользовались в “ИКСе”), потом похлопал меня по плечу, сказал, что “из меня выйдет толк”. Я расслабилась. Точнее, нет. Я была счастлива. Вдруг показалось, что я под защитой. Я в семье. Я как все. Я не знаю, как объяснить… Я забыла спросить, когда приедет Ритка, так мне было хорошо.
Он предложил “обработать меня веником”. Он, Васюк, то есть, сказал, что отвернется, пока я лягу и, даже “обрабатывая”, не будет смотреть: “Расслабиться после занятий важно, иначе не уснешь сегодня”.
Даша закрывает глаза: «Отец купал меня. Любил купать. Пока не узнал, что я останусь маленькой. Мне было три.
Песенка Дашиного отца при купании: У-у-уточка приплывет,И Дашу-у-утку унесет!
Вжух-вжух! Вжухвжувжухвужухвжувжухвужухвжувжухвужухвжувжухвужухвжувжухвужухвжух.
Васюк стряхнул с меня прилипшие листочки (березы?), помог подняться, обнял, убрал руку, которой я прикрывала грудь, и вторую, которая… Ну, в общем, ты понимаешь. “Все будет хорошо, — говорил он, поглаживая мою шею. — Все будет хорошо. Все у нас получится”. Не знаю, имел ли он в виду экзамены.
Он больше не заикается. Жесткая борода касается моего лба, а руки, те самые, что листали тетрадь, ищут что-то на моей спине. Меня колет его заусеница. Вздрагиваю. Спрашивает, можно ли меня поцеловать. В бане темнеет, а ведь еще только обед. Я сама стала баней, внутри меня прогорают дрова, хлопают веники, с них слетают зеленые галки. А баня стоит и не может сдвинуться с места. Я стою. Я не двигаюсь, я не знаю, куда двигаться, я умею его слушаться. Сгораю. Мне холодно.
— Наверное, я плохо делаю, что так… Так пристаю к тебе?
— Не знаю, — отвечает мой голос.
“Сергей Сергеич! Эй! Дашка? Да где вы все?” — кричит Ритка. Запахиваюсь в полотенце и выхожу с заднего хода бани прямо в строй борщевика. Иду, потом бегу. Васюк, я уже говорила, сначала идет следом. Зовет. Откликнуться мне стыдно. Случилось то, что я не могу. Не могу. Не могла. Исправить». — Даша плачет и утирает щеки рукавом пиджака.
«Не знаю, сколько прошло времени. Под зонтами борщевика я сидела и тряслась. Помню, как появилась Ритка в забрызганном комбинезоне Васюка, в котором он утром мамину машину выталкивал. Ритке он сказал, что я подышать вышла. Ритка обнимала меня крепко, тепло. Я захлебывалась и давилась тем, что говорила, на зубах хрустела глина. Потом Ритка рубила борщевики палкой, хотя тропинку к дому уже и так протаранили.
Мама забрала нас обеих на следующий день. Дорогой ругала, что полезли в дебри, у меня горела щека и все тело, облитое антисептиком, Ритка расчесывала волдыри на руках. С Риткой мы не виделись все лето, к сентябрю стало казаться, что она не так меня поняла, я перестала с ней здороваться. В день отъезда в Крым у меня подскочила температура.
Потом я вгрызалась в алгебру всю эту, геометрию. Даже записалась в его секцию по информатике. Васюк говорил нам, что мы элита, будущее страны, рассказывал о своей учебе в США, кодинге. У нас распрямлялись спины. Я смотрела на Васюка в его свитере и понимала, что он не мог быть в той бане. Просто вот не мог. Уроки заканчивались, я сидела в пустом классе. Ожидая… Да не знаю даже. Васюка? Васюка, который сядет рядом за парту и скажет: “Даша, да проснись ты! Ничего не было. Ты просто стала лучше понимать алгебру. В-в-вот и все”. Однажды, пока я так сидела, простучали по коридору каблуки, а за ними еще шаги. “Рит, отвали, а? Только я с родителями утрясла все”. Катька! Потом я услышала свое имя, точнее, не услышала, а узнала, что ли. Узнала — и тут же взяла стойку, притихла. До выпускного Васюк действительно пришел ко мне в класс. “Такая ты маленькая”, — говорил он…
Помню, как у школьной ограды меня поймала за локоть женщина с дочкой: “Ты здесь учишься, да? Ну как? Стоит ли нам поступать? Ой, это директор там? Такой, приятный?” У входа Ягода встречал всех поцелуями. Он коротко постригся, модно так было, что ли. Получилось, как со школьным газоном в августе: пока его не скосили, и видно не было, насколько жухлая на нем трава. Теперь о завуче девчонки говорили с усмешкой: “Опять Ягода полезла”. “Нет”, — ответила я женщине.
Из правил «Школы приемного родителя»: Если родитель знает, что факты насилия ребенка были, и скрывает это, он становится соучастником.
После выпускного я отписалась от всех одноклассников, учителей, рассылок. Переехала в общагу, а потом и сюда, в Курган. Девятиэтажки, серые на сером, меня успокаивали. Нас с тобой. Васюк женился на учительнице литературы из “ИКСа” — я ее не помнила. Мама прислала скриншот из родительского чата, в котором все еще числилась, с подписью: “Не забудь, поздравь хоть! Господи, какой мужчина! Эхх”. Теперь она только деньги присылает. На фото я впервые увидела Васюка в пиджаке, платье невесты было с серебристыми полосами — словно она в аппарате Илизарова застряла целиком.
Вчера звонок с неизвестного номера. Катька. Красавица Катька, только голос хриплый очень, какой-то прокуренный. Я никак не могла понять, чего она хочет.
— Знаешь, ты не одна такая, — говорит Катька. — Я про баню.
— Не понимаю, о чем ты, какая баня?
— Меня Ритка просила набрать. За тебя переживает, нашла журналиста, который взялся. Ладно… Слушай, и я там была. И дома у него была… У Васюка. И у Ягоды. Мы с Риткой чат создали в телеге — тебя добавили. Видела?
— Извини, мне… мне пора! Спасибо, что позвонила. Я…
— Погоди. Я хочу, чтобы ты тоже записала видео, рассказала, как было все. Я записала журналисту этому. Говорит, когда нас двое хотя бы, уже можно что-то сделать с ними.
— С кем? Я не понимаю.
— Мне… Мне не верят!
— Ничего не было.
— Было. И сейчас есть. Туда каждый год поступают. Одаренные! Как мы.
— Кать, ты извини, ладно? Мне, это, пора мне, — и правда слышу твой рев за спиной.
— А ведь у меня был аборт тогда, весной, — говорит Катька, щелкая зажигалкой.
Я нажала на отбой, взяла тебя на руки, качала. По телеку на беззвуке шел ролик про лангуста, который отрезал себе клешню и выбрался из кипятка. Потом ты заснула. Потом папка наш с работы пришел».
Даша снимает пиджак с плечиков, укутывается в него, как в халат, вдыхает у воротника, гладит ласточку на картинке в книжке: «Знаешь, я сегодня так вот и уснула над твоей кроваткой. Папка наш в одной рубашке ушел, а ведь осень. Хороший он. Не стал будить».
Из чата «Одаренные девочки»: Kate: Дневники свои откопала с 9-го. Получается, сначала поцелуи Ягоды в кабинете меня не травмировали — придали уверенности в том, что я такая красивая ☹ Я вообще его бойфрендом считала. Еще тут валентинка есть от него. Красная такая. Сфоткать?
«Врешь ты все, Катька, и Ритка тоже врет. Чего вас разобрало сейчас? Полкласса в чат привели, родителей добавили. Фантазерки. Чего вы хотите-то? Никто, даже сам Васюк, вас уже не сделает обычными… Излечил от инфантилизма, как обещал. Поступили туда, куда хотели. А ласточек, которые девочек спасают, не бывает. Есть только матери.
Послушай, Марго, я не могу ничего с ним сделать. С ними сделать, со школой, с системой этой. Ты, наверное, обвинишь меня, когда посмотришь. И время будет другое».
Даша обнимает себя руками крест-накрест, зажмуривается и говорит куда-то внутрь себя.
«Или все раньше как-то вылезет. По сроку подсчитают. Я, как про тебя узнала, и не думала ничего такого, как Катька. Только бежать. До тебя оболочка жила вместо меня: ни ног, ни рук — ветер внутри. Обжигающий ветер, колючий. Врачи говорили, что с моими особенностями и рожать-то “под вопросом”. Но ты справилась, я на тебя смотрела и гнала мысли про то, чьи там у тебя глаза. Ты обычная, и ты вырастешь, как все. Я буду защищать тебя. От отчима, если придется. От борщевика. От всего, что детям не по силам».
Даша подводит курсор к кнопке «Удалить видео», думает. Нажимает на «Сохранить», закрывает к видео доступ и удаляется из чата «Одаренные девочки».
Рецензия писателя Романа Сенчина:
«Тема поднята важная, написано местами очень хорошо. Наверняка основа для рассказа взята документальная, но у меня сейчас нет возможности проверить это. Впрочем, это не так уж важно. Героиня интересная, живая, хотя для прозы подошла бы скорее та, что защищает Васюка — Марго, как я понимаю. Наверняка он лучшее, что у нее пока было, она его по-настоящему любит. Таких жертв, как Даша, уже очень много в литературе, а вот как Марго — нет. С другой стороны, может получиться оправдание действиям Васюка, Ягоды. Но тут уж всё в руках автора — на чём сделать акценты.
Форма рассказа меня и порадовала, и привела в некоторое замешательство. Вставки в обрамлении — на месте, по моему, а вот отвлечения Даши от монолога слишком уж напоминают ремарки в пьесах. К тому же возникает ощущение, что дочка специально начинает плакать, чтобы дать героине отвлечься от исповеди и почитать важные для сюжета строки из «Дюймовочки». Тоньше бы это надо сделать. Также не очень-то вписываются в монолог диалоги. Лучше их дать опосредованно, а не вот так, напрямую. Не понял я наверняка, от кого дочка. От Васюка, получается? Конкретных замечаний по тексту у меня не возникло, написано грамотно, стилистически правильно. Название замечательное.»
Рецензия критика Валерии Пустовой:
«Поразительно, как выстроился, раскрылся рассказ. И рассказ, и монолог. Ярко вижу его на сцене — но и читается он вполне внятно и с этими входящими репликами эпизодических персонажей, и с этими вставками из сказки, из документов. Выдержки из сказки и из документов точно попадают в эпизод, такие цитаты — если их отдельно прочесть — не запомнишь, а тут в силу контекста в них появляется другой, зловещий смысл. Мне нравится также обращенность монолога к нескольким адресатам. Героиня начинает говорить как бы вовне — а заканчивает внутренней, углубленной речью.
И в этом смысле очень неожиданный финал, сам финальный, развязывающий жест: она не удаляет видео, но и не отсылает его публично. Она поговорила о том, что ей надо было проговорить. И речь на публику обратилась во внутренний акт терапии и принятия. Сам же финал, исход сюжета тоже показался очень неожиданным. Я все думала, как автор свяжет особенности героини и школу, казалось, тут нет мостиков. И вот что открылось. Героиня раскрывается в монологе, как постоянно счастливая наперекор: наперекор родителям, здоровью, насилию, а теперь и товаркам, тормошащим ее память. Очень интересно это вывертывается: в рассказе нет оправдания насилию — но есть парадоксальный выход на мысль, что иногда с нами случаются страшные вещи, через которые мы жизненно растем. Оно не дай Бог, конечно. Но сюжет героини — он об этом, и это очень цепляет за душу, за ум. Потому что в этой механике роста через травму, настоящую травму, героиня не уникальна. Именно в этом она — как все. Интересен этот перевертыш: она настаивает на том, чтобы быть обычной, а в финале выходит, опять же, на парадоксальную догадку о том, что им, девочкам из школы, уже не стать обычными, и в каком-то странном смысле это за пределами текста распространяется и на всех людей. Никакому человеку не стать обычным после пережитого. Рассказ не подводит к этой мысли — но она возникает в ответ на искренность героини. И это очень ценно. Мне нравится, что героиня в этой глубине именно что как все.
Очень сильные детали. Многое отпечатывается в мелочах. И ступенчатый подкат в бане — ты же биолог, понимай, там хорошо заниматься. И мытье полов, и неотвеченная эсэмэска. Головой о стену. Объятия теплые в больнице — по контрасту с провалом тепла дома. Мать, проверяющая задания из командировок. Невеста насильника будто в лечебном аппарате из детства героини. И очень глубоко тронула деталь — как героиня вспоминает, что папа купал ее до трех лет, пока не понял, что она не будет «как все». Это очень больно, но и очень точно. Мне нравится, что текст работает на таких деталях. Что здесь впрямую не говорится о насилии, страхе, любви. Девочка коротко говорит «нет» случайной любопытствующей прохожей — и это всё о ее протесте. Женщина кутается в «нашего папки» пиджак — и это всё об обретенном тепле и любви. Очень трогательно, потому что точно — и при этом меня не заставляют чувствовать, мне просто показывают жест, деталь, картинку. Нет прямых описаний, нет нагнетания и крика. Это тонко сделано. И поэтому пробирает глубоко.»

Папа
В детском саду она все еще называла меня папой. Так и говорила: «Сегодня меня папа придет забирать!» или «В воскресенье к нам папа обедать приезжал!» Таня ей много раз объясняла, что я ее дядя, но она стояла на своем. С детства была упрямой. А в свой пятый день рождения, перед тем как задуть свечи на торте, сказала мне:
— Я теперь большая, и мне не нужен папа, поэтому теперь ты будешь дядей Мишей!
И с тех пор даже не оговорилась ни разу.
Это я забирал ее с Окрестина. Таня осталась дома, потому что я не знал, как долго придется ждать. Припарковался на соседней улице, чтобы не светить машину. Первую группу выпустили в три часа ночи. Открылись ворота — и я заметил Янку. У меня на голове была бейсболка и капюшон от толстовки, и я подумал, что она может меня не узнать, поэтому подошел поближе и крикнул: «Я-а-а-на!» Она стала смотреть по сторонам — там в ту ночь было много людей. Не очень много, конечно, но достаточно, чтобы запутаться. Я стал махать руками, надеясь, что не привлекаю особого внимания. Слава богу, Янка меня быстро заметила. У нее лоб был помечен желтой краской, а кофта была надета шиворот-навыворот. И еще от нее пахло. Потом, немытым телом, мочой. Янка плакала, а я гладил ее по спине и повторял: «Все хорошо, малыш, все хорошо!» Говорил, а сам старался дышать ртом. Нас прервал сигнал скорой, которая пыталась проехать сквозь толпу. Мы отошли в сторону, и я увидел, что за ней едет еще одна, а за ней еще одна и еще…
Уже из машины позвонил сестре и сказал, что все хорошо, в дороге, жди. Таня облегченно заплакала, а я повесил трубку. Янка всю дорогу молчала, я ничего не спрашивал и даже радио не включал. Возле дома долго искал, куда поставить машину, а когда заглушил мотор, Янка тихо сказала:
— Дядя Миша, там был труп. Парень лежал на земле весь в крови, у него вместо лица был котлетный фарш.
Я вылез из машины, подождал Янку, и мы вошли в подъезд. Минуты ожидания лифта казались часами, я несколько раз нервно нажимал на кнопку вызова и прикладывал ухо к двери, пытаясь понять, есть ли там хоть какое движение. Янка стояла рядом, сложив на груди руки. Я дышал ртом. Скоро приехал лифт.
Сестра долго обнимала Янку и плакала, я стоял и как-то нелепо на них глядел. Я не знал, то ли улыбаться мне, то ли сохранять серьезное выражение лица. Хотел было уйти на кухню, но понимал, что должен подождать.
— Тебя там били?
— Нет, мам, меня не били, там других били, очень сильно…
Я перебил:
— Таня, корми ребенка!
Сестра спохватилась:
— Сейчас! Я сейчас!
— Мам, я в душ быстро схожу. — Янка ушла в комнату за одеждой, а я смог пройти на кухню.
Я сел на свое привычное место у холодильника. Сестра разогревала в кастрюле бульон и ставила в микроволновку курицу. Вдруг она зашептала:
— Миша, я читала, что им там вообще еды не давали, поэтому сначала им нужно с чего-то легкого начинать, а через пару дней, когда пищеварительная система восстановится, можно переходить к обычной еде.
— Да их наверняка там кормили. Может, не так хорошо, как ты, но вполне по ГОСТу.
— Думаешь?
— Да что тут думать — я знаю! Если по нормам и закону положено первое, второе и компот — значит, все было!
Из ванной вышла Янка, с мокрыми волосами, в свежем спортивном костюме. Лоб у нее был красным — желтая метка исчезла. Сестра налила Яне бульону, мне досталась курица. Сама Таня не ела, она всегда плохо ест в периоды стресса. Помню, когда будущий Янкин отец очень тихо сбежал от беременной Тани, она похудела килограммов на семь. Я тогда со сборов приехал, взял отпуск и жил с ней месяц, заставлял есть ради ребенка.
За окном светало, и во все голоса щебетали птицы. Я понимал, что скоро нужно будет встать, попрощаться, сказать, что поговорим потом, заехать домой, переодеться, привести себя в порядок и пойти на работу. Отгулов сейчас не дают, со службы отпускают только в случае смерти или тяжелой болезни родственника. А было бы хорошо завалиться в кровать и проспать до обеда, тем более Юля с детьми сейчас в деревне.
За столом и я, и Янка молчали, тишину разрывал только шепот сестры, которая спрашивала, положить ли еще, или мелодично приговаривала «Ешь-ешь». От чая все отказались, и Янка пошла спать. Я не хотел оставаться наедине с сестрой, поэтому быстро распрощался, прихватил контейнер с оставшейся курицей и ушел. Даже лифта не стал дожидаться — боялся, что Танька выйдет на площадку и заговорит.
В тот день после нескольких звонков и сообщений от сестры я отключил телефон. Работы было много, в основном бумажной. Я даже был рад, потому что мог сидеть у себя в кабинете и ни с кем не разговаривать. Потом всех вызвали на собрание. Все как обычно: трудное время, встать на защиту Родины, сохранить независимость, протестующим платят, спонсирует Польша. Из хорошего пообещали прибавку к зарплате, премии и приказали составить список всех нуждающихся в улучшении жилищных условий. Сказали, что очередь будет двигаться быстро, и сотрудники МВД считаются привилегированной группой населения. Я подумал, как хорошо, что еще в прошлом году прописал у себя мать с отцом. Кто знает, может быть, и четырехкомнатную дадут. Все-таки двое разнополых детей, мы с женой и вот — отец с матерью. Одним словом, настроение у меня улучшилось, я вписал свою фамилию в список под двенадцатым номером.
После работы позвонил сестре, сообщил, что был очень занят. Таня хотела поговорить о Янке, но я сказал, что это лучше делать не по телефону. Договорились встретиться во дворе. Когда я подъехал, сестра уже ждала меня у подъезда, мы отошли на пустую детскую площадку, сели на скамейку. Было видно, что Танька волнуется. Я не волновался, но внезапно в животе у меня заурчало, и тут я вспомнил, что сегодня ничего не ел, и курица в контейнере так и стоит в общем холодильнике.
— Янка говорит, что нам нужно подать заявление в суд за незаконное задержание и незаконное удержание под стражей.
Я выпрямил спину, глубоко вздохнул, выдохнул и начал:
— Таня, что значит незаконное задержание? Она находилась около избирательного участка вечером после выборов, была в толпе среди тех, кто организовал несанкционированное мероприятие. Зная нашу Янку, она, скорее всего, выкрикивала деструктивные лозунги, наверняка держала в руках фашистский бело-красно-белый флаг или что-то еще такой же расцветки. И как это можно квалифицировать как незаконное задержание?
Я понял, что начинаю распаляться, поэтому остановился, чтобы перевести дух и успокоиться.
— Миша, но это все разрешено конституцией, это наше право на собрания, на выражение своего мнения.
Танька шептала, и это начинало раздражать.
— Кроме конституции есть закон. И закон говорит, что все массовые мероприятия нужно согласовывать. Она нарушила закон, и ей еще повезло отделаться всего несколькими днями на Окрестина.
Танька молчала, потом снова прошептала:
— И что нам делать?
— Что делать? Ты должна поговорить с Янкой и попытаться выбить из нее эту дурь. Ей манипулируют, она — марионетка в руках какого-то кукловода, сидящего в Польше. И чего ей не хватает? Есть квартира, у нее — своя комната, в универе учится, государство платит за ее учебу, а потом государство ее трудоустроит! Ни в каких америках и польшах ничего подобного нет! Там твои родители сначала всю жизнь горбатятся и копят на твое обучение, и — дай бог — они накопят к моменту, когда ты закончишь школу! А потом ты учишься и посуду моешь в забегаловках для негров, потому что никакую стипендию тебе никто не платит. А после вуза — ищи-свищи себе работу са-мо-сто-я-тель-но! И ни в какую приличную компанию тебя не возьмут, потому что ты — без опыта, вчерашний студент!
— Миша, — тихо сказала сестра. — Ты должен послушать Янку, она тебе расскажет, что видела на Окрестина…
— Тань, то, что она видела, — это последствия развитого воображения испуганной девятнадцатилетней девочки. Где статистика по убитым? По раненым? Избитым? Неужели ты думаешь, что подобное может сойти с рук? Я уверен, что она все очень сильно преувеличивает.
— Тогда ты должен с ней поговорить.
— Я и поговорю! Только не сегодня, потому что я ночь не спал, а потом еще целый день работал!
Я вообще не хотел говорить с Янкой, поэтому рад был по крайней мере отложить эту чертову беседу. После встречи с Таней я доехал домой и, голодный, едва успев раздеться, плюхнулся на кровать и проспал до звонка будильника в шесть утра. А потом, в воскресенье вечером, в инстаграме у Янки я обнаружил фотографию ее и Тани. Они стояли под огромным бело-красно-белым флагом, обнимались и выглядели совершенно счастливыми. На следующий день я поехал к сестре. Поднявшись на пятый этаж, своим ключом открыл общую дверь тамбура и дернул за ручку двери — квартира была заперта. Я было подумал, что их нет дома, потому что раньше они запирались только на ночь. Тогда я позвонил и услышал шаги за дверью. Мне открыла сестра:
— Привет, Миш, проходи!
Танька знала, что моим любимым местом в ее квартире была кухня, поэтому сразу же пошла туда.
— Ну, привет! — сказал я, усаживаясь на свою табуретку.
— Чай будешь? Или ты, может, голодный? Юлька твоя вернулась? — Таня больше не шептала, и я гадал, рад я этому или нет.
— Я бы перекусил чего-нибудь.
На несколько минут сестра превратилась в привычную Таньку: загремела тарелками, застучала ножом по разделочной доске, стала что-то перекладывать, разогревать, размешивать. И совсем скоро она уже сидела за столом и с улыбкой смотрела, как я расправляюсь с ее борщом, отбивными и салатом. Мы перебросились несколькими фразами о родителях, о Юльке с детьми, о нашей больной тетке. Потом Таня поставила чайник и сказала:
— Пойду позову Янку, она в наушниках целыми днями сидит — ничего не слышит!
По лицу Янки я пытался понять, рада она меня видеть или нет. Она выглядела намного лучше, чем в ту ночь после Окрестина. Теперь глаза у нее светились. «Красивая», — подумал я.
— Привет, дядя Миша! — сказала Янка, целуя меня в щеку.
— Привет, красавица! Как дела? Готовишься к началу учебного года?
Янка улыбалась, и у меня отлегло — значит, рада.
— Да! Учу «Марсельезу».
— «Марсельеза» — это серьезно! Тетради, ручки купила уже?
— Нет, на неделе с Маринкой едем на ярмарку — там все дешевле.
Танька разливала чай.
— Я тут вот что хотел сказать… — начал я, потому что понял, что если этот разговор не состоится сейчас, он не состоится никогда. — В общем, видел я вашу фотку под флагом.
— Здорово, дядя Миша, да? Это был огромный флаг и…
Я перебил:
— Да, огромный. Только не надо вам туда ходить.
Я заметил маленькие вспышки в глазах у Янки.
— А почему?
Когда злилась, она всегда говорила с такой натянутой, словно отбивающей ритм, интонацией.
— А потому что ты еще маленькая и не понимаешь, что тобой манипулируют. Кто-то в Польше сидит и внушает таким, как ты, что все у нас плохо и что нам нужны перемены. А нам не нужны никакие перемены! У нас все хо-ро-шо! У твоей матери есть работа, есть оплачиваемый отпуск, у вас есть квартира с отдельной для тебя комнатой. Государство бесплатно тебя учит, лечит, ищет работу. Чего еще тебе не хватает?
Янка покраснела.
— Дядя Миша, ты на самом деле ТАК думаешь?
— Да, я так думаю, и это так и есть!
— Тебя там зомбировали! — Янка стала повышать голос.
— Ну, зомбировали это вас.
— Дядя Миша, что ты такое говоришь? Я была на Окрестина, я видела, как били наших парней, красивых, сильных, умных! Меня вели по коридору, и я видела кровь на полу, на стенах! Я видела того человека с лицом, превратившимся в фарш! Он существовал! У нас девочки в камере были, им не давали прокладок, мы рвали свои майки для того, чтобы хоть как-то помочь им! Глеба с моего курса избили так, что он до сих пор в реанимации! Ты видел эти фотки в интернете?! Синие ноги, спины! Сломанные носы, руки, ребра!
— Яна, ты все преувеличиваешь…
— Кто? Я? — взвизгнула Янка.
— Ты должна помнить, кто ты и где ты живешь. Ты понимаешь, что если к власти придет эта проститутка Тихановская, к нам сразу же введут войска НАТО?
— Дядя Миша, я просто не верю, что это говоришь ТЫ! Ты меня крестил, ты меня вырастил, и в любой ситуации ты горой за меня стоял! А теперь я тебе рассказываю, что твои коллеги, менты, избивали людей до смерти за то, что они вышли против вранья и фальсификаций, а ты говоришь, что я преувеличиваю?!
— Яна…
Но она уже выбежала из квартиры и хлопнула дверью.
— Миша, господи, ты не прав, — начала Танька. — Как же ты не прав, брат мой… Помню, тебе было года четыре, наверное, и мама послала нас к отцу на попас. Мы несли ему обед: суп в пол-литровой банке, хлеб и компот в стеклянной бутылке. На половине пути ты устал, и я посадила тебя на спину, и всю оставшуюся дорогу несла тебя… Я буду молиться о тебе, Миша, и в любой момент я приду к тебе, посажу к себе на спину и буду нести сколько нужно, но ты должен понять, что человечность — это самое ценное, что у нас есть, и ее нельзя терять. А теперь — уходи, Миша…
Следующий раз я увидел Янку в инязе. Меня отправили туда мониторить ситуацию. Я стоял наверху и наблюдал, как она вместе с другими студентами пела «Марсельезу». Они успели допеть до конца, успели похлопать и что-то прокричать, начали было петь снова, но тут вошли наши. Хорошо, конечно, что даже в такой ситуации сотрудники остаются людьми и хватают парней, а не девушек. Хотя я бы всех хватал: и девушек, и женщин. А как им по-другому объяснить? У них настолько промыты мозги, что по-другому к ним не достучаться. Один парень сильно упирался, поэтому его тащили к выходу трое, а потом к ним подбежала Янка и стала кричать и лупасить кулаками по спине одного из сотрудников. Я было шагнул в сторону лестницы, но вовремя остановился. Один из сотрудников достал дубинку и пару раз полоснул ею по повисшей у него на руке Янке. Она вскрикнула и сдалась, уселась на пол, обхватила коленки и горько заплакала. Я вспомнил, как мы с ней как-то гуляли по городу, ей было лет четырнадцать, она начинала считать себя взрослой, красила губы, подводила стрелки на глазах и совсем не расчесывала кем-то бритвой постриженные волосы. В нескольких метрах от нас иссиня-черный кот перебегал дорогу. И в это же время по улице неслась серебристая «лада калина». Водитель даже не попытался затормозить, он немного выкрутил руль вправо, тем самым размазав черную шерсть по асфальту, перемешав ее с красной кровью и чем-то совсем натуральным телесного цвета. И тогда Янка вот так же в бессилии опустилась на тротуар и зарыдала.
Вскоре за ней пришли наши, подхватили под руки и понесли в микроавтобус, тогда она подняла глаза наверх и увидела меня. Через несколько секунд я услышал её крик:
— Па-а-а-па-а-а!
Рецензия писателя Романа Сенчина:
«Рассказ получился. Крепкий, сильный, пронзительный. Очень хорошо автор нашел повествователя. Да, именно дядя девушки, у которой нет отца, который сейчас по другую сторону баррикады, но одновременно не очень вмешивается в сюжет — настоящий наблюдатель, но не равнодушный. Яна как повествователь не подходит — она слишком, скажем так, заинтересованное лицо, она лезет на стену от обиды, унижения, ужаса. А должен лезть читатель. Это распространенный и очень часто срабатывающий писательский прием. Причем в финале мы понимаем, что сейчас и повествователь-наблюдатель полезет на стену. Финал отличный, и воспоминание о раздавленном коте более чем к месту, именно подобное воспоминание здесь и должно быть. Начало тоже хорошее, сразу увлекающее читателя. По тексту рассыпаны художественные штрихи, которые подстегивают чтение, усиливают психологизм. Например: «прихватил контейнер с оставшейся курицей и ушел. Даже лифта не стал дожидаться — боялся, что Танька выйдет на площадку и заговорит»; «Таня больше не шептала»; «она начинала считать себя взрослой».
Рецензия критика Валерии Пустовой:
«Рассказ привлекает своей динамикой, причем двойной: он повествует о стремительной душевной перемене героев, а эта перемена вписана в медленную и долгую историю непросто устроенных отношений. В рассказе оказывается принципиально важна та глубинная связь, которая установилась между героями до актуальных событий. И интересно накладываются эти два времени, быстрое и медленное, два плана истории: актуальный конфликт героев нельзя понять в полной мере вне долгой истории их семейных отношений, но и семейные отношения уточняются, трансформируются под влиянием новых, непредвиденных испытаний.
Интересно также и то, что рассказ представляет нам тип странной семьи — неправильной, где место отца занимает брат, а мать не может управиться с дочерью и брата зовет, как звала бы мужа иная робкая, зависимая жена. Семья неправильная, но очень устойчивая, потому что все ее члены приняли свои роли и чувствуют себя в них органично. И только новые события в обществе вынуждают их пересмотреть роли. Так, ставится под сомнение безусловный до того авторитет дяди-отца. А мать выходит из позиции робкого повиновения. И повзрослевшая дочь, конечно, взрывает стабильность когда-то устраивающей всех семейной конструкции.
Именно эта двунаправленность, двухуровневость конфликта в рассказе мне показалась особенно интересной, удачной: когда нельзя сказать, о семье ли он или о политическом выборе, о медленном времени или времени быстром, актуальном. Понравилась выразительность деталей — рассказ написан достаточно плотно, легко представить героев в текущих ситуациях. Пятилетнюю Яну, которая прощается с иллюзией подменного отца. Отвращение, смешанное с облегчением и привязанностью, которое старается не демонстрировать дядя. Очень яркая деталь — шепот Тани, который раздражает ее брата: она настаивает на своем, но шепчет, это показывает ее неуверенность в том, что она говорит, как, в общем-то, и ее привычное желание опереться в борьбе за Яну на брата — ведь с идеей подавать в суд Таня тоже не разбирается самостоятельно, а приходит к брату за советом и, можно сказать, благословением. Знаковым образом становится флаг, который герои воспринимают по-разному. Вовремя вводится описание удовлетворения героя от обещанных льгот, это создает контраст выбору Тани и Яны.
Также мне понравилось, что в рассказе долгое время сохраняется интрига, наращивается напряжение перед взрывом: герой откладывает разговор с Яной и вообще как-то уходит от контакта, и сначала не очень понятно, почему, какие в точности эмоции за этим скрываются. И только потом герой наконец открывает свою позицию.
Принципиальное замечание у меня к рассказу такое. Все же он получился с идейным давлением, с заведомо расставленными акцентами, так что к финалу образы приобретают манипулятивный характер, а герои становятся подобны марионеткам, иллюстрирующим и продвигающим уже и так понятную мысль произведения. Началось для меня это вытеснение художественной убедительности рассказа идейной наглядностью, пожалуй, с разговора Тани и брата и последующего резкого, демонстративного преображения Тани: Таня с дочкой под флагом, Таня больше не шепчет. При этом Таня почему-то продолжает добиваться одобрения брата, переубеждает его, предъявляет ему доказательства их c дочерью правоты. Реплика Тани про то, как в детстве она несла брата и что и сейчас она его понесет, если что, и вообще будет за него молиться, хотя выносить его присутствие больше не может ввиду их идейного несогласия, выглядит мало оправданной текстом рассказа и потому, скорее, комичной. Ведь, судя по рассказу, это брат постоянно вывозил Таню с ее дочерью, не считаясь со своими неудобствами. И странно, что героиня вот так горячо, как ее дочь-подросток, обрывает давние глубокие, сложно устроенные отношения с братом. Рассказ обедняет то, что поведение Тани и ее дочери показано в нем как безусловно правдивое и правильное, а поведение героя — как заведомо предосудительное. При этом выбор героев не мотивируется из глубины их медленного времени — рассказ будто отметает всю предысторию и показывает Таню однозначно вдохновленной событиями, а ее брата — однозначно зомбированным службой. Они словно исчезают как люди со своей историей и индивидуальностью, и становится неясно, зачем тогда рассказу нужна была предыстория их отношений, домашние сцены, ведь все равно перед нами к финалу оказываются воплощения типажей, а ней людей. Легкость преображения Тани и ее брата внушают недоверие. Тане словно без проблем далась ее новая решимость, а брат без проблем обозлился на любимых людей. Финальная сцена продавливает однозначную оценку персонажей, доходя в своем пафосе до образов манипулятивных, кричащих: раздавленный кот из детства, крик девушки «папа!», злорадство героя по поводу ужесточения действий коллег.
Желательно в художественном произведении заглядывать за очевидность, выходить на новые акценты. Рассказ — это не ответ на вопрос, кто тут не прав, это постановка вопроса. Если в рассказе все настолько однозначно ясно, то значит, в нем не происходит для читателя прироста понимания реальности, контакта с ней. Проза углубляет контакт человека с жизнью за счет удивления, парадоксов, вопросов, которые читатель сам бы себе не задал. Поэтому для будущей работы я бы предложила, как только сюжет автоа начинает развиваться по однозначному, заведомо ясному пути, принципиально уйти от этого направления. Рассказы, подтверждающие то, что читатель и так знает и понимает, принимаются доброжелательно, но не задевают глубоко. Чтобы задеть, важно разминуться с ожиданиями читателя, с готовыми схемами оценки в его голове. Тогда рождается продуктивный диалог читателя с художественным произведением.»

Перемещение
Если бы мы падали в самолёте, то увидели бы: поле, реку, город, двор, дом, окно.
Хотя нет, окно бы не увидели, мы бы уже разбились.
А окно есть. Оно открыто, и в него смотрит юноша, обесцвеченный генами матери, глаза — васильки.
В это же время где-то там, откуда падает самолёт. Вверху? Именно. Где-то там, не в самолёте, сидят на обрыве облака два проказника и наблюдают за юношей.
Он — студент. Его жизнь — вишневый стол, диван и трамвай. Еще лекции и несколько пирожков в столовой.
Лето выдалось жаркое. Асфальт плавится и воняет.
— Придурок! Убери машину! — орет мужик из синей кому-то в красной.
Окно закрывается, впуская в комнату тишину.
Юноша садится за стол, смотрит в экран ноута. Встает. Ложится на диван.
За стенкой заорал младенец. Застучал по батарее сосед. Где-то загудела стиралка.
Юноша надевает наушники.
Завоняло жареной рыбой.
Нажал плейлист. Зажурчала гитара, протяжно потянулись волны клавиш.
Дверь открывается. Мать, женщина лет сорока, в интеллигентских очках и красных тапочках:
— Родечка, ты сегодня рано. Мы с папой завтра на дачу. Не забудь выпить лекарство. Надеюсь, ты не занимаешься глупостями? Спокойной ночи, солнышко.
Дверь закрывается.
Никакой реакции. Лишь вздох и смена положения.
Виброзвонок.
— Алло! Нет! Не хочу.
Дверь с грохотом распахивается. Додик, парень с кривым носом, убирая телефон от уха:
— Харэ валяться, пошли в «Дым»!
— Отвали.
— Придурок, там будут наши. Пошли. Светка будет.
— Отвали. Чё не ясно? Достал.
— Эх, — с досадой машет рукой Додик и уходит.
…
— Почему он такой? — глядя на происходящее, возмущается один из проказников. — Помнишь, как они спасли сбитую собаку?
— О, да! Им было лет по десять, кажется. Наш-то даже не поморщился. Взял и отнёс псину в ветеринарку. А этот, Додик, всё визжал, плакал, мстить хотел. Такие разные. Будто поменялись.
…
Всего каких-то десять лет назад два мальчугана играли в догонялки во дворе. Был общий шалаш, мяч и жвачка.
Потом была сбитая собака. Один хотел спасти, и его не пугала кровь. Другой в панике рыдал. Что произошло? Не спас? Псина сдохла?
Дома мальчугану досталось от матери: на всё был наложен запрет, который перерос в привычку.
…
— Давай немножечко вмешаемся?
— Нельзя!
— О, снова ворочается. Интересно, что должно произойти, чтобы наша спящая красавица вдруг очнулась?
— Падение. Или взлет.
— Смерть?
— Это слишком.
— Хотя.
День кончился.
У юноши да, у проказников нет. Они еще долго сидели на обрыве облака и решали, вмешиваться или нет. При этом почёсывали затылки — могло и прилететь.
…
Утро началось. Обычное. Пары скучные. «Неуд» не удивил. Родя телепался по жаре по пешеходной части большого наземного моста и прилипал к асфальту. Пыль проникала не только в ноздри, ссыпалась в лёгкие и застревала там.
Несколько раз останавливался, откашливался. Не помогало.
Сильно пожалев, что пошёл пешком, решил свернуть на трамвай.
Если бы мы падали в самолёте, то увидели бы: город, реку, разрезающую его пополам, мост, соединяющий две его половины, человека, медленно идущего по мосту. Мы бы не увидели, сколько ему лет, и не сразу поняли бы, куда он направляется, но мы точно увидели бы, как он исчезает.
Но никто никуда не падает, а вот человек, мы уже знаем, кто это, идет сначала прямо, потом за угол.
Прежде чем свернуть, почему-то останавливается. Он сомневается?
Секунду колебаний, шаг вперёд.
Стоп!
…
— Ну, зачем остановил?
— Ты уверен, что мы не сделаем хуже?
— Ты о смерти?
— Да.
— Ой, ну что тут страшного?
— Ничего. Страшного ничего нет.
— Это же жизнь, пусть и дрянная.
— Зато роптать перестанет
— Да, да. Ты прав. Продолжим?
— Вперед.
…
Шаг.
Воздух стал чище и будто прохладнее. Асфальт исчез, ноги уже не прилипают. Вокруг? Лес!
Родя остановился.
Оглянулся. Везде лес. Три огромные тяжёлые ели закрывают путь и мешают обзору. Тихо. Слишком. Ветра нет. Птицы не поют. Насекомые не стрекочут. Абсолютная тишина.
Хлопок. Взрыв? Звуки. Резко, единым потоком упали в уши. Будто кнопку «вкл» нажали. Почти оглох.
Что делать? Делает шаг.
— Стой. — Шёпот сзади, и в спину упирается что-то твёрдое и холодное.
— Стою, — также шёпотом отвечает.
— Ты кто? — Снова шёпот.
Кажется это забавным и в то же время очень знакомым.
Хочет обернуться, но твёрдое больно ударяет в позвоночник и заставляет остаться в том же положении.
— А где я? — уже в голос спрашивает.
— Тише, не ори. — Шёпот предостерегающе ещё раз сильно давит на что-то, уткнутое в спину.
— Почему? — Снова перешёл на шёпот.
— Могут услышать.
— Кто?
— Твари!
— Что за твари!
— Иди, давай, вперёд.
Твердое ткнуло в спину ещё больней. Сделал шаг. Опять ткнуло. Ещё шаг. Ещё тычок. Ещё шаг.
Посмотрел под ноги — дорожка, лесная тропинка, утоптанная и немного поросшая травой. Видимо, по ней ходят редко.
Так они идут. Метров сто. Шагов двести.
— Стой! Видишь, вон там, за деревом, тропинка сворачивает?
— Вижу.
— Иди, не оглядывайся. Свернёшь — можешь делать что хочешь.
Пошёл.
Послушный мальчик.
Почти дойдя до поворота, оглянулся. Додик? Удивиться не успевает. Жар, асфальт и шум машин.
Додик?
Посмотрел по сторонам — пешеходный мост.
Снова идет на остановку.
…
— Ахахахахаха!
— Странная у него реакция? Зато, зато уже результат — оглянулся! Не послушался, оглянулся! Ты понял? Понял?
— Да понял, я, понял. Ну что, продолжим?
— Да, это очень, очень интересно. Только надо потише, а то нам прилетит. Опять.
— Хех.
…
Тот же поворот. Оглядывается. Шаг.
Лес. Прохлада. Тишина. Резкий хлопок. Звуки. Твёрдое что-то в спину. Шепот:
— Стой!
— Додик? — взволнованно спросил, не оборачиваясь.— Додик, это ты? Ты шутишь? Если это шутка, то просто офигенная. Очень реалистичная.
— Не ори. Услышат — сожрут.
— Кто? — снова шёпотом.
— Твари.
— Что за твари?
— Слишком много вопросов. Иди, давай, туда.
По тычку понятно, что надо идти вперёд.
— Видишь дерево? За ним тропинка поворачивает. Иди туда. Не оглядывайся.
Пошёл.
И-и-и снова оглядывается. Додик! Чётко увидел. Додик! Хочет идти назад, ноги идут вперёд.
Жар. Асфальт. Шум. Мост.
Родя стоял посередине, и рука сама потянулась к затылку. Почесал.
Посмотрел на часы. Стрелка даже не сдвинулась.
Плюнул с моста.
Некоторое время стоит, потом идет в противоположную сторону.
Дойдя до угла, останавливается.
Постоял. Глянул в телефон. Передумал. Шагнул вперёд.
Лес. Тишина. Хлопок. Шум.
…
— Опять?
— Но ведь оглянулся! Говорят ему, не делай так. А он? Тупой?
— Он в кои-то веки сам решение принимает, а ты его маешь.
— Сейчас это уже не решение. Сейчас это уже инерция.
— Меняем ракурс?
— Пробуем.
…
Только теперь стоит не на том же месте, а чуть в стороне. На тропинке, но выше. Смотрит на то же, но только со стороны. Видит двоих. Один в сером спортивном костюме, как у него самого. Да это же он сам и есть. Второй? Додик. Стоит с ружьём и стволом упирается ему в спину. Не слышит, о чём говорят. Видит, как он, точнее, его копия, идет вперёд и исчезает за углом. Оглянулся? Кажется.
Когда исчез из виду тот Родя, этот стал наблюдать за Додиком.
Его товарищ, или его копия, резко разворачивается и, глядя прямо на него, бежит. К нему!
…
— Он пришёл в себя! — послышался голос над головой, и включился свет.
— Родя, мальчик мой, Господи. Родечка, миленький! Господи, Господи, слава тебе Господи! — Голос матери настолько радостен и ярок, что Родя почувствовал себя маленьким.
— Мамаша, спокойнее, — контрастно прозвучал низкий мужской бас. — Не сломайте ему оставшееся.
— Хорошо, хорошо, — покорно пропищала мать. — Родечка, ты нас так напугал. Как же так.
Родя не мог ничего произнести. Его рот будто склеился. Он только выпучил глаза, в которых вопрос:
— Что случилось?
Мать только успела вдохнуть.
— Мамаша, — снова нарушил гармонию бас, — вы бы шли. Завтра приходите. Сейчас вы ему не поможете. Отдохните, выспитесь.
— Ухожу, ухожу.
Родя закрыл глаза.
Лес. Прохлада. Тишина. Хлопок. Звуки.
Поляна. На поляне дом. Простой, деревянный. На крыльце старуха. Машет Роде рукой. Присмотрелся. Да, точно, машет ему. Пошёл. Когда дом был совсем рядом, увидел — на крыльце не старуха, Додик.
— Заходи!
— Привет!
— Заходи, говорю.
Вошли вместе. Две лавки, стол, гроб на столе. В гробу Додик. И в гробу, и так. Два Додика.
Да ну, не может быть.
— Чего уставился? Я, я это, — шепчет Додик. — Вот, лежу. Только тихо, а то услышат.
— Кто? — не нарушая тишину.
— Лучше тебе не знать. Ты зачем, идиот, оглянулся? Я ж тебе сказал.
— Не знаю. Любопытство.
— Теперь из-за твоего любопытства нас не выпустят.
— Я умер?
— Нет. Я умер. Кажется. Или нет. Короче, я ещё сам не знаю. Но ты ещё нет. Ты можешь не умирать, только нужно, чтобы ты делал то, что тебе говорят. Я, когда летанул с моста, здесь оказался. Потом меня поместили в котлован. Там эти. Ух и противные, как, как, я даж не знаю, на что они похожи. Твари, одним словом. Главный у них такой хмурый и пахнет гнилыми овощами. Потом смотрю, у них там прям в котле что-то вроде телевизора. Там ты. Тебя на скорой грузят. Главный их смеется, говорит, что новенький скоро будет. Я и подумал, вдруг смогу помочь. Ты ж друг мне. Потом смотрю, у них там в углу ружьë. Я хвать и бежать к тебе.
— Подожди, а твари?
— Что твари?
— Они тут причём?
— Притом! Если ты не успеешь вернуться или найти дорогу вверх, то затянут тебя вниз. Там нехорошо.
— Так ты ж здесь.
— Да, здесь. Меня они уже ищут. Пока умудряюсь прятаться. Главное, не говорить громко, услышат. Найдут по голосу.
— А что же теперь делать?
— Что? Что? Идти. Надо идти к тому месту и выходить. Только на этот раз не оглядывайся, прошу. Иначе они и тебя утащат. Не будут церемониться.
Вышли из дома. Додик взял ружье. Показал жестом, чтобы Родя повернулся к нему спиной. Приставил дуло, и пошли. Тычками Додик показывает, когда поворачивать или останавливаться.
Шли долго. Родя замечает, что солнце не двигается. Светит только с одной стороны. Птицы поют, но песни похожи на набор повторяющихся одинаковых звуков. Ветер дует без порывов, ровно. Всё замершее. Будто бежит по кругу.
Родя остановился. Тропинка, дерево, поворот.
— Иди, — шёпотом говорит Додик. — Не оглядывайся! Понял?
— Да понял, понял. Значит, прощай?
— Иди, говорю, быстрее!
Послышался звук, похожий на раскаты грома.
— Беги! Это они!
Родя побежал. Бежал и думал, что его друг останется здесь. Его утащат эти твари. Он уже почти добежал до угла. Ему так захотелось оглянуться. И он оглянулся. Миг. Секунда. Доля секунды. Всё исчезло. Он снова в начале улицы. Там где-то остановка. Родя решил не думать и пошёл к трамваю, который в этот момент как раз остановился и набирал пассажиров.
Зашёл в вагон, пробил билет, сел в самом конце. Рядом бабка, ребёнок скулит, тётка с запахом колбасы.
Дом.
Вошел в квартиру. Голоса. Тихие. Запах камфоры и ладана. И ещё чего-то знакомого. Странно. Решил сначала зайти в свою комнату. Переодеться.
Зашёл. В комнате темно, занавешены окна и зеркало.
Передумал переодеваться. Пошёл в комнату с голосами. Отец и мать сидят на стульчиках возле гроба. В гробу лежал он сам.
Стоп! Что за бред? Я же вот он. Я живой!
Родя закричал. Мать с отцом никак не отреагировали.
В комнату вошёл Додик.
— Я ж тебе сказал, не оглядывайся!
— И что теперь?
— Ничего. Пошли.
— А твари?
— Ты им не нужен. Им нужен я. Был. Пока ты спал.
— Спал?
— Да, спал!
— А сейчас я умер?
Додик не стал отвечать, а только улыбнулся. Нехорошо как-то улыбнулся.
Всё выключилось.
…
Если бы самолет падал, а там были мы, то лучше не смотреть в иллюминатор и не видеть, что на мосту стоит юноша, волосы цвета выжженной солнцем соломы и глаза. Васильки?
Нет, глаза уже не васильки. Два черных пустых отверстия глубиной с океан. Они с интересом рассматривают руки, ноги, ощупывают лицо, оглядывают кругом. Пустоты затягиваются, и снизу, как лотерейный барабан, крутящим движением встают в глазницах васильки. На лице юноши появляется странная улыбка. Тело будто в первый раз начинает движение — шаг. Еще шаг. Еще. И еще. И вот уже тело движется уверенно, руки висят вдоль, как две палки. Минута, другая, и палки уже плавно вторят движению ног.
Виброзвонок. Юноша растерян. Неуверенно достает из кармана телефон. Смотрит. Не понимает, что делать. Мимо идет девушка, болтает по телефону. Юноша провожает ее взглядом. Смотрит на свой и прикладывает к уху. Слушает. Односложно отвечает: “Да! Нет!” Отправляет телефон в карман. Уходит.
А в это время: Выпустите! Выпустите меня отсюда! Я хочу домой! Хочу к маме! К Додику! К столу и дивану! Я здесь! Ма-ма! А-а-а…
…
— Ой! Ой-ой-ой! Что мы наделали!
— А как это?
— Твари умеют принимать любой облик.
— Беда. Валим отсюда! Быстрее. Если что, это не мы.
— Ты что? Так и закончим? Давай переделывать!
— Ты прав.
…
— Парень! Эй! Парень! — Чей-то голос за верёвочку вытянул Родиона из забытья.
…
— Э-э-э! Вы что делаете? — Голос Главного прерывает проказников. — Вы что устроили? Вы зачем лезете, куда не надо? Так. Кто тут у нас? Ага! Понятно. Вы что, его сразу в три параллели засунули? Сейчас всë исправим!
— А он будет помнить, что с ним было?
— Будет думать, что это ему приснилось.
— Давай отсюда тикать, а то Главный сейчас закончит исправлять и за нас возьмется.
— Ты куда?
— Я в пятую.
— А я восьмую. У меня там знакомая девчонка. Симпатичная. Хочу поближе познакомиться.
— А, ну давай! До встречи! Ты, это, если что, зови.
— Ок. Будь!
…
Юноша лежит на диване. Слышно даже через закрытое окно гул пролетающего самолëта. Музыка растекается по всему телу. Открывается дверь.
— Родя, ты сегодня рано. Мы с папой на да…
— Я с вами! — перебивает юноша, резко спрыгивая с дивана. — Хочу на дачу.
Слышно, как где-то что-то со звоном падает.
— Ты хочешь на дачу? Ну, хорошо!
Раздается дверной звонок, и одновременно начинает гудеть вибро на телефоне.
Родя быстро идет к входной двери, открывает, попутно замечая, как отец сметает в совок что-то в кухне.
Открывает и, не дожидаясь, резко обнимает того, кто стоит на пороге.
— Ты друг, самый лучший друг мой, Додька! Я хочу в клуб, но не сегодня. Давай лучше с нами на дачу, и Светку с собой возьмем! Да всех позовëм!
Немая сцена. Все в недоумении смотрят, как Родя быстрыми шагами, рывками и смеясь, комкает вещи, обувь и продукты в рюкзак, который тут же достал из антресоли.
Да, лето выдалось жарким.
Рецензия критика Валерии Пустовой:
«Название вполне адекватно замыслу и фантастическому жанру. С таким названием интересно раскрылся первый абзац — зачин истории, ведь в нем тоже есть динамика перемещения, в том числе перемещения внутрь данного текста. Ниже автор дважды обращаетесь к этому ходу, каждый раз развивая его, это очень удачно. Сам этот ход позволяет возвыситься над ситуацией в рассказе — обеспечить в повествовании сверхвзгляд, который казался бы условностью, если бы не был выражен в такой яркой динамичной картинке с самолетом. К тому же условность такого взгляда помогает принять условность взгляда «проказников», которые тоже смотрят на героя словно бы с самолета. Мне очень понравилось, как автор заложил возможность динамики, нового поворота в рассказе, показав, что проказники не удовлетворены повторяющимся ослушанием Роди: «— Сейчас это уже не решение. Сейчас это уже инерция. — Меняем ракурс? — Пробуем».
Однако, чувствуется, что в истории не хватает центра, концепции. Что это за мир, почему там Родя и его друг. Роль друга по-прежнему эпизодическая, случайная — хотя он спасает героя от тварей. На Родю наехала машина — это можно счесть делом проказников. Но почему его друг с моста «летанул»? Он что, шел в тот момент случайно поблизости и кинулся спасать Родю из воды, куда тот случайно упал из-за аварии? Или как-то еще связаны эти две смерти друзей? Сейчас не очевидно, как они связаны. То, что с Родей несчастье, понятно: над ним ставят эксперимент. Но друг почему пострадал? Далее. Сам ход с собой-в-гробу (Родя видит себя в гробу после того, как видит в гробу еще и друга) грубоват и даже банален. Стоит вписать дружбу, ее динамику, образ друга. Сейчас его роль непонятна, условна. В целом мотив друга, его роль тут неясна, она словно составлена из разных образов друзей, из разных линий и типов отношений между этими двумя героями.
К безусловным достоинствам текста я бы отнесла при этом сам стиль, детальность, образность. Автор вводит минимум подробностей, и они работают на впечатление, пишет динамично, легко, рассказ хочется читать с первой же строки. Автор почти не уходит в рассуждение, позволяя читателю контактировать с картинками и эмоциями по поводу картинок. То есть написано очень убедительно».
Комментарий писателя Романа Сенчина:
Любопытный, остроумный получился рассказ. Остроумный не в смысле — веселый, а в буквальном — демонстрирующий острый ум автора. Мистичность именно такого плана сейчас востребована, нечто подобное пишет, например, Евгения Некрасова и имеет успех».

Подготовка к празднику
Под самым потолком, через открытую дверцу антресоли, из наполовину осевшей картонной коробки выглядывает красная звезда и старые ноги ватного деда Мороза, свешиваются тонкие кишки елочной мишуры. Из-под второй, наполовину закрытой дверцы, торчит кривая нога крестовины от искусственной елки.
Напротив антресоли, если посмотреть через лоб в кухонное окно, текут облака: причудливые, объемные, не влезающие в узкую раму, и от этого непонятно, на что похожие. Часто прилетают и садятся на подоконник голуби. Они заглядывают в окно, ходят туда-сюда, щелкают когтями, ворчат и непрерывно кивают, точно приговаривают: так и надо, так и надо.
А посередине — покрытая долгим жиром лампа с плетеным абажуром.
Ночью через приоткрытую форточку натужно свистит холодный ветер, днем — вливаются детские визги и строгие окрики уставших воспитателей детского сада со дна глубокого четырнадцатиэтажного колодца старого панельного дома.
Два-три раза в день (а до этого намного чаще) я пытаюсь кричать. Я больше не перехожу на визг, от которого голос садится намного быстрее. Теперь я начинаю тихо выть, затем плавно увеличиваю громкость и тон голоса, пока не почувствую першение в горле, и тут же замолкаю, давая голосовым связкам отдохнуть и подготовиться к новому заходу. Если этого не делать и кричать до хрипоты, голос пропадает на два дня, не меньше.
Когда я начинаю паниковать, кровь заливает мое лицо и пульсирует в ногах. В этом порыве я опять пытаюсь двигать ими, пока острая боль не остановит меня. Чтобы успокоиться, я медленно дышу и смотрю в окно на отрезанные рамой облака.
Иногда я рассматриваю табуретку, которая лежит рядом: с подвернутой ногой, обнажившая свое брюхо с большой печатью ОТК — гарантию качества пятидесятилетней давности. Чувствую с ней вынужденное родство.
Но чаще я смотрю на настенные часы и водопроводный кран.
В прихожей звонит телефон. Даже если бы я могла доползти до него, то не смогла бы снять трубку. Наверняка это автоматическая реклама или бесконечные жулики.
И так даже лучше, так никто меня не обманет, даже сын и его лимитчица-жена (мозг посылает сигнал кулакам сжаться от гнева, но руки остаются неподвижны).
Как долго я ничего не замечала, принимала их заботу и помощь! Но спасибо приятельнице из соседнего дома, открыла глаза — теперь никто не получит мою квартиру, я им не позволю.
За окном взорвались петарды и залаяли собаки.
«Рановато начали, — шепчу с неостывшим гневом, — до Нового года еще целых две недели».

Про девочку, которая выросла на границе
Эту историю поведал мне один знакомый кролик. Раньше мы много общались, и он часто рассказывал всевозможные были и небылицы. Про Люсю ему особенно нравилось вспоминать.
* * *
Волосы у Люси белые-белые, а сама она смешная, нескладная, как утёнок. Красавица, говорит отец. На нем двубортный мундир пограничника, погоны окантованы малиновым сукном, и на воротнике тоже малиновые петлицы. Он берет Люсю на руки, сажает на колено, сдвигает брови и спрашивает серьезно: «Чужой земли мы не хотим ни пяди?», «Но и своей вершка не отдадим!», — задыхаясь от гордости, выпаливает Люся. Она жадно вдыхает носом — от отца пахнет порохом, дымом и полевыми цветами. Почему цветами? Может быть, ей так кажется.
* * *
Мама звала Люсю «дитя границ», они без конца переезжали из одного приграничного городка в другой, из гарнизона в гарнизон. Все детство в дороге, только привыкнешь, собирайся в путь. И первое воспоминание ее — дорога. Ей четыре года, они с мамой и братом едут в поезде, возвращаются из эвакуации. Откуда она знает, что из эвакуации? Почему-то знает. В телячьем вагоне — в нем раньше телят возили — народу тьма, дети, взрослые, старики, шум, гам, ветер врывается в окна и мчится с поездом. Люся помнит, что стекол в окнах нет, ни одного, только осколки торчат зубьями, не дай бог заденешь. «Видишь, — брат наклоняется к ней и кричит на ухо, чтоб слышно было, — это пули окна выбили!» Люся смотрит на него, кривится, готовясь заплакать, поворачивается к матери, чтобы спросить, правда ли про пули. Но мать смеется, ветер играет волосами, и Люся начинает смеяться тоже — нет страха, нет опасности, они едут туда, где будет хорошая новая жизнь.
* * *
После эвакуации новая жизнь ждала их в маленьком гарнизонном городе в Ленинградской области. После всех переездов, которые случились потом, название его со временем забылось, но сам городок размытой акварелью остался в Люсиной памяти навсегда.
Мир тогда казался Люсе простым и понятным. Он состоял из мамы, которая любила книги и красивую посуду, папы, который охранял границы, и старшего брата Олега, от которого доставалась пинки и затрещины. Пинки объяснялись просто — брату самому приходилось несладко, его, это так тогда называлось, «воспитывали портупеей». Люсю же, девочку, да еще и младшую, никто пальцем не трогал. «Чем она лучше? Чем я хуже?» Он даже ревел от злости и не упускал случая отыграться. Люся отбивалась молча и не жаловалась, на это у нее были свои причины. Дело в том, что гулять их отпускали только вместе, а гулять она очень любила. Какой тогда смысл жаловаться?
Год делился на длинную-предлинную зиму и короткое северное лето. Зимнее детское счастье — лыжи. В гарнизоне они были у всех детей, даже самым маленьким делали из дощечек полулыжи-полуснегоступы. Когда Люсе исполнилось шесть, а Олегу восемь — он был двумя годами старше ее — их стали считать уже вполне взрослыми, самостоятельными. Сами в магазин, сами в библиотеку, сами на утренник в дом культуры. Но только вместе. «Олег, смотри за сестрой», — говорила мама, отпуская их. «Хорошо, мамочка», — послушно кивал Олег, и, едва дождавшись, пока хлопнет входная дверь и они окажутся чуть в стороне от окон их квартиры, отвешивал сестре могучий братский пинок. Люся только шмыгала носом и ругалась «Олежка-говноежка», тихо, почти беззвучно, потому что за такое можно было не только пинок получить.
Снег выпал рано, да сразу столько! Городок накрыло огромной белой шапкой, все вокруг стало белым — старый парк, дома, деревья, кусты, клумбы, казармы, плац, тропинки, скамейки, птицы — все утонуло в снегу, затихло в нем, замерло, притаилось.
Утром Люся проснулась рано. Села, тонко скрипнули под ней пружины кроватки. Было воскресенье, Олег еще спал, из-под одеяла торчал его светлый стриженный затылок. За перегородкой на родительской половине тоже было тихо, только один раз резко, коротко всхрапнул отец. Беззвучно, стараясь никого не разбудить, Люся подошла к окну и не выдержала, запрыгала, закричала: «Снег! Снег! Олежка, вставай, снег!»
После завтрака — кашу мама важно называла «по-солдатски» — из чулана, общего на все квартиры, достали лыжи. Что может быть прекрасней лыж, которые много месяцев пылились в чулане, а сейчас стоят, извлеченные на свет божий, у стенки, тяжеленькие, деревянные, с мягко-закругленными, довольно вздернутыми вверх носами! «Ну, товарищи мои, лыжники, вперед к рекордам», — папа тоже был в приподнятом настроении, как будто снег и на него подействовал. Он, конечно, не прыгал и не кричал, но говорил чуть громче, подшучивал над мамой, обещая ей отрастить усы, как у Чапаева. Они смеялись, собирали детей, помогали смазать лыжи огарком свечи. У Люси были еще совсем коротенькие, детские, а у Олега уже взрослые, старые отцовские. Когда все было готово, мама напомнила привычно: «Олег, смотри за сестрой».
На улице, когда Люся наклонилась, чтобы руками помочь себе потуже натянуть на валенок ремень крепления, он боднул ее, а потом, не дожидаясь, пока она поднимется, отряхнется и вденет, наконец, свои валенки в лыжи, толкнулся палками и крикнул: «Догоняй!» Еще дома решили, что будут кататься у школы. Стадион там лежал в низине, и к нему, образуя горку, шел длинный пологий скат, весь в мелких колючих кустах, прячущихся зимой под снегом.
Они обожали съехать сначала с горки и, набрав скорость на спуске, мчаться как можно дальше по инерции. В прошлом году Люся чаще плюхалась в снег еще в самом начале, но и это ее смешило не меньше — можно было скатиться бревнышком вслед за убегающими лыжами, обрастая с каждый поворотом снежной шубкой, как снеговик.
От их дома до стадиона три минуты через старый пустынный двор. Олег, конечно, шел чуть помедленнее, чем обычно, чтобы Люся все-таки смогла его догнать. Она старалась изо всех сил, путалась в полах зимнего ватного пальто, дышала, словно маленький паровоз, но все равно казалось, что лыжи предательски скользят на месте. Наверно, нужно было сильнее толкаться палками. Она вдохнула поглубже, размахнулась отчаянно, как вдруг… «Да скоро ты?» — крикнул Олег. Он вроде бы услышал какой-то крик в ответ, или не в ответ, он так не понял и обернулся. Люси не было. Были только две заметенные снегом покосившиеся лавочки, две тонкие кривоватые лыжни… И больше ничего. И никого. Мальчик развернулся и побежал обратно. Чем ближе он подбегал к месту, где заканчивались следы Люсиных лыж, тем отчетливее зиял черный провал в белоснежном полотнище двора. Он догадался сразу: колодец, который отцовские лыжи проскочили с легкостью, сестра переехать не смогла. По плечи в воде, дико и тонко воя, Люся цеплялась за застрявшую поперек горловины колодца лыжную палку.
Отец нес ее завернутую в шинель домой на руках, мама шла рядом и плакала. Олег семенил чуть сбоку и все смотрел на застывшее белое личико на плече отца. Ни тогда, ни после его никто не винил, даже похвалили, что быстро прибежал и позвал на помощь. Но все это было уже не важно, лишь бы все скорее стало, как раньше. Он даже загадал: «Если поправится до 7 ноября, никогда больше не буду называть ее дурой». Но был уже декабрь, воспаление легких сменилось какими-то осложнениями, и «как раньше» все никак не начиналось. Потом, уже позже, им казалось, что и не началось бы, если бы не Васька.
Ваську подарил Олегу перед Новым годом один из папиных сослуживцев. Откуда в городке взялся живой кролик, никто не знал, да и сослуживца вскоре перевели в другой гарнизон, но Васька был настоящий, серый, толстенький, с длинными настороженными ушами и блестящими, похожими на ягоды черники глазами. Олег принес его домой, спрятав за пазухой. Люся спала, после больницы она вообще много спала. Он снова загадал: «Если до 1 января выздоровеет, отдам ей Ваську». Уже привычно и уныло сел рядом на стул, как вдруг Люся проснулась и сразу заметила уши, выглядывавшие из расстегнутой куртки. И засмеялась. После больницы она еще ни разу так не смеялась. Спросила: «Кто это?» И Олег неожиданно для себя ответил: «Это кролик… твой», — и вытащил испуганно поджавшего лапки Ваську из-за пазухи.
Следующим летом мама тихо шептала бабушке: «Под Рождество встала, под самое Рождество». А спустя годы говорила, что не было никакого кролика, все это детям почудилось. Но они точно помнили, был — серый с длинными ушами.

Розы и занавески
Сорокин влюбился мгновенно. Свадьбу сыграли быстро и скромно. Из родственников была только мать невесты, остальные то ли умерли, то ли отбыли в неизвестном направлении — жених выяснять не стал. Впервые в жизни, крепко обнимая любимую, он спал без кошмарных армейских и детдомовских сновидений и был абсолютно и как-то очень подозрительно счастлив.
Жили молодожены легко и весело, беспрерывно хохоча и обнимаясь в перерывах между походами мужа на завод и вялыми поисками работы женой. Дети у них стали появляться сразу же после свадьбы. По воскресеньям они все вместе гуляли в парке, а вечером, сидя на маленькой кухне, строили планы. Сорокина, прижатая к плите стройным горячим телом мужа, представляла большой дом с яркими занавесками и розами в саду. Муж говорил, что вскоре они родят пятого и уже хватит, дом построят, детей выучат и будут по миру «за солнышком ездить», чтоб грустно одним не было. Всю их замечательную жизнь спланировал. Свои записи, таблицы с подсчетами жене всё время подсовывал, карандашом подчеркивая, что да как. Ну ей эта бухгалтерия всегда быстро надоедала, и она начинала тихонько целовать мужа, который тут же забывал про графики и, не выпуская из пальцев карандаш, крепко обнимал любимую. Часто после их «совещаний» на полу под столом тетрадка со странными закорючками и молниями поверх расчетов так и оставалась лежать всю ночь.
В одно из воскресений, с утра, позавтракавший и довольный, Сорокин поцеловал жену и сказал: «Вечером сюрприз тебя ждет! Только не шарь в шкафу, как всегда, неугомонная моя, потерпи!» Но куда там: Сорокина тут же дверцы распахнула, а на полке конверт с бантом. Она его и так и сяк: и потрясла, и понюхала, но открыть не решилась. Вон он лежит, сюрприз…
Мечты о светлом будущем начали таять под грохот телефонного звонка. Подходя к аппарату, Сорокина почувствовала, как заломило в затылке и сжало горло, откуда-то она уже начинала понимать, что не будет ни роз, ни занавесок.
***
Веру Ивановну по соседству знали все: за тридцать лет работы медсестрой она побывала практически в каждой квартире района, где когда–либо рождались дети. Обладая удивительной памятью на имена, помнила всех сестер, бабушек, тёть, братьев своих пациентов.
— Я маму новорожденного спрашиваю: «Как назвали мальчика?» «Григорий», — говорит. «Вы ж вроде Петю своего тоже хотели так назвать в честь вашего дедушки Григория Михалыча, а потом передумали». Мамаша глаза вытаращила. «Вера Ивановна, как вы всё помните?» «А чего помнить? Люди как фотографии из детства, я их вижу, и они всегда со мной!»
Работа была почти всей ее жизнью: первые мысли при пробуждении и последние перед отходом к короткому беспокойному сну были о пупках, прививках, пробах Манту и предстоящих патронажах на дом. Заканчивая первый визит к новорожденному, она уже знала всю его родословную, все проблемы, заботы семьи и очень быстро находила нянь, работу родителям, убеждала нерадивых папаш платить алименты. И все это как бы мимоходом, просто давая совет, нужный телефон или адрес. Её караулили у дома, перед кабинетом, в магазине — она никому не отказывала. Много лет назад переехав в город, сняла комнату и, выучившись на медсестру, она устроилась в детскую поликлинику. Тогда, давным-давно, ей и в голову не могло прийти, что все эти чужие люди с их сложными характерами, чудесными детьми и станут ее реальной большой семьёй с каждодневными заботами «в печали и в радости».
В родном поселке за много километров от города она оставила любимую младшую сестру с семьей и своё разбитое сердце. Уезжая, Вера Ивановна прощалась навсегда с дорогим местом, где прошло ее детство, где она познакомилась с любимым мужем, прожив с ним пять счастливейших лет и в одночасье став вдовой после нелепой автокатастрофы, так же, как и Сорокина. Она же первой в свой выходной и примчалась к молодой матери в то ужасное воскресенье, вместе с ней пережив день неверия и неприятия страшной действительности.
***
В последние дни Сорокина жила, как в киселе — вязком и полупрозрачном. Готовясь к похоронам и поминкам, она звонила, договаривалась, варила, стругала, шинковала. Машинально обнимала и гладила детей, которые висели на ней с утра и до вечера, глядя огромными от страха глазами. Да и ночью, вздрагивая и всхлипывая во сне, все спали вповалку на большой кровати, вцепившись друг в друга.
Похоронили Сорокина в сумрачный осенний день, зябкий и печальный. Народу было мало: соседи, кое-кто с завода и Вера Ивановна. Мать Сорокиной не успела приехать, собиралась в скором времени, но ненадолго — муж, хозяйство. Сорокины, вплетенные друг в друга, стояли над могилой и не плакали. Внутри было пусто и страшно. Что дальше делать, не знал никто.
Через несколько дней после похорон молодая вдова наконец-то решила открыть конверт-«сюрприз», оставленный мужем. Внутри она обнаружила купчую на участок в поселке для строительства дома. Как обнаружилось несколько позже, Сорокин взял большой кредит в банке.
Скорбные дни быстро утекали вместе со скромным запасом на сберкнижке и «детскими» деньгами в уплату процентов за кредит. Сорокина звонила матери, но та с инвалидом-мужем мало что могла предложить дочери. Чуть ли не каждый день забегала Вера Ивановна, подкармливая детей и подсовывая деньги молодой матери, которая все чаще соглашалась их принять, понимая, что скоро совсем будет туго. Через месяц Сорокина подкараулила Веру Ивановну после вечернего приема. Она уже всё решила два дня назад, но как же ей было страшно! Вера Ивановна ласково обняла истощавшую красавицу-мать.
«Что делать-то будешь, милая моя?»
«Ой не могу, Вера Ивановна!» — зарыдала Сорокина.
«Но нет же другого выхода, придется мне их всех, четверых, сдать в детский дом… А что с пятым — я еще не решила…, есть три недели на раздумья».
Вера Ивановна много всего повидала, работая в поликлинике, но как-то уж очень прикипела она душой к этой веселой и дружной сорокинской семье и потом, чтоб при живой матери всех четверых в детдом! А пятый, пятый, о котором мечтали все дети и отец!
До ночи они сидели на кухне, перебирая все возможные варианты — другого выхода не было.
***
Вера Ивановна редко посещала родные края и не потому, что пережила там самую большую в жизни потерю, и не потому, что прижилась за много лет в городе. Она любила свою младшую сестру и ее детей больше всего в жизни, но видеть ее супружеское счастье, такое теплое и настоящее, было тяжело, и сознаться в этом стыдно. Потому вечные отговорки на «завал на работе» позволяли ей регулярно и единолично завладевать двумя симпатичными племянниками на часть каникул, праздников и прочих свободных от школы дней.
Привозил их отец, часто бывавший в городе по службе. Пирожные, мороженое, цирк, карусели — мальчики обожали тетку и всё чаще к ней наведывались, ещё и присматривая себе институты на будущее. Сестра сначала сердилась, что редко видит Веру Ивановну, а потом ей предложили возглавить районный детский дом, и печалиться стало совсем некогда.
Но каждое утро две сестрички, как две ранние пташки, созванивались и делились всем, что радовало и печалило их родные души. Вот и сейчас первой, кому позвонила Вера Ивановна после встречи с несчастной молодой матерью, была ее родная сестра. Четверо сорокинских малышей должны были оформляться в её детдом. И надолго ли, непонятно, так как кормить такую ораву было вообще некому. Родни почти никакой и надежды тоже. Вот такая печаль!
***
Докторша жила одна уже больше десяти лет, с тех пор как разошлась с мужем. Детей они не завели, друзей и любви не было, расстались спокойно. Говорить было не о чем. Родители оставили ей большую городскую квартиру, машину и деревянную просторную дачу на речке. Живи и радуйся! Но как-то тоскливо и одиноко было и в центре, и за городом.
В ранней юности, отучившись пару курсов в мединституте в другом городе, будущий доктор приехала на каникулы, сообщив родителям, что рассталась с возлюбленным, ждет ребенка и вообще больше не хочет учиться. Её мать тут же пошепталась с мужем, пару дней побегала по городу, съездила в районный детдом и отправила дочь назад учиться, пока та не родит. Затем так же оперативно в роддоме проследила, чтобы девятнадцатилетняя студентка отказалась от ребенка, даже не взглянув на него. И всё. Жизнь покатила дальше. Оглядываться было боязно и стыдно.
Два раза была замужем за коллегами, но детей больше не было. Всё чаще за последнее время она сожалела о своем опрометчивом поступке в молодости и даже втайне от еще живой матери как-то ездила в детдом, но сказали, что справок не дают, и на том она и успокоилась. Но иногда ей снился ребенок, такой теплый и нежный, ее малыш, хотя ей так и не сказали в роддоме, мальчик это был или девочка.
Когда Сорокина пришла на прием и сообщила, что отдает детей в детдом, докторша так и не поняла, что почувствовала: с одной стороны, было жалко этих симпатичных малышей, а с другой стороны, ей даже как-то полегчало, что вроде бы и не она одна такая. Вот ведь обстоятельства… Да и Сорокина, вечно смеющаяся, счастливая и нарядная, всё время раздражала докторшу. Но об этих своих чувствах она постеснялась сказать даже Вере Ивановне — своей медсестре и единственной давней подруге.
***
Ближе к ночи в квартире Веры Ивановны раздался звонок. Для пациентов было слишком поздно, и, подходя к телефону, она уже заранее начала беспокоиться. Любимая младшая сестра рано ложилась спать и вечером звонила только по особым случаям. Вот и сегодня она не стала вдаваться в подробности, а коротко сообщила: «Верунчик, не волнуйся, мы все живы-здоровы». У Веры Ивановны немного полегчало на душе. «У меня для тебя невероятная новость, не могу говорить, ты должна срочно приехать!» И потом вдруг зашептала в аппарат: «Только не спрашивай меня! Больше ничего не могу сказать, а то меня точно уволят! Жду тебя!» И повесила трубку.
Вера Ивановна в полном недоумении еще полчаса просидела возле телефона, но, зная характер сестры, перезванивать не стала: всё равно ничего не скажет, вредина, всегда она так, туману напустит — и мучайся! Ну что делать, просто так бы не позвонила — надо собираться!
Рано утром, с первой электричкой, Вера Ивановна прикатила в родной поселок. Сердце всегда начинало поднывать за станцию до места назначения. А на перроне уже вовсю бушевали эмоции, перегоняя друг друга — слезы то ли радости, то ли печали, по прошествии времени понять уже было невозможно.
От станции до родного дома она дошла пешком, любуясь особыми красками и видами, знакомыми с детства. Спокойно зашла внутрь (жили в поселке по-деревенски просто), двери никто не запирал. Полюбовалась на спящих племянников и тихонько, с улыбкой, разбудила сестру, которая сладко спала, крепко обнявшись с мужем.
Взъерошенная сестра, проснувшись, сразу кинулась обнимать Верунчика — давно не виделись. Потихоньку перебрались в кухню с занавесками, вышитыми ещё Верой Ивановной, и красивой печкой с изразцами, давным-давно выложенными отцом. Заварили чаю с мятой из огорода и уселись рядышком, прижавшись, как в детстве. Будто и не было этих месяцев вдали друг от друга.
«Ну, не томи, родная!» — начала Вера Ивановна. «Верунчик! Даже и не знаю, как сказать, не имею я на это право, и ты должна мне поклясться, что будешь молчать, пока мы не придумаем, что делать!»
Вера Ивановна аж замерла и только кивнула головой, прижав руку к левой груди — мол, клянусь! «Вроде бы, если ничего не напутано в документах, я нашла бабушку! Бабушку сорокинских детей!»
Вера Ивановна боялась пошевелиться: «Где нашла, откуда она взялась? Ну, говори скорее, не томи!»
Сестра, окончательно проснувшись, поведала изумленной Вере Ивановне, что, нарушив все возможные правила и предписания, залезла в архив и нашла-таки ту фамилию, что ей показалась такой знакомой. Поиски она начала с умершего Сорокина, который оказался их воспитанником. На какое-то время его отдавали в приемную семью, но вернули назад с удручающей формулировкой как «не оправдавшего ожидания». Вот он до восемнадцати лет и остался в детдоме. Выучили, дали профессию, квартиру! На завод пристроили. А он гляди, какой молодец — женился и пятерых детей родил. Жаль, конечно, очень хороший парень был, сестра его даже видела как–то, приезжал в детдом повидаться. А потом нашлись ещё и документы в отказниках, вроде бы как с фамилией матери Сорокина.
«Ну ты прям Шерлок Холмс! — восхитилась Вера Ивановна. — Ну и кто эта бабуся?» «А вот это самое главное!» — торжественно объявила сестра.
«Кто? Кто?» — Вера Ивановна чувствовала, что ещё чуть-чуть, и она упадет в обморок от напряжения.
Сестра накапала корвалола в рюмку, протянула Вере Ивановне и громко прошептала: «Ну, это ещё не точно… Если я ничего не напутала, то похоже, что это… твоя докторша!»
***
Сдав детей в детский дом, Сорокина перестала есть и спать. По ночам она бесцельно бродила из угла в угол, а днем бегала по агентствам, пытаясь найти хоть какую-нибудь работу. Ничего путного не получалось, профессии не было, а за остальное платили так мало, что она и себя едва могла прокормить. Радовали только еженедельные посещения детей в детдоме, по воскресеньям. Это были такие счастливые минуты, что Сорокина даже забывала на какое-то время о случившемся.
Целый день они сидели все вместе на старенькой хромой скамейке, и со стороны казались большим и веселым великаном со множеством рук и ног. Но наступал вечер, и этому доброму и счастливому великану приходилось делиться на четверых несчастных рыдающих лилипутов и крошечную, ссохшуюся от горя мать. Но что было делать, всё возвращалось на места… Сорокина, ничего не видя, плелась в родной, но страшный и пустой дом, а дети — в сытый и казенный.
***
С раннего утра понедельника что-то не задалось: кружилось в голове, давило в висках. «Как надоела эта работа, а особенно эти противные мамаши, вечно они чем-то недовольны, как будто я виновата, что их дети болеют», — сердилась докторша и медленно плелась к поликлинике.
Вчера они с Верой Ивановной допоздна «посидели», как обычно в воскресенье. Но то ли погода, то ли возраст, то ли «душещипательные» беседы о внуках, которых у них не было — стало как-то тошно и тоскливо.
Докторша присела на скамейку возле дерева передохнуть перед приемом. Наверху в гнезде громко горланили птенцы, требуя пищи и заглушая всё в округе. На краю гнезда сидела тощенькая серая птичка, еле удерживая в клюве жирного извивающегося червя. «Мамаша! — пронеслось в голове докторши. — А ведь и я могла бы…» Посидев немного и вытряхнув из головы «сентиментальную ерунду», докторша поспешила в поликлинику. Вера Ивановна в кабинете ловко намывала лотки и столы. До приема было еще много времени, надо было доделать отчет. Разложив тетради и бланки, они уселись за рабочими столами друг напротив друга.
Промучившись всю ночь и не заснув ни на минуту, Вера Ивановна приготовила для докторши стройную и красивую речь, которую утром согласовала с сестрой. Два дня сестры спорили, ругались, плакали. Младшая всё время повторяла: «А вдруг я ошиблась, ну не всё там сходится! Но если и ошиблась, это ж всё равно всем радость будет? Да, Верунчик?» Извелись обе, но всё-таки решили рискнуть!
Вера Ивановна одернула белоснежный халат, поправила чепчик и громко прокашлялась: «Я тут сейчас вспомнила, как вы вчера мне сказали, что хотели бы… когда-нибудь увидеть своих внуков!»
Докторша, увлеченная составлением отчета, потирая висок болевшей с утра головы, хмуро буркнула: «Да я бы все отдала, лишь бы хоть одним глазом взглянуть на них!» Вера Ивановна рассеянно посмотрела на коллегу и вдруг ни с того ни с сего выпалила, моментально разрушив всю свою стратегически идеальную речь: «Да вы ж их раньше чуть не каждый день видели!» Докторша медленно подняла глаза от тетради и уставилась на Веру Ивановну: «Что вы сказали? Вы что-то знаете?»
Она буравила удивленными глазами медсестру. Нервно обернувшись, через приоткрытую дверь неожиданно заметила в коридоре скорчившуюся одинокую фигуру Сорокиной, тоскливо сидевшей перед кабинетом. В висках у докторши вдруг сильно сдавило, в голове что-то закрутилось, завертелось, она побледнела и медленно сползла на пестрый пол лечебницы.
Очнувшись через какое-то время, докторша увидела перед собой круглые встревоженные глаза Сорокиной, державшей у её носа ватку с нашатырем. Докторша дотронулась ослабевшей рукой до плеча молодой мамаши и охрипшим от волнения голосом произнесла:
«Как же так, столько лет… а я и не подозревала!»
***
Прошло время, сестра Веры Ивановны оформила все необходимые документы, и Сорокина переехала с детьми в большую докторскую квартиру. Притирались они долго: в постоянных ссорах, выясняя, как воспитывать детей, чем их кормить, чему учить. Но зато и смеялись все вместе над детскими проказами, а по ночам готовили в огромных кастрюлях на всю большую семью: маму, бабушку, пятерых детей и Веру Ивановну, которая по воскресеньям, как было заведено давным-давно, выпивала со своей старинной подругой, теперь уже в кругу её большого семейства.
Часто навещали Сорокина на кладбище, плакали, а вечером вместе с детьми рассматривали фотографии: сколько всего было хорошего и даже смешного. Каждое утро докторша поднималась ни свет ни заря и тихонько шла в детскую, где любовалась на свое «сопливое счастье», свалившееся невесть откуда на ее седую повинную голову. «За что мне такое?» — вопрошала она, не веря своим глазам. Неутомимая Сорокина, спросив разрешения, стала устраиваться на лето на просторной даче новой родственницы. Заброшенное и неуютное жилище она отремонтировала, посадила цветы, навязала подушек, пестрых ковриков. Вера Ивановна сшила красивые шторы.
Медсестра часто потом спрашивала себя: «А вдруг и правда в документах было что-то напутано?» Много чего ещё непонятного позже обнаружила младшая сестра, но они всё-таки решили дальше не копать. Уж больно всё хорошо устроилось. Да и чужой, хмурый дом вскоре преобразился.
А Сорокина по прошествии какого-то времени с удивлением вдруг стала замечать, что то, о чем они мечтали с любимым мужем, постепенно, не быстро, но стало как-то сбываться. И даже яркие занавески и розы в саду…
Рецензия писателя Романа Сенчина:
«Отличная история, великолепный язык. У автора несомненно есть литературные способности, жизненный опыт богатый, писательское воображение богатое. Воображение необходимо не столько даже для придумывания сюжетов и персонажей, а для преображения реальных сюжетов в произведения прозы.
«Все спали вповалку на большой кровати, вцепившись друг в друга» — очень хорошо. А это, через несколько строк, выглядит как повтор: «Сорокины, вплетенные друг в друга…» Это тоже отличный образ. Он повторяет прежний, но употреблен спустя время и смотрится сильно и ново: «со стороны казались большим и веселым великаном со множеством рук и ног». Замечательный эпизод: «Докторша так и не поняла, что почувствовала, с одной стороны было жалко этих симпатичных малышей, а с другой стороны, ей даже как-то полегчало-что вроде бы и не она одна такая, вот ведь обстоятельства…»
Рецензия критика Валерии Пустовой:
«Мне очень понравился рассказ — как выстроилась в нем интонация, как почти везде, кроме финала, автору удалось удержаться от давления на чувства читателя, как сочетаются в рассказе острый трагический сюжет и нежные домашние образы. В рассказе есть что доработать, но прежде особо отмечу то, что мне понравилось. Я уже писала, что мне понравилась первая, экспозиционная (до завязки — смерти мужа) часть рассказа. Часть про медсестру очень убедительно оканчивается: автор действием доказывает свойства героини — в выходной и в самый тяжелый для Сорокиной «день неверия и неприятия» она готова поддержать многодетную вдову. Далее следует описание состояния Сорокиной, в котором тоже найдено очень много достоверных деталей.
В целом рассказ крайне симпатичен и убедителен именно тем, что в нем почти нет рационализации, рассуждений, авторских оценок — автор предъявляет читателю детали, живые подробности, факты о героях. Мы объемно, отчетливо понимаем, почему Сорокина в западне. Мы видим горе семьи — опять же не в слезливых фразах, а в жестах, проявлениях чувств: вцепились друг в друга, спят вместе, не плачут на похоронах; понравился ниже и образ счастливого великана, распадающегося на плачущих лилипутов — вроде бы не оригинальная аллегория, но тут очень пришлась к месту, очень ярко сработала, как бы обновилась по смыслу.
Далее мне понравилось, что медсестра и Доктор не схематичны, что автор их раскрыл в свете их предыстории. Если раньше мы видели просто абстрактно добрую медсестру и абстрактно суровую докторшу — то теперь их свойства укоренены в их истории, показаны как закономерные. И у обеих есть стороны показные и уязвимые. Добрая медсестра боится контакта с прошлым, скрывает ревность к счастью своей сестры. А суровая докторша на деле винит себя, стыдится прошлого и потому угрюмо, закрыто реагирует на пациентов.
Удачно работает и контраст положений Доктора и Сорокиной: нищая с детьми и бездетная, полностью обеспеченная родителями. Именно здесь такой контраст позволяет прочувствовать дефицит обеих героинь: каждой из них не хватает очень существенного для полноценной жизни.
А вот что мне не понравилось в рассказе — это финал. Над ним еще стоит поработать. Сомнения у меня начались с момента, когда оказалось, что бабушка Сорокиных — это и есть Доктор. В этом так и чувствуется подстановка от автора, уж слишком все совпало, словно подготовлено загодя. Может быть, сестра медсестры не нашла бабушку — а придумала, что нашла ее, когда раскопала историю мужа Сорокиной и узнала от медсестры тайную драму Доктора? Ведь и правда все сходится — почему бы не сделать такую маленькую аферу, вполне человеколюбивую? И сестры могут на это решиться ради спасения, как говорится, многих жизней.
Картина блаженства в самом последнем эпизоде, на мой вкус, переслащена. Уж и дача, и доктор возле кроваток, и все сбылось. Все же у них умер Сорокин, а это невосполнимо никакой докторшей, никакой дачей, да и докторша получила деток — но не то чтобы закрыла гештальт, если говорить именно о ее поступке в юности.
В целом весь этот финальный фрагмент предложила бы переписать в более реалистичном ключе, сейчас это выглядит сказкой, подстроенной автором. Стоит увидеть финал таким, каким он может быть ввиду свойств и биографии персонажей».

Флоренский
Больше всего в жизни Пашка Флоренский не любил риторические вопросы. В детстве просто не переносил, а когда вырос, мог вместо ответа повернуться и уйти, а мог и в табло ритору засветить.
Быть или не быть?! А судьи кто?! Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?! У Пашки, когда он это слышал, в руках натуральная трясучка начиналась, как будто с ним между делом на собачий язык перешли и хочешь-не хочешь, изволь перебрехиваться, не суть — о чем, главное — скоро и под очередь, как волан в бадминтоне, туда-сюда, туда-сюда, пока в глухую крапиву не улетит, тогда — стоп, ж…пу жалить дураков нету.
Отчего такая оказия вышла, богу весть. Может, наследственное — отец у Пашки в молодости из Афгана вернулся, ровно маленько ушибленный. Сначала с полгода за занавеской в куте у печки просидел, тетя Зоя, мать, туда ему и есть подавала, и ведерко ставила, а потом ничего, Господь милостив, стал потихоньку на свет выбираться. Сперва по избе туда-сюда прохаживался, на все новыми глазами, как из зазеркалья, глядел, узнавая и не узнавая, пальцами на ощупь предметы осязал, гладил, в памяти, точно в сырой, холодной земле копаясь, всходит — не всходит? Нет, не всходило. Тетя Зоя уже плакать перестала, свыклась и смирилась. А он в один день возьми да на комоде за пахучей аленькой геранькой бабкин гребень угляди, полукруглый такой, с частыми зубчиками.
Потрогал, погладил, взял, попестал в руке, точно ума не мог приложить, что же с ним дальше-то делать. Потом вдруг к бритой своей, как баскетбольный мяч, всей в тонких красных шрамах, голове поднес. Зоя, мать, замерла. А он правой рукой ото лба к затылку, точно густую гриву продирая, не спеша в воздухе провел, потом левой волосы будто в конский хвост собрал, ловко так перекрутил, к темечку подтянул и в самый его кончик скобку гребешка и воткнул. И руки в стороны развел, как бабка, покойный свет, делала, головой туда-сюда поводя, сооруженье на крепость проверяя.
Тетя Зоя чуть не закричала, но вовремя догадалась рот себе покрепче зажать — неужто лед тронулся? Вот, выходит, с того дня, с бабкиного гребня, и подалась вечная мерзлота в котелке у Пашкиного бати. Медленно, с переменным успехом, как всякая весна, с возвратом в заморозки, но вперед, вперед, к теплу и свету, озаряя надеждой жизнь матери…
А может, и не от рано умершего отца, а от Святого духа — родился-то Пашка в Духов день, сразу после Троицы. Вот и сказалось.
Взять, к примеру, нынче было: март, коровник, где он, Пашка, скотником работает, и им с Хаджимюратом вместе пришлось навоз вывозить. Если что, Хаджимюрата, вообще-то, Лешкой зовут, но до того он чернявый, горбоносый и нарыпистый, что давно уже и прочно Хаджимюрат. Вот с ним-то двадцатилетнему Пашке и предстояло навоз выпрятать. Работа как работа. Коровник, он коровник и есть. Кирзачи надел, рукавицы натянул, вперед с песней. Но Лешка не был бы Лешкой, если бы что-нибудь патриотическое не ввернул — пафос телепропаганды, видать, пропитал его, как ароматный сироп ромбабу. Вот он и встал спиной к навозной куче, поплевал картинно на руки, ухватился за совковую лопату и сказал: «Ребята, не Москва ль за нами?! Умрем же под Москвой!»
А Пашка от этих слов такое натяжение в крови почувствовал, что скорее к другой стороне этой Г…номосквы зашел, чтобы ненароком не пособить Лешке в этом его пожелании.
Или вот еще, был у Пашки друг, Славик. Ну, как был, он и есть, только все мужики сейчас, кто потолковей, на вахту по городам да в столицу подались, потому как в деревне давно уже ловить стало нечего. В том числе и в самом прямом смысле. А между тем, Славка этот, как приедет к Таньке своей на побывку, так первым делом давай Пашку на рыбалку тянуть: блин, Пасик, не съедим, так хоть понадкусываем, посидим, позорюем. И Пашка никогда ему не отказывал, у Пашки на этот счет был свой резон, свои переживания. Раззадорить рыбу на поклев да надубасить на жареху — это дело хорошее, а вот с утра летнюю тишину послушать да потом с умным человеком поговорить — это, я вам скажу, заслужить надо. Так думал Пашка, обмирая от предстоящего удовольствия. Дальше этого он в мыслях своих не шел, дальше начиналась область чувственного волхования.
Вот, встанешь ты с утра, глянешь в окно, а там, как снятое молоко, куда хватает глаз, туман. Распахнешь створки рамы, и, не мешкая, водянистая студеная свежесть вползет в горницу. Пашку от такой диверсии уже тянет радостно взвизгнуть, а всё главное еще впереди.
Сунешь босые ноги в «татарские» калоши, подвернешь до колена треники с лампасами, накинешь старую, прожженную у костра куртку и, захватив рыбарские причиндалы, выскользнешь из дома. Высокая нескладная фигура твоя сразу потонет в белой пелене мги и исчезнет из виду.
На улице тишина. Это теперь не диво, кому шуметь? — из сорока домов в Жеребчихе пять осталось, живут и вовсе в трех, а все заброшки давно аборигенами на дрова разобраны.
Надо, однако, поспешать. Славка придет из села, из Тулыгина. Встретятся они на перекате у Шачи. Пашке еще трюхать и трюхать разным аллюром дотуда свои три километра. Тропы в траве из-за холодящей все тело плотной водянистой взвеси не видать. Ну, не видать и не видать, ему не привыкать, он здесь с завязанными глазами пройдет. А всё ж поспешает, то шагом, то короткой рысью, то смешным галопом. В школу до девятого класса пять лет назад еще и с места в карьер бегал, да, слава богу, отбегался. Нет-нет, чего грешить, учиться он любил, любил детские вопросы задавать и никак не мог в толк взять, почему на него за это учителя обижаются.
Дома ему поговорить особенно не с кем было, мать больная, старая, он у нее единственный, в сороковник рожёный. От поздних материных родов у Пашки одна почка, и армия, по всему выходит, ему заказана, а так хотелось мир поглядеть! Слушать его, ничего не скажешь, мать исправно слушала, а чтобы дискуссию поддержать, и не мечтай. В беседах с ней он за двоих отдувался.
— Вот ты мне скажешь, — тряхнув каштановой кучерявой головой, говорил он мирно штопающей цветными нитками зимние шерстяные носки его матери, — что мышь, она и есть мышь, для нее коты завЕдены. Что от нее один вред и порча имущества, и туда ей и дорога. А я на это возражу. Естественный отбор потому и есть естественный, что самой природой так задумано: кто — кого. Ловчее, сильнее, быстрее. Поймать — да, сожрать — да, но чтобы для целей своих замучить — нет.
Тут Пашкин кулак просвистел в воздухе и припечатал никому невидимое слово — «нет»! Такое уж ошеломительное впечатление на него произвела тогда вычитанная где-то в сети статья об отказе от лабораторных опытов над животными. Такое, что он уж который день ходил как слегка помешанный. Это сколько зверья понапрасну умучили и еще умучают!
Но тут к матери пришла соседка-встрешница бабка Лиза, и Пашке пришлось наступить на горло адвокатскому своему красноречию…
На повороте у лесного полузаросшего озерца Пашка тормознул — ельник впереди. Можно бы и обойти, короче бы вышло, но сейчас солнце подниматься станет, и оттуда, на выходе из ельника к урёме, такая картина, такое зрелище всегда открывается, что Пашка иногда даже плакал от счастья, все равно ведь никто не видит. И он, недолго думая, опять свернул под низкие своды обдающих холодным душем тяжелых, упругих лап.
Как мечталось, так и вышло. Затенькали чуткие к восходу солнца пичуги, загорелась жемчугами — алмазами висящая в воздухе водянистая пыль, и, где бесследно тая, а где точно свиваясь на белое веретенце, опустились в низины, истончавшие туманные пряди.
Пашка аж взвизгнул от радости: какое румяное, свежее, веселое выкатилось оно тогда, солнце-то! И бросился, разгоняясь на ходу, вниз по тропе, туда, к прибрежной урёме, зарослям ивы, черемухи и шептуна-тростника.
Калоши Пашкины блестели, как лакированные, видавшая виды затрапезная куртчонка сверкала, как кожаная, а сам он, как нескладный сосунок-жеребенок, выкидывая тонкие ноги, катился вперед, грозясь упасть и рассыпаться в прах, но отчего-то не падал, а все бежал, и бежал, и бежал.
Славку он увидел издалека и приветственно еще выше вскинул правую руку с зажатой в ней удочкой. Подбежав к воде, он в три прыжка одолел дощатый настил шаткого мостика, взглядом успев выхватить, что справа, в низине, река, как молоком, по самые берега налита туманом, а здесь, отрываясь от воды, клочкастая дымка его вяло поднималась и бесследно таяла.
— Привет, Славка! — негромко, но радостно крикнул Пашка.
— Здорово, коли не шутишь, — сдерживая себя и слегка важничая, кивнул тот.
Пронизанный светом счастья, Пашка не захотел тратиться на мелочь копотной обидчивости и просто и весело предложил:
— Ну, что, пойдем?!
Двинулись они верхом берега к Серову бочагу. На ходу Пашка слегка отстал, чтобы переменить в галошах газетные стельки и натянуть носки, а когда догнал Славку, тот, широко расставив ноги, сцепив руки за головой и жмурясь от солнца, лицом к реке снисходительно произнес:
— О, Волга! Колыбель моя! Любил ли кто тебя, как я?!
И опять Пашка словно слегка споткнулся, но виду не подал, а быстро-быстро на ходу заговорил:
— Эх, Славка, что я тебе сейчас расскажу! Ты не поверишь! Главное, я ведь давно об этом думал, а всё ума не мог приложить, с какого боку к этому делу подобраться. А как выяснилось, не у одного меня об этом душа болела. Я тут такую статью прочитал, оказывается, давно уже ведутся поиски альтернативных путей, ну, в обход разных опытов над животными, чтобы…
— Слушай, Флор! — занятый своими мыслями, перебил его скороговорку Славка. — А Верка твоя как?
— Верка? Какая Верка? — не сразу понял Пашка и даже остановился.
— Ну, эта, что ты из клуба с дискотеки провожал. Ты зимой рассказывал, — обогнал его и пошел впереди Славка.
— А-а, Ника! — наконец дошло до Пашки, и он снова обрадовался. — Так Вероника она, Славк.
— Ну, я и говорю: вся в колхозе рожь посохла, чечевица с викою, подержи мой ридикюль, я схожу посикаю! Ты как ей, еще не вставил?!
И он оглянулся. А Пашка не рассчитал и от неожиданности наткнулся на него.
— Ты чо, Славк?!
— А чо? Чо ты, как принц Мандарин из страны Лимонии?! Я вон в Москве одной купил селфон за семь штук, поломалась-поломалась и все, что надо, сделала. У меня эта Вика давно бы стержень жизни поимела, зачетная девочка.
И он повернулся к реке.
— Штурм и натиск. Какой русский не любит быстрой езды?! Может, ты не русский, Пашк?!
Это решило дело. Пашка, будто натолкнувшись на Славку, снова ударил его плечом, а потом еще и еще раз, сталкивая с высокого берега к воде, заросшей рогозом.
Славка был грузнее и коренастее, но от неожиданности потерял равновесие, взмахнул руками, выронив удочки, и покатился вниз. У самой воды он все-таки остановился, вскочил, но Пашка не позволил ему больше рассчитывать на его благородство, не стал он воскрешать в памяти и дуэльный кодекс офицеров-дворян, а смачно, со всей силы дал Славке в жбан. Тот коротко взмахнул руками и спиной вперед рухнул в воду.
А Пашка бегом вскарабкался наверх и, прихватив удочку с ведерком, споро пошел прочь.
Не хотел он оглядываться — дерьмо не тонет, но все-таки не утерпел и обернулся: Славка, что-то рыча, уже возился на берегу, выливая из обуви воду.
Успокоенный, Пашка снова на раз-два-три перемахнул через юркий мосток на другой берег. Идти он решил на Богов бочаг. Там тихо, укромно, повезет, что-нибудь и словит. Не в этом суть.
Но градус настроения его существенно понизился. Сколько ни уговаривал он себя, поймать прежнюю волну беспечной радости ему не удавалось. Тогда он решил вовсе не закидывать удочку, а просто идти. Идти и идти вдоль воды, куда глаза глядят, пока в себя не придет, а там видно будет.
Денек между тем незаметно разгорался.
С полчаса Пашка шел как заведенный. Как землемер. Как журавль по болоту. Долговязая фигура его то появлялась у самой реки, то ныряла в редкий подлесок. А потом он вышел к дороге на Касимовку. У валуна — ледникового, как чудилось Пашке, — на повороте он бросил удочку, куртку, скинул галоши, привалился спиной к так и не остывшему за ночь каменному боку и закрыл глаза.
Лес звенел на разные голоса, и Пашка наконец почувствовал, как обида отпускает его, и улыбнулся. Где-то вдалеке зародилось приглушенное стрекотание. Свои, обрадовался Пашка. Здесь все свои. Потянулся, задрав кверху руки, а потом вдруг — раз! — и осел, и прислушался уже с пристрастием. Так и есть, церковного батюшки, отца Алексея, мотороллер Муравей — двигатель и коробка передач два раза поменянные, а подвеска безыздохлая.
Пашка подхватил свое барахлишко и пополз за обочину. Потом, невидимый за деревьями, выпрямился во весь рост и бросился леском наутек. Выбравшись на луговину, остановился, упал как подкошенный и раскинул руки.
Стрекот почти поравнялся с ним, но Пашку со всех сторон обступала высокая трава с лилово-синим прибоем мышиного гороха и розовым — клевера. Пашка снова закрыл глаза.
Почему так бывает? Вины твоей нет, а совестно — тебе. Пашка в «церковУ» ходить любил, а прятался потому, что год уже как жил без причастия — боялся домой мамке вирус приволочь. Сунул раз голову в дверь храма, а там народу — яблоку негде упасть, и все без масок. И причащаются одной лжицей, и теплотой запивают из общей чеплашки. Пашка тогда вмиг за порог выкатился. Следил за службой по динамику над входом, сидя на скамейке под березой. А как потеплело и просохло, повадился он забираться в малинник у храмовой ограды, вставал на колени, чтобы не высовываться, и всю литургию молился, кланяясь до самой земли, и прощения и помощи у Богородицы просил. Как мамка прививку сделает, дал зарок Пашка, так он причащаться пойдет. А пока — береженого и бог бережет.
Тарахтенье стихло, а немного погодя возле Пашки раздались шаги, заколыхалась трава и кто-то шумно задышал. Пашку аж подкинуло! Он сел и от неожиданности отпрянул — прямо в глаза ему уставилась коровья морда.
— Деловая, ты?! — враз охрипшим голосом спросил Пашка.
Корова, узнавая его, покивала головой, а потом взяла да и улеглась рядом с ним.
— Ну, ты даешь! — восхитился Пашка. — Угомон тебя не берет. Когда ты нагуляешься?
Деловая была единственной коровой в округе, а может, и в целом свете, что паслась сама по себе. Непобедимой страстью к бродяжничеству она все-таки добилась того, что ее давно оставили в покое, отступились и хозяева, и пастухи. К вечеру она приходила домой с полным выменем, жива-здорова, ну и лады.
— Вообще-то, я тебя понимаю, Деловух. Имеешь право, — сказал ей Пашка. — Будь моя воля, я бы вам тоже Конституцию утвердил.
Деловая шумно вздохнула, белый с рыжими подпалинами бок ее надулся и снова опал.
— Я бы все опыты над вами отменил. Ты не поверишь, но есть метод, МРТ называется, магнитно-резонансной томографии. Клади зверей в аппарат и исследуй, не надо никого ножичком полосовать. Или вот еще — метод графического конструирования и моделирования лекарств. Без грызунов, собак и приматов можно спрогнозировать, как поведет себя препарат в организме. А физико-химические, а культуральные модели?
Деловая слушала, а Пашка шпарил, как по писаному.
— А как тебе модель искусственной кожи? С использованием культурных клеток?! И никаких экспериментов по тестированию косметики на глазах кролика. In silico, только in silico, никаких in vitro и in vivo! И не пропускать в торговую сеть косметику без пометки «не тестировано на животных»!
Пашка помолчал, раздумывая. Потом набрался духу:
— Я вот девушке своей духи купил.
Деловая повела ушами.
— А-а, ты не знала?! Она в Марьине на библиотекаря учится, Ника моя. Ну, как моя — я ее один раз только из клуба домой проводил… Но ты не подумай, она бабушке письма пишет, да-да, настоящие, как раньше, в конвертах, раз в неделю, на пяти страницах. Так бабка Маша после каждого письма мне привет передает: кланяться тебе, Павлуша, велела, скоро приедет.
Деловая из стороны в сторону помотала головой, отгоняя первых оводов.
Пашка улыбнулся, подмигнул корове и, раскинув руки, опять улегся на спину.
— Очень уж я ее жду, Нику-то. Скорей бы уж! Наскучило мне одному-то. Приезжа-а-а-й!
Рецензия Романа Сенчина:
«Я рад, что автор взял тему современной, буквально сегодняшней (упоминание, видимо, о ковиде) деревни, показали ее жителей, так называемые реалии. Правда, стиль, лексика словно о деревне позапрошлого века. Особенно это касается речи двадцатилетнего Павла: «— Вот ты мне скажешь, <…> что мышь, она и есть мышь, для нее коты завЕдены. Что от нее один вред и порча имущества, и туда ей и дорога. А я на это возражу. Естественный отбор потому и есть естественный, что самой природой так задумано: кто — кого. Ловчее, сильнее, быстрее. Поймать — да, сожрать — да, но, чтобы для целей своих замучить, — нет». Или нечто платоновское чувствуется. Обращаю на это внимание не в осуждение, а для того, чтобы автор был готов, если редакторы начнут предъявлять к рассказу такие претензии.
Больше меня смутило название. Если составить имя и фамилию, то получится Павел Флоренский. Это отсылка к тому Павлу Флоренскому? Тем более что и герой, как и тот, молится практически в лесу, деталь наверняка неслучайная. Не знаю даже, как относиться к такой отсылке, оправдана ли она. Есть и некоторые замечания по тексту, но сюжет, атмосфера, герой стоят того, чтобы рассказ был доработан».

Чайная коробка
— Ты знаешь, мам, у папы ведь рак нашли. Хотя откуда тебе знать, конечно. У тебя одеяло сползло, дай поправлю. Вот так. Чаю хочешь? Ну ладно. Нет, Лену я отпустила. Новый год же. Она говорит, вы елочку вчера нарядили. Помнишь? Нет, сегодня я вместо Лены. Мам? Это я, Маша. Не узнаешь?
Лена говорит, тебя знакомые голоса успокаивают. Получается, сиделка теперь знает тебя лучше, чем я. Но я попробую, мам. Вдруг и мой голос окажется знакомым. Просто послушай, хорошо? Может, ты все-таки вспомнишь. Потому что я не могу уже чувствовать себя виноватой.
Вот папа — ведь был здоровым всю жизнь, да? Еще когда вы вместе жили. Да и потом тоже. А тут — рак лимфоузлов. Случайно обнаружили. Пришел к Решетниковым на золотую свадьбу. Вы с ними в институте вместе учились. Не помнишь? Ну, неважно. В общем, представляешь, один из гостей к нему подходит и говорит: можно я вашу шею пощупаю? Не хочу, мол, вас пугать, но вам надо это проверить. А у папы в районе лимфоузлов крошечная такая припухлость — мы потом, уже в больнице, внимательно всматривались. Корили себя: как посторонний человек заметил, а мы проглядели? Но он не посторонний, конечно, а онколог на пенсии, сорокалетний стаж. Не абы кто, в общем. Глаз наметан. А у меня глаз наметан только чай по пакетикам рассыпать, да в коробки раскладывать. Какие уж там лимфоузлы.
С тобой ведь, мам, все так быстро тогда случилось. Раз — и инсульт. Как будто споткнулся на ровном месте — и лицом об асфальт. Лежишь и еще ничего не знаешь, но где-то внутри понимаешь, что все. Поэтому, когда папа позвонил и рассказал про лимфоузлы, мы сразу к нему рванули. Я и Олька с семьей. Ощущение было такое же: лицом об асфальт. Мы ведь не знали всей этой истории про свадьбу и онколога, пока официальный диагноз не поставили. Папа ни слова нам не сказал. Спасибо, хоть к врачу сходил! Хватило ума. Ну, в общем, звонит он мне посреди рабочего дня и бабахает: у меня рак. А я к подъезду уже подхожу с коробкой в руках. У нас там клиенты постоянные на Волоколамке, каждый месяц к ним чай вожу. Знаю их, в общем. Я отбой нажала и стою смотрю на телефон, как дура. Ничего понять не могу. Двор какой-то чужой, тротуар. Темнеет. Коробка эта из-под мышки выскальзывает, а я даже поправить ее не могу, потому что у меня телефон в руках. Простояла так минут десять, наверное. Хотя на самом деле наверняка не десять. Помню только, что пальцы окоченели без перчаток и экран давно погас.
Поднялась я, короче, с этой коробкой, звоню в дверь. А мне открывает не Пал Саныч, как обычно, а жена. Я ее до этого раза два только видела.
— Ой, — говорю, и понимаю, что сейчас расплачусь. Не могу объяснить даже — ведь какая на самом деле разница, кто дверь открыл? Но вот как будто все в жизни вдруг изменилось после его звонка, понимаешь? Даже дверь Пал Саныч больше не открывает. И вот, представляешь, стоит его жена и смотрит на меня молча, как будто понять не может, кто я и зачем. А я и сама этого не понимаю.
Тебе, мам, может, все-таки чаю налить? Я смотрю, Лена тут все переставила. Где у тебя теперь сахар? Не могу найти. Что ты говоришь? Нет, Лену я отпустила. Это я, Маша. Твоя дочь. Да ты сиди, не вставай. Вот я и чашку твою любимую нашла. Я, похоже, только это и умею — чай людям подносить.
Я, когда от Пал Саныча вышла, так про себя и подумала. Только это и умею. За мной еще дверь подъезда так хлопнула сильно. Как будто припечатала эту мысль. А воздух на улице был такой морозный и сладкий, что я все-таки расплакалась. Стояла и думала: сейчас слезы к щекам примерзнут, что я тогда делать буду? А они от этого еще сильнее катились.
Ну, а потом шок прошел, началась работа. Точнее, работа как раз закончилась, пришлось отпуск взять. А начались капельницы, жидкий супчик, вот это состояние, когда ты не знаешь, спал ты ночью вообще или нет. И не спишь ли сейчас. Вся эта беготня между двумя квартирами — мы с Олькой по очереди у папы жили. Первая химия еще ничего, но она, как потом оказалось, не помогла. А от второй он высох и сморщился, как пакетик с соком, из которого высосали весь воздух. Страшно вообще. Он ногу в тапочку сует, а ступня такая тонкая и хлипкая, что кажется, обе в одну тапочку войдут. Мы иногда с Олькой сядем на кухне, молчим. Вроде как все хорошо. А глянем друг на друга — и все понятно. Одни и те же мысли. Недолго ему осталось.
Но, представляешь, помогла эта химия. Метастазов еще не было, и это оказалось решающим. Полгода он потом восстанавливался. Ходит, правда, с палочкой теперь. По лестнице тяжело подниматься. Ну, такое. Но по сравнению с тем, чего мы с Олькой боялись, — это небо и земля.
В общем, я на работу вышла, смотрю — а с Волоколамки заказав больше нет. Отменили подписку. Я шефу говорю: как так? Они одни из наших первых клиентов. А он плечами пожимает: не объяснили. И, знаешь, как будто какое-то равновесие нарушилось. Они всегда были — а теперь вдруг нет. Я даже думала позвонить или заехать, но как-то это… неудобно, что ли. Кто я вообще такая?
Да нет, мам, я не Лена. Я Маша. Не смотри на меня так, пожалуйста. Как будто ты меня в первый раз видишь. Давай я тебе лучше кипяточка плесну еще. Осторожно! Вот так, держи. Знаешь, у тебя голос не изменился совсем. Столько всего изменилось, а голос остался. Ты вот сейчас попросила чая, и мне на секунду показалось, что все как раньше. Что не было ни развода вашего, ни инсульта. Что мы просто сидим на кухне и пьем чай. И я рассказываю тебе историю.
Меня ведь как раз под Новый год осенило: боже! Я даже не знаю, как того человека зовут. Ну, того онколога, который папу на свадьбе предупредил. И стала звонить, выяснять. Захотелось ему что-то приятное сделать, как-то отблагодарить. Вроде как к Пал Санычу не зашла, так хоть онколога найду! Не знаю, где здесь логика, но так я решила. Достала адрес, собрала за свой счет лучший из наших подарочных наборов, поехала. Стою, значит, звоню в дверь. И так сердце колотится, как будто меня сейчас в прямом эфире по всему миру транслировать будут. Разволновалась, как девчонка. Звоню, звоню, а дверь не открывают. И я еще думаю: вот ведь дура, небось уехал человек на праздники, а я тут приперлась. Уже уходить собралась, как вдруг слышу такой звук глухой, будто в дверь с той стороны ударили. И затихло все. Я кричу: Александр Петрович! Вы дома? Думаю: сейчас соседи выскочат и полицию вызовут. Что я тут ору? И тут понимаю, что с другой стороны тоже орут. Но не как я, а как будто от боли. И еще: ломайте дверь!
Можешь себе представить? Я у квартиры незнакомого человека, и он мне кричит: ломайте дверь! И я опять с идиотской коробкой под мышкой. Звоню в полицию, пытаюсь объяснить ситуацию. А они мне: так это не к нам, звоните 112. А я хотела крикнуть: откуда я вообще знаю, когда к вам, а когда не к вам, заберите меня отсюда кто-нибудь! Как в том анекдоте из интернета: я девочка и хочу платье, а не вот это вот все. Ну, или как там было. Но они уже трубку бросили. Потом приехали какие-то мужики, вскрыли дверь, запустили медиков. А он там лежит в одних трусах в ванной, и нога так странно вывернута. Зубы стиснуты, а в глазах столько боли, что кажется, он вот прямо из последних сил сдерживается. А возле входной двери кусок мыла. Это он, значит, запустил, чтобы я услышала. Уж не знаю, как ему в ванную дверь удалось открыть. Медики его на носилки, и в скорую. Тяжелый перелом таза. А я коробку на пол бросила, и пошла ему вещи с собой собирать. В чужом доме лезла в шкафы, совала белье в какие-то пакеты. А сама думаю: что вообще происходит? Как я сюда попала? А потом смотрю — я уже в скорой с ним еду. У него, оказалось, вся семья до десятого за границу уехала. Представляешь, что было бы, если бы я его не нашла?
А он даже не спросил, кто я. Только в скорой меня за руку держал и поглаживал, как будто это меня нужно было утешать, а не наоборот. Так же как ты меня сразу после инсульта держала, помнишь? Вот так руку вытянула и сжала, а сказать ничего не могла. Ты не знаешь, а я всю ночь тогда в коридоре больничном рыдала. И с онкологом этим осталась, пока его родственники не приехали с чемоданами прямо из аэропорта. Обнимали меня, благодарили. А что я, собственно сделала? Получается, долг просто вернула. И теперь на одну виноватость меньше с собой ношу.
Это я потом только поняла, что все заказы в машине возле его дома оставила. Я ж собиралась дальше по маршруту ехать. Позвонила коллеге, попросила развезти за меня. А потом меня шеф вызывает на ковер. Я все, говорит, понимаю, но сначала отпуск, теперь вот это. Ты, говорит, представляешь, сколько людей без новогодних подарков осталось? А я стою и думаю: надо же, как странно. Человек говорит, что все понимает, а сам не понимает вообще ничего! И так мне удивительно было и странно, что я даже рассмеялась. А он мне говорит: ты вообще понимаешь, что я тебя увольняю? Но я-то в отличие от него понимаю. Правда ведь, мам? Ну ты-то меня знаешь.
Хотя я вот не знаю, чем теперь Лене платить. Но все-таки приятно думать, что ты в жизни сделал хоть что-то хорошее. Хоть где-то успел вовремя. А не как с тобой. Я ведь тебя долго простить не могла, когда ты ушла от папы. Он без тебя не мог совсем. А потом оказалось, что это неважно совсем. Ты лежала в больнице такая беспомощная, какая-то неестественно прямая. А глаза смотрели куда-то мимо. А я стояла со своими извинениями, как с очередной чайной коробкой, и некому было ее вручить. Опоздала я к тебе с ней, понимаешь? Опоздала.
— Так ты чай привезла в коробке? Которая красным скотчем заклеена? Лена такие иногда приносит. И знаешь что? Я их не выбрасываю, потому что они — от Машеньки. Вон, посмотри — стоят. Я тебе давно говорю, что она меня простила, а ты не веришь. Так-то вот.

Чужие дети
Катя опустилась на четвереньки и заглянула под койку — пусто. Под соседней — тоже пусто. «Ребята, вы мальчика не видели?» Кто-то, откашлявшись, хохотнул: «Да мы тут все мальчики!» «Я серьезно, ребенок пропал». «Да вроде только что был, может, в туалет вышел?» — откликнулся парень с перебинтованной головой. «Какой туалет, ему вообще вставать нельзя. Сюда никто не заходил? Нет?» Ей вдруг стало холодно. Он не мог далеко уйти. Надо поднять всех на ноги и найти, найти. Катя отбросила брезентовый полог, выскочила на улицу и невольно пошатнулась, в висках застучало. Чертова бессонница. Она метнулась к соседнему шатру, разбудила хирурга, заснувшего прямо на смотровой кушетке со скомканным халатом вместо подушки под головой.
— Олег Семенович, Олег Семенович, вы Алика не видели? Ну, того, глазастого, с перитонитом, позавчера привезли?
Доктор отбрыкивался, тряс седой, мокрой от пота головой, поминая недобрым словом всех мальчиков, девочек и других «нехристей», мешавших пожилому человеку спокойно поспать после двенадцатичасовой смены и двух ампутаций. Алика он не видел. Как и никто на территории госпиталя. Ни врачи, ни медсестры, ни охранники, ни соседи по палате. Маленький Али, единодушно переименованный в Алика, будто испарился. «Небось, к своим убёг», — пожала плечами медсестра Оксана. О невозмутимости Оксаны ходили легенды: она сбежала на линию боевых действий от мужа — дебошира и алкоголика, и чувствовала себя здесь намного комфортнее, чем в родной Рязани.
— Да как «убёг»? — вскипела Катя. — После такой операции и взрослый не встанет, а ребенок и подавно!
— Так эти арапчата такие живучие! Небось уже дома кебаб трескает. Что вы, Екатерина Петровна, за него прямо как за родного переживаете!
«Коза безмозглая», — выругалась про себя Катя и снова побежала осматривать двор. Она заглянула даже к Шерхану в будку, наскоро сбитую одним их охранников из найденных на соседней свалке кусков оранжевой фанеры. Большой рыже-черный пес, разморенный жарой, приоткрыл один глаз, вяло вильнул хвостом в знак приветствия и снова погрузился в дрему.
Куда же он мог уйти? И как? А если шов разойдется? Ее снова накрыла волна холодного озноба, хлынувшая от пупка к самому горлу. Катя рванула к воротам. Черт, в халате за территорию нельзя. Она сбросила халат и махнула рукой томящемуся на посту старшине — скоро вернусь! Черт-черт-черт, там же в кармане письмо от Нины, она так и не прочитала его вчера — уснула. Ладно, потом подберет. Добежав до развилки, Катя остановилась перевести дыхание. Налево или направо, налево или направо?
Самолет и Алика она увидела одновременно. Мальчик метрах в десяти от нее полулежал на земле, прислонившись спиной к забору. Самолет летел ей навстречу — к ровной гряде блекло-зеленых кипарисов, за которыми расположился госпиталь. Катя невольно попятилась, потом метнулась вперед, бросилась к мальчику и упала на землю, подгребая его под себя. Выгнув спину дугой, она прижала его к забору, прикрыла руками вихрастую голову. Алик жалобно охнул. «Потерпи, милый, потерпи, все будет хорошо, я с тобой, ты только не двигайся». Что-то с шипящим свистом пронеслось мимо ее уха, ухнуло вдали, сотрясая землю. Черный дым заволок небо, сверху посыпались куски оранжевой фанеры. Один из них больно ударил ее в плечо, другой — рассек бедро. Новый удар последовал через несколько секунд. Последним, что она увидела, была пролетевшая над ее головой, будто срубленная чьим-то гигантским топором, верхушка кипариса.
***
Настырный весенний дождик бился в иллюминатор. Хорошая примета — уезжать в дождь, так бабушка всегда говорила. В этот раз не сработало. Не отъезд, а кошмар какой-то. Нина увязалась ее провожать, всю дорогу демонстративно молчала, а в аэропорту будто сорвалась: плакала, кричала, чуть ли не драться лезла. Катя поежилась. На понимание сестры она и в детстве не рассчитывала, а сейчас и подавно. Нина — на полчаса старшая — всегда стремилась ее опекать. Душила своей заботой — необъятной и неподдельно искренней. Сдерживала ее безумные порывы, вернее, пыталась сдержать, поскольку получалось у нее обычно плохо. Катя вспомнила, как поспорила с одноклассниками, что спустится с балкона, как Маугли по лиане. На роль лианы она припасла бельевую веревку, но в нужный момент веревки не оказалось — Нина спрятала и наотрез отказалась отдавать. А толку? Разве ее, Катю, можно было остановить? Она связала несколько простыней и не ударила лицом в грязь. Сколько им тогда было — семь или восемь? Ох, и досталось им обеим потом от мамы! Нине не нравились ее увлечения («фу, какая гадость — лягушек резать!»), ее друзья («все чокнутые, как ты!»), ее работа («всю жизнь учишься, а зарплата как у уборщицы в нашем банке!»), ее муж («самодовольный болван!») и вся ее оголтело-чемоданная кочевая жизнь. Впрочем, насчет мужа Нина оказалась права.
Как сестра ее обозвала? Конченой эгоисткой, безумной кукушкой. Брр. Можно подумать, детей она ей сама подкинула. Нина скалой встала, как только она заикнулась об интернате. Тетя она хорошая, не поспоришь, но от ее упреков спасения нет, как будто все эти заботы ей не в радость. Своих-то у нее нет. И не будет. Хорошо, что хоть детей в аэропорт не потащили. Да, тяжко им, ни отца, ни матери толком. Но что поделать, вырастут — поймут. Катя невольно потерла щиколотку: когда прощались, Костик вцепился ей в ногу так, что чуть штанину не оторвал. Теперь на этом месте синяк — как метку оставил, чтобы не забывала. Он даже не плакал, просто висел на ней, обхватив всеми конечностями, и тихо выл, они вдвоем его еле оторвали.
Катя пристегнула ремень безопасности — самолет вырулил на взлетную полосу. Через несколько часов она уже будет в Бассель аль-Асаде — резать, зашивать, промывать. Все, как обычно. Побыстрее бы оторваться от земли, законопатить ревом мотора уши, заглушить все тянущие ее назад звуки — истерику Нины, рыдания Костика, молчание Поли. Старшая перестала плакать уже давно. Вчера толком и не попрощалась, «пока, мам», вывернулась из объятий и молча ушла. Подросток, что с нее взять, хорошо хоть волосы наконец отрасли. Надо ж такое придумать — налысо постричься, совсем отбилась от рук.
Катя выглянула в иллюминатор и долго смотрела на исчезающую в тяжелом тумане, иссеченную перпендикулярами дорог и лоскутами огородов землю. Через несколько минут самолет неожиданно вырвался из облепившей его серости и врезался в залитое слепящим светом пространство. Ладно, на этот раз она ненадолго, хотя в прошлый раз она тоже обещала «ненадолго», а в результате зависла на Донбассе на пять долгих месяцев.
***
Привет, Катя!
Начну издалека: помнишь моего соседа Валеру из квартиры напротив? Ты как-то заезжала — он люстру в детской вешал. Наверняка не помнишь, ну да ладно. Встретились вчера с ним на почте, я конверты и марки покупала — письма тебе отправлять. Он спросил — зачем? Я сказала, что на твоей авиабазе запрет на электронную переписку и звонки по мобильному. Ох, как же он громко смеялся! У него брат военный, тоже немало по горячим точкам помотался. Все, говорит, у вас можно, только под контролем. Не знаю, зачем ты меня обманула, могу только догадываться. Ну что же — не хочешь голосом, давай буквами. Часто надоедать не буду — самой некогда, просто напоминать, что мы есть. По телевизору говорят, у вас там наступление вовсю идет. Мы же не чужие — волнуемся, любим, ждем. Костик все время про тебя спрашивает. Может, и ты наконец про нас вспомнишь.
Так и вижу, как ты морщишь свой нос. Да-да, ты уже сто раз мне все объясняла, и про миссию твою великую, и про кто, если не ты. Я помню, помню. Просто злюсь (мне ведь тоже иногда можно, да?), видимо, не всю еще злость в аэропорту выплеснула (прости, переборщила). Но уж лучше я до конца все выскажу, ты уж потерпи. Сама виновата. Звонила бы нам почаще — не пришлось бы так много букв читать.
Честно признаюсь: когда ты сказала, что снова уезжаешь, мне очень захотелось тебя убить. Ну или стукнуть чем-нибудь тяжелым по голове. Вообще, со мной такое часто случается последние тридцать лет, у тебя какой-то особый дар — доводить меня до исступления. Помнишь, как ты с балкона по простыням спустилась, а досталось за это почему-то мне? Кошку бродячую домой притащила ты, а уколы от бешенства делали нам обеим. В Витьку Капустина влюбилась я, а на свидание его пригласила ты (я так и не спросила тебя тогда — зачем ты это сделала, он же тебе никогда не нравился?). Детей завела ты, а воспитываю их я. Да-да (не морщи нос!), я сама напросилась, я помню. Карьеру задвинула я, и в Англию не поехала — тоже я, ты об этом меня никогда не просила. Твоя правда. Но, б..ь, Катя, как же это можно — родных детей и в детский дом? Ну да, ну да, в интернат, а в чем разница? В названии? Ты вообще чем думала, когда такое решила? Значит, чужих спасать — это великое дело, а своих бросать — это нормально? Как сейчас маму слышу: «Как же ты, Ниночка, такая разумная девочка, не убедила сестру глупости не делать!» Ха-ха-ха, полчаса разницы и как клеймо на всю жизнь: старшая сестра. С тех пор, сколько себя помню, столько тебя убеждаю — глупости не делать. Только толку от этого — ноль. Слава богу, хоть с интернатом меня послушалась.
Ладно, давай по делу. Вчера Костик опять написал в кровать. Он, глупыш, все спрятал: я мокрое белье в стиральной машине нашла, а он соврал, что яблочный сок на кровать пролил. Я его к урологу водила, анализы сдали, УЗИ сделали — все в норме. Уролог к психотерапевту направил. И что я ему скажу? Катя, что я ему скажу? Что его родители развелись, отец уехал в Америку, а мать по триста дней в году спасает мир? В детском саду тоже жалуются. Все дети играют, а он ни с кем играть не хочет, в углу сидит. Только что заходила Поля — спрашивала, куда делись чипсы и кола. А я их потихоньку выбросила — сил нет смотреть, как она себе желудок гробит. Она же, как и ты, меня не слушается, не гастрит, так гепатит себе заработает: у нее теперь еще одна дырка появилась — на языке. Я ей на карманные расходы деньги даю, а она экономит и пирсинг себе делает. К мольберту так и не притронулась ни разу. А она же такая талантливая, может, тебя послушает? Поговори с ней, пожалуйста. Она хоть и злится, но на самом деле очень тебя любит. Ох, Катя, Катя, кончай ты уже свой бессмертный подвиг и возвращайся домой, к детям. Они мне не чужие, я их как родных люблю. Но им нужна не я, им нужна родная мама, им нужна ты.
Я понимаю, что тебе тяжело, что там, где ты сейчас, опасно и страшно, что думаешь ты сейчас совсем не о том, как отучить Полю пить энергетики и научить Костика есть овощи, а тут еще я со своим кудахтаньем. Но хоть иногда, Катя, хоть изредка спускайся со своих героических небес и вспоминай про детей. И прости меня еще раз за эту истерику в аэропорту. Никакая ты, Катя, конечно, не сволочь, ты, Катька, дура. Гоняешься за какой-то синей птицей, а она вот, у тебя под носом, и не одна, а целых две, в соседней комнате спят.
Меня, Катя, снова в Англию зовут. Тот, кого послали вместо меня, не справился. Я пока не знаю, как быть. Мне месяц на раздумья дали. Если честно — я ужасно хочу. Не бойся, это не шантаж, детей я не брошу, с собой возьму. Им это на пользу будет — новые впечатления, новые друзья, язык выучат, да и условия отличные — это крутая должность, мне квартиру дадут, страховку на всех, и зарплата большая. Надеюсь, ты сама понимаешь, что в Лондоне с родной тетей им будет лучше, чем в Бирюлево в круглосуточном интернате. Ну, или как вариант, сама возвращайся.
Береги себя, сестренка, и позвони мне, наконец, все обсудим. Обнимаю,
Нина
15 июня, 2016 г.
***
Сегодня 3 июля 2016 года. От жары не спрятаться даже ночью — кондиционеры установить еще не успели. Какая обманчивая, тревожная тишина. Ни звука, ни выстрела, даже хамсин наконец утих. Засыпал нас песком по самое горло и утих. Кто-то там, наверху, устал и выключил звук. Только раненые стонут во сне. Мне бы тоже надо поспать, только не получается. Нервы, наверно.
Думать тоже не получается — мысли путаются, бегут в разные стороны, обламываются на бегу. Совсем не могу сосредоточиться. Иногда чувствую, что вот-вот разревусь или того хуже — просто тупо завою. Психолог перед отъездом советовал писать, если совсем хреново. Видимо, самое время. Все спят, а я как дура сижу посреди ночи с ноутбуком и пишу. Хотя писать, конечно, лучше, чем выть.
Позавчера нас, наконец, перевезли. Отодвинули от боевых действий подальше, обещают, что будет спокойней, и все засекречено. Дай то Бог. Я так устала. Письмо от Нины который день в кармане лежит — даже прочитать нету сил. Да и читать особо не хочется — наверняка одни упреки. Хотя в последнее время я часто ее вспоминаю. Недавно во время очередного налета лежала на бетонном полу, обхватив голову руками, было ужасно страшно, и только одна мысль крутилась в голове — что я здесь делаю? Дала себе слово: если выживу — больше никуда, вернусь домой насовсем. Потом, когда все закончилось, стало безумно стыдно. Со мной такого никогда не случалось — я же и раньше под пулями была и не раскисала. И всегда точно знала, «что я здесь делаю», всегда спорила — с Ниной и всеми теми, кто пытался мне рассказать про «нормальную» жизнь, «настоящее» женское счастье, «ненашу» войну и «ненаших» детей. Для них они всегда чужие. Не наши, не свои. Только вот чьи же тогда? Кому они нужны? Тайские, иракские, украинские, сирийские дети, потерявшие родителей, покалеченные войной, прибитые землетрясением, смытые цунами? Это чудовищно несправедливо. Ведь должен быть кто-то, кто будет пришивать им оторванные ступни, выкачивать воду из легких, накладывать гипс, держать за руку, гладить по голове, утешать, когда больно?
Вчера привезли мальчика — Алик, Али, лет шесть или семь, не больше, как Костику, наверно. И такие же глазища огромные — только черные, а у Костика серые — как у меня. Он даже не плакал, только корчился от боли и звал маму. Гнойный перитонит, чудом успели — аппендикс лопнул у меня в руке. Патрульный сказал, что его случайно обнаружили — остановились проверить полуразрушенный снарядом дом, услышали стоны. Среди дюжины трупов нашли мальчишку. Это же чудо какое — дважды мог умереть и дважды выжил. Теперь его отправят в детдом. Кому он там будет нужен? Кто бы ни победил в этой войне — никому.
Этот мальчик ни на секунду не выходит у меня из головы. Как будто я теперь навсегда ответственна за его жизнь. После операции я взяла его за руку, и он пожал мою в ответ. Или мне показалось, не знаю, но с того момента что-то заклинило и болит в груди, порой даже дышать больно. Захотелось схватить его в охапку и бежать, бежать отсюда подальше, от этой жары, войны, крови, домой, к детям, к нормальной жизни.
Черт, я не верю, что все это происходит со мной. Нет-нет, я просто устала. Вымоталась, выбилась из сил. Мне надо выспаться. Просто выспаться. А если нет? Если выспаться не поможет? Что я буду делать дальше? Брошу все и на радость Нине вернусь домой? Она уж точно вздохнет с облегчением. А если наоборот — огорчится? Лишу ее повода меня пилить. И детей придется вернуть. Как она это переживет? Наверняка еще и упираться будет. А может, наконец замуж выйдет или в Англию уедет и снимет груз с моей души за ее несостоявшуюся жизнь.
Что же мне делать? Что делать? Мама всегда говорила: слушай свое сердце. И я слушала. И никогда не жалела о том, что сделала. Значит, и сейчас нужно послушать и сделать то, что оно подсказывает. Кричит, топает ногами, выпрыгивает из груди. Я заберу его отсюда. Вытащу из этого ужаса. Ему понравится в Москве, и я буду хорошей мамой — никакой не кукушкой. Вернусь домой, к детям, и будем жить все вместе, как все, как нормальные. По контракту мне еще месяц. Как-нибудь продержусь. Да и дел будет немало.
Интересно, что скажет Нина? Так и вижу ее сморщенный от возмущения нос! Ну, скажет и скажет. Не в первый раз доказывать ей свою правоту. А дети? Что скажут дети? Дети обрадуются, что мама вернулась. А к новому брату привыкнут со временем. Костик, наверное, ревновать будет, но ничего, вырастет — поймет. Тяжеловато будет с двумя пацанами, но как-нибудь справимся. И Поля поможет, она уже почти взрослая. Да и Нина всегда на подхвате. Как вернемся, соберу корзину еды и поедем в Серебряный бор на пикник. И Нину с собой возьмем, и мольберт с красками — для Поли, и футбольный мяч — для Алика с Костиком.
Завтра позвоню в главштаб генералу Смурнову и попробую разузнать насчет усыновления. Я его племяннику ногу спасла, он мне руки целовал и золотые горы обещал, вот и пришло время меня отблагодарить.
Кажется, я наконец захотела спать. Ах, ну да, письмо…
Рецензия критика Валерии Пустовой:
«Очень интересно выстроился рассказ. По сути, у него не предполагается финала: мы оставляем обеих героинь на перепутье. Я бы предложила еще немного подумать над самыми последними фразами, чтобы усилить это ощущение.
Скажем, мне вот что видится. Катя сейчас, не читая письмо Нины, но увидев и прочувствовав новый поворот судьбы, представляет будущее так, что вот она сделает новый резкий финт, опять крутой, благородный, спасительный для чужого ребенка, а дома все это радостно примут, потому что продолжают ждать ее. Для Кати время дома не идет — она целиком в событиях своей профессиональной жизни. А дома даже если что-то меняется, она этого не замечает, не принимает за нечто важное, необратимое. И между тем время идет, а необратимое готовится: Нина уедет с Катиными детьми, как бы разрывая с домом, с постоянством обслуживания сестры. Да и как посмотрят на усыновленного ребенка — если его получится усыновить — родные дети Кати? Их она бросила, а этого привезла. Вряд ли они отнесутся с пониманием. А Катя не видит этих процессов и подводных камней. Вот как бы, не забегая в будущее, не показывая его, подчеркнуть этот контраст, ускользание будущего от Кати: она больше не владеет будущим, она представляет его, как далекое прошлое, словно дети не растут, а сестра никуда не денется.
Такой рассказ — с открытым финалом — стоит заканчивать на острие. Стоит так выстроить финальные фразы, чтобы непрочитанное письмо от Нины жгло бы читателю глаза, чтобы он досадовал, что письмо не прочитано.
Кое-что из того, что особенно понравилось. Очень здорово сейчас прописаны бумажные письма в рассказе: Катя обманула, а сестра назло пишет. Раскрывается сестра как человек со своими желаниями, биографией, со своей травмой роста: вечно быть тенью над сестрой, ведь мама почему-то ждет, что Нина удержит Катю, то есть мама не воспитывала в Нине границы, и это травма воспитания. Нина выросла гиперопекающей, а Катя — ускользающей от последствий. По-прежнему очень трогают образы детей Кати, достоверные в мелочах — именно хорошо, что Вы не показываете некоего абстрактного горюющего ребенка, а в проявлениях детей выражаете их состояние. За детей правда страшно. Тон письма Нины в нужных местах эмоциональный, живой, с разговорными обращениями к сестре. Очень убедительно.
Интересна борьба Кати с собой — отрицание чувства страха, бездомности, постепенное принятие тоски по дому, но и тут своего рода новое вытеснение — она хватается за мальчика чужого и все эмоции вкладывает в образ усыновления и будущего исправленного счастья на всех. Как будто все должны этот выбор ее принять и разделить ее решение. Хотя — не должны. Но она по-прежнему этого не видит. Я поэтому и говорю, что ее это заблуждение, погружение в сладостные иллюзии стоит подчеркнуть. Она ведь думает, что делает взрослый поступок. Но по сути она усугубляет позицию: она сделает все, что захочет, а другие будут это принимать, она не оставит им выбора.
Это, кстати, один из любимых моих сценариев трагедии, краха героя: есть такой тип героя, которого настигает крах, потому что он слишком поздно начинает понимать, что надо было меняться, корректировать поведение, что жизнь не будет ждать его и стоять на месте. Из примеров ярко запомнился роман Томаса Гарди «Возвращение на родину», там прямо показан рок персонажа, застревающего, упорствующего в изначальной стратегии поведения, так что в итоге наступает момент, когда персонаж бы и рад повернуть себя и судьбу — но у жизни уже нет на это времени и ресурса. В этом рассказе есть только выход на этот сюжет — тем лучше: картина краха тут и не нужна, нужно само заострение ожиданий — на подразумеваемом контрасте с готовящейся для Кати реальностью».
Рецензия писателя Романа Сенчина:
«Крепкий рассказ с необычной композицией. Но может, это и не рассказ, а начало повести? Звездочки в конце текста намекают на это — что будет продолжение. Оно предсказуемо.
Обе героини очень живые, обе вызывают сочувствие. Обстоятельства тоже жизненные, достоверные. Правда, хотелось бы уточнения, где происходит действие. В Сирии? Чей это самолет бомбит госпиталь?»

