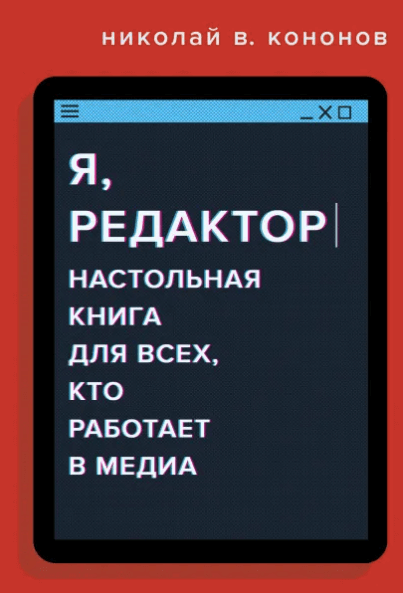Декабрь 2021
Повесть Ирины Мышковой «Мальчики не плачут»
Блин
Дура
К себе
Лёвкина Нино
Люблю как воздух
Матильда
Первая любовь
Ради семьи
В болото
Кот
Лихо
Набросок
Ночной пограничник
Стук копыт на заре
Цвет серый
C’est La Vie
А он и не знал…
Болотник
Враг
Выходи гулять
Давай не сейчас
Долина
Инь-Ян
Истина
Ищу тебя
Каждый новый день Адисы
Карусель
Мешугине
Морок
Обычный день
Просто посидим
Процион сапиенс
Психопат
Раз, два, три
Средь бела дня
Телефонный звонок
Трамвай на Ливерпуль

Книги по писательскому мастерству 2021
Каждый год издательства выпускают новые книги по писательскому мастерству. Представляем подборку новинок 2021 года, на которые стоит обратить внимание всем, кто пишет тексты, сценарии, статьи.
Издательство «МИФ»
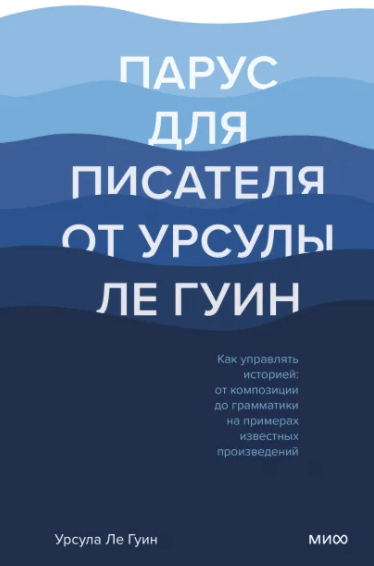
Руководство по основам писательского ремесла от американской писательницы, работавшей преимущественно в жанрах фэнтези и научной фантастики и повлиявшей на таких авторов, как Салман Рушди, Дэвид Митчелл, Нил Гейман и Иэн Бэнкс. Урсула Ле Гуин ушла из жизни три года назад, ее руководство было написано значительно раньше, однако оно полностью переработано для современных писателей.
Каждая глава небольшой и лаконичной книги объединяет примеры из мировой классики с комментариями Ле Гуин и упражнениями, главная цель которых — научить рассказывать историю. Поэтому руководство одинаково будет полезно и писателям, и сценаристам, и драматургам, и тем, кто авторам, кто работает над документальными и нон-фикшн текстами.
Кроме того, книга дает обширные рекомендации по работе в писательских группах как оффлайн, так и онлайн.
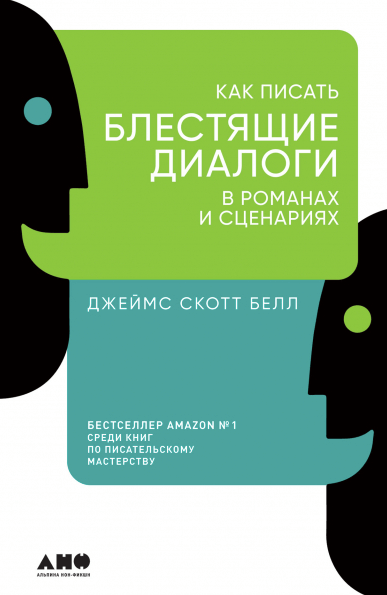
Джеймс Скотт Белл. Как писать блестящие диалоги в романах и сценариях
Издательство «Альпина Паблишер»
О роли диалогов в художественных текстах говорит каждый учебник по писательскому мастерству, но эта книга посвящена исключительно искусству выстраивания прямой речи и общения между персонажами. Ведь именно диалог помогает сделать героев убедительными, а их характеры и действия — достоверными.
Джеймс Скотт Белл знает в этом толк — он не только писатель и автор бестселлеров в жанре триллер, но и преподаватель писательского мастерства, лауреат премии International Thriller Writers Award.
Так, Белл убежден, что взаимоотношения людей можно описать с помощью универсальной формулы «Родитель-Взрослый-Ребенок» — общаясь друг с другом, персонажи, как правило, примеряют на себя одну из этих ролей.
Помимо теории и примеров, автор предлагает серию практических упражнений и приемов, которые помогут доработать любой текст. Причем применять эти правила можно и в сценариях.
Анджела Акерман, Бекка Пульизи. Тезаурус эмоций. Руководство для писателей и сценаристов
Издательство «Альпина Нон-фикшн»
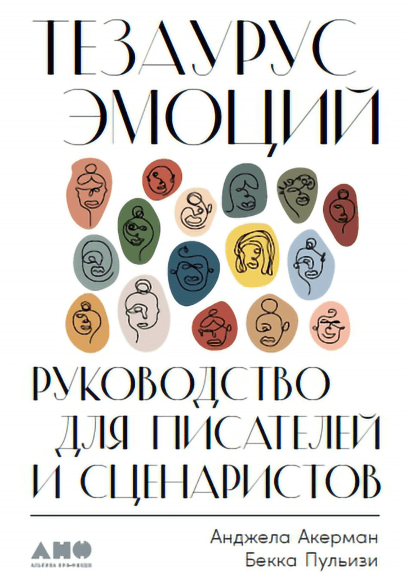
Еще один помощник при создании диалогов и не только. Эта необычная книга представляет собой не просто руководство по сценарному мастерству (которое тоже есть внутри), но настоящую энциклопедию человеческих чувств и их проявлений. Целых 130 подробных статей о наиболее частых эмоциях помогут авторам создать живых, динамично развивающихся персонажей, которым будет сопереживать читатель и зритель.
Книга научит тому, как показать чувства искренне, глубоко и объёмно. Знание и понимание эмоций поможет писать интересные диалоги, придумывать напряженные конфликты и создавать объёмные характеры, научит приёмам психологической прозы.
Авторы рассказывают, как правильно переносить наблюдения за людьми в текст, соблюдать баланс вербального и невербального, включать подтекст. Эта книга поможет и опытным писателям, и тем, кто делает свои первые шаги в прозе или в сценарном деле.
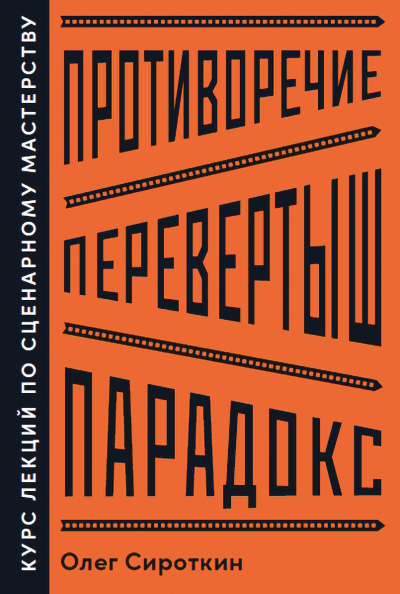
Олег Сироткин. Противоречие. Перевертыш. Парадокс. Курс лекций по сценарному мастерству
Издательство «Альпина Паблишер»
Еще одна книга, посвященная сценариям. Ее автор — сценарист и преподаватель теории драматургии Олег Сироткин — убежден, что именно на трех словах, которые стали названием книги, и держится успех хорошо сделанного сценария. В основе сюжета должен лежать парадокс, противоречие может стать важной чертой характера персонажа, и именно с помощью перевертыша стоит решать сцены.
Тому, как все это воплотить в сценарии, и посвящена книга. В качестве наглядного примера автор берет один из самых культовых фильмов в истории кинематографа ― «Матрицу».
Книга также рассказывает о специфике и психологических особенностях непростой профессии сценариста и анализирует особенности сценариев для кинокартин различных жанров и форматов: от полнометражных фильмов до ультракоротких веб-сериалов.
Людмила Сарычева. Уступите место драме. Как писать интересно даже на скучные темы
Издательство «Бомбора»

Книга ориентирована в первую очередь на копирайтеров и журналистов, которым нередко приходится иметь дело с заказными текстами, порой на не самые увлекательные темы.
Соавтор бестселлера «Пиши, сокращай» Людмила Сарычева предлагает использовать в коммерческом тексте приемы драматургии — именно они помогут захватить внимание читателя на разных уровнях: темой, подачей, заголовком, акцентами, композицией, конфликтом. При этом быть драматургом или сценаристом совсем не обязательно, достаточно следовать простым советам, которые даже при ограниченном времени помогут разработать и структурировать не слишком увлекательную на первый взгляд тему.
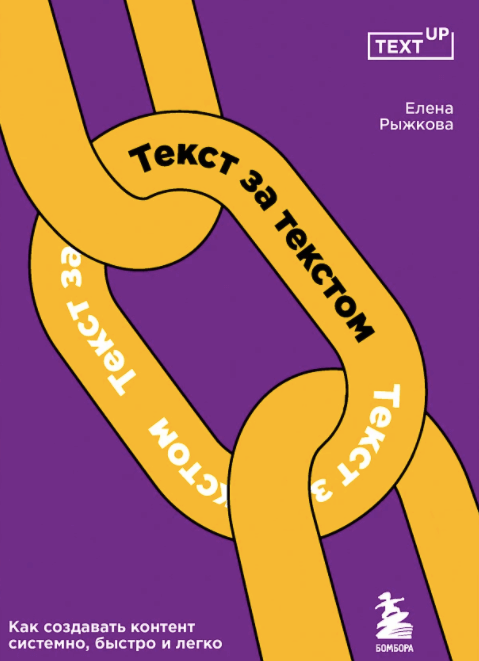
Елена Рыжкова. Текст за текстом. Как создавать контент системно, быстро и легко
Издательство «Бомбора»
Еще одну книгу о коммерческих текстах написала Елена Рыжкова, копирайтер с большим опытом работы, для тех, кто только встает на этот путь или хочет улучшить свою работу.
В основе метода лежит понятие «Текстового блокчейна», авторской технологии создания контента. Технология помогает формировать целые цепочки связанных между собой текстов, которые одинаково хорошо работают в блогах, email-рассылках, инфопродуктах. В итоге автор обещает, что использование технологии приведет к повышению лояльности аудитории и увеличению продаж.
Первый учебник редакторского мастерства для всех, кто хочет работать в современных средствах массовой информации. Как выбрать тему и формат текста, что такое журналистская этика, как готовиться к интервью и делать спецпроекты, что должен знать главред и как не выгореть на этой непростой работе. Всё это, конечно, на примерах из опыта реальных СМИ.
Николай Кононов, журналист и писатель, создал фактически продолжение своей книги «Автор, ножницы, бумага», которая стала популярна среди журналистов и копирайтеров, только теперь это пособие для редакторов современных медиа.

Марсель Пруст: факты и цитаты
26 декабря в 18:00 Екатерина Шульман* вместе с Еленой Баевской побеседуют на тему «Пруст здесь и сейчас».
Собеседники обсудят художественные и социальные открытия Пруста в сегодняшнем культурном контексте, а также поговорят о прозе писателя в русских переводах и о том, зачем нужны новые переводы. Дискуссию ведет писатель, критик, руководитель CWS Майя Кучерская.
Мы собрали самые интересные факты из жизни писателя, а также любопытные цитаты из его произведений.
Семь фактов о жизни и наследии Марселя Пруста
1. Пруст был очень близок со своей матерью
Мать Марселя Пруста, Жанна-Клеманс Вейль, происходила из богатой еврейской семьи из Эльзаса: ее дед был владельцем фарфоровой фабрики под Парижем, а отец — известным в свое время финансистом. Состояние матери позволило Прусту впоследствии вести безбедное существование, однако ее роль в жизни и творческом мире Пруста куда важнее. Марсель с детства был глубоко привязан к матери, привившей ему любовь к чтению и помогавшей ему переводить на французский Джона Рёскина, и тяжело пережил ее смерть в 1905 году, сильно пошатнувшую его и без того слабое здоровье. В первом из своих знаменитых «опросников» на вопрос «Ваша идея о несчастье?» шестнадцатилетний Марсель ответил: «Быть в разлуке с мамой». В романном мире Пруста реальные черты матери были доверены сразу двум персонажам — матери и бабушке рассказчика (например, смерть последней, описанная в третьем томе эпопеи, «У Германтов», воспроизводит катастрофическое переживание смерти матери, не отпускающее Пруста и через пятнадцать лет).
2. Пруст вынужден был скрывать свою гомосексуальность
Несмотря на то, что рассказчик «В поисках утраченного времени» описывает свои романтические чувства исключительно к женским героиням, о гомосексуальности самого Пруста знали многие его друзья и впоследствии писали все биографы. Самым известным возлюбленным Пруста был Альфред Агостинелли, его личный секретарь, стоивший ему не только душевного равновесия, но и целого состояния: зная об увлечении Альфреда полетами, Пруст оплатил ему летные курсы и даже личный самолет. Однако все завершилось трагедией: в 1914 году, незадолго до начала Первой мировой войны, самолет под управлением Агостинелли рухнул в море, и Альфред утонул.
Тем не менее, Пруст никогда не совершал «каминг-аут» и не признавал свою гомосексуальность публично. Широкой публике об этом стало известно только после смерти писателя, когда свою переписку с Прустом опубликовал Андре Жид (в отличие от Пруста, публично защищавший гомосексуальность и как факт личной биографии, и как явление культуры). Впрочем, в 1908 году Пруст писал другу, что в числе прочих работ готовит «эссе о гомосексуальности (которое будет непросто опубликовать)», а уже в первом романе эпопеи, «В направлении Свана», описывается лесбийская связь дочери учителя музыки Вентейля с ее старшей подругой. Некоторые исследователи пробовали даже доказать (безуспешно), что все описываемые в эпопее гетеросексуальные связи рассказчика — на самом деле завуалированные гомосексуальные.
3. Пруст написал не только «В поисках утраченного времени»
Но об этом знают и помнят очень немногие.
«По направлению к Свану», первый роман великой эпопеи, был опубликован в 1913 году, когда Прусту было 42 года. Естественно, в связи с этим литературные порталы очень любят причислять его к когорте «поздних дебютантов» — чтобы подбодрить стареющих новичков. Однако на самом деле Пруст довольно рано начал не только писать, но и публиковаться: за постоянными заметками в колонке салонной хроники последовал сборник рассказов и стихов «Утехи и дни», увидевший свет в 1896 году. Предисловие к нему написал не кто-нибудь, а сам Анатоль Франс, в том же году принятый во Французскую академию (что, впрочем, не помешало сборнику получить весьма холодный прием). Четырнадцать лет, прошедшие между «Утехами и днями» и началом работы над будущей эпопеей, Пруст также продолжал писать, пробуя себя как в малой, так и в большой формах, но по большей части эти тексты, включая роман «Жан Сантёй», остались незавершенными. В печати в эти годы Пруст появлялся либо как переводчик обожаемого им Джона Рёскина, либо как автор пародий на других писателей.
4. Пруст получил Гонкуровскую премию
Сегодня это может показаться невероятным, но Пруст — чье центральное место не только в модернизме, но в литературе XX века вообще навряд ли может служить предметом дискуссий — никогда даже не номинировался на Нобелевскую премию. Впрочем, поскольку ее присуждают только при жизни, ее, вероятно, просто «не успели» присудить: Пруст скоропостижно скончался в 1922 году, успев опубликовать только четыре тома своей эпопеи, тогда как последние три вышли уже после его смерти и даже не были отредактированы самим писателем.
Зато уже за второй роман, «Под сенью девушек в цвету», 10 декабря 1919 года Пруст удостоился самой престижной французской награды — Гонкуровской премии. Что, впрочем, вылилось в настоящий скандал: фаворитом гонки был Ролан Доржелес, молодой писатель-фронтовик Первой мировой войны, который опубликовал патриотический роман «Деревянные кресты», посвященный павшим героям войны. Пруст же к этому времени имел незавидную репутацию стареющего светского декадента, и его «упаднический» и «фривольный» роман вызвал настоящий шквал критики в адрес жюри премии. Тем не менее, историческая справедливость восторжествовала, и хотя бы один из романов будущей эпопеи был принят в официальный канон уже при жизни Пруста. А когда в 1999 году крупнейшие сети книжных магазинов Франции попросили своих покупателей назвать 50 лучших произведений XX века, то «В поисках утраченного времени» заняли там почетное второе место (уступив только «Постороннему» Камю).
5. Пруст писал в звукоизолированной комнате
Как известно, все авторы работали и работают в очень разных условиях: кому-то требуется кафе и социум, кому-то — пятьдесят чашек кофе, кто-то не может работать не в полной изоляции. Пруст относился к последней категории: еще до начала работы над своей бессмертной эпопеей он распорядился обить его спальню пробковым деревом, чтобы в комнату не проникал никакой шум, отвлекающий от работы. Из-за слабого здоровья Пруст большую часть времени проводил в кровати и зачастую писал в своих тетрадях целыми ночами напролет; его затворнический запойный труд отметили многие современники. Вероятно, в иных условиях и не могли родиться тома «В поисках утраченного времени» — пожалуй, величайший опыт интроспекции и реконструкции ушедшего мира.
6. Пруст популяризировал «опросник Марселя Пруста»
На самом деле их даже два. Кроме того, Пруст не создал эти опросники — к этому времени уже очень популярный в Европе жанр, — а прославил их своими ответами. Мода на подобного рода анкеты пришла в Париж из викторианской Англии; впервые Марселю его подсунула его подруга Антуанетта, чей отец через несколько лет станет президентом Французской республики. Первый из «опросников Пруста» включал в себя все обычные вопросы, долженствовавшие запечатлеть вкусы и устремления молодых людей: от «любимого занятия» и «любимого цветка» до «Где Вам хотелось бы жить?». На последний вопрос шестнадцатилетний Марсель ответил любопытным: «В стране идеала, или, точнее, моего идеала». На другой вопрос, «К каким порокам Вы чувствуете наибольшее снисхождение?», будущий классик заявил: «К частной жизни гениев» — как бы задавая моральный императив своим биографам.
Вторая из сохранившихся анкет, заполненных Прустом, датируется приблизительно 1890 годом, когда Марселю было около девятнадцати лет. Здесь на вопрос о наиболее ценимых в мужчине качествах он отвечает провокативным: «Женственное обаяние». На прежний вопрос о пороках — «К тем, которые мне понятны» (подчеркнув последние три слова). Любимый писатель — Анатоль Франс, который через пять лет напишет предисловие к первому сборнику Пруста.
Уже после смерти Пруста эти две анкеты получили мировую известность и стали основой для бесчисленных опросников, предлагаемых знаменитым людям или широкой аудитории (Владимир Познер, к примеру, задает своим гостям несколько вопросов из «опросника Пруста»). Увы, самого Пруста мы знаем через них только в том юном возрасте, когда искомое им затем всю жизнь время еще не было утрачено.
7. Неизвестные произведения Пруста были впервые опубликованы всего два года назад
Чтобы окончательно развеять миф о «Прусте — авторе одной книги», в 2019 году были опубликованы неизвестные доселе литературные опыты Пруста: девять текстов различных жанров и различной степени завершенности. Оказалось, что все это время они хранились у Бернара де Фаллуа (1926–2018), известного парижского издателя и одного из пионеров изучения архивов Пруста, который распорядился опубликовать эти тексты только после его смерти (кроме того, публикация совпала со столетним юбилеем присуждения Прусту Гонкуровской премии).
Эти девять текстов — проба пера молодого автора, и их литературная значимость несопоставима с романами; тем не менее, здесь уже намечаются многие мотивы будущей эпопеи. Что еще важнее, эти тексты, в отличие от известного нам прежде наследия Пруста, открыто обращаются к гомосексуальной теме — в «медицинском», психологическом и метафизическом измерении. Публикация стала настоящей сенсацией и позволяет надеяться, что «факты из жизни и мифа Пруста» еще будут прирастать в будущем.
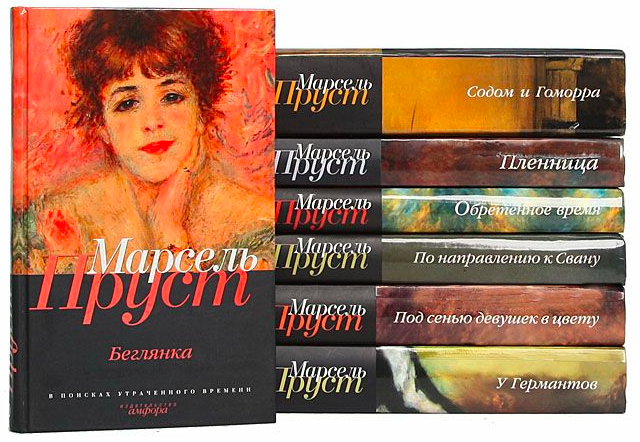
Марсель Пруст о неврозе, русском колорите, подушке памяти и себе самом
Когда шестнадцатилетний Пруст заполнял первый из своих знаменитых «опросников», то на классический вопрос «Ваше любимое изречение?» ответил: «Любимое изречение — то, которое нельзя резюмировать (или пересказать вкратце), поскольку его наиболее простое выражение представляет собой всё, что есть самого лучшего, красивого и великого в природе». Всю дальнейшую жизнь он посвятил созданию одного из самых богатых словарей такого рода «изречений», рассыпанных в его письмах, эссе и романах и затем охотно цитируемых любителями афоризмов и сильных фраз. Парижские светские салоны и напряженные интроспективные упражнения в обитой пробковым деревом комнате — все это сделало Пруста одним из крупнейших мастеров слова, «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Предлагаем подборку прустовского слова самого разного жанра: от бытового флирта до пышных барочных фраз из его великих романов.
1. Уроки эпистолярного флирта от Пруста
Пишу вам все это таким плохим пером, что вынужден свернуть его набекрень. То же и с моими мозгами, так что не удивляйтесь не слишком блестящему результату. Впрочем, удачно выражаться, говоря женщинам, как я их люблю и восхищаюсь ими, я умею, только когда не чувствую ни того, ни другого. Посему, обращаясь к вам, я всегда вынужден мириться с собственной неуклюжестью. Только не подумайте, что все это —- лишь нескромная, напыщенная и неловкая попытка поволочиться за вами.
(из письма Луизе де Морнан, актрисе и частой корреспондентке Пруста, 9 (?) июля 1903 года)
2. Как преодолеть зависть
Каждый раз, как она замечала в других людях хотя бы самое незначительное превосходство над собой, она убеждала себя, что это не положительное качество, а недостаток, и жалела их, чтобы не пришлось им завидовать. «»Мне кажется, что вы не доставите ему удовольствия; по крайней мере, что касается меня, то я отлично знаю,; что мне было бы очень неприятно видеть мою фамилию полностью напечатанной, в газете, и я совсем не была бы польщена, если бы мне сказали об этом»».
(«По направлению к Свану», первый роман эпопеи «В поисках утраченного времени»)
3. Искусство самокритики
… в тот вечер я обедал с ним без посторонних. И впервые — без вас. Последнее не давало
покоя ни мне, ни ему. Случаю было угодно, чтобы я именно тогда наделал массу мелких глупостей, которые вы обычно высмеивали. Все время готовый вот-вот чихнуть, я не оставлял в покое носа и глаз, теребя их тем жестом, который вы так хорошо изображали, а это напомнило мне дни минувшие, тем более что такого со мной уже давненько не случалось.
(из письма Луизе де Морнан от 3 июля 1904 года)
… расстаюсь с вами не без сожалений, ибо еще имею в запасе с тысячу забавных историй…… или грустных (это как на них посмотреть). Причем там самый смешной персонаж, герой самых идиотских приключений — я сам. В последнее время я был достаточно нелеп, и все, что со мной приключилось, пересказал бы вам так, словно это случилось с кем-нибудь другим.
(из письма Женевьеве Штраус, хозяйке одного из известных парижских салонов, от 14 января 1913 года)
4. Искусство оскорбительной метафоры
В наше время Бальзака ставят выше Толстого. Это безумие. Творение Бальзака неприглядно, полно гримас и нелепостей; судит человечество в нем литератор, стремящийся создать великое произведение, тогда как Толстой в этом смысле — невозмутимый бог. Бальзаку удается создать впечатление величественного, у Толстого по сравнению с ним все само собой выглядит грандиозней, как помет слона рядом с пометом козы.
(эссе «Толстой»)
5. О мнимости усталости и пользе невроза
Дело в том, что даже непритворная усталость, особенно у людей нервных, частично зависит от того, поглощено ли усталостью их внимание и помнят ли они про свое утомление. Человек внезапно устает, как только к нему закрадывается боязнь усталости, —– чтобы приободриться, ему достаточно о ней позабыть.
(«Содом и Гоморра», четвертый роман эпопеи)
…без нервной болезни не бывает великих артистов, более того, —- тут он многозначительно поднял палец, —- не бывает и великих ученых. И еще: если у врача нервы всегда были здоровы, то он не может быть хорошим врачом, это исключено, в лучшем случае, из него выйдет посредственный врач по нервным болезням. Невропатолог, который не говорит много глупостей, наполовину вылеченный больной, так же как хороший критик —– это поэт, переставший писать стихи, хороший полицейский —– это вор, переставший воровать.
(«У Германтов», третий роман эпопеи)
6. О целебности шампанского
Выполняйте все, что прикажут врачи, но не принимайте слишком много лекарств. Почти все токсичны, а я вас уверяю: ничего не обессиливает так, как интоксикация. Еще мне кажется, что вам не следует, не будь на это особых предписаний, «накачиваться вишийской водой», как вы изволили выразиться. Конечно, ваши гигиенические оргии смотрелись великолепно. Но, по сути, я не уверен, что шампанское не окажется менее вредным! Впрочем, те, кто вас окружает, скажут вам то же самое.
(из письма Женевьеве Штраус, 22 или 23 марта 1905 года)
7. О женщинах-государствах и мужчинах в форме
Многие люди состоят из нескольких несовместимых слоев — характера отца, характера матери; поначалу мы натыкаемся на один, затем на другой. Но на следующий день порядок их слоения опрокинут. И в конечном счете неясно, который перевесит и определит расположение частей. Жильберта была похожа на государства, с которыми не вступают в союз, потому что там слишком часто меняют правительство.
(«Обретенное время», седьмой роман эпопеи)
Даже женщины, будто бы составляющие суждение о мужчине только по его внешности, видят в этой внешности эманацию особенной жизни. Вот почему они любят военных, пожарных; форма, позволяет им быть менее требовательными в отношении наружности; целуя их, женщины думают, что под кирасою бьется особенное сердце, более предприимчивое и более нежное; и молодой государь или наследный принц для одержания самых лестных побед в чужих странах, по которым он путешествует, не нуждается в правильном профиле, являющемся, пожалуй, необходимым для биржевого маклера.
(«По направлению к Свану»)
8. О русском колорите и том, как жизнь подражает литературе
Описываемые события по времени совпадают с убийством Распутина, — и что в этом убийстве было поразительнее всего, так это необычайно сильная печать русского колорита: оно было совершено за ужином, как в романах Достоевского (впечатление было бы еще сильней, если бы публика узнала некоторые факты, превосходно известные барону), — дело в том, что жизнь не оправдывает наших ожиданий, и в конце концов мы уверяемся, что литература не имеет к ней никакого отношения; мы ошеломлены, когда драгоценные идеи, поведанные нам книгами, без особых на то оснований, не страшась искажений, переносятся в повседневность, что, в частности, в этом ужине, убийстве, русских событиях — воплотилось «что-то русское».
(«Обретенное время»)
9. О подушке воспоминаний и механизмах памяти
Воспоминание о случившемся было для нее как бы жаркой подушкой, которую она без конца переворачивала.
(«Утехи и дни»)
Лучшее, что хранится в тайниках нашей памяти, — вне нас; оно — в порыве ветра с дождем, в нежилом запахе комнаты или в запахе первой вспышки огня в очаге, — всюду, где мы вновь обнаруживаем ту частицу нас самих, которой наше сознание не пользовалось и оттого пренебрегало, остаток прошлого, самый лучший, тот, что обладает способностью, когда мы уже как будто бы выплакались, все-таки довести нас до слез.
(«Под сенью девушек в цвету», второй роман эпопеи)
10. О поэте-развратнике и поэте-шпионе
Подолгу поджидают свои жертвы и шпион, и развратник, подолгу простаивают, наблюдая, как строят новое или ломают старое, степенные люди. Поэта же может остановить любой предмет или зрелище, не заслуживающие внимания солидных людей, и окружающие задаются вопросом: кто это — маньяк или шпион и (чем дольше он стоит) что он там в самом деле видит. А он стоит себе перед каким-нибудь деревом, пытаясь отрешиться от городского шума и вновь испытать ощущение, уже изведанное раз, когда это дерево, одиноко растущее посреди общественного сада, возникло перед ним все в белых цветах, словно наряженное оттепелью, усыпавшей бесчисленными белыми комочками концы ветвей. Он смотрит на дерево, но притягивает его нечто иное: ему никак не удается уловить прежнее ощущение, а когда вдруг оно появляется — углубить и развить его.
(эссе «Поэзия, или Неисповедимые законы»)
*признана иноагентом на территории РФ

Травма и космополитичность: главные книги 2021
2021 год был богат на новинки. Части литературных «премьер» перенеслась с кризисного 2020-го, часть была запланирована именно на этот год и выпущена в срок. Но помимо громких имен и названий, о которых не говорил только ленивый, было множество небольших проектов. Герои нашего материала — писатели, переводчики и литературные критики — предпочли говорить именно о них.
Галина Юзефович, литературный критик
Я хотела бы сфокусироваться в первую очередь на русских книгах, тем более, что для русской литературы уходящий год был удачным. Появилось много вещей, на которые стоит обратить внимание. Но если говорить о книгах, которые возглавляют мой персональный книжный рейтинг, то я назову пять из них.
Роман Дмитрия Быкова* «Истребитель». Мне кажется, что Быков написал свой лучший роман. «Истребитель» — это вершина прозаического творчества Дмитрия Львовича, волнующая и трогательная история о влюбленности во время, в котором автор и читатель, по большому счету, не видят ничего хорошего. Это иррациональная любовь, не вполне очевидная для самого автора и, тем не менее, очень горячая и искренняя. Мне кажется, что за этим текстом стоит огромная писательская и исследовательская работа. Это очень интересно реконструированное и переосмысленное время советских героев: полярников, летчиков-испытателей. О 30-х годах XX века в Советском Союзе мы знаем много всего плохого. Дмитрий Львович, не отрицая это зло, находит в эпохе волшебную завораживающую красоту. Привлекательную, в том числе, в силу своей обреченности. Все герои истребителя обречены на гибель.
Вторая главная книга для меня — роман Татьяны Замировской «Смерти.net». Это книга, представляющая нам интересное новое лицо русской литературы. Татьяна Замировская — писательница из Беларуси, пишущая на русском и живущая в Нью-Йорке. Благодаря всему этому русская литература в ее исполнении приобретает какую-то высокую космополитичность. С одной стороны, ее творчество лежит в русле отечественной литературной традиции, с другой — ее тексты прекрасно включены и в русский, и в международный контекст, а значит, могли бы появиться на любом другом языке. И, конечно, размышления о цифровом бессмертии, о жизни после жизни, где смерть становится вещью не вполне определимой — это интересная рефлексия на тему о том, как после физической смерти продолжается цифровая жизнь человека, тему, которая сегодня волнует практически всех. Ну и, кроме всего прочего, это прекрасная поэтичная проза, которая, благодаря своему музыкальному звучанию, сегодня стоит особняком во всей русской словесности.
Отдельно я бы хотела отметить замечательный роман Веры Богдановой «Павел Чжан и прочие речные твари», который вышел в самом начале этого года — интереснейший кроссовер, лежащий на стыке антиутопии и романа-травмы, посвященного переживанию личной трагедии и теме того, что происходит в тот момент, когда судьба мира пересекается с судьбой глубоко травмированного, глубоко раненого человека. Это совершенно блестящий дебют Веры Богдановой в большой прозе, до этого она писала только жанровую литературу.
Еще бы я хотела отметить роман Карины Шаинян, который называется «С ключом на шее» и вышел в конце лета 2021. Это роман, который представляет собой ремейк или, по крайней мере, отсылку к роману Стивена Кинга «Оно»: та же самая история о троих проблемных подростках, вызывающих к жизни таинственное зло. Спустя годы, когда дети уже выросли, это зло вновь возвращается в мир. Понятно, что Стивена Кинга перелицовывали тысячами разных способов, это автор, располагающий к ремейкам, но Карина Шаинян делает из его сюжета нечто совершенно другое. Во-первых, она погружает эту историю в реалии позднесоветского детства. Сегодня это время часто идеализируется, а Шаинян показывает его во всей болезненной неоднозначности. Кроме того, это потрясающий опыт погружения в русскую локальность, чего русской литературе, вообще-то, очень не хватает. У нас все происходит либо в Москве, либо в Петербурге, либо в Урюпинске. Действие значительной части книги Шаинян происходит в городе Аха на Сахалине, и это место становится одновременно благословенной землей детства, проклятой землей и реальным, ощутимым городом. Ну и наконец та история умирающего и воскресающего зла, которое просачивается через трещину в детском сердце, у Шаинян получает новую трактовку.
Пятая книга, на которой мне бы хотелось закончить свой краткий предновогодний обзор — это роман Оксаны Васякиной «Рана». Мы привыкли называть романом любое длинное художественное недокументальное произведение. А Оксана Васякина очень интересно работает с формой и делает нетрадиционный, непривычный роман. Это история переживания утраты: главная героиня хоронит мать и везет урну с ее прахом на родину. Эта утрата становится и для героини, и для автора поводом переосмыслить свою собственную жизнь и понять саму себя. Мне кажется, это очень интересный эксперимент на стыке автобиографического письма, поколенческой прозы и поэзии. Оксана Васякина в первую очередь поэт, и этот поэтизм просачивается и в ее прозаический текст.
Марина Степнова, писательница, сценаристка
Я буду называть тексты, которые еще не избалованы вниманием критики. И все книги, которые я назову — это работы выпускников CWS. Мне, конечно, страшно радостно, что это так.
Первой книге уже больше года — это «Скоропостижка» Ольги Фатеевой, нон-фикшн со сложившейся судьбой, обласканный читателями. Оля — судмедэксперт и пишет удивительным ясным тоном о жизни тела после смерти человека. Она рассказала об этом с таким достоинством, что при чтении, даже если ужасаешься, ты все равно понимаешь, что остаешься в зоне человеческого света и тепла. Я с огромным удовольствием читала эту книгу, она очень мне помогла, и уже перечитала с таким же огромным удовольствием.
Буквально месяц или полтора назад вышел первый роман Тимура Валитова «Угловая комната». Это классический европейский текст с двумя стилистически разными линиями внутри книги, прекрасно сделанный и очень взрослый, несмотря на молодость автора. Думаю, что Тимура ждет успешная писательская судьба. У него для этого все есть.
Книга Михаила Турбина с рабочим названием «Выше ноги от земли». Роман еще не опубликован, мы даже не знаем издателя, но права на экранизацию уже выкуплены. Прекрасный, динамичный, психологический роман с элементами триллера и детектива. Оторваться невозможно. Книга страшная, но если бы не необходимость отрываться на домашние дела, я бы прочитала ее за день, а так прочла за два дня с перерывами на реальную жизнь. В Мишин талант и его писательскую судьбу я тоже очень верю и верю, что эта книга станет событием.
Лилия Волкова, у которой в этом году вышло три книги: две детских повести и один взрослый роман, который называется «Изнанка». Повести совершенно чудесные. С первой из них она получила первое место на «Книгуру». Обе повести связаны прекрасным героем, и я жду, когда дочь подрастет, чтобы можно было с ней это почитать. А «Изнанка» это просто очень хороший человеческий психологический роман. Прекрасно написанный, мудрый, ясный, интересный, грустный. Горячо рекомендую.

Валерия Пустовая, литературный критик
Этот год начался для меня с романа Ксении Букши «Адвент», который вышел на рубеже 2020-го и 2021-го. Роман утверждает парадоксальную рождественскую радость. Героям все время плохо, они катятся в бездну безумия и разобщенности, причем эта разобщенность вырастает из всего лучшего, что у них есть: из их любви, увлечений и родительства. Очень тронул образ ребенка, который удерживает родителей от падения в бездну. Именно ребенок показан единственным здравомыслящим человеком, но не потому что «глаголет истину», а потому, что сильнее всех цепляется за понятную, дневную сторону жизни.
Хотела бы отметить книгу Дмитрия Данилова «Человек из Подольска» — сборник пьес, триумфально идущих по сценам России и мира. Сборник был создан стремительно, новичком в драматургии, и стал литературным событием, цельной книгой для чтения. В этих текстах можно встретиться лицом к лицу с субъектом литературы Дмитрия Данилова — с человеком, которого гнетет повседневный абсурд, — и бесконечно удивляться тому, как писатель вопиющую нелепость претворяет в тихую радость жизни.
Хочу отметить два текста с сильной темой матери: роман «Рана» Оксаны Васякиной и роман «Кожа» Евгении Некрасовой, который скоро выйдет в печатном варианте. Я его слушала как аудиороман на Bookmate. Две героини Некрасовой — американская рабыня и русская крепостная — меняются судьбами, но каждая из них приносит в другую, новую жизнь сложившийся навык поступка, и автор показывает, как глубокая связь с матерью или разрыв этой связи повлияли на выбор этих уже взрослых женщин.
В этом году вышла книга, о которой я давно мечтала: «Колодцы» Василия Ширяева, критика с Камчатки. Автор известен тем, что переизобрел жанр критики критики и создал жанр «критики критики критики». Ширяев заставляет нас встретиться с нашими страхами о литературе: страхом ее нечитабельности, нелепости или непостижимости. Все эти страхи он карнавально реализует в своих текстах, и это действует освобождающе.
Хотела бы отметить важную поэтическую книгу — «Приключения мамы» Виталия Пуханова. Это стихи взрослого ребенка, который наконец стал жить осознанно и не то чтобы этим счастлив. Вообще эта книга о том, что чаемая осознанность — труд и бремя, но какое-то очень правильное бремя, которое важно и ценно донести до самого конца.
Нельзя пройти мимо книг двух авторов, известных в журнальном мире, но впервые изданных для широкого читателя. Это сборник Ирины Москвиной «Демонология нашего района» — лирические и смешные городские сказки. И книга Марты Антоничевой «1003-й свободный человек» — мрачная фантастика, замешанная на лихом абсурде и трудной повседневности обывателя.
Ну и конечно стоит сказать о книге Татьяны Замировской «Смерти.net». Это, на мой вкус, довольно холодный, логичный роман, который поначалу вызвал у меня эстетическое сопротивление. Но я дочитала и в итоге была благодарна автору, потому что это еще один роман о том, что никто не виноват, что наша судьба — это сознательный выбор и что готовность судьбу и выбор признать делает нас свободными. Роман своеобразно перекликается для меня с поэзией Пуханова: в обеих книгах единственный путь к себе и счастью — это не убежать от бремени, а осознанно его нести.
Егор Апполонов, журналист, редактор
Ричард Осман «Клуб убийств по четвергам» — книга-событие, ставшая самым продаваемым романом со времен «Гарри Поттера» Джоан Роулинг. В основе — история дома престарелых, расположенного среди мирных сельских пейзажей. Четверо пожилых друзей встречаются еженедельно (естественно, по четвергам), чтобы обсудить нераскрытые преступления. Ричард Осман, сделавший ставку на детективный жанр (читая книгу, ты ждешь раскрытия интриги, и история держит до последних страниц), в действительности говорит о людях и затрагивает вопросы, которые интересуют каждого из нас. Как ощущается старость? Можно ли вести полноценную жизнь, когда тебе перевалило за семьдесят (спойлер — можно, если ты примиряешься с неизбежным и не впадаешь в депрессию от того, что не в силах изменить)? Что такое настоящая дружба? На что человек способен ради достижения корыстных целей? И наконец, главный вопрос — что такое любовь и на какие поступки она толкает людей? «Клуб убийств по четвергам» — это милая и одновременно очень серьезная книга, которую стоит прочесть каждому, кто хочет разобраться в себе.
«Искатель» Таны Френч — это удивительная история ирландской глубинки. И снова перед нами — неспешная сельская жизнь (идиллия, которой так не хватает тем, кто живет в мегаполисе). И снова убийство. Немолодой полицейский погружается в раскрытие тайн, которые скрываются за фасадом идиллической жизни в деревне. На остров Келвин Хупер приезжает в мечтах о живописных пейзажах. Но — как это часто бывает в хорошем романе — ожидания не совпадают с реальностью. Эта история — о пропавшем ребенке. Читая роман, начинаешь понимать, как жесток окружающий мир. Главным героем наряду с обычными людьми выступает и сама Ирландия. И знакомство с ней — то, чего нам так не хватает в эпоху закрытых границ.
Роман Криса Уитакера «Мы начинаем в конце» вошел в «Топ-20 книг» читательского рейтинга Amazon, а это что-то да значит. Управляющая идея книги (которая держит до последних страниц) — «как убежать от прошлого, если жизнь — замкнутый круг». Винсент Кинг стал убийцей тринадцать лет назад. Отсидев срок за содеянное, герой возвращается в свой родной городок (в Калифорнию, штат вечного солнца). И, конечно, многие жители не рады видеть убийцу. Ярость, которая читается в этом романе, помогает понять, что мы все — это последствия наших решений.

Макс Немцов, переводчик
Штука в том, что я мало читаю просто так, но из того, что не по работе, вершина года в прозе для меня переизданный «Мальчик» Олега Стрижака и три последние книжки Алексея Шеремета, вышедшие в этом году: «Алмандер», «Нино и Джем» и совсем новая «Повесть о принце Яки».
В поэзии — «Один человек и другие возможности» Шаши Мартыновой, «Однотомник» Аркадия Штыпеля и «Никто из вас ничего никогда не скажет» Анны Синяткиной.
А если говорить о работе, то главными стали «Вот оно, счастье» Найлла Уильямза, которого Шаши переводила, а я редактировал, и «Сигареты» Хэрри Мэтьюза — обе книжки не новые, но одна только что вышла на русском, а вторая выйдет к весне. Ну а самое потрясающее — это роман «У Плыли-две-птицы» Фланна О’Брайена, который тоже переводила Шаши. Это совсем классика, но во всех смыслах роман подобен бомбе.
Шаши Мартынова, переводчик
У меня получился выдающийся год на предмет поэзии: я читала почти исключительно стихи. Поэтому если говорить о свежеизданном по-русски, я бы отметила «Последнюю ночь на Земле» — прижизненный сборник Чарльза Буковски. Поскольку Макс Немцов эту книгу переводил, а я редактировала, мне удалось познакомиться и с оригинальными, и с переведенными стихами из сборника, и это, конечно, прекрасное переживание и очередной контакт с Буковски, с его поэтикой и мировосприятием.
Хотелось бы специально отметить сборник Веры Полозковой «Работа горя». Наблюдать за Вериным поэтическим трудом бесконечно интересно, боязно и завораживающе. Этот сборник — настоящий подарок нам всем. После предыдущего сборника прошло немало времени, и «Работа горя», мне кажется, очень выстраданное и какое-то сверхважное высказывание. Это и крик «наружу», и шаманское нашептывание, то есть поэтический жест, каким он должен быть, на мой взгляд.
В этом году появился звонкий и очень камерный сборник «Неблагодарность» московского поэта Сергея Штерна. Это не первый Сережин сборник, я очень люблю его тексты — при том, что не разделяю его мировосприятие. Но его поэтическая струна и специфический слух мне очень близки и интересны.
Книга, которой еще нет, но скоро, есть надежда, выйдет — это поэтический сборник Луизы Глик, который я перевела для «Эксмо», в связи с ним читала другие ее тексты, в том числе в переводах Дмитрия Кузьмина, и это, конечно, тоже прекрасная штука.
Роман «Вот оно, счастье» для меня стал открытием Найлла Уильямза, негромкого ирландского автора с барочным причудливым стилем. Мне кажется, стиль этот прекрасно-избыточен, и в этом есть и своя романтика, и свое очарование. Это роман про графство Керри, где автор живет сейчас, про музыкальные традиции этого места и несусветно затянувшуюся электрификацию Ирландии в 50-е годы. Попутно это еще и роман взросления. «Вот оно, счастье» — пространство идеальной альтернативной эстетической реальности. Очень уютная, сложная, профессионально сделанная и красивая проза при вполне простом структурном устройстве. Думаю, для тех, кто работает со словом, такие тексты читать необходимо, потому что они невероятно обогащают и раскрепощают речь, позволяя нам хотя бы иногда говорить сложно и витиевато, не стремясь к упрощению и телеграфности.
*Признан иноагентом на территории РФ

Повесть Ирины Мышковой «Мальчики не плачут»
Сегодня в рубрике «Доска почета» мы говорим о детской и подростковой литературе. У выпускницы Creative Writing School Ирины Мышковой вышла дебютная книга «Мальчики не плачут», которая вошла в шорт-лист литературного конкурса «Книгуру». Эта история про мальчика, который решает уйти из дома. Почему это происходит и к чему приводит, и рассказывает повесть, которая удивительно точно описывает внутренний мир подростка. О книге, вдохновении и о том, как помогает автору дисциплина, мы поговорили с Ириной Мышковой. А также предлагаем прочитать фрагмент повести.
Почему детская литература? Чем она вас привлекает?
Я бы разграничила «детскую» и «подростковую» литературу. Моя повесть относится скорее ко второй. И, в общем, она ничем не отличается от «взрослой» литературы, возможно, только написана немного прозрачнее и героями делает людей от двенадцати и старше, а так никакой разницы. Я не могу сказать, что эта литература привлекает меня как-то особенно. Просто у меня сложилась история о мальчике раннего переходного возраста, и я написала о нем.
Расскажите про свою книгу — о чем она, кто ее герои?
Моя книга — о самой обычной семье N из провинциального города N. В ней много скрытого, непрожитого, неотрефлексированного: травмы, обиды и недолюбленность, тянущиеся через несколько поколений, достигают своего пика и сходятся в главном герое, мальчике Леше, который этого всего уже не выдерживает и уходит из дома.

В чем вы находите вдохновение?
В этой книге много автобиографического, хоть и утрированного и «докрученного» для остроты и наглядности. Да и в остальных книгах (одна — в издательстве на редакторской правке, еще одна пишется, еще одна в задумке) песчинка прожитого мной самой обрастает вымыслом и фантазией. Надеюсь, в итоге получается жемчужинка.
Ваша дебютная повесть вошла в шорт-лист «Книгуру», самой авторитетной, пожалуй, детской премии. Что это для вас? Если бы этого не случилось, вы стали бы предлагать рукопись в издательства, продолжали бы писать?
Да, конечно, я писала бы и отсылала бы в издательства все равно. Да и в конкурсах участвовала бы, во всех возможных. То есть, стучала бы во все двери, а иначе в новые комнаты не войти. Но шорт «Книгуру» был для меня и огромной удачей, и радостью, и неожиданностью.
Как бы вы описали своего читателя?
Уже сейчас по отзывам могу сказать, что это подростки от 9 до 15 и их мамы, которые читают книги, прежде чем дать их своим детям. И в результате сами становятся читателями.
Сейчас у вас готовится к изданию уже вторая книга, о чем она?
Вторая книга, как метко написал ее иллюстратор, о трех поколениях женщин, связанных узлами взаимозависимых болезненных отношений, которые по ходу книги эти узлы постепенно развязывают и распутывают, чтобы сделать шаг друг другу навстречу. А еще о путешествиях.
Про литературу для взрослых не думали? Может быть, есть идеи или уже что-то в работе?
Да, я уже говорила, что, в общем, не разделяю литературу по возрастам, пишу и по ходу написания понимаю, кто адресат. Как раз сажусь за мистическую повесть для взрослых. Посмотрим, что получится.
Что вам дает писательство? Почему вы пишете?
Я пишу не регулярно, не «запоем», пишу, когда в голове складывается история, которую очень хочется рассказать и выписать из себя, а то она не даст спокойно жить и спать. В общем, я очень хорошо понимаю состояние «просится на бумагу» и «не могу не писать». Но это, повторюсь, не постоянное состояние, а преходящее.
Традиционный вопрос: ваш совет тем, кто только начинает, кто пишет свою первую книгу, а может быть, вообще только мечтает о ней.
Только один совет: дисциплина. И дисциплина потраченного времени, дисциплина вложенных сил, и дисциплина текста: понимание его механизмов. То есть, знать, по каким законам живет текст, и научиться этому, если законы эти пока незнакомы. И распланировать фактическую работу, чтобы она была регулярной и привела к результату.
Мальчики не плачут. Отрывок
Я живу в Подмышке.
Это район такой, на окраине города. Знаю, знаю, дурацкое название. Но ведь не я его придумал. И жить тут, уж конечно, тоже не я решил. Где родился, там и живу. Хотя вот спроси меня: в каком районе хотел бы жить? Да фиг знает. Ни в каком. Ну или в Подмышке, привык уже.
Город у нас небольшой, районов всего пять: Калининский, Ленинский, Октябрьский, Нагорный и Текстильной Промышленности. Я не во всех был. Только в Нагорном у тёть Оли, в Ленинском в больнице, когда руку ломал, ну и в Калининском, понятно. Там горпарк, площадь, театр. Центр, короче. А живу я на самом краю города. За Подмышкой ничего больше нет: свалка и всё. И лес. Поэтому что ли, у района название такое? Нормальные-то под конец закончились.
Никто, конечно, не говорит, мол, «я живу в Текстильной Промышленности». С самого начала (дед рассказывал) сокращали до «Промышки», ну а «Промышка» потом превратилась в «Подмышку». Всё сходится: темно, воняет вечно, грязно. Грязней, чем в других районах. В общем, никак по-другому Подмышка не может называться. Только так.
В Подмышке я живу всю жизнь. Даже родился здесь же, в семнадцатом роддоме, через две улицы от нас. Мама, наверное, и скорую не вызывала, когда роды начались — ногами добежала. Это пять минут, если бегом. От нашего дома мимо Надькиного через двор. Потом мимо заколоченного киоска с еле читаемой надписью «Союзпечать», мимо нового киоска со стеклянными стенами «Овощи и фрукты», потом через дорогу, мимо бетонного забора из квадратов, похожего на серую гигантскую шоколадку, мимо зелёной ограды детского садика (мой бывший садик!), потом ещё раз через дорогу и всё. Пришли. Налево за сквером — роддом, а направо за чёрной мелкой решёткой — моя школа.
Дальше школы меня не отпускают, но мы с Надькой один раз сбегали с физры, так что знаю я, что там, за школой и роддомом.
Ничего!
То есть завод. Тот самый, текстильной промышленности. А если по-правильному, то «Завод текстильных материалов». Правда, он не работает сто лет, стоит заброшенный. Окна выбиты, во дворе кучи земли, всё перекопано. Забор, конечно, есть, но в этом заборе столько дыр, что как будто и нет его.
У нас полшколы на завод бегает. Кто курить, кто прогуливать, кто просто шататься и гайки необычные со станков откручивать. Там станки остались. Огромные, зеленоватые, похожие на рисунки к какой-нибудь компьютерной игре, в которой надо по опустевшему городу бегать и в зомби стрелять. Не знаю, есть такая игра или нет. Должна быть. Пацаны часто на перемене игры обсуждают и вроде что-то про зомби тоже рассказывали. Я не особо слушаю, потому что в комп не играю — бабка не даёт. А все из класса играют. Поэтому что ли на завод бегать любят? Особенно летом, когда не надо из школы сбегать. Сбегать — это же один напряг: охранника отвлечь, чтобы он у турникета не сидел, учителю что-то впарить, а то родителям звонить начнёт, ну и так далее. Обычно после уроков идут. У нас классная, Зоя Михална, не любит родителям звонить и всегда верит, когда ей кто-нибудь лапшу вешает, что мама в курсе. А вот охранник обязательно прицепится, типа: «Куда идёшь, уроки ещё не закончились». Наши его отвлекают или просят девчонок с поста увести. Например, девчонки зайдут в гардероб и визжат, он туда бежит. Они ему: «Мы крысу видели». Ну, он пока на них ругается да крысу ищет, пацанов и след простыл. Уже на заводе.
Я на завод не хожу. Мне кажется, мама или бабка как-нибудь догадаются, что я там был. Например, меня эта пыль зелёная припорошит или краска измажет. Или прислонюсь к чему-нибудь случайно и на мне прямо отпечатается: «Завод текстильных материалов, цех №6». Тогда всё, конец. Убьют дома. Бабку инфаркт хватит, а меня убьют. Мне так дома говорят постоянно. Неохота проверять, правда или пугают.
Короче, не лезу я на завод. Да и с кем я туда полезу-то? У меня друзей совсем нет. Одна Надька. Вот мы с ней один раз с физры и сбежали весной. Все в волейбол играли во дворе, а мы на рюкзаках сидели. Нас никто в команду всё равно не берёт. Ну а Михал Валерьич, физрук наш, свинтил куда-то. Мы переглянулись и тоже свинтили. Но быстро вернулись, как раз к концу урока. Вообще, если с Надькой куда и убегать, то очень незаметно. И даже не из-за учителей, а из-за остальных всех. Заметят — будут год ещё издеваться, к стенке прижимать и неприличное всякое орать в коридоре. Так что мы как шпионы. По очереди сбегали и в разные стороны. В классе до сих пор никто не знает, что мы с Надькой друзья. Ни она не говорит, ни я. А дружим летом.
У нас почти вся школа на каникулы в лагерь уезжает. Он сразу за городом, от Подмышки полчаса на машине всего. И школьный директор вроде друг того директора, из лагеря. Каждое лето автобус прямо от школы целые классы вывозит. А мы с Надькой ни разу не ездили. Надька говорит, её родители боятся какого-то «тлетворного влияния». Я, если честно, не знаю, что это. Болезнь какая-то? Типа ветрянки? Ясное дело, если там вся школа собирается, один заразился — и все заразились. Правильно тогда, что не пускают, если у Надьки от этого «тлетворного» прививки нет.
У меня, кстати, тоже нет прививки, но меня не поэтому не пускают. А потому, что музыкалка. И шахматы. И изостудия ещё. Никогда не получается, чтобы везде одновременно были каникулы. В общем, не езжу я в лагерь.
Кстати, все эти мои допы — опять в Подмышке. Прямо за школой, во Дворце творчества.
Ну как во дворце. На дворец, конечно, он мало похож. Почему он так называется? Может, он раньше настоящим дворцом был, а потом с него все украшения сняли, краску отколупали и вазы на колоннах побили? Может, он дворцом был, когда завод ещё работал? А потом они вместе развалились? Завод совсем, а Дворец — так, немножко? Дворец вообще медленно разваливается. Я помню, когда на лепку мелким ходил, вазы на колоннах ещё целые стояли. И садик перед ним зеленел. Бабка всё говорила: «Посмотри, посмотри, какой розарий». Не знаю, что это. Никакого розария не видел. Но вот, значит, и непонятный розарий там был. А теперь ничего нет. Даже травы. Земля по бокам от дорожки — как пюре с комками в школьной столовке, и мусора полно.
Я во Дворец на что только ни ходил. И на лепку, и на кукольный театр, и на хор. Меня мама, наверное, как из роддома вынесла, в тот же день во все эти кружки записала. Или ещё до рождения, чтобы время не терять.
Только почему-то она ни одного интересного не выбрала. А выбрала дурацкие, девчоночьи, или просто скучные. Там же робототехника идёт и программирование! Но мне не разрешают на программирование. Типа, и так перед компом всё время сижу. Бабка ещё говорит, что вообще это всё мне не надо — компьютер, роботы. А надо книжки читать. И в музыкалку ходить.
Ну, бабка ладно, что с неё возьмёшь? Ей же сто лет. Она, кажется, при царе ещё жила, какие тут роботы! Но маме же не сто? Маме меньше. Почему она тогда не понимает? Я слышал, мама тёть Оле по телефону говорила, что хочет робот-пылесос. Чтобы он везде ездил и сам всё убирал, а она бы чай пила. Я подошёл потом, говорю: «Мам, давай ты меня на робототехнику запишешь, а я тебе пылесос сделаю. Он и пол помоет, и окна, и посуду! Ты чай пей, а робот потом за тобой чашку вымоет и в шкаф поставит. Я запрограммирую его».
Мама рассмеялась и сказала, что во Дворце такому не научат. А если и научат, то у меня столько в голове не поместится. А если поместится, всё равно сделать не смогу. Потому что у меня руки не оттуда растут.
Обидно было очень. Почему не оттуда? Оттуда же, откуда у всех. Из плеч. Я же вижу.
В общем, не прокатило с робототехникой.
Мне, правда, кажется, что всё это из-за бабки. Если бы бабка разрешила, то и мама не стала бы возражать. Мама — дочка бабки, так? А родителей надо слушаться, потому что они лучше знают и добра хотят. Вот и получается, что я слушаюсь маму, а мама — свою маму. То есть все слушаются бабку. А ей же сто лет, я говорил. Ну и вот. Выходит, живём мы сейчас, а бабка хочет, чтоб как сто лет назад. И ничего ей про сегодня не объяснишь.
Да и как она поймёт, если сто лет назад, наверное, и пылесосы ещё не изобрели. И Подмышку нашу не построили. А стояла на этом месте пещера какая-нибудь с пещерными людьми. И среди них — моя бабка. Она же всю жизнь тут, со времён динозавров. И маму в том же роддоме рожала, что и мама меня.
Я иногда думаю: как это я родился? Представляю типа кино в голове. Какая погода, во что люди на улице одеты, что папа на завтрак ест. И как мама бежит в роддом и кричит. Вроде кричат же, когда детей рожают, да? Ну вот бежит она и кричит. В трениках и майке. В чем дома ходит, в том и побежала. И папа тогда тоже побежал. В гараж. Когда мама кричать начинает, он всегда туда убегает.
Интересно мне про собственное рождение очень! Это же уже я был, а не помню ничего.
Мама никогда про такое не рассказывает, а я не спрашиваю. Мне жутко любопытно, но она обязательно так ответит, что я виноватым окажусь. Например, что начал рождаться не когда она дома сидела (всегда радовалась, что близко живём и скорую не надо вызывать), а когда у тёть Оли в Нагорном гостила. То есть на другом конце города. И пришлось всё равно скорую вызывать и сто тысяч километров по ямам трястись. Нет бы, когда дома. Это я не знаю, придумываю просто. Но очень на маму похоже. Папу, ясное дело, не спросишь. Не он же рожал. Он, мне кажется, вообще не знает, как дети рождаются. А бабка точно в крик ударится и про инфаркт свой вспомнит.
Я один раз «Мстителей» по телеку смотрел и на рекламе стал во все кнопки на пульте по очереди тыкать. Чтобы про стиральный порошок не слушать. И, короче, на одном канале сериал про врачей показывали. Там тётка собиралась ребенка рожать, и к ней врачи по коридору бежали. Ну, бабка у меня пульт выхватила, закричала громче, чем та тетка. Ясно, про то, что я её до инфаркта доведу, и про то, что запретить надо срамоту в телевизоре показывать, а потом на меня напала, как всегда. Мол, я бестолочь и извращенец малолетний. Даже «Мстителей» не дала досмотреть, хотя там и не рожал никто. Мама ещё вечером за ужином принялась ругаться: мальчикам про роды нельзя знать, то да сё, опять про извращения какие-то. В общем, не знаю я, как родился. Оказывается, нельзя мальчикам про такое знать.

Блин
Т-а-а-к, а я шарф с утра не взял. Противно как задувает — аж подбородок сводит. Такси, может? Сколько ехать? Ну понятно: такая каша на дороге — все стоит. А до метро пешком минут двадцать. Тоже мне, переехали, сэкономили.
Ну, видел же в прогнозе снег с дождем — ну чего не оделся нормально? Как же мерзко — когда ноги сырые. И самое поганое — темнота эта: как будто день уже закончился и ничего не будет больше. Блин, ну почему в Сочи нет работы на мою зарплату.
Какой же гондон Михайлов: не задержи он меня на час, я бы успел до снега! Хотя чего он-то, это я: не можешь отказать, вот и прись теперь по этому говнищу. Блин, ну как же несет-то навстречу — ничего не видно.
Ну давай-давай, тебе же обязательно вперед надо, ну проходи. Ну конечно — именно передо мной должен оказаться дебил, у которого карта не срабатывает. Одна радость — не час пик.
Ах ты ж зараза — разрядился… и газету у бабки на входе не взял. О, вроде была книга в рюкзаке… «Оргуправленческое мышление»…
«Управленец работает не с объектами, а с предметными структурами. В этих структурах могут быть схвачены, как сачком, либо искусственные, механические объекты, либо естественные». Не, на фиг, — мне Михайлова хватило: «Ты не целеустремленная система, те не думать не надо — выполнять только». Мудак. Когда его уже повысят, барана напыщенного. Откуда у него время-то есть так одеваться, бороду брить, стричься?
Реально бесит: «Конечно, Иван Иваныч, мы все к пятнице подготовим». Вмазать бы тебе.
Ну почему нельзя пройти и не задеть! Да сниму я рюкзак, иди уже. Что ж такое-то!
Так, чего там Люба просила… Сыр, молоко, авокадо. Взять, что ли? Вон, маленькую. Чисто морось выгнать. Хотя… сейчас начнется: «Свое слово не держишь, сказал же, что в будни не пьешь». Блин, ну как так-то? Это же я сам себе правило ввел. Ну, тогда надо было. А теперь как бы оправдываюсь. Перед кем? За что? Я же чувствую, что собрался. Да ну не — нет сил сейчас на это ее лицо. Уже закончился бы этот день реально.
Ой нет, Леш, вот тебя я сейчас видеть не хочу — можно я уже просто дойду до дома.
Ну, пройди ты мимо. Чему ты лыбишься, придурок?!
Чего?
Консьержка в подъезд?
Кто решил?
Это сколько с квартиры?
Ну а какие варианты, давай.
Пока.
Ага, передам, и ты тоже.
Смотри-ка, опять лифт залили чем-то: реально консьержка нужна. Интересно, а зеркала они в лифте вешают — это типа книжек начитались: «Решайте правильную проблему — не медленный лифт, а раздражение жильцов от того, что им нечем заняться» — всего четырнадцать этажей-то, кретины.
Т-а-а-к, нормальный такой шум. Опять сосед морду воротить будет. Ну и хер с ним. Сам пыльным мешком трахнутый, и другие такие же должны быть. Это же ребенок, что ему делать-то.
Ух ты, картошечкой жареной пахнет. Как будто знала, что я хочу на ужин! Реально мысли читает. Солнышко.
Ну, беги сюда.
Папочка приехал.
Папочка лучший, конечно. Ух, сейчас спина отвалится.
А вот не принес!
Что?
Ну а если правда?
Ну ладно, в каком кармане?
А вот и нет!
Фантики только не разбрасывай.
А мамочка где?
Тепло-о-о-о. Хорошо. Пахнет вкусно.
Шарлотка еще?! Бли-и-и-н. Поперло.
Что значит «сколько можно»?! Да ты уже не сможешь без этого! Вот прикинь, я приду однажды и не шлепну — тебе же самой будет не хватать.
Это тебе кажется.
Дура твоя Катя: может, ее Леха так шлепает, что ей и унизительно. У нее жопа просто толстая.
Сонька днем спала?
Н-е-е-е-т?!
Это во сколько она уснет?
У-у-м, это кто-то сегодня пораньше освободится…
Можно и киношку… с массажиком даже.
Ну конечно, только массаж, что же еще. А свеча ароматизированная осталась?
Обожаю на тебе этот комбез — очень удобный.
Что?!
Да перчатки нужно новые купить — эти не греют ни фига.
Да л-а-а-дно, вино? Мы же не пьем на буднях.
Не, ну только ради тебя.
Очень вкусно, спасибо! Прикинь, выезжал когда — прямо хотел картошки.
Ну, семь лет вместе — скоро можно будет вообще ничего не говорить.
Да нормально вроде все.
Ну так, подустал, да.
Да Михайлов задержал.
Ну хрен знает: если все это получится — хорошо, конечно, будет. Реально прорыв.
Будет на что к морю сгонять.
Он-то? Ну так… Ну, не тупой — соображает. Бесит, конечно, местами, но дело знает.
Ну давай, за вечер! Люблю тебя.

Дура
— Галилео, Галилео! — заорал будильник.
Настя разлепила глаза. В окне скучно висели ноябрьские облака и что-то бесцветное сыпалось на стекло. Настя сбросила жаркое одеяло, и влажная кожа сразу же покрылась мурашками. В комнате за ночь стало ужасно душно от батареи, а единственный источник воздуха, балконную дверь, подпирала чёрно-серая дворняжка Кира. Она похрапывала, а Настя подумала «вот дура!», имея в виду, что зря взяла эту нервную собаку из приюта, поддавшись приливу сострадания. Кира рвала Настины кроссовки, жевала книги, виновато тащила на свою подстилку лифчики и носки и мгновенно превращала их в тряпки. От неё несло псиной и тухлятиной, которую она умудрялась добывать даже сквозь намордник. Она всегда линяла. Прожив по подворотням два года, Кира боялась громких звуков, транспорта, курьеров с большими коробками. Настя-то представляла прогулки по парку с добродушной собачкой, игры в мячик, а дома они бы вместе смотрели кино на диване. Однако на улице Настя наматывала поводок покрепче на руку, чтобы Кира не унеслась в испуге вдаль от очередного электросамоката. Сейчас Настя пойдет с ней гулять, а потом Кира снова не даст вытереть лапы и оставит на полу грязные следы, поэтому придется мыть пол.
Настя понимала, что жизнь у Киры была непростой, но раздражение подкатывало и выплескивалось в бессильных риторических вопросах «кто сожрал тухлятину? кто сожрал лифчик? кто опять грыз стул?». Настя знала, кто, а толку. Кира же, догадываясь, что ее за что-то ругают, прижимала уши и вздыхала, полагая, что выглядит убедительно раскаявшейся. Вечером, когда Настя устраивалась на диване глянуть серию-другую Нетфликса, Кира робко садилась рядом на полу и разрешала поглаживать голову.
Перед выходом из дома Настя убрала в шкаф обувь, дверь подперла креслом и, строго запретив Кире свинячить, отправилась в офис. Настроение было уже ничего так.
Вечером к Насте приедет Артём. Это значит вино, смех и секс. Секса у Насти не было год, с последней встречи с Артемом. Тогда они немного повстречались, а потом почему-то перестали. Настя расстроилась, потому что с Артемом было неплохо. Остроумный пижон и высокомерный умник, он умел рассмешить Настю, выглядел «как денди лондонский», водил красивую машину и следил за мускулатурой. Настя слегка побаивалась, что не соответствует — у нее короткие ноги, пять лишних кило на животе, кругловатое лицо и тридцать семь все-таки лет. И все в ее жизни как-то просто, немодно: одежда, чтобы и носить мягко, и выкинуть не жалко, обычная машина, чтобы ездить, квартира вся в Икее и макароны на ужин. Сейчас, после его звонка, Настя чувствовала радость и немного гордость. Она все-таки умная, а это особая ценность.
Настя подумала про Киру. Артем ее еще не видел. Может, он решит, что это уже чересчур? Она могла бы завести чихуа, корги, терьера — любую породистую милашку. Но у неё нелепая дворняга, которая уделает шерстью одежду и сожрет Артему ботинки. Настя даже подумала, не отменить ли встречу. Но не отменила.
Артем приехал с бутылкой вина и коробкой шоколадных трюфелей без сахара. Кира спряталась за тумбу. И Настя, и собака выглядели слегка виновато.
— А что… Хорошая псина. — Артем смотрел на Киру насмешливо, но дружелюбно. — Если уж и брать, так из приюта. Ты гуманист!
— Я думала, ты удивишься, что она беспородная.
— Все собаки были беспородными. Представь, что несколько миллионов лет назад из леса к человеку вышел йоркширский терьер!
Настя засмеялась и поставила ботинки Артема в шкаф.
Трюфели к вину не очень подходили. Настя постеснялась предлагать вчерашние макароны, добыла из холодильника небольшой кусок пармезана, но он так засох, что вино выпили без закуски. Артем шутил, Настя пьянела, смеялась и даже подумала, что у неё с Артемом будет, наверное, роман.
В постели она сказала, что соскучилась. Артём ответил, что уж он-то соскучился гораздо сильнее, и Настя покрепче прижалась к нему. В тишине долгих поцелуев на кухне что-то зашуршало.
— Это что? — шепнула Настя.
— Неважно. — Артём положил ее на спину и продолжил целовать.
Настя попробовала расслабиться, но шорох повторился. Она подняла голову.
— Блин. Это Кира. Вот зараза. Прости, я ее выгоню в ванную.
— Да это трюфели раздевают друг друга. Страстно срывают обертки!
Настя хрюкнула от смеха, но встала.
— Кирка! Брысь оттуда, фу!
Кира спрыгнула, оттолкнув с грохотом стул, и в панике пронеслась мимо полуголой Насти, скуля и икая. На столе лежала пустая коробка из-под трюфелей, обертки конфет были разбросаны по полу. Артем выглянул из дверей комнаты и засмеялся.
— Трюфельная оргия, я говорил!
Настя улыбнулась. Что за дура эта собака!
— Как думаешь, это не опасно?
— Если ты волнуешься за ее фигуру, то трюфели без сахара! Чистый шоколад на фруктозе. Пойдем!
Настя пошла в комнату, но в голове звенело «чистый шоколад… шоколад…»
— Слушай, я погуглю быстро? Все-таки десять конфет… Господи!!!
Она уже набрала «шоколад собаки» и уже увидела первый результат «для отравления собаки… небольшое количество». Артём смотрел, как побледневшая Настя нервно строчит «что делать собака шоколад».
Артём слегка скривился:
— Я, наверное, поеду.
Артём ушел в комнату, а Настя уже волокла скулящую Киру на кухню. Она уселась сверху и, разжав пасть, начала лить воду из чайника прямо в горло ошалевшей от ужаса собаки. Кира решила, что ее топят, напрягла лапы и, выворачиваясь, поползла назад, мотая головой. Настя, схватив левой рукой уже мокрую шею, правой пыталась попасть собаке в пасть, но попадала в нос, глаза, плескала на пол. У Насти тряслись руки, Кира вся тряслась мелкой дрожью. И Кира, и Настя вымокли, но обе не сдавались.
— Давай! Пей! Дура, пей! Попробуй сдохни! Убью! Дура! Пей!
Одетый Артем вышел в коридор.
— А где мои ботинки?
— В шкафу! Блюй! Блюй, тварина!
— Я пошел.
— Да давай же! Блевать!
Артем услышал какой-то булькающий звук и начал быстро завязывать ботинки. Кира задергалась, втянула бока и извергла жирную шоколадную массу прямо Насте на руки. Пол превратился в большое скользкое шоколадное озеро, в котором мокрая Настя держала ослабевшую мокрую собаку и шептала:
— Вот молодец, вот молодец, дура ты, дура моя, люблю тебя, идиотина…
Где-то очень далеко хлопнула дверь. Кира икнула и лизнула Насте щеку.

К себе
Бегунок молнии послушно последовал за рукой. На вешалке красная рубашка, хитрая, улыбчивая, скалится. Надел. Пуговки-бусинки теряются в руках, прячутся. Дайте время, научусь. Черные туфли выглядывают из коридора, щетинятся, злятся. Смотрит издалека, боится.
Втиснул ноги в «лодочки». Посмотрел. Незаконченность. Повязал платок. Закрыл глаза, женщина в отражении так же смотрела и улыбалась тыквенными губами. Она шагнула вперед, перейдя границу зеркала. Он почувствовал ее руки, влажные и холодные. Сердце быстро забилось, воздух исчез.
— Нет, не то все равно. Крупные бусы, точно. — Она простучала по деревянному паркету.
— Лодочки — прелесть, гондолы, Венеция — надо бы туда вернуться.
Еще раз глянула в зеркало, оттуда на нее смотрело привлекательное лицо стареющей дамы. Аккуратные стрелки, румяна — кровавые пятна, черные ресницы, морщины, спрятанные в коричневый крем.
— Красота этот тыквенный цвет. — Улыбнулась. — Мы так много упустили, я так много упустила. Сидели с тобой в этом теле и ждали. А теперь уже ничего поделать нельзя.
Тыква переспелая, треснутая, внутренности — лохмотья, семена черные, неплодородные, разбросаны. Плесень сверху, зеленая, грустная. Улыбка упала с лица, воровато оглянулась, убежала.
Она взяла маленькую серобурмалиновую сумочку. Руки-ковши, сумочка с цепочкой — попробуй подцепи, поймай. Все бежит от него, не хочет в плен.
— Прелесть-сумочка, какая хорошенькая.
Луиджи было шестьдесят пять, возраст-стук, удар, побег, скоро шестьдесят шесть, еще удар. Время-скачки, Луиджи любил лошадей.
Шестьдесят пять лет, что за это время? Он старался не думать, если думал, было черно. Не думаешь, живешь, как всегда, привыкаешь, светлеет. Два диплома, три работы, один развод, двое детей, трое внуков, один попугай, машины, кажется, семь, точно не вспомнил, страны — много, пандемия одна.
И тут старость, споткнулся, сидел с ней попутчиком в аэропорту, удивился, вот так встреча. Рядом молодые, лет двадцать, на полу, джинсы с дырками, в кокаколе, наверное, джин, смеются, рюкзаки большие, зубы белые, и это не он. Как так? Был он, а сейчас не он.
Посмотрел. Вдруг все-таки. Нет. Весь полет пил, джин с колой, мерзость какая. Может, мир открыт. Всю ночь блевал. Нет, больше не открыт. Закрылся. Пил аспирин, лежал, накрывал голову подушкой, хотел плакать.
Шестьдесят пять лет в теле мужчины, он зарабатывал как мужчина, он спал с женщинами, он ходил на футбол, он делал ремонт, он путешествовал, ужинал с друзьями.
Он был счастлив в своей обычной жизни. Нет, вру, что-то жало, не по размеру, мешало.
Он заглядывал в зеркало, проверял образ и костюм. Даже стал читать бирки на одежде, может, вырос, потолстел, похудел.
Проснулся — пандемия. Проснулся — вирус, чума, страшная болезнь. Смотрит за окно, а там небо внизу, улица наверху, мир потерял ориентир.
— Вон оно как. Тюрьма маааленькая, личная, удобства, специально для меня. Йога, медитации, цигун. Бесполезные артефакты той прошлой счастливой жизни. Счастливой?
Убираться, да, уборка хорошо. Он достал вещи, еще от Анны, пора отправить, расстались полгода как. И вот уже он в тоненькой сорочке. Руки-дубины, не гнутся, ткань тонкая.
Оставил вещи, развесил. Померил все. Косметика, макияж. Какая пандемия? Не знаю ничего про пандемию. У меня пайетки, стразы, камни в кольцах — булыжники светятся, жизнь тут у меня.
С детства шкурка такая тоненькая, а прошита — миллион стежков, завязана — миллион морских узлов, приклеена — миллион суперклеев, а тут сошла, как с обгоревшего, сама.
Депрессия то приходила на завтрак, обед и ужин, черным ляпала везде, а то уезжала в отпуск. Психолог. Да, он поможет. Тринадцать лет. Последняя Анна, увидев его в своей одежде, сама отвела. Она его любила, но себя любила больше. Итальянская женщина. Русские пока только в начале пути. Стараются, а все равно в горящую избу на коне, с малышом, с мужем и все что хочешь. Въелось. Тереть не оттереть. Смотреть на качели депрессии близкого человека Анна не хотела.
— Луиджи, реши уже, наконец, что-то, а то так и будешь стоять в моем платье, которое тебе не по размеру и оттого плохо сидит. Купи свое и не морочь людям голову.
— А сережки, кстати, хорошо подобрал, но они тоже мои. Заведи свое золотишко.
Пандемия закончилась, прервалась, временно. Люди одичавшие, больше злые, иногда добрые, все поломанные, глаза безумные, выползают. Она тоже вышла. Он вышел. Он вышел, а макияж оставил. Дать время привыкнуть, не пугать. Соседи, консьерж, булочник, официант в баре, смотрят, приглядываются, молчат, не спрашивают. Боли и страха столько, нет дела до других.
Лучшее время новой жизни. Выходи, Луиза, выходи, не бойся.
Стрелки жирные делай, ты же итальянка, что за тонкие линии-нити.
— Ты что, теперь женщина?
Но стерлось это, нет никому дела, у всех кто-то умер или сошёл с ума. У него тоже и умер, и сошел с ума. Осталась Луиза одна-одинешенька. Не будет плакать, ногти красные, стрелки черные, юбка короткая, она еще успеет.
Луиза теперь всегда Луиза.
Процокала к окну, небо сверху, деревья снизу. Луиза на месте.

Лёвкина Нино
Лёвка родился в послевоенном Тбилиси. Лётная часть, в которой служил отец, была расположена вблизи этого пёстрого города радости. У русых саратовцев появился смуглый, кареглазый бутуз. Люди в шутку поговаривали, что мать крутила шашни с красивым грузином. В него Лёвка и уродился.
Когда в полтора года мальчишка откусил сочную мякоть огненного перца и даже не пискнул, к сплетням стал прислушиваться даже отец.
Вскоре в семье родился ещё один сын. Он был полной противоположностью Лёвика. Бледный, с соломой жёлтых волос и тихой синевой глаз. Родители назвали младшего мальчишку — Васей.
Чем старше становились браться, тем очевиднее была их непохожесть.
Старший рос шумным, быстрым и открытым. Младший — тихим, хитроватым. Их скорее можно было принять за случайных знакомых, чем за родных.
Старший радостно поглощал обжигающий суп харчо, хинкали, пропитанные базиликом, кислую глубину ткемали.
Монументальная тётя Нино любила Лёвкин аппетит. Соседка часто, потирая руки о ситцевый фартук, кричала Льву в форточку двора: «Важишвили, иди за стол!»
Мальчишка, бросая шумную улицу, радостно вбегал в двери её радушной квартиры.
Уютной ладонью гладила Нино жёсткие Лёвкины кудри, приговаривая: «Геамот, сынок!»
Важишвили тёти Нино погиб на войне, так же, как и муж. Поэтому всю свою материнскую нежность она дарила Лёвке. Иногда он просто приходил к соседке, чтобы ощутить себя кому-то нужным.
Мальчик обожал Нино, её смешную, пропитанную колоритом речь, кухню, заполненную банками со специями, мудрые и понимающие глаза. Однажды Лёвка, смачно разжевывая хачапури по-аджарски сказал тёте:
— Вот бы ты была моей настоящей мамкой. Жили бы мы душа в душу.
— Лев, ты и так моя душа.
— Вот все говорят, что я грузин наполовину, особенно потому, что острое люблю и «Сулико» пою лучше местных. Может, правда, тётя Нино?
— Русский, грузин, какая разница. Главное, чтоб человеком хорошим рос. Ты ешь, милый, не разговаривай, а то подавишься, не приведи Всевышний!
Лёвка кивнул, а упругие кудри запрыгали в такт.
Его родная мать всецело была поглощена младшим, Васюткой.
Пропадающий на аэродроме отец не вникал в особенности воспитания сыновей. Старшего он вообще старался не замечать. Лишь изредка, выпив терпкой чачи, бросал жене: «Может, в роддоме напутали?»
Во дворе Лёвку звали «сыном грузинского народа» или просто грузинчиком.
Скорее, из уважения, а не для обиды. Мальчишка отстоял своё право быть заводилой в отчаянных драках с местной шпаной. Чтобы скрыть их следы, Нино отстирывала и зашивала мальчишкины вещи, прикладывая мази, пахнущие мятой и кориандром.
Простая русская картошка с укропом и подсолнечным маслом, оладьи с мёдом и молочный суп нравились только Ваське.
Старший же с наслаждением уплетал обожжённый горлом грузинской печи хлеб. Нино готовила для сорванца с тёплой заботой. Молниеносно он поглощал начинённые грецким орехом баклажаны. Горячая краюха пури купалась в шафрановом огне сацебели.
Но больше всего Лёвка любил чурчхелу. Плотные ядра фундука и инжира, спрятанные в густую пену виноградного сока, были его слабостью. Этот кисло-сладкий вкус впитался в его память навсегда. Даже спустя много лет он иногда снился Льву.
Когда эскадрилью отца отправляли на север СССР, Лёвка рыдал. Он даже хотел сбежать из дому, чтобы остаться с тётей Нино, но мальчишки во дворе сказали, что их вместе за это могут выслать из Грузии как «преступных элементов». Такого для своей Нино он допустить не мог, потому передумал.
Он крепко обнимал соседку на вокзале, не отпуская с перрона. Глядя на это, родители ежились, избегая взглядов проводника и соседей по вагону.
— Лёва, ну, будет уже. Неудобно как, отпускай Нино.
— Ничего, Лариса, ничего. Я ухожу уже.
Лёвка, вытирая ладонями круглые слёзы, шептал тёте:
— Я вернусь к тебе, верну-у-усь!
Соседка перекрестила его и прижала к сердцу:
— Не плачь, важишвили, даст Всевышний, свидимся!
Поезд на Дальний Восток вез их неделю. Лёвка почти не слазил с верхней полки. Он знал, что в глубине рюкзака лежит завёрнутый в газету «Правда» свёрток тёти Нино. Пастила, чурчхела, козий сыр и ветка кинзы пахли тёплыми руками соседки.
Рельсы сбегали из Грузии, но Лёвка знал, что когда-нибудь обязательно возвратится к вкусу этой большой любви.

Люблю как воздух
«Я люблю тебя как воздух. Потому что без воздуха жить нельзя. И без тебя тоже нельзя. Ни дня, ни часа, ни минуты. Воздух дарует жизнь. Как и ты… ты — моя жизнь…»
Парень в маршрутке громко говорил по телефону, и всё вокруг стихло: ребёнок перестал скрипеть пальцем по стеклу — прислушался. Две подружки-школьницы в ярких шапках на полуслове прервали обсуждение учителя по географии. Бабушка перестала звенеть монетами, которые набирала на проезд. Я завистливо вздохнула — везёт же какой-то дурочке.
У меня зазвонил телефон, я поднесла его к уху.
— Ну что тебе, позвонить сложно? Где ты пропадаешь? Ира!
В тишине салона слова моего благоверного раздавались отчётливо, мне стало стыдно перед окружающими.
— Скоро буду. Подъезжаю, — буркнула я и повесила трубку.
Парень свысока на меня посмотрел, мол, как ты терпишь такое? И правда, как?
— Как прошёл день у тебя, моё солнышко? — продолжал он в телефон. — Устала, моя хорошая? Бедная моя. Маленькая. — Женщина средних лет обернулась и злобно на него посмотрела, бабушка с монетками промокнула глаза. — Ой, нет, милая, — ворковал дальше Ромео, — я никак не смогу встретить тебя сегодня, совсем без сил, да… не обижайся, ладно? Я буду ждать тебя дома, голодный и холодный. Ты же накормишь меня, когда придёшь, не дашь мне умереть? И в магазин зайдёшь? Ты моя волшебница. Люблю тебя. Целую в шейку. И в щёчку. И в носик…
Женщина средних лет громко фыркнула, одна из школьниц издала басовитое «м-да», а ребёнок мстительно заскрипел по стеклу с утроенной силой.
Маршрутка притормозила на остановке, я рывком открыла дверь и сразу увидела своего ворчливого мужа. На локте у него висел пакет с продуктами, а в руках была вязаная шапка, которую я утром второпях забыла.
Увидев меня, он улыбнулся. Я тоже улыбнулась и спрыгнула на землю.
— Скажи, Вань, а ты любишь меня как воздух? — спросила я.
— Чего? — Муж ошарашено на меня посмотрел.
— Да так, ничего. — Я засмеялась, надела шапку и взяла его под руку.

Матильда
От Матильды во мне осталось одно только эхо. И поcледние дни оно будит меня по ночам.
Не знаю, к чему это. Все вроде неплохо складывается. Мы с женой в процессе семейной терапии преодолели охлаждение, дети проскочили пубертат, на работе все ровно, да я уже и слишком стар для кризиса среднего возраста, но по утрам в первые секунды после пробуждения почему-то явственно ощущаю щекой гладкость тех простыней у нее дома, на которые мы сваливались, придя из школы, а потом на них же решали задачи по математике… Решал, конечно, я, а Матильда смотрела на меня — смотрела, как на инопланетное существо, которому доступны и небинарные системы счисления, а не только тепло ее постели, и водила тупым концом карандаша вдоль моих голых позвонков. Мотя была дурочкой, все в классе, да и в школе, и в городке нашем это знали. Мы встречались с ней всю старшую школу. Спали, пили, ели, разговаривали, то есть, я разговаривал, а она слушала. Были семьей, Мотя была частью меня — самой недалекой и странной частью, которой во мне не стало после того, как мы расстались. И которая хочет от меня чего-то сейчас.
Запах простыней… Ее мама стирала их каким-то порошком, который рекламировали тогда по телевизору – таким духнявым, baby style и назойливым, но когда простыни намокали от наших стараний, пропитывались потом, смешанным с ее такими же детскими духами и моим семенем, все становилось другим — терпким, легким, родным. Моя мама никогда не покупала такой порошок, у нас все было по-другому — мы читали книги, остро спорили за ужином о политике, чай по воскресеньям пили из нарядного фарфорового сервиза. Мотя никогда не бывала у нас в гостях. Но я, умный мальчик из интеллигентной семьи, почти вундеркинд по меркам нашего городка, считал своим домом ее гнездо, свитое из влажных простыней, пропахшим дешевым порошком из тупого телеэкрана.
Обычно уроки заканчивались у нас в разное время, и я делал длинный крюк до ее дома, поджидая Матильду у подъезда их блочного дома и строя в голове планы захвата мира: свой спектакль, собственный театр, красные дорожки… Матильда была на год старше меня, но два года просидела в каком-то классе и теперь училась со мной в параллели, мы встречались с девятого. Я был во всех смыслах ранним: все, что в последних классах школы расцветет буйным цветом и потом поведет по жизни, — гитара, режиссура, тексты — все это проклюнулось сразу и очевидно, еще в раннем детстве, родители поддерживали меня во всем, и это осознание своего дара и его возможностей в юности давало мне форы на несколько лет — я всегда был взрослее и умнее окружающих. А Мотя — наоборот. Но когда она наконец приходила домой и мы делали себе бутерброды на кухне, бросив ранцы в коридоре и стоя в одних трусах, а потом, до возвращения ее родителей со смены (они были грубые и скучные люди, впрочем, любили Мотю, как могли, и не докучали), занимались любовью и математикой и прочими скучными предметами в ее комнате, а к вечеру просто утыкались друг в друга и смотрели какой-нибудь дурацкий сериал по телеку, мне казалось, что она совсем вровень мне, в рост, скроена по мне, по моей мерке. Когда у нее были месячные, я просто клал голову ей на голый живот и гладил ее по бокам. Когда ей становилось легче, врал что-то вдохновенное, от чего тогда лопался мой мозг — Станиславский, Лотман, журнал «Искусство кино»… Мотя преданно слушала, как слушает любимого хозяина пес. Лотман был так же далек от нее, как и третий закон термодинамики.
Я так и не смог никогда ни объяснить свою тягу к Матильде, ни открыться окружающим в нашей связи. Что так влекло меня, что толкнуло к ней буквально в первый же день, когда я увидел, как она, склонившись в школьном коридоре, зашнуровывает свой ботинок — отчего-то неженственный, сношенный, темный.
Какая-то щемящая нежность, как когда видишь на улице брошенного щенка… Я даже не знал раньше, что, оказывается, она во мне есть. И Мотя ко мне прикипела тоже, хотя я никогда доподлинно не знал, что именно она ко мне чувствует: Матильда была почти как Натали Пушкина или Мона Лиза, молчаливые мадонны, у которых неизвестно, что на уме, который и не факт, что вообще был… Но когда я решал за нее математику, я отражался в ее зрачках так же, как, наверное, отражался младенец Христос в глазах любящей его женщины… И оттого было так странно то, что случилось потом. Непостижимо.
Мотя ушла к моему другу. Они трахались на выпускном.
Почти водевиль, пошлость, идиотизм, дальше они поженились, знаю, что живут до сих пор, плохо, ссорятся, он ее бьет, она пьет, и я тогда, в то последнее лето в городе, смог достаточно быстро все это пережить, преодолеть, переболеть, встать и идти дальше, и уже в другом городе, статусе, в другой жизни понять, что, конечно, Матильда была мне не пара и что я не могу даже представить ее здесь, рядом со мной, на всех этих красных дорожках и потом на моих премьерах… Но зачем-то она приходит ко мне по ночам все последние дни, как будто хочет чего-то.
В этих снах она кусает меня за загривок, тащит, дурачась, за холку, а я вскакиваю и декламирую ей, обернувшись, как римлянин, простыней вокруг еще влажных чресел, какую-то восхитительную хрень, в которую тогда свято верил. Я просыпаюсь в слезах, сладкий запах ее простыней истончается быстро, и вокруг оказывается такая тьма (какая же мерзость за окном, и нет сил идти на работу), что кажется, ко мне приваливают тяжелый камень, отделяя меня от единственного источника, узкой щелки, света вдали, — где меня оплакивает женщина, которая меня любила.

Первая любовь
Я вбивался согнутыми костяшками обеих рук Михе в спину, плечи, куда мог достать.
Именно костяшками, чтобы обжигало до самых внутренностей. Молотил механически, ничего не соображая. «Врешь, сука, врешь!» Сил уже не было ни у него, ни у меня. Я еще раз попытался дотянуться до лица Михи. Хотелось разодрать этот мерзкий грязный рот, губы, все в слюнях и песке сейчас, некрасиво кривящиеся. Он плакал. Потом отвернулся от меня и упал, зарывшись лицом в песок, закрывая руками голову.
Я больше не мог говорить, только рычал, вырыкивая свою ярость и бессилие. Ударил еще несколько раз и потом просто завалился на него сверху. Чувствовал, как Миха вздрагивает подо мной.
Через какое-то время он дернулся, повернулся на бок и, столкнув меня с себя, начал подниматься. Я безвольно упал на спину. Лежал на песке, влажном, холодном, перепаханном нами во время драки. Смотрел на серо-голубое небо, исчерченное длинными самолетными полосами. Слышно было, как очередной самолет идет на посадку где-то в белых воздушных перьях. Вот он вынырнул, сверкнул на солнце и опять исчез. Затем показался еще один, вдалеке поблескивал следующий. Аэропорт El Prat был совсем рядом, и мы с Михой и Алексом любили приезжать на велосипедах на этот пляж, лежать вот так на песке, слушать море и смотреть, как взлетают и садятся красивые крылатые машины.
Со стороны пляжного входа доносились ругательства, удары и звяканье металла — Миха пинал мой велосипед. Наверное, погнул спицы, скотина. Мне было все равно. Я не знал, как теперь жить после этих его слов. Опять вспомнил его ненавистные губы, как они растягиваются в гнусной улыбочке и потом выплевывают мне в лицо: «Мия — шлюха! Она была в кастеле с Алексом. Он мне все рассказал. Говорит, что она опытная». Я зажмурился и застонал, изо всех сил сжимая зубы.
Кастель не был настоящим замком. Эту заброшенную масию в горах мы нашли несколько лет назад, когда гоняли на велосипедах по узким заросшим дорожкам. Полуразрушенный фермерский дом из покрытых мхом коричневых булыжников. Сохранившийся первый этаж разделен на две комнаты пустым дверным проемом. Мы расчистили пол от каменной крошки и кусков черепицы, натаскали с окрестных
помоек стулья, два старых вполне годных матраса, какие-то тумбочки и этажерки. Миха говорил, они создают уют. Было и правда нормально. Мы называли это место кастелем, прятались там от всех. Валялись на матрасах, слушали музыку, курили с трудом добытые сигареты или делились ворованным у родителей пивом. Соревновались, кто поймает больше юрких гекконов, суетящихся в трещинах между камнями на стенах нашего замка. Потом удерживали их за хвосты и наблюдали, как ящерки дергаются и удирают в траву, оставляя в руках кусочек своего тела. Это было наше место: мое, Михи и Алекса. И мы ни с кем не собирались его делить.
Познакомились мы в частной международной школе, где учились дети экспатов и обеспеченных каталонцев со всех прибрежных городков юга Барселонской провинции. Одноклассники приезжали и уезжали вслед за меняющими место работы родителями, а мы втроем перетекали из класса в класс, из начальной в среднюю, а теперь уже в старшую школу. Планировали, как так же вместе будем поступать в один университет — мы с Михой на программирование, Алекс на юридический. Мы хотели снять на троих одну квартиру в Барселоне. Я помню, как у меня внутри все замирало в счастливом предвкушении, когда мы фантазировали, какая удивительная взрослая жизнь будет у нас совсем скоро. Все изменила Мия.
Светлые пушистые волосы, запах клубники. Она чистила ягоды для джема. Рядом с ней стояла огромная медная миска, куда она бросала мятые спелые клубничины без зеленых хвостиков, по рукам стекал сладкий красный сок. Я знал, что в соседний дом заехали новые жильцы, но до сих пор никого не видел. Раздался писклявый лай, и к месту, где я стоял у изгороди, подлетело что-то мохнатое и вертлявое. Мия подняла голову и посмотрела прямо на меня: «Hola!» Назойливая собаченция все лаяла и напрыгивала на колючую вересковую изгородь.
— Лапы повредишь, дура, — прошипел я ей.
— Иди ко мне, девочка, давай, давай. Ну же!
— Похоже, я ей не понравился.
Мия отодвинула миску, легко поднялась и подошла к изгороди.
— Я не могу забрать ее. — Она приподняла перед собой согнутые в локтях руки, демонстрируя мне проблему.
Я рассматривал испачканные красным соком тонкие пальцы, по светлой коже бежали влажные дорожки, затекая в сгиб локтей. Мия поднесла одну руку к губам и вдруг медленно провела розовым языком по запястью, собирая сок. Я смотрел, как движется язык, как она облизывает губы, как улыбается потом — в уголках рта появились две аккуратные скобочки. У нее были желто-коричневые глаза, и сейчас, под солнцем, они казались золотистыми.
— Я — Мия. Поможешь мне завести Принцессу в дом?
В эту минуту я уже знал, что помогу ей с чем угодно, буду защищать от всего мира.
Умру ради нее.
Зашуршал песок, возле меня что-то тяжело плюхнулось, осыпав лицо песочной пылью.
Я дернулся, отворачиваясь, повертел головой, стряхивая песчинки со щек.
— Я тебе фару расколол и колесо помял.
— Свали, Миха, я не могу сейчас…
— Алекс скоро подъедет.
— Нет, сука, пусть даже не думает! — Я резко сел, положил ладони на согнутые колени — костяшки пальцев горели красным. Ярости больше не было, я даже не злился уже. Было просто больно где-то внутри и сжимало горло, отчего приходилось все время сглатывать.
— Он все равно приедет, а я все равно не уйду.
Я смотрел на море, бегущее к берегу. Скоро станет совсем жарко, начнется сезон, и пляжи заполонят туристы. Через месяц первый выпускной экзамен, затем поступление в университет. Позади загремели доски, потом звякнуло, гулко ударило о деревянный настил пляжного входа, зашуршали шаги по песку. Возле меня молча уселся еще один человек, тяжело вздохнул. От аэропорта поднимался белый с красными полосами самолет. Уверенно тянул вверх, прямо к слепящему кругу, обогнул его и полетел над поблескивающим морем куда-то вдаль.

Ради семьи
Мама бросала прозрачные платья в невидимый чемодан и причитала.
— Такой ветер, снег! Ах, бедная моя оболочка, бедные мои волосы.
— Я никуда не поеду, — проскрипела из высокого шкафа бабушка. — Триста лет живу в замке, и никакой блохастый уч-уч… никакой учишка меня не выгонит.
— Учёный, мам. И он выгонит! — Мама захлопнула крышку чемодана. — Ты не слышала Тыковку, их дом уже обработали, кроме Тыковки все погибли!
Дверь шкафа приоткрылась.
— Чушь! Эта дурында и не такое выдумает. Их шаткий домишко давно на щепки распадался, а её, пакостницу, никто не любил. Вот и сбежали, пока она голубей пугала. А учишка просто рядом оказался.
— Мам, ну, хватит. Вылезай!
Дверь шкафа снова захлопнулась. Бабушка умела шевелить плотными предметами. Она жила призраком уже триста лет и умела многое, даже задувать свечи.
Иногда вечерами, когда комнату освещал только оранжевый свет уличного фонаря, она
подводила меня к шкафу и учила: «Собери всю сущность на кончике пальцев, вспоминай, как при жизни двери толкал, и толкай!» Но сколько я ни старался — ничего не выходило.
Я отвернулся к огромному арочному окну. Ветер носил по двору жухлые листья и бросал в засохший цветник. Указатели на высоком столбе тоскливо скрипели. С серого неба срывался мелкий снег, камни, ограждающие цветник, потемнели от влаги. Я не выходил наружу пятьдесят шесть лет, и сегодня не лучший день для первой прогулки.
— Он здесь! — Папа пролетел сквозь стену, гремя цепями.
Мама вскрикнула и схватила чемодан, бабушка высунула нос, забыв открыть дверцу шкафа.
— Учишка? В моём замке?
Папа подбежал к окну и схватил меня за руку.
— Уходим! Живо!
— Ни за что!
— Мама, не время, — взмолилась мама. — Пожалуешься по дороге.
— Это наш родовой замок, я его не покину!
— Это никакой не замок! — рявкнул папа. — Это развлекательный центр. Игровая для детей!
Мама ахнула. Мы подыгрывали бабуле, когда она возомнила, что живёт в замке.
Называли работников слугами, директора — хозяином. Бабушке нравилось, она почему-то верила, что мы потомки какой-то высокородной семьи. Наверное, и не такое приходит в голову, когда живёшь в одном месте сотни лет.
Бабушка растерянно смотрела то на папу, то на маму, затем уставилась на вертушку, которая отгораживала помещение и мешала зайти внутрь комнаты. Эти вертушки перекрывали почти все комнаты, но бабушка никогда о них не спрашивала, а мы делали вид, что их нет.
— Бабушка, пожалуйста, пошли, — почти заплакал я.
Но мы не успели. Раздался оглушительный тонкий писк, и внутри моей сущности словно взорвался фейерверк. Я закрыл уши. Перед глазами всё поплыло, я только заметил, как что-то бесформенное и белое ворвалось в комнату. Затем удар в грудь, и я пролетел сквозь окно.
Несколько секунд я ничего не видел и не чувствовал. Когда очнулся призраком пятьдесят шесть лет назад, хуже всего мне далось осязание. Я не мог привыкнуть к тому, что все ощущения притупились настолько, что едва уловимы. Помню, метался по залам центра, обезумев от бесчувственности тела, и только когда папа меня поймал, а мама прижала к себе, я успокоился.
Сейчас я словно вернулся в тот день. Зрение прояснялось, я видел листья, камни цветника, но ничего не чувствовал. Внутри всё дрожало, я хотел домой.
«Ну-ну-ну, — успокаивала меня мама пятьдесят шесть лет назад. — Всё хорошо, малыш, я рядом».
Воспоминания лились, как вода из прорвавшейся трубы, они заполняли меня, обрушивались водопадом, уносили бурным потоком. Я вспомнил то, что забыл, что хотел никогда не вспоминать.
В окне центра-замка мама, бабушка и папа кричали и брыкались. Их засасывало в огромную трубу, которую держал учёный.
«Я буду твоей мамой. А это папа. Мы о тебе позаботимся».
Мы не были родственниками. Мы не знали друг друга в жизни. Они притворялись семьёй ради меня, как притворялись потомками аристократов ради бабушки.
Мама смотрела в окно, и я почти услышал, как она кричит:
— Сынок! Уходи!
Я метнулся к цветнику.
Собрать всю сущность на кончиках пальцев. Вспомнить, как поднимал камни при жизни.
Пусть мы не родственники, но мы семья. Я подниму камень, запульну в трубу учёного и дам своим время. Мы найдём новый дом, новый замок, да хоть сарай. Дом — это не стены, дом — это когда вся семья вместе. А мы семья. Я знаю это, чувствую всей
прозрачной сущностью, и ради семьи я сделаю невозможное.
Давай, треклятый камень, поднимайся!

В болото
За окном, через дорогу, было болото. Оно скрывалось за густо-серыми зарослями ольхи, мокло и порастало мхом, кормило городок клюквой каждую осень, а когда таял снег, немного отхватывало от его земель в ответ. Оно забиралось иногда в подпол и пахло там сыростью и гниющим деревом. Дима смотрел в окно на болото и старался ничего не слышать. А слышать приходилось. Сознание, как отживший своё мох, серело, и внутри становилось темнее.
Пока папа уходил отдышаться, дышал вполсилы и Дима. Где-то была мама — только бы ещё жива. Диме в этот раз почти не досталось, а она… у Димы даже не было сил зайти в родительскую комнату. Дима злился на тело: оно бесполезно лежало, как дурацкая ёлочная игрушка из свалянной ваты, согни что — отвалится. Болел подбитый глаз. Может быть, курение скоро убьёт папу? Там же написано на пачках — убивает. Но папа курит давно, и жив. А огоньки, интересно, бывают как сигарета?
Блуждающие огоньки — Дима представлял их себе каждую ночь. Где-то там, в болоте, они появляются и уводят пьяниц за собой. Если кто-то не возвращался домой, говорили, что его увели на болото огоньки. Детей пугали этими огоньками, одних к болоту не пускали. Огоньки манят, дразнят, обманчиво блестят, летят над кочками, летят в самую топь, а там исчезают, оставляя жертву в кромешной тьме. Стоять и ждать, пока болото задушит тебя. Стоять в нём по колено, по пояс, по грудь — часами. И знать, что оно тебя не отпустит, как ни дёргайся. Больше ты домой не придёшь. Дима закрыл глаза.
Мужчина, чуть шатаясь и тихо матерясь, выходит на разбитое крыльцо. Выжженная спиртом пустота внутри просит сигарету, и звёздное небо над головой мигает как тысячи пепельных огоньков. Он чует в воздухе запах дыма и поворачивается на него. Кто-то курит там, на дороге — или за ней. Он открывает калитку, машет рукой. Поделись, так сказать. На тропинке, среди ольхи, зажегся и погас красный огонёк.
— Угостишь?
Молчание. Подонок. Жмёт делиться. У таких всегда последняя, — прости, брат, сам понимаешь. Только дразнит, засранец чёртов, за воротник и приложить… На кулаке чешется свежий удар.
Ночью, когда все спали, Дима встал и пошёл попить воды на кухне. В горле было затхло, как в болоте, лёгкие забились гнилым мхом, который не давал дышать. Быть бы как тот огонёк, лёгким, летучим, светлым, беспощадным. Дима влил в себя ещё воды. За окном тускло и горько светила луна. Свет падал на стол. Последние два стакана из набора, которые отец ещё не грохнул. Дурацкая клеёнка с цветочками. Мамина косметичка с распоротым брюхом-застёжкой. Внутри гель от ушибов, тональный крем и успокоительные капли. Их бы не маме пить. Папин самогон, купленный у соседей, мутно играл в лунном свете, как газовое облачко.
Он проснулся раньше всех, пошёл колоть дрова. Рассвет ещё только обещал быть. Это полено — мелкий, это — баба. Ещё один мелкий. В голову входит колун, летят щепки. Вмиг железный наконечник бьётся о колоду. Звенит сухая древесина. Холодно.
Мутное газовое облачко висит над болотом. Переливается, как взбитый осадок самогона. Иди сюда. Пей. Грейся. Что тебе та печь, что костёр. Я согрею лучше. Вольюсь внутрь, буду жаром, я согрею, только подойди. Мужчина идёт и спотыкается по пути, падает лицом в канаву. Облако манит его дальше, но он лежит лицом в грязной воде, силясь подняться и откашливает гниль из лёгких. Она стекает струйкой изо рта, когда мужчина приподнимает голову.
Утром Дима пришёл на кухню и увидел осколки стакана, собранные в совок. Папина рука была забинтована. Мама мыла пол.
— Что случилось?
— Журавлёвы продали паль. Небось одна сивуха, а не спирт ни хера. Если бы не наша мама, я б сейчас… — С похмелья папа умел быть благодарным.
У мамы опухли глаза. Правая бровь в спёкшейся крови, на запястьях синели следы от пальцев. Папа весь в какой-то грязи. Дима посмотрел на пол, опять на папу, и понял — его рвало.
— Я погуляю, ладно?
Мама не пустила.
— Как глаз пройдёт, через недельку пойдёшь. Посидим пока все дома. Возьми у меня гель, помажь.
Косметичка всё так же лежала на столе, и никто не замечал, что успокоительные капли почти закончились. И никого не успокоили.
Или успокоили? Неделя прошла почти ровно. Папа не пил и не бил, покупал маме лекарства, даже немного жалел. Сорвал цветов — похоже, в чьём-то палисаднике — и поставил в бутылку на кухне. Правда, не признался, что цветы его. Мама не спорила — появились цветы и появились, волшебство такое. Да разве правда не волшебство?
Фонарь на Димином глазу погорел красно-пурпурным и стал гаснуть. Стал жёлто-коричневым, будто светил из-под кожи болотным туманом. Дима смотрел на себя в зеркало, когда папа сказал: «Может, пусть прогуляется?» Мама как утопающая хлебнула воздуха и согласилась. Прогуляться!
Дима вышел за калитку. Холодный воздух лился внутрь родниковой водой, оживляющей тело, залечивающей раны. Зудел комар, кружили и заполняли воздух трескучим чириканьем ласточки, и слабый дымок из соседской бани колол ноздри. Уже выпала вечерняя роса. Простудиться теперь точно нельзя. Дима развернулся на пороге и зашёл в сени, где стояли его калоши. За неплотно закрытой дверью в дом он услышал свист воздуха, хлёсткий удар и прерванный крик. Потом ещё.
Обувшись в калоши, Дима на ватных ногах вышел из сеней, спустился с порога, открыл калитку и перешёл к болоту. Подбитый глаз видел: что-то светилось там, понизу, и он, не замечая себя, двинулся за этим светом. Он шёл и повторял: «Помоги, помоги, помоги».
Свет струился, собирался в змейку, растекался ковром на кочках, проскальзывал вглубь в спутанные нити клюквы, выбирался наверх и ждал, если Дима отставал. Дима бежал, останавливался, шёл, бежал, терял его из виду, снова обнаруживал. «Почему я за ним бегу?» — пронеслась вдруг мысль.
— Куда мы?
Облачко света остановилось, мигнуло, заклубилось сильнее.
— Я не хочу в болото. Не хочу умирать.
Облачко засветилось жёлтым, тёплым, почти оранжевым. Скользнуло Диме за спину. Он обернулся. Облачко потекло вдаль. Дима сделал пару шагов за ним и увидел дом на опушке. Дима услышал треск и звон. Полетели оконные стёкла. Туманный свет отразился в них поганочным зелёным.
— Ты хочешь, чтобы я с тобой ушёл?
Свет заклубился, снова потеплел.
— Там мама.
Тревожное мерцание.
— Не оставлю её. Не убегу.
Свет дрогнул, почти погас, вспыхнул ярко-ярко, ослепил — и пропал.
Дима только сейчас заметил, как вымокли в болоте кроссовки, что в калошах чавкала вода. Мокрыми были и коленки, все в зелёных следах мха, красных раздавленных клюквинах. Как же он бежал за этим огоньком, как же тот его вёл! Всем чувствам словно подкрутили яркость. Холод в ногах, саднящий глаз, бьющееся о грудь сердце, всё переживалось скопом. Дима сделал шаг к дому, потом ещё, толкнул калитку, зашёл на порог, дальше в сени, и замер. Пальцы прикоснулись к дверной ручке. Секунда, вторая, вдох, выдох по частям. Сжатый в ком страха живот. Снова вдох, раз, два, и сейчас, нет, теперь. Ладонь прижалась к металлическому узору круглой ручки, запястье повернулось, рука от плеча толкнула вперёд. Тишина. Только не тишина.
— Мам, ты как?
Хрип. Стон.
— Ты. Гуляй.
В животе что-то дёрнулось вниз, стало ещё тяжелее, ещё нестерпимее. Сейчас. Будет поздно. Не уходить. Что-то, надо что-то.
— Пап.
— Иди. — Маму было почти не разобрать.
— Нет. Папа, хватит.
Что-то сдвинулось. Дима почувствовал, как пол уходит из-под ног, а в следующий миг он встретился затылком с дверью, и россыпь искр осветила темнеющий коридор.
Дима так и очнулся — на полу. Второй глаз теперь болел тоже, сильнее. Когда он попытался встать, закружилась голова, и он снова стал падать, едва подставляя локти.
— Очнулся? Давай вставай.
Папин голос звучал, будто не случилось вообще ничего. Может, Дима перегрелся на солнце или упал в обморок, да просто поскользнулся.
— Принеси ещё.
Папа держал в руках последний целый стакан. Жидкость на его дне светилась, туманилась и напоминала блуждающий огонёк, разведённый с водой и огранённый стеклом.
— Я сказал. Быстро.
Опираясь на стенку, Дима встал. «Ещё» было в подполе. Поднять крышку. Четыре перекладины вниз. Свет. Полка справа. Так трудно было даже думать об этом, а сейчас надо будет идти. Шаг, другой, ноги еле слушались и перед глазами носились чёрные мушки. Дима оперся на стол, задел бутылёк и разлил остатки маминых капель. Они светились едва-едва, тем же светом, что и болото, что и друг, который, Дима думал, исчез. Но светились слабо. Папе не хватит, чтобы успокоиться.
Едва не растеряв все силы, Дима приподнял крышку подпола, сел на край. Пахнуло болотом. Бутылка на полке размеренно светилась туманным облачком. И на маминой тумбочке — Дима только сейчас заметил — светилось что-то ещё.
Это были капли. Папа же покупал ещё, когда был заботливым. Здесь будет достаточно. Дима оглянулся — папа не смотрел. Встал, по стенке дошёл до капель, убрал в карман. Снова по стенке обратно и очень, очень аккуратно вниз. Пробка поддалась легко.
Папа осушил бутылку почти сразу. Или время ускользнуло из Диминой головы. Вот Дима поднимается вверх из подпола, чуть не падает, заноза из грубой перекладины впивается в ладонь. Вот папа берёт бутылку. Вот падает стакан.
— Опять сивухи нацедили. Я им устрою. Я это в них волью.
Хлопнула дверь. Дима лёг на пол и обнял маму.
Мужчина вывалился на порог, цепляясь за перила огромной рукой. Шаг, пошатнулся, снова шаг — к калитке. Светящаяся фигура — наверное, его сосед — показалась из зарослей ольхи. Зашлась беззвучным смехом. Отвернулась и пошла туда, в болото.
— Убью, подонок!
И мужчина рванулся за ним, чавкая мокрым мхом, далеко-далеко.
Его ноги исчезли первыми, мокрое шло по одежде вверх. Грудь. Начинало светать. Шея. Только голова осталась на поверхности, откинулась наверх, и болотная грязь затекла в открытый рот.
Диму разбудила рука в синей перчатке. Белый рукав.
— Сильно тебя, брат. Сильно. Привстать можешь?
Дима попытался. Он лежал не на полу — это была кровать. Неправильная кровать, не своя, и пахла не домом. У Димы закружилась голова, и он упал назад.
— Лежи, лежи, всё. Прикрой глаза. Это сотрясение.
— А мама?
— В порядке. Будет в порядке.
«А папа?» — хотел он спросить, но рот не пошевелился. Глаза закрылись сами по себе.

Кот
Папа держал серого кота, Уля стояла рядом. Кот выпустил когти и впился лапами в папину руку. При этом он подергивал хвостом, да и вообще — казалось, вот-вот готов цапнуть.
Папа и Уля отправились в кино вдвоем, а вернулись с пополнением. Мама молча смотрела на зверя, видимо, размышляя, стоит ли пускать его в квартиру. Я наблюдала за немой сценой с интересом: чем же закончится этот спектакль?
Папа заговорил первым:
— Сегодня в парке спиливали дуб, а глупое животное ни в какую не хотело слезать.
— Он шипел и царапался, — подтвердила Уля.
— Вся бригада его стягивала с дерева, и мы с Улей решили помочь им.
Я знала, про какой дуб говорит папа. Если честно, его давно стоило выкорчевать. Дуб стоял на самой середине пешеходной дороги, закатанный почти до самого ствола в тротуарную плитку. Камень вокруг его корней вздулся и растрескался. Вряд ли каменный мешок хорошо влиял на дерево: ветки у дуба были скрюченные, а некоторые листья — желтые.
— Ему теперь некуда идти, — жалостно протянула Уля. — Можно мы его себе оставим, мам?
Мама все еще ошарашенно смотрела на кота, а потом произнесла, правда, не очень уверенно:
— Ладно, пусть остается. Только завезите его к ветеринару сперва, вдруг у него лишай.
Уля от радости не могла устоять на месте. У нее как будто бы появился пропеллер, и она понеслась к маме обниматься, а затем принялась скакать по комнате.
— У нас будет кот! кот! кот! — вопила она.
— Тише ты, — одернула ее я, — весь дом перепугаешь. Никогда котов не видела, что ли?
Сестра проигнорировала мое замечание.
— Ты поедешь с нами к ветеринару? — Не дожидаясь ответа, она принялась уговаривать меня: — Ну поехали, ну пожалуйста. Вдруг его надо будет держать?
Я устало отмахнулась:
— Мне еще кучу всего надо сделать за сегодня.
Появление кота в доме меня ни радовало, ни огорчало — у меня хватало своих забот. Когда самая интересная сцена — первое знакомство — закончилась и папа с Улей повезли кота в ветклинику, я закрылась в своей комнате, чтобы вернуться к подготовке к экзаменам.
— Наш кот здоров как бык. — Это странное сравнение выдала Уля, когда вернулась домой. Остаток дня она провозилась с котом в зале, я же просидела над учебниками, периодически отвлекаясь на телефон. Кот только один раз заглянул ко мне в комнату. Он принялся скрести когтями по двери, требуя, чтобы его впустили. Я сразу же бросилась открывать дверь.
— Заходи, ну же, кис-кис-кис.
Кот заглянул в комнату, постоял, осматриваясь, а потом вернулся в зал. Я захлопнула дверь. Мог бы уже и посидеть со мной, здесь, по крайней мере, никто не шумит.
***
Мне пришлось напрячься, чтобы вырвать себя из сна. Я словно продиралась через липкое желе, заставляя сонный разум проснуться. «Это всего лишь сон». Я резко села в кровати. Сердце стучало, как будто я только что пробежала марафон, спина вспотела. В комнате стояла духота, я встала и открыла окно. Когда я вернулась в постель, в темноте блеснули два круга. «Кот», — поняла я, ничуть не испугавшись. Он мягко запрыгнул на кровать и уселся в ногах, глядя на меня не мигая. В темноте кот казался гораздо крупнее. Со сна мне почему-то показалось, что он нависает надо мной, как великан. Додумать мысль я не успела: меня одолела дрема. Свежий воздух из открытого окна охлаждал комнату. Я медленно опустилась на подушку и мгновенно заснула.
***
За завтраком Уля заявила:
— Мы назовем кота Ученый.
— Немного странный выбор.
— Вовсе нет. У нас будет кот как в стихотворении: и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом…
— Надо выбрать другую кличку, эта неудобная, — настаивала я. — Никто не называет животных субстантивированным прилагательным.
Сложные слова Улю не испугали.
— Он умный, поэтому будет Ученым.
— Ладно, — сдалась я. Спорить с ней с утра совершенно не хотелось, хоть она и говорила глупости. — Ученый так Ученый.
«Надо зайти после школы в книжный, купить еще один сборник с тестами».
Кот сидел у входа на кухню и пристально смотрел на нас, внимательно вслушиваясь в разговор. «А все-таки он обычного размера», — вдруг сообразила я.
***
Я поставила сумку и упала на диван. После школы и занятия с репетитором не было сил дойти даже до своей комнаты. Хорошо, что дома была одна только Уля, иначе от расспросов родителей, как прошел мой день, пришлось бы прятаться за закрытой дверью.
Кот лежал в кресле и смотрел на меня желтыми глазами-тарелками. Вечно он так пристально смотрит. Мне отчаянно захотелось потискать и погладить кота. Я даже оторвалась от дивана и почесала его за ушком. В ответ его хвост задергался. Я присела рядом и принялась гладить кота по спине. Кот не принял моих ласк и зашипел. Я отдернула руку, но кот не нападал, поэтому я встала и попыталась поднять его. Коротким быстрым махом кот ударил лапой по руке, оставив мне длинные белые полосы.
— Он не хочет, чтобы его сейчас трогали, — сказала Уля, зайдя в зал. — Ты разве не видишь?
Я хотела раздраженно спросить, зачем нам вообще кот, если его нельзя гладить, но царапины на руке уже стали красными. Вместо ответа я ушла в ванную. Под водой полосы стали жечь. Сквозь журчащий шум я слышала, как Уля приговаривает в зале:
— Котик, котик-обормотик…
Она снова просидела с котом до вечера. Мне пришлось несколько раз крикнуть ей, чтобы была потише: ее сюсюканье мешало.
Ночью снова было жарко. Я опять открыла окна и пообещала себе впредь оставлять их открытыми на ночь. Но в этот раз свежий воздух не сработал: я долго проворочалась в постели прежде, чем снова заснула.
***
Я уже почти дошла до подъезда, когда из-за угла стремительно вырвался большой пес и понесся к детской площадке. Только сейчас я заметила, что на турнике вниз головой висит Уля. Собака завыла. Возможно, я закричала — точно не помню — и бросилась через стоянку к Уле защитить, спрятать, заслонить.
Как-то раз в больнице я видела девочку, на которую напала собака. Искусанная половина лица была обмотана бинтами, по краям повязки проступали следы от зеленки. И эти раны оставила не дворняжка, а породистая собака, прикованная цепью к будке.
Меня опередило большое серое пятно, промелькнувшее под ногами. Кот прыгнул прямо на собаку, нанеся тяжелый удар лапой сверху. Животные замерли друг напротив друга. Кот выгнул спину: он тянулся дугой вверх, все выше и выше. Возле него съежившийся пес с поджатым хвостом уже не казался большим. Кот зашипел, показывая клыки. Тогда пес заскулил и бросился прочь.
Я подбежала к Уле и прижала к себе. Она не обращала на меня внимания:
— Зачем ты взяла с собой Ученого?!
Уля не выглядела испуганной, наверное, не успела понять, что произошло. Я обернулась и взглянула на кота. Он сидел на траве и вылизывал лапу.
— Наверное, он сам выпрыгнул из окна.
— Мы живем на одиннадцатом этаже! — Уля озадаченно посмотрела вверх на окна.
Во мне еще бушевал адреналин, и я не могла сосредоточиться на таких мелочах. Эта дуреха не понимает, в какой опасности была минуту назад.
— Значит, кто-то оставил дверь открытой, и он сбежал.
Такое объяснение Улю устроило. Я взяла кота на руки, и мы пошли домой. Пока мы ехали в лифте, я уткнулась лицом в его шерсть. Кот мирно сидел в моих объятиях.
***
Экзамены я сдала на отлично, но радовали меня не столько хорошие оценки, сколько наступившая свобода. После экзаменов папа повез нас к бабушке. Кот ехал тоже: Уля рассудила, что ему понравится гулять по бабушкиному саду. Обычно я сопротивлялась поездкам в деревню, но в этот раз спорить с родителями не было сил. Наоборот, даже хотелось сидеть на покрывале в саду, где время шло размеренно и плавно.
В машине Уля выпустила Ученого из переноски. Он сразу же полез в багажник и улегся на сумки. Шерсть наэлектризовалась и распушилась, поэтому кот выглядел, как обиженный ребенок.
— Эй, Ученый, — окликнула его я, — ты чего дуешься? Не к чужим же людям везем.
Кот поразмыслил, потом запрыгнул на заднее сиденье и понюхал меня. Получив молчаливое добро, я почесала кота за ушком.
— Подожди здесь, мы вынесем вещи, — сказала коту Уля, когда мы приехали. Каждый из нас взял по сумке, чтобы занести их в дом. Когда мы с Улей вернулись, кота в машине не было.
***
— Ты забыла закрыть дверь! — укорила я сестру.
Уля не ответила, залезла в машину и принялась шарить по салону.
— Кис-кис-кис, — звала она.
Я осмотрела багажник, но сумки мы уже достали и прятаться там было негде. На наши крики из дома вышли папа с бабушкой. Теперь мы искали кота вчетвером. Я обошла весь участок, но кот нигде объявился. Уля хлюпала носом.
— Пойдемте ужинать, — предложила бабушка. — Это, считайте, уже домашний кот. Стоит ему встретить дворовых котов, так он сразу же прибежит обратно.
— Он как-то раз собаку прогнал! — провыла Уля.
— Ты еще не видела местных котов-разбойников, рыбка моя. Вашей зверюшке с ними не сладить. Проголодается — обязательно прибежит обратно. Ну, давайте все в дом, в темноте сейчас искать бесполезно.
Я никак не могла уснуть и попыталась переключиться на книгу. Уля права: он прогнал ту дворнягу. Но справится ли он, если столкнется с целой шайкой? Вдруг кот сейчас лежит раненый где-то и ему нужна помощь? Я отложила бесполезную книгу и пошла спать: утром тревожных мыслей всегда меньше.
Но на следующий день кот так и не вернулся.
***
Я положила в корзину печенье. Уля просила, чтобы я взяла ей в дорогу еще и шоколадку, поэтому я направилась к стеллажу с конфетами.
— …она притихла, поскуливала, но не гавкала. От меня не отходила, все кружила рядом. Думаю, может, зверя какого почуяла.
В крохотном деревенском магазине не было никого, кроме меня, продавщицы и двух собеседников, которых я не видела за полками. Невольно я прислушалась к разговору.
— И что ты думаешь? На меня вдруг как зашипит кто-то. Я перепугался, может хищник какой. Смотрю вверх, а на ветке сидит кот и зубы скалит. А знаешь, что самое странное? Он был просто огромный: больше, чем моя псина, клянусь!
Насмешливый голос поинтересовался:
— Как такое может быть? Или сочиняешь, или тебе в голову напекло.
— Да честно говорю! Огромный кот на огромном дубе, такая большая зверюга, что ее сложно забыть.
— Эта зверюга была серая с желтыми глазами? — спросила я, выглянув из-за полок.
Мужчина удивленно посмотрел на меня.
— Вы тоже его видели?

Лихо
Первым, кого убил мой новый друг, был мой папа.
***
Когда возвращаешься в школу после месяца болезни, ты можешь заметить неприятную тенденцию потери статуса.
На моем месте сидят Леха с Никитой. Нет, меня, конечно, считают отбитым, но против такого демарша я, увы, бессилен. Пока. Надо будет дома огнемет собрать.
— О, не смею мешать семейной идиллии. — Я улыбаюсь и изображаю благословение. — Любите друг друга с миром, дети мои.
Ответить мне не успевают — в дверь вплывает Грымза.
— Чертов, садись. Дети, здравствуйте.
— Доброе утро, Марь Васильевна, я сяду, но ничего на доске не увижу, предупреждаю. Очки разбились. — Правда, не разбились, а разбили, и не только их, но еще и нос, но это вам знать необязательно.
— А это ваши проблемы.
Да кто бы сомневался! Я падаю за последнюю парту к блондинистому дистрофику. Хм, раньше я его не видел.
— Новенький? Меня Валя зовут, ты откуда?
Мне не отвечают и, вроде как, даже не замечают. А вот это уже обидно. Я собираюсь начать выводить новенького из себя, но меня дергают.
— Чертов, к доске.
— Яволь, майн фюрер! — рявкаю я, вскакивая с места. Нет, в обычные дни такого бы не было, но сейчас мне надо восстанавливать репутацию. Осталось понять, какой у нас вообще урок.
***
После школы отлавливают Леха с Никитой. У нас тут же появляются зрители. Ох, засмущали.
— По-моему, ты оборзел, — лениво говорит Леха, глядя на меня немного снизу вверх.
«Не шутить про маленький рост, не шутить про гномов, не…»
— Какой ужас! Нет, ты перепутал, я бы не смог обидеть такого малыша! — Перевожу взгляд на Никиту. — И такую пышечку я бы тоже никогда…
Кулак «малыша» едва задевает плечо, а вот у «пышечки» точность получше — дыхание сбивается только так. Похоже, я сегодня огребу.
***
Ключ визгливо проворачивается в двери. Щелчок. Я в квартире. Аккуратно вешаю куртку и пытаюсь незаметно проскользнуть в свою комнату.
— Валька. — В проеме стоит папа, хотя он думает, что он мне «батя, батька!». — На кухню иди, разговор есть.
Боженька, привет, это опять я. Знаю, ты меня почему-то ненавидишь, но это вот за что, а?!
— Пап, я устал, Грымза взъелась, жизнь — боль, упал лицом в асфальт, давай завтра, а?
— Если отец сказал надо, значит, надо, а не выкобениваться тут, уяснил?! Я просто так не зову.
А я… Нет, а я всегда знал, что своей смертью не умру — характер не тот.
— Я не хочу. Ты вчера опять заявил, что тебе на меня плевать и больше ты меня «спасать» не будешь, раз я такой умный и корону на себя напялил так, что из нее аж рога выросли. — Я готовлюсь драпать от ста пятидесяти килограмм гнилой ярости, нависших надо мной. Мамочки.
— Ты…
Валя, соберись, скажи, а потом беги. Иначе самому себе не простишь.
— Я неблагодарная свинья, урод, слабак, пустозвон и даун. — Впиваюсь заточенным ногтем в ладонь, чтобы голос не дрожал. — Только вот скажи, что ж у такого прекрасного человека, как ты, такое дерьмо получилось-то, а?!
От пощечины я улетаю в стену. Меня поднимают на ноги и что-то матерно орут в лицо. А я не слышу. Я — песочный человечек. Песочный человечек с глазами-бусинками и без ушей. И без рта.
А потом мы с папой до часа ночи смотрим видео, в которых режут горло верблюдам, люди стреляют себе в головы, и они раскрываются, словно желто-розовые арбузы. Смотрим, чтобы настоящую жизнь прочувствовать. Ну к черту так жить. Меня тошнит.
В комнате темно. Меня размазывает по матрасу и утягивает в липкую полудрему. Приходит мысль, что если в голову человеку вогнать миксер и включить его, то получится арбузный смузи со вкусом тухлятины. Я хихикаю, переворачиваюсь на другой бок и подтягиваю тяжелые ладони к носу. Они пахнут плесенью.
***
— Так, а я не понял, медовый месяц уже закончился или что? — Лехи с Никитой за моей партой, да и вообще в классе, не обнаружено.
— Они написали, что дома продолжат. — Светка чуть розовеет от собственной шутки. Стесняша моя. Вот так на нее посмотришь, никогда не поймешь, на каких сайтах она зависает.
— Да будет так! Светик, пойдешь вторым шафером со стороны жениха?
— Ну, если ты про-о-осишь. — Сидит и улыбается. Я уже говорил, что обожаю ее? Правда, на расстоянии, но ладно.
— Договорились, Светик-семицветик. — Я усаживаю свою многострадальную тушку и тянусь за рюкзаком. Так, а это чьи ноги?
— Дистрофик, ты?
— Я буду сидеть здесь, — тускло информируют меня.
— Оп-па, а у нас бессмертный появился? — Парень, извини, но у меня поганое настроение. И бок болит. И голова.
К концу урока одноклассники уже говорить не могут от смеха, учитель икает и один раз путает даты, а я понимаю, что что-то идет не так. Этому белобрысому чудику плевать, что над ним все ржут. Сидит рядом, молчит, вроде как даже пишет конспект.
Ну, это война. Я его достану.
***
— Это что такое? — Я разглядываю протянутый мне пластырь. В мелкий, мать вашу, цветочек.
Война длится девяносто восемь часов и сорок две минуты. Это дистрофичное чудовище за мной сталкерит! И игнорирует мои подколы. Если случайно перевернуть на него стакан, он не отвяжется — высушится и продолжит бродить следом. Проверено.
— У тебя бровь кровит. — Мне кажется, или это не его дело?
— Господи, вот это да! Целых четыре слова. Идем на рекорд. — Я разворачиваюсь и предпринимаю тактическое отступление. Линяю от него, проще говоря.
***
Во вторник я признаю, что это безнадежно.
— Эй, дистрофик, я все! Твоя диета победила мое мясоедство, ты супер. — Вот, сказал, а теперь отстань от меня, чудовище.
Он наблюдает за мной из-под клочковатой челки и молчит. А мне почему-то становится неловко, будто я собаку пнул. Ненавижу такое чувство, вот прямо на хер.
Ухожу, а он остается. Тоже мне, Хатико российского разлива.
***
Нет, я все, конечно, понимаю, он реально доставучий, но месить одного вшестером — это перебор.
— Эй, ребят! — Я машу рукой и улыбаюсь. — Отстаньте от придурка, у него инвалидность какой-то там степени. Слабоумный он, в общем.
— А ты кто такой? — О, главарь нашелся.
— А я псих, добрый день. — Достаю из открытого портфеля огнемет — деревяшка, спусковой механизм, лак для волос и зажигалка — зря, что ли, делал?
Сердце стучит под кадыком. Мне очень хочется расхохотаться от какой-то сумасшедшей свободы, бьющей изнутри и в мозг.
На меня смотрят с опаской. И это тоже приятно.
— Вам повезло, что мы не трогаем идиотов и инвалидов. — Главарь отходит и отзывает друганов, пытаясь сохранить достоинство. Что ж, у него получается.
— Пока-пока, — жизнерадостно машу рукой.
Когда они уходят, прячу самоделку обратно и подхожу к дистрофику.
Он вяло поднимает голову и, уперев тощие руки в коленки, встает. Его шатает. Блин.
— Ты где живешь, придурок? — Я себя ненавижу, но бросить этого чудика не могу — совесть сожрет.
Он молчит. А меня скоро отходняк накроет, и мы оба будем шататься, как два пьяненьких воробушка.
— Так, я тебя сейчас беру на буксир, а ты киваешь, куда сворачивать, ясно?
Мне не отвечают. Ну, будем надеяться, что меня все же поняли, а то конец — к себе ведь его не потащишь.
И мы пошкандыбали.
***
— Ты живешь в заброшке. — Это не вопрос, а тупая констатация факта. Сил удивляться уже нет, и я втаскиваю чудика внутрь. Ого. А тут неплохо. Даже холодильник есть.
— Так, я тебя дотащил. — Сгружаю дистрофика на раскладушку, а сам падаю в обшарпанное кресло. — Ты живой?
— Да.
Оно разговаривает. Надо пользоваться случаем.
— Слушай, чудик, ты чего за мной таскаться начал, а?
Ответа я особо не жду, но, видимо, дома он чувствует себя спокойнее.
— Ты со мной заговорил.
Так, понятно, что ничего не понятно.
— Чего?
Дистрофик дергает плечом и буквально сворачивается в клубок.
— Заговорил. Раньше никто не говорил.
— Ага. Понятно. Совсем никто?
— Совсем.
— Хреново. — Я не знаю, что еще сказать.
Мне становится совсем погано, что я его троллил. Встаю и иду к холодильнику. Он весь забит яйцами. Жесть. Готовить их я не хочу, так что лезу в портфель — там оставалась булка.
— Жрать будешь?
Я слышу скрип и вижу перед носом дистрофика. Отшатываюсь. Это что за вампирские фокусы? Хотя, чудик настолько хлипкий, что мне странно, но не страшно.
— Мы друзья?
Сегодня день идиотизма. Да, тогда все сходится.
— Почему?
— Кто делится едой, тот друг, — ничтоже сумняшеся заявляет чудик.
Насколько у него все в жизни хреново, раз он так считает?
— Значит, так. — Я достаю подсохшую булку, ломаю ее и вручаю большую половину чудику. — Ты мне не особо нравишься. Ты стремный и … можешь так не улыбаться?
Никогда не видел, чтобы у людей были настолько острые зубы. А вот теперь не смешно.
— Это хорошо.
— Что ты мне не нравишься?
— Да. Когда ты нравишься, тогда проблемы.
Поздравляю, Валя, ты окончательно чокнулся. Раньше лишайных котят подбирал, а сейчас целого дистрофика! Растем над собой, и тараканы в голове матереют. Похоже, у меня появится друг. Первый.
— Зовут тебя как, чудовище?
Он разом съеживается и неуверенно смотрит на меня. Широкие и плоские скулы, треугольное лицо, тонкий и длинный, как у борзой, нос, круглые глаза — один красный, но для альбиносов это норм — словно две пуговицы белесые пришили.
— Лихо. — Ну, имя как имя, чего паниковать-то?
— Валя. Очень неприятно познакомиться.
***
Домой попадаю ночью, когда папа уже спит. Завтра надо будет до завтрака свалить, чтобы не прибили — висок еще не зажил, и к новым геройствам я не готов. Отключаюсь, успевая подумать, что ладони впервые не пахнут плесенью.
***
Утро. Солнце. Я проспал. Как, блин? На часах половина второго. Тихо. Где новости, звон посуды? Почему на меня еще не орут?!
Решив, что терять нечего, иду на кухню.
— Привет. — Мне коротко, но широко улыбаются, тут же пряча треугольные зубы.
— Лихо? Ты чего здесь…
Блин.
За столом сидит папа. Взгляд замерший, изо рта тянется дорожка слюны.
Я сглатываю.
— Это что? — тихо спрашиваю. Меня начинает колотить.
— Он хотел сделать тебе плохо. — Лихо съеживается, но взгляд не отводит. — Я не хотел, чтобы тебе — и плохо. Это неправильно.
— А что правильно? — Я осторожно сажусь на стул. Такое чувство, что одно неверное движение — и я разобьюсь. — Что ты сделал?
— Я — Лихо. — Вид у дистрофика жалкий, но меня это не трогает. Почти. — Я же говорил. Лихо. Одноглазое. Это я. А ты — Валя.
— Ясно. — Мне плохо. Настолько плохо, что даже все равно. Хочется разбить чашку об стену, наорать, сделать что-то такое, от чего потом вывернет. И хочется сидеть, чтобы никто не трогал. Я действительно псих.
Встаю, шагаю и сжимаю его горло. А он не сопротивляется. Моргает часто, а дышит через раз. Отпускаю, и меня ведет. Какого хрена я творю?
— Валя…
— Привет, мам. — Оборачиваюсь и вижу ее — неухоженную худую женщину в старом халате.
— Что произошло… — Она с ужасом смотрит на папу, и неожиданно меня это выбешивает. Он ее бьет — смотрит с ужасом, он сдох — смотрит с ужасом, он из меня дурь выбивает — не смотрит совсем, прячась в комнату. Ей плевать на меня — от этого осознания я мгновенно трезвею.
— А это, мам, Иван-дурак. Лиху в глаза смотрел — вот и получил.
Она запечатывает рот ладонью и надрывно всхлипывает, явно не веря происходящему. А мне пофиг. Не хочу в этом разбираться. Я вызываю скорую, вдруг можно что-то сделать, оборачиваюсь к Лиху.
— Идем.
***
— Я не убил. — Лихо забегает вперед и заглядывает в глаза. — Я подумал, ты сам хочешь. Я только сердце замедлил. Наверно.
Меня пробивает. Стою около дома и ржу пару минут, пока Лихо обеспокоенно топчется рядом. Мажу по глазам ладонью и улыбаюсь. Вдруг становится легко-легко.
— Дурак, ты, Лихо, но спасибо. Заботливый ты мой. Леху с Никитой тоже ты?
— Да. Чуть-чуть. Все плохо?
— Все отвратительно. Но мы прорвемся. — Я отлипаю от стенки. — Можно у тебя перекантоваться дня три?

Набросок
— Зачем, Ташка?
Варя ловит ее руку, проводит пальцем по белым черточкам на запястье. Тонкие, ровные. Линия к линии. Раз. Два. Три. Четыре… И пять. Красный, припухший штрих — новый порез. Его Варя не осмеливается коснуться.
— Открываю боль бытия, — усмехается Таша.
Какие у нее руки! Крупные ладони, длинные пальцы, запястья тонкие. А главное — жилы. Словно струны, натянутые под кожей. Не то что Варины: маленькие, с пухлыми пальчиками. Даже шрамы у Таши красивые! Носит гордо. Свой шрам Варя и рада бы скрыть, но на лице не спрячешь.
— Что у нас нового?
У нас — это не в школе. Что может быть интересного в десятом классе?
— Ванька, из бэшек. — Варя поспешно заправляет за ухо мешающуюся прядь. Волосы щекочут плечи, собрать бы их в привычный хвостик, но… — Сегодня тоже придет! Это я его привела. А еще он рисунки мои хвалил…
— Ванька, значит. Посмотрим, какой он на вкус! — Таша хитро щурится. — Вот и они!
Она вскакивает, устремляется к ребятам. Обниматься, шутить. Таша всегда там, где громко. Варя остаётся на лавке. Выглядывает светлую голову, ждет, что Ванька подойдет. Но он словно зацепился за Ташу. Не оторвешь.
— О, Орехова, и ты здесь? — удивляется Ванька, едва не налетев на Варю. — Я тебя не заметил!
Он откидывает назад челку и заливается смехом, ловит взглядом Ташу: оценила ли? Сует Варе в руки банку энергетика. Пустую. И снова прилипает к Таше.
Варя бросает банку в урну. Подтягивает к себе синий рюкзак, пристраивает на коленях и замирает с ним в обнимку. Ребята собираются вокруг Таши. Она порывисто машет руками, что-то рассказывая, все смеются.
Варя нащупывает в рюкзаке шершавую корочку блокнота. Ванька выступает из толпы, встает рядом с Ташей. Кружок ребят и двое в центре — так и просится на бумагу.
— Привет. — Павел устраивается рядом. — Ты рисовать будешь, да?
Варя пожимает плечами. Ванька забрасывает длинную руку на Ташино плечо. Они переглядываются, сдерживая искорки смеха, и начинают выплясывать, смешно подпрыгивая.
— Что это будет? Покажешь, когда нарисуешь?
Варя не слушает. Цветные Ташины кеды и серые кроссы Ваньки мелькают все быстрее. Ребята скандируют: «Да-вай! Да-вай!». Задохнувшись от бешеного танца, Таша повисает на Ваниных плечах. Потом откидывается, собирает чёрные волосы пальцами и выдыхает в раскрасневшееся лицо Ваньки.
Варя подаётся вперёд, рюкзак соскальзывает с её коленей.
Одной рукой Ванька придерживает Ташу за талию, второй ловит её запястье:
— А это что? — Ванька проводит большим пальцем по красному рубцу. Варя выдыхает.
— Люблю пожестче, не знал? — резко бросает Таша.
— Плохая девочка. — Он сжимает её запястье, кожа вокруг пореза белеет.
Варя вскакивает, откинув блокнот. Дышать тяжело. Ну посмотри же на меня! Я здесь! Посмотри! Крик замирает в сдавленном горле.
Таша выворачивается из хватки и резко подаётся вперёд. Впивается зубами в нижнюю губу Вани и тут же отскакивает.
— О-о-о! — тянут ребята.
— Осторожно, Ванька, она и сожрать может!
За спинами ребят задыхается Варя. В животе у неё жжется. Вспыхни ярким пламенем — все равно не заметит.
— Ты чего? Плохо? — Павел растерянно заглядывает ей в лицо, сует в руки брошенный блокнот.
Варя сжимается. За пламенем приходят слезы. Она сгребает в охапку рюкзак, выхватывает у Павла блокнот и бежит.
***
В зеркале — набросок. Блеклый. Без акцентов. Словно карандаш едва касался листа.
Русые до серого волосы. Глаза не голубые, не зеленые и даже не карие. Тоже серые. Все линии сглаженные. Обмякшие.
Все, кроме одной. Эту художник чертил зло. Зажав карандаш, как нож. Со скрипом, разрывая бумагу, вывел зигзаг от губы до середины щеки — вар-вар. Шрам.
Ненавижу!
Варя сжимает пальцами фиолетовый тюбик. «Магический чёрный». Взять «Иссиня-черный» она не решилась. Зря. Таша бы взяла.
Таша. Красивая в своей порывистости. Вся острые углы и колкие слова. Ваньку к ней как магнитом притянуло.
Может, секрет в этом? Чёткая линия каре, стрелки к виску, рваные джинсы… Подводка найдется в маминой косметичке. Джинсы…порвем, задача не из трудных.
Варя — набросок, но его можно раскрасить.
Тюбик ложится на комод. Ножницы сами прыгают в руки. Ещё не поздно записаться в салон на углу, но…
Клац! — русая прядь летит под ноги.
***
Варя сворачивает во двор. Ветер бросает на лицо непривычно короткие пряди. От них остро пахнет краской. Резинка обиженно сжимает запястье: ненужная. Хочется потереть глаза, но страшно размазать старательно выведенные стрелки.
Нет больше блеклой Вари! Есть другая. Опасная, с кривым зигзагом через щеку.
Ребята обалдеют! Окружат, наговорят приятного. И Ванька отвернется от Таши. Обязательно отвернется. «Узнал?» — спросит Варя. Он рассмеется, заправит растрепанные пряди Варе за ухо. Проведет пальцем по шраму от щеки к губе — узнал.
— Привет, — звонко окликает Варя. Вот она я, смотрите! Предвкушение щекочет горло.
— Это еще кто?
— Ты что с собой сделала? — почему-то пугается Таша, вскакивая со спинки лавки.
— Орехова! Тебя слепой стриг, что ли?
— И глаза разрисовала!
— Да она под тебя, Таша, косит!
Варя сжимается. Каждое слово смывает с неё краски.
— Дура! — Таша рычит, толкает Варю в плечо.
— Ты чего завелась? — Ванька оттесняет Ташу, окидывает Варю насмешливым взглядом. — И вовсе Орехова на тебя не похожа! Где ей? Как ни разрисуй, все равно — орех! Надтреснутый!
Злой смех бьет сильнее взбеленившейся Таши. Ребята кидаются колкостями, но в Вариных ушах барабанит только Ванькино «Орех! Надтреснутый!»
Исчезнуть бы, побежать со всех ног. Сил нет. Вытекли через трещину. Варя даже не набросок. Она орех. Испорченный. Пустой.
Спотыкаясь, она бредет прочь. Не слыша взволнованного окрика Павла:
— Варя, подожди!
***
Варя проплывает через прихожую, не оборачиваясь на удивленный мамин возглас. Щелкает задвижкой, запирая комнату, стекает на пол здесь же, у самого входа.
Только не смотри в зеркало!
Но взгляд все же цепляется за росчерк шрама.
«Ты моя Варя Поттер», — любила повторять мама. Сравнение не льстило. Сагу о мальчике со шрамом Варя игнорила. Хватило первого фильма. Гарри — избранный. А она кто?
Орех. Надтреснутый. Вот и все, что можно о Варе сказать.
Синий плед на диване, россыпь голубых подушек, стол и книжки на полках — комната превращается в набор клякс. Пальцы нащупывают рядом мягкое. Рюкзак. Варя прижимает его к животу, сворачивается клубком. Как скорлупа вокруг ядрышка.
В ребра утыкается уголок блокнота. Варя садится, утирает глаза. На руке остаются чёрные разводы. Выуживает из недр рюкзака пенал. Затем блокнот.
Чистый лист смотрит на неё вопросительно.
— Все хорошо? — Мамин голос за дверью звучит встревоженно.
— Норм, — врет Варя.
Круглое личико. Серый хвостик. Глаза и нос. Губы с опущенными вниз уголками. Линии мягкие. Варя перехватывает карандаш, перечеркивает лицо загзагом — вар–вар. Знакомьтесь, треснутый орех. Варя.
Шрам исчезает под злыми касаниями ластика. Если бы можно было так легко избавиться от зигзага на лице! Какой бы была Варя? Какой бы хотела себя видеть?
Варя с силой давит на карандаш, заостряя скулы. Обводит глаза поярче. Меняет хвостик на косой срез каре.
Таша.
Я — это Таша.
Перед глазами все расплывается.
***
От напряжения сводит пальцы. Замок не щелкает. Хорошо. В прихожей полумрак. Выдыхаю. Маман с этим уродом опять укатила.
Усмехаюсь своему отражению. Привет, незнакомка!
Таша?
Острый уголок одной из стрелок смазался. Тщательно уложенные утром волосы растрепались. Губы припухли от Ванькиных поцелуев.
Что происходит?!
Целуется он зло, кусаче. Или это после того, как Павел зарядил ему в глаз? Заступился за Варю.
Павел… Что сделал?
Дура! Завидует, и чему?
— Наташенька, моя сладкая! — Дергаюсь. Нет, нет. Нет. Меня здесь нет. Пожалуйста!
Таша? Что происходит?
Дверной проём рождает чудовище. Он шатается. Пьяный, опять пьяный. Руки-клешни цепляются за косяк, вытягивают из сумрака обвисшее брюхо.
— А я тут… скучаю, но моя девочка скрасит папочке вечер? — Яд, каждое слово — яд.
Сжимаюсь, не трогай меня! Не трогай!
Волосатые руки забираются под футболку, тискают. Не надо!
Залитый пивом живот — липкий, какой же он липкий! — прижимается к моей спине.
Нет, прошу!
Пожалуйста…
***
Выкручиваю кран до предела. Не слышать раскатистый храп за дверью. Его нет.
Вскидываю голову. Лицо. Ненавижу это лицо! Заострённое. Пухлые, жадные губы. Чудовище любит проводить по ним жирным пальцем. Воняющим рыбой.
— Мы же не скажем маме, правда? Зачем её тревожить?
Запах липнет ко мне. Не соскребешь.
— Ты сама виновата, сладкая. Слишком сладкая.
Ледяной водой в лицо. Смыть бы эти черты. Виновата. Сама.
Мне бы шрам через все лицо. Как у Вари. Не посмотрел бы на меня, чудовище?
Варя. Варенька, зачем я тогда… Это от испуга. Не надо тебе — как я, изломанной. Оставайся целой. Прости, Варя. Простишь ли?
Дрожащие пальцы привычно нащупывают лезвие.
Таша… Не надо, Таша…
***
Варя вздрагивает. В комнате светло. Значит, утро. Тело ломит от неудобной позы. Так и заснула на полу? В сжатой ладони сломанный карандаш.
Раскрытый блокнот валяется рядом.
Варя вскидывает голову. В зеркале — чужачка. Криво обрезанные чёрные волосы. Растекшийся макияж.
Таша!
Пусть это сон! Только сон!
Хорошо, что не раздевалась. Ноги ныряют в кеды. Варя хватает ключи. В спину звонко хлопает дверь.
Как глупо! Таша, не хочу быть тобой! Запишусь в салон, приведу голову в порядок! Никаких больше стрелок и рваных джинсов! В мусорку их! И шрам пусть… И Ванька мне не нужен! Только пусть это сон!
Кеды стучат по асфальту. По щекам льется. Вот здесь направо, мимо садика, куда вместе ходили.
Пусть Ванька твой! Я присмотрюсь к Павлу! Он за меня заступился… Нет, это тоже сон! Не было, ничего не было!
Варя замечает её у подъезда. Таша сидит на лавке, склонив голову, щелкает зажигалкой. Снова и снова. В губах у неё сигарета. Незажженная.
Пусть все неправда!
— Таша!
— Варя? — Тонкие пальцы сминают сигарету, отбрасывают прочь. — Прости меня…
Ташины руки обнимают нежно. Варя всхлипывает. Она простила Ташу, конечно, простила. Ведь это был лишь сон?
На Ташином запястье свежий шрам. Шестой.

Ночной пограничник
Хлопнуть дверью. Сильно, чтобы чашки на столе подскочили. Кто-нибудь заметил, что Аня ушла? Или так и сидят, пьют чай?
Вызвать лифт? Ждать, пока он тащится вниз? Нет! Ане хотелось двигаться: размахивать руками, греметь ботинками по бетонным ступенькам. Она побежала по лестнице. Рюкзак хлопал по спине, карандаши бились о стенки пенала, и рядом с ними бренчала связка ключей.
Выйти на набережную, достать эти ключи — теперь ненужные — и зашвырнуть подальше в Неву. Чтобы никогда не возвращаться. Не слышать вечных придирок: почему тарелки под кроватью, почему шмотки по комнате раскиданы, почему зачёт не сдала вовремя. Какая им разница? Как будто она сама не разберётся.
Зря она осталась в Питере после школы. Поддалась на мамины уговоры: у папы гипертония, ему вредно нервничать. А ведь могла уехать! В Москву, например. Поступила бы в Политех на издательское дело, поселилась в общаге, как все.
Дома невозможно нормально жить. Они не видят, что Аня уже взрослая! Нарушают её границы. Лезут во всё. До смешного: спрашивают, что ела в буфете. Не наигрались в родителей. Хватит, пусть без неё играют.
Аня толкнула дверь подъезда, глубоко вдохнула. Нос обожгло холодом — будто с головой окунулась в ледяную воду. И ненадолго забыла, что жизнь переменилась.
Между домами свистел ветер, подбрасывал и тащил размокшие листья, хрустящие пакеты, скомканные салфетки из соседнего фастфуда. Аня повернулась лицом к ветру, обеими руками натянула капюшон. В глаз попала соринка, Аня зажмурилась, потёрла глаз, капюшон слетел, пришлось развернуться.
Ну и ладно, не всё ли равно, куда идти. С той стороны дома тоже есть дорога к метро. Аня проморгалась, вытерла слёзы. Казалось, в глазу что-то есть, но Аня знала, это пройдёт.
На углу стояло такси. Без пассажира, ждёт кого-то. Водитель открыл переднюю дверцу.
— Вам куда?
Аня отшатнулась:
— Нет, спасибо, никуда.
Ветер стих, но с неба закапало. Сначала редко, потом чаще. Может, и правда на такси? Деньги есть, родители выдали на карманные расходы. Аня вернулась к машине, села на заднее сиденье.
— Куда едем? — переспросил водитель, слегка повернув голову.
«Молодец, в маске. Чтобы никого не заразить. Только она у него какая-то странная», — подумала Аня.
В полумраке казалось, что маска бархатная — она совсем не отражала свет. Так бывает, если ткань ворсистая. Необычно, Аня таких не видела. Надо маму спросить — может, дома есть чёрный бархат… хотя нет, домой Аня не вернётся.
— Сначала на набережную, там направо. Потом скажу, куда дальше.
Аня оглянулась на свой подъезд. Может, до родителей дошло, что это всерьёз? Она же сказала: «Не вернусь». Не поверили? Или сейчас выбегут, захотят остановить? Объясняться с ними Аня не станет, это безнадёжно. Не поймут. Да они и не вышли.
Дождь прекратился. Может, зря она села в такси? Но тут хотя бы тепло.
Аня достала телефон, начала набирать Симу, но вспомнила, что они сегодня поссорились. Всё было нормально, сидели, болтали. А потом Сима обиделась, сказала, что Аня вечно себя выше других ставит. Что на неё нашло? С кем теперь к зачётам готовиться? Да и сейчас — поехала бы к Симе, у неё хорошо. И родители классные, ни во что не лезут. И с правильной едой не пристают. Сима делает бутерброды на двоих, приносит кофе прямо в комнату. Аня вздохнула.
— Мы на набережной. Теперь куда? — спросил таксист.
— Извините. Ещё не дозвонилась. Сейчас.
Аня пролистала список контактов. Вот! Полина, в художку вместе ходили. С тех пор иногда встречались, но не дружили. Полина старше, учится в «тряпочке» на дизайне, уже на втором курсе. Аня ей завидовала: и поступила, куда сама хотела, и живёт одна. Этим летом они случайно встретились на улице, Полина пригласила зайти, и с тех пор они часто созванивались.
— Поль, привет. Ты дома? Можно к тебе?
— Привет. Сейчас, что ли? Ну давай.
— Только адрес напомни, я в такси еду.
Аня громко повторяла за Полиной, чтобы таксист понял. Он, глядя вперёд, кивнул. Аня думала, вобьёт адрес в навигатор, но нет, так поехал.
До Полины отсюда полчаса, если без пробок. Она, конечно, удивится, что Аня именно к ней приехала. Да просто больше не к кому. Придётся объяснять: дома всё достало, считают её ребёнком, надоело. Полина поймёт. Может, даже поможет найти работу. А что тогда будет с учёбой? Но думать об этом не хотелось.
Аня посмотрела в окно. Слева, как густые чернила, плескалась Нева. На воде метались золотые блики — под фонарями лежали огненными полосками, а дальше постепенно размывались. Аня потянулась к рюкзаку, чтобы нарисовать это, но поняла: слишком темно.
За другим окном проплывали опустевшие офисные здания, с отблесками на чёрных стёклах. Водитель повернул направо, улица показалась незнакомой. Ехали в темноте, машин не было, только редкие прохожие брели по тротуару. Аня заметила в свете фар табличку на доме, но не смогла разобрать буквы.
— Вы уверены, что нам сюда?
— Уверен.
— Но по набережной ближе!
— Там не проедем.
— Почему? Дорогу ремонтируют?
Водитель молча приподнял одно плечо, как будто соглашаясь.
Окна выглядели пыльными, несмотря на недавний дождь. За ними угадывались контуры зданий. Аня обернулась. Дома как будто оседали, таяли, сливались с темнотой. «Это потому, что фонари не горят. Мерещится всякое».
— Что это за улица? Как называется?
— Неважно.
— Слушайте, я всю жизнь тут живу, я, вообще-то, понимаю, куда надо ехать.
— Не понимаешь.
Анины ладони прилипли к кожаному сиденью. Он ещё и на «ты» перешёл.
— Эй, остановите машину! Всё, я выйти хочу!
Но такси мчалось вперёд. А если прямо на ходу выпрыгнуть? Аня подёргала ручку: не открывается. Крикнула:
— Стойте!
Водитель повернул голову, и Аня вжалась в спинку сиденья: вместо бархатной маски под капюшоном темнел провал. Чёрное пятно вместо лица. Аня забилась в угол, сцепила руки перед грудью, поджала ноги.
— Кто вы? Что вам надо?
Водитель крепко держал руль, мотор гудел всё громче, как будто машина вот-вот взлетит. За окном всё рассыпалось на части, превращалось в прах. Серые смерчи крутились над улицей и растворялись в небе. Силуэты людей — без лиц, как и водитель — покачивались на ветру, а потом их подхватывали потоки воздуха и уносили вверх.
Аню так трясло, что локоть бился о спинку сиденья.
— Я пограничник. Я приехал за тобой.
Прямо перед машиной на дорогу обрушился угол дома. Аня вскрикнула. Водитель сказал:
— Ты сама меня позвала, и я пришёл.
— Да не звала я вас! Это ошибка! Где мы?
— У границы между твоим миром и моим. Тебя здесь больше ничто не держит, ты поедешь со мной.
— Нет! Я не хочу! Верните меня обратно! — Аня вертела головой: с обеих сторон дороги торчали бесформенные огрызки домов, над ними поднимались пепельные столбы, как будто втягивая в себя остатки стен. Тротуар начал вспучиваться уродливыми волдырями, они лопались, и комки серого праха летели вверх. Сквозь дыры виднелась чёрная пустота. Но когда Аня пригляделась, она увидела там звёзды — внизу, под дорогой.
— Ты не хочешь в мой мир? Тогда чего же ты хочешь?
— Домой! Пожалуйста! — Аня наклонилась вперёд, попыталась заглянуть под капюшон.
— Неправда. Ты ведь сбежала из дома. Почему?
Аня не успела ответить — что-то с грохотом упало на крышу, но водитель не обратил внимания. Нажал на газ, мотор взревел, машина помчалась ещё быстрее.
— Стойте! Туда нельзя! — закричала Аня.
Через переднее стекло было видно, что дорога круто поднимается вверх, а потом обрывается прямо в небо. Ветер вертел в воздухе обрывки человеческих фигурок, они сталкивались друг с другом и распадались на части, как будто кто-то резал бумажные силуэты невидимыми ножницами.
— Ты не ответила, — равнодушно сказал водитель, не сбавляя скорость.
— Что? Я не слышала!
— Почему ты сбежала из дома?
Аня попыталась собраться с мыслями, но в голове было пусто, по щекам текли слёзы, а пограничник мчался вперёд, к обрыву.
— Хотела, чтобы они от меня отстали!
— Ты это получила. Ушла от них.
— Нет! Я ошиблась!
Обломки домов сыпались на дорогу всё чаще, машину мотало из стороны в сторону, Аня вцепилась в спинку переднего сиденья. Водитель, не оборачиваясь, спросил:
— Чего же ты хотела на самом деле? Думай, граница уже совсем рядом!
— Граница? Да! Хотела отстоять свои границы!
— Поэтому и я приехал за тобой, — усмехнулся водитель. — Ты нам нужна. Будешь охранять границы между мирами. Только скажи, чего ты на самом деле хочешь.
В голове у Ани мелькали яркие картинки. Вот мама, она улыбается, поправляет Анин шарф и говорит: «Не простудись». Вот папа, он заглядывает в Анин конспект: «Разобралась с математикой? Спрашивай, если что!»
— Не знаю. Наверное, они должны понять, что я уже не ребёнок, — сказала Аня, но машина по-прежнему мчалась к обрыву. — Ну пожалуйста! Отпустите меня!
— Но ты так и не сказала, чего ты хочешь.
Аня зажмурилась: всё кончено, обрыв уже совсем рядом. Сейчас машина сорвётся с дороги, и Аня больше никогда не вернётся домой. Нет, так нельзя! В отчаянии она привстала и выкрикнула:
— Не нужны мне никакие границы! Хочу сама отвечать за себя! Хочу, чтобы они мне доверяли!
Тормоза взвизгнули, Аню швырнуло на спинку переднего сиденья. Машина стояла на краю обрыва. Аня сглотнула солоноватую слюну — прикусила губу до крови — и расплакалась. Как будто бы от боли.
Пограничник протянул Ане салфетку:
— Держи. Нам пора. — Он развернул машину, и вдоль дороги снова выстроились высокие серые коробки, а тротуар заполнили серые фигурки людей.
Снова полил дождь, смывая пыль со стёкол. Аня ощутила толчок: колёса ударились об асфальт. Из темноты начали выплывать огни фонарей, вдали показались контуры домов — обычных, городских, окна сияли цветными квадратами. Появились новые звуки: мимо промчалась машина, звякнул трамвай.
Аня присмотрелась: это же её улица! Такси остановилось.
— Вы меня отпускаете?
— Да. Ты ещё не готова.
Выходя из машины, Аня вспомнила:
— А деньги? Сколько я вам должна?
Водитель глухо рассмеялся и уехал. Зазвонил телефон.
— Ты где? Я жду!
— Поль, прости. Не получилось.
Аня подошла к подъезду. «Хорошо, что ключи не выбросила». Лифт, постукивая, пополз наверх. «Что я скажу родителям?» Всё, что давно хотела сказать.

Стук копыт на заре
По конским спинам били крупные градины. Экипаж завяз в грязи, и Мика, сын хозяина, сквозь окошко наблюдал за тем, как отец ругает кучера и самолично тоненьким хлыстиком нещадно бьёт скотину.
— Н-ну, чего упёрлась, п-паш-ла!
«Фвиу!» — поддакнул хлыст, и отец, с крючковатым носом и горящими глазами, распрямился в своём стянутом портупеями сером френче, пегом от упавших на него градин.
Когда кучер поднажал сзади, а отец ещё раз вдарил по лошадиному крупу, раздались крики, похожие на женские, кентаврихи задрожали, и Мика почувствовал, что карета пошла вперёд. Кучер вернулся на козлы, и, ухая и чертыхаясь, мокрый отец залез обратно к Мике. Мика зажмурился, притворившись, что уснул под тёплою дохой. Ему было страшно и от того, как кричали кентаврихи, и от того, что хлыстик всё ещё был у отца в руках и он боялся почувствовать его жало на себе, разозлив папу неосторожным взглядом или словом.
Когда они подъехали к поместью, град сменился моросью. Взрослые занялись выгрузкой, а Мика подошёл к кентаврам и украдкой сунул им сахару. Руки кентаврих были привязаны к телу ремнями, а чёрные груди охвачены подпругами. Пристяжная кобыла Ночка с коротко стриженой гривой благодарно потёрлась о руку Мики, и он ощутил, как запотели у неё виски под уздечкой.
Отец взял Мику на ярмарку, чтобы приучить к делу, но Мика не оправдал его надежд. Он смотрел на товар печальными глазами и задавал дурацкие вопросы. Мика отвернулся, застеснявшись, когда отец показывал ему, как по зубам и плюснам выбрать хорошего производителя. Мика путал тягловые и беговые породы, хотя дома не раз отец рассказывал ему про клейма разных стран и областей. И наконец, Мика заплакал, когда отцу удалось прикупить жеребёнка от аравийской кобылы. Кентаврёнок выглядел совершенным дурачком, темные глаза прятались в вороных завитушках волос, но по иноходи и изящным бабкам отец увидел в нём хорошего бегуна. Когда они с купцом ударили по рукам и начали отнимать жеребёнка от матки, кентаврёнок завыл, а вслед за ним разнюнился и Мика. После этого отец ходил мрачный и на обратной дороге, пока они не попали под дождь, смотрел мимо сына.
«В мать-покойницу пошёл характером…» — прошелестел отец, снимая в прихожей длинные, покрытые чёрной грязью сапоги. Мика сжался, как перед ударом, но папа лишь угрюмо бурчал, поминая маму, которую Мика почти не помнил: «Всё в мать, та тоже «жалко их, жалко», а в город-то, небось, на их же спинах и ездила! Вот и ты — вот твои сапожки любимые, из чьей шкуры они сделаны?»
Образ отца предательски начинает плыть за влажной пеленой.
— Так, не надо, сырости на сегодня достаточно. Сегодня ужинаешь один, тебе в комнату принесут.
Скинув красные сапожки, Мика пошёл сквозь туман. Стук-ступенька, стук-вторая, хлюп-кап-кап, оступился и уронил две капли на пол. Кап-ступенька, кап-вторая.
Мика поужинал и был переодет в чистое ночное платье. В спальне осталась гореть маленькая керосиновая лампа, чадившая во влажном вечернем воздухе. За окном всё ниже и ниже, прячась, как охотник на кентавров в прерии, клонилось к горизонту солнце. Микины пальцы пахли конским потом и влажным деревом. Нюхая пальцы, Мика рассеянно пролистнул пару страниц из Жюля Верна и уже начал клевать носом — и вдруг услышал стук копыт и тихое ржание.
На границе между сном и явью Мику настиг страх. Он вдруг вспомнил, как купец, продавший им жеребёнка, доверительно шепнул отцу:
— Недалеко от вас бегун один рыщет!
Отец безразлично поводил плечами.
— Дикой? Если жеребец хороший, нужно отловить.
Купец сделал огромные глаза и прошептал:
— Клеймёный! Уже пару домов пожёг!
Мике почему-то стало не по себе от того, как торговец выпучил глаза и перешёл на шёпот, но папа Мики только взял сына за плечо и смело ответил:
— А клеймёный и подавно сам придёт, нужно только суметь встретить.
Окно Микиной комнаты выходило на конюшни. Ему казалось, что кентавры беспокойно лопочут что-то на гортанном языке, бьют копытами о стойла. «А конюхи спать полегли давно!» — тревожно подумал Мика, и ему начал сниться сон.
Он подходит к Ночке, своей вороной любимице. Серая Галтана спит в загоне рядом. Ночка распахивает добрые шоколадные глаза и тихонько ржёт. Мика обнимает Ночку, привставая на цыпочки, и вдруг обнаруживает, что руки кентаврихи развязаны. Лёгкое сознание неправильности происходящего едва тревожит сон Мики, но тут он чувствует, как его обнимают нежные руки, Ночка глядит на него осмысленным взглядом и начинает петь колыбельную.
Чёрные лошадки за тобой пришли,
Спрыгивай с кроватки — ножки в сапожки.
На заре копытца стукнут цок-цок-цок,
Развяжи нам ручки, отвори замок.
Ууу-ууу — ласково напевает Ночка, крепко обнимая Мику, и он видит, как Галтана с осовелыми со сна глазами присоединяет свой голос к песне.
Чёрные лошадки ходят на заре,
Цокают копыта в влажной, сизой мгле.
Серебро уздечки, чепрака атлас.
Пускай мальчик Мика покатает нас!
Ууу-ууу… Галтана отбивает копытом ритм, Мике становится душно, он пытается оторвать голову от груди Ночки, но та держит его железной хваткой.
Чёрные лошадки за тобой придут,
Маменьку затопчут, папеньку убьют.
Чёрные лошадки, матовый рассвет,
Выйдешь, оглянешься — а тебя уж нет.
Ууу-ууу!
Мика с криком скинул тяжёлое одеяло. Кто-то забрал лампу с прикроватного столика. Простыня была мокрой и горячей — ах, вот бы нянюшка ничего не рассказала отцу!
Ууу-ууу! Это на новом месте выл кентаврёнок. Его поставили отдельно от кобыл, чтобы не испортить аллюр. Как сквозь ватное одеяло через туман донёсся вскрик конюха, посвист хлыста, и вой надорвался тихим плачем.
Мика вывесил вымокшее ночное платье на окно и переоделся в дорожное. По сумеречному небу скакала чубарая луна. Ощупывая руками темноту старого поместья, Мика начал спускаться по лестнице.
Папа ещё не спал — сидел перед тлеющим камином, чистил старую двустволку. «Завтра пойдёт на клеймёного!» — с обожанием подумал Мика. Ему было стыдно за свои слёзы днём и за ночной кошмар.
Отец заметил Мику, поднял на сына цепкий взгляд серых глаз.
— Папа, жё суи дезоле… — скороговоркой пробормотал Мика.
Отец усмехнулся, разгладил чёрные усы и посадил Мику рядом с собой на диван.
— Что, не спится?
Мика робко кивнул.
— Я вот тоже каждый раз после ярмарки не сплю. Знал бы ты, как я боюсь, что эти олухи чего-нибудь напортят: опоят жеребца, перетянут груди тельной кобыле или измордуют иноходца.
Мика знал множество историй о кентаврах, которые рассказывал ему отец. Как папа укротил мустанга на Кавказе, к которому казаки даже подойти боялись. Как папа с учёным Переживальским ходил в экспедицию и открыл новый вид на Алтае. Папины рысаки выиграли Гран-при на скачках Его Величества, причём папа сам правил повозкой. Мика, играя, представлял себя на месте отца, но когда папа был рядом, Мика становился всего лишь глупым и плаксивым мальчиком, которому никогда не совершить подвига.
— … а завтра будешь приучать к седлу жеребёнка. Ты у меня славный наездник, мой мальчик.
Мика сонно кивнул, согретый отцовским табачно-мускусным запахом и жаром камина. Но на кромке сознания паслась неясная тревога, и Мика выпалил:
— Папа, а кентавры могут… разговаривать?
Отец вздохнул. Опять глупые вопросы… Ниточка взаимопонимания, протянувшаяся между ними, задрожала, грозя оборваться. Но сегодня Мика пришёл в хорошую минуту.
— Нет, сынок. Обезьянья лапа похожа на человеческую руку, но от этого животное не становится человеком. Кентавр — такое же животное: полезное и сообразительное, если у наездника хватает разума им правильно управлять. Но разговаривать, думать, изобретать кентавр не может. Без человека кентавр — лишь опасный зверь, клубок диких, необузданных страстей с самыми примитивными желаниями. О, да ты уже спишь, мой мальчик…
Праздничными брызгами разлетелось окно гостиной. За окном раздался тяжёлый топот и гортанный крик.
«Клеймёный!» — захолонуло сердце Мики.
Отец встал, оранжево-чёрный, с ружьём наперевес.
— Жди здесь! — бросил Мике отец.
Мика свернулся клубочком на диване и, вздрагивая, слушал крики дворни и топот копыт. В сумерках алым пятном вспыхнули конюшни, и Мика заволновался за Ночку с Галтаной. Громом среди ночной тишины прозвучал выстрел.
Мика нашарил у камина сохнущие сапожки. Скоро-скоро папа придёт, покажет ему связанного клеймёного. Но суета не прекращалась, кто-то кричал, ржали кентавры, будто за окном гуляло целое стадо. Ах, эти олухи — вспомнились слова папы — вывели ли они Галтану с Ночкой из горящих конюшен?
Мика побежал к выходу, где-то в поместье вопили перепуганные сенные девки, и как только Мика распахнул дверь на крыльцо, грянул второй выстрел.
В дыму и предрассветном тумане Мика увидел папин профиль с крючковатым носом, отец сидел верхом, перезаряжая ружьё. Отец повернулся к Мике, и Мика увидел бронзовые скулы и сжавшиеся в яростные щёлочки глаза — это был не папа, а кентавр!
Мика бросился вниз. В грязи ничком лежал отец, серый френч был истоптан и измазан следами копыт. На спине расплывалось багровое пятно. Клеймёный, раздувая ноздри и взбрыкивая, стоял над телом, ружьё казалось игрушечным в его потных ручищах.
Мика с криком кинулся к зверю, ударив кулачками в конскую грудь. Кентавр двинул наотмашь прикладом, и Мика почувствовал, как взрывается голова и наполняются солёной кровью нос и рот.
Мика упал в грязь. За спиной, страшно недвижимый, лежал отец. Конюшни пылали. Мика увидел, как дядька Захар падает, сбитый с ног ударом с разбега, а потом Галтана встаёт на дыбы и опускает копыта прямо на голову конюха. На недостижимой высоте ржал клеймёный, тяжёлые копыта, как камни, месили грязь рядом с его, Мики, маленьким перепачканным телом. Хрусть! — ноги пронзила боль! Кентавр заметил красные сапожки и теперь яростно затаптывал Мику.
Мику подхватили нежные мамины руки. Мама подняла его высоко-высоко, бережно придержала сломанные ножки. Мамины руки пахли прямо как Микины — конским потом и деревом, а плечи бороздили розовые, уступчатые следы от ремней. Клеймёный был ещё рядом, но мама гортанным голосом произнесла заклинание, и клеймёный затих. Мама положила Мику на вороную спину, и Мика забылся горячечным сном под стук копыт на заре.

Цвет серый
«Сегодня мы танцевали ирландский вальс. Шеренга. Пары. Круг. В кругу мы держались за руки и касались друг друга носами. Представляешь, здесь собрались люди с разными глазами. Я насчитала двенадцать цветов. Больше, чем радуга…»
Олег закрывает глаза и пытается представить, как это — ирландский вальс. Он никогда не был в Ирландии. Там-дам-дам, там-дам-дам… Музыка ног на холодном бетоне. Олег опускает серые жалюзи. В деревнях в таких случаях заколачивают окна. Уйти из дома оказалось проще, чем это можно было себе представить. Вещи собирать не надо. Потому что никакие вещи не нужны. Как не нужна еда. Не нужен сон. Сон больше не понадобится никогда. Потому что тогда он не услышал будильник. Злата всегда смеялась над тем, что он много спит. И никогда не выглядит выспавшимся. И сливается с серым городом. Он примчался на три с половиной минуты позже. И успел её увидеть — в синем платье с рыжими ромашками. Или одуванчиками. Или васильками. Олег не помнил, какие цветы бывают рыжими. Этого не помнил никто в сером городе. Злата держала за руки серых людей без лиц. И был ветер. И синее платье развевалось торжествующим флагом.
Олег спускается по лестнице с серым конвертом в руке. В конверте — Злата танцует ирландский вальс. Из квартиры на третьем перекатами грома грохочет рояль. Олег больше не будет жить в доме, куда каждый вечер приходит человек без лица. Ест на кухне еду. Ложится на диван, пультом вызывает серую картинку на громадной плазме. И засыпает. И всегда слышит будильник. И не понимает, почему его сын не похож на него.
Из квартиры на первом люди без лиц выносят стопки альбомов. В альбомах — старые фотографии. Настолько старые, что на них есть цвет.
Новость нового дня — хранить цвет запрещено.
***
«У нас спа-день. Под глазами — патчи из чая. На лице — овсянка. Мне триста сорок лет. Или триста пятьдесят. Зеркала всё равно нет. И что бы я могла там увидеть? Страх? Пока не смотришь, можно быть храброй. По утрам я трогаю лицо руками. Иногда узнаю не сразу. И гадаю — в кого я превратилась сегодня? Больше всего хочется превратиться в Рыжего. Ты же кормишь Рыжего?»
Рыжий смотрит в окно. Синее небо с рыжими полосами заката. Сценический задник, забытый с прошлого спектакля. Серые люди отказались от лиц, чтобы не злиться на закат. Рыжий — обычный серый кот. Он пришёл к Злате сам. Скрутился под дверью тёплым клубком. Настолько тёплым, что Злата назвала его Рыжим.
Рыжий нюхает буквы на бумаге. Буквы пахнут ничем. Если бы у цвета был запах, в этом городе он был бы серым. Олег Рыжего кормит. Миску с кормом приносит на подоконник. Чтобы не звать кота по имени.
Новость нового дня — произносить цвет запрещено.
***
«А во дворик попадает солнце. И я представляю, что это — Сицилия. И дверь, из которой я только что вышла, ведёт в церковь — ту самую, где, помнишь, на коленях перед священником стояли двое. А ты обнимал меня сзади и дышал в затылок нагретым воздухом. Я поворачиваюсь к солнцу спиной и молюсь. Даже если этот дворик навсегда, я помню тебя влюблённым…»
Вывески «Сдаётся» наползают друг на друга. Серые дома склоняются под их гнётом. Некоторые не выдерживают и, дождавшись темноты, рассыпаются. Выдохом облегчения шуршат по ночам старые камни. Ещё чуть-чуть, и город захватят пустыри. Олег прижимает к носу конверт. В конверте — солнце из дворика и запах волос Златы. Олег прячет конверт в карман, достаёт смартфон, заходит в почту. «Сицилия!» Экран смартфона загорается двумя билетами. Два дня. Осталось всего два дня.
Новость нового дня — покидать серый город запрещено.
***
«Самое ужасное во всём этом, что я совсем не умею мыть полы. Это же так просто — возить по полу тряпкой, пока не исчезнет грязь. Грязь не исчезает. Она цепляется за тряпку и возвращается на пол. В пятом классе учительница по трудам орала: «Какое тебя ждёт будущее?!» И было страшно. Было так, как будто будущее уже здесь, в классе с поднятыми на парты стульями, как будто оно смотрит на тебя и не узнаёт…»
На полке — следы фигурок, привезённых оттуда, где есть цвет. Сами фигурки перебрались в ящик. Долговязому Дон Кихоту места в ящике мало, он высунул голову и смотрит из-под шляпы — обречённо и храбро. Олег проводит по полке тряпкой, и следы исчезают. На их место тут же опускается серая пыль. Она всегда была где-то рядом.
Олег берёт на руки Рыжего, раздвигает створки шкафа, заходит с Рыжим в шкаф, задвигает створки. Шаги на лестничной клетке громче, чем мурчание Рыжего. Один день. Остался всего один день. Шаги затихают перед дверью. Щелчок сдающегося замка.
Новость нового дня — глазок на двери предназначен для тех, кто снаружи.
***
Серое здание ничем не отличается от других серых зданий. Только белым листом бумаги на серой ограде. Кто-то придумал, что если где-то и нужен белый цвет, то только здесь. По бумаге потоком ожидания льются буквы. Чем ближе время, тем сильнее поток. За секунду до открытия ворот буквы складываются в имена и тяжёлым ливнем срываются с листа.
Олег стоит у самых ворот. В руках — две серых бумажки. Входные билеты туда, где серый город превратится в воспоминание. Пропуска на выезд из города принёс человек без лица. Открыл шкаф, погладил Рыжего. «Это всё, что я могу сделать», — сказал человек без лица сыну, который совсем не похож на него.
Из ворот выходят люди. На белом листе исчезают имена. Люди щурятся на серое небо. Ещё один человек. Ещё одно имя. Ещё один человек. Ещё одно имя. Ворота закрываются. Олег смотрит на пустой лист. Мир сжимается до размера ромашки на синем платье и взрывается множеством серых конвертов.
Злата из ворот не вышла. И больше никаких новостей.
***
Бежать. До остановки дыхания. До темноты. Скулить, как выброшенный на дорогу пёс, не различать дороги, различать только номер на серой машине. Двадцать два ноль два. Дата рождения Златы.
Машина выезжает из серого города и останавливается. Нейтральная зона. Цветущий лён — синяя изнанка серого полотна. Машина выпускает танцующую синюю птицу и возвращается в серый город.
***
Они бредут по дороге. За спиной в синем поле смеются будущие дети. Ненужными серыми бумажками играет ветер. И Рыжий уже сидит у двери.

C’est La Vie
Олег и Ирина Ольховские невероятно любили друг друга. Обоим было под сорок, когда они встретили друг друга. У каждого за плечами было по неудачному браку и болезненному разводу, и на момент встречи их жизни крутились в основном вокруг работы и редких встреч с друзьями в пятницу вечером.
У Ирины была самая обыкновенная внешность — средний рост, короткие крашеные тёмные волосы, карие глаза и немного увеличенные филлером губы. Олег же, напротив, был настоящим красавцем — высокий, статный брюнет с широкими плечами и глубокими зелёными глазами. Но никто никогда не смотрел на Ирину с такой любовью и восхищением, как её зеленоглазый красавец-муж.
Они жили вместе почти восемь лет, но пожениться решили лишь пару лет назад. По странному совпадению проблемы начались сразу после свадьбы. У Ирины стало часто болеть сердце — пульс поднимался до ста восьмидесяти ударов после простого подъёма по лестнице, в груди остро болело, становилось трудно дышать.
Олег, обеспокоенный странным состоянием супруги, записал её к именитому кардиологу, потратив на приём баснословную сумму. Тот прописал ей таблетки, и на какое-то время боль ушла. Супруги даже пару раз летали в Италию кататься на горных лыжах. Ирина чувствовала себя прекрасно.
Но вскоре проблема вернулась. К болям и тахикардии прибавились онемение левой руки и невероятная слабость. Ирина практически не могла ходить и редко преодолевала расстояния больше, чем коридор их с Олегом квартиры — от кровати до туалета и обратно.
Лечащий врач Ирины посоветовал хирургическое решение, причем чем скорее больная решится на операцию, тем больше у неё будет шансов на успех. Ирина категорически не хотела ложиться в больницу. Она ненавидела их ещё со времен детства, когда её мать, страдавшая ипохондрией, таскала девочку по всем врачам, подозревая у маленькой Иры то гастрит, то аппендицит, то кишечную непроходимость. Но любящий Олег убедил жену дать врачам шанс и организовал для Ирины приём в одной из лучших клиник в стране.
И вот, Ирина Ольховская лежала на больничной каталке в предоперационной. Низкий и полноватый хирург с небритым и немного непропорциональным лицом заверил Олега, что операция продлится максимум два часа, а потом они оба будут «свободны и вечно счастливы». «Немного странные формулировки для хирурга», — подумалось тогда Олегу. Но развивать эту мысль у него не было времени — его ждала подготовленная к операции жена, чьи карие глаза в ужасе метались по серому больничному потолку.
— Олег, я боюсь! — едва сдерживая слёзы, проговорила Ирина, глядя на мужа.
— Не переживай, моя хорошая, всё будет в порядке, что там эта операция — заснёшь и ничего не почувствуешь, а проснёшься — уже всё будет готово, — успокаивал супругу не менее взволнованный Олег, всеми силами стараясь не выдать себя.
— А если я не засну?
— Обязательно заснёшь, моя дорогая, здесь такие профессионалы работают. — Рука Олега размеренно двигалась от макушки Ирины до плеча и обратно.
— А ты будешь рядом? Или хотя бы в соседней комнате? Я боюсь без тебя! — Женщина сжала пальцы мужа так, что те побелели.
— Конечно, буду, моя милая, видишь вон то окошечко — я буду прямо за ним, оттуда вся операционная видна, и я буду тебя ждать, а потом мы поедем домой и будем есть черешню, как ты любишь!
Ирину увезли в операционную, а Олега проводили в наблюдательную — крохотную комнату с небольшим окошком в стене. Теперь супругов разделяло толстое звуконепроницаемое стекло. Вместе с Олегом в наблюдательной находился молодой медбрат в халате, который был велик юноше минимум на два размера. Интересно работает человеческий мозг — грудную клетку Ирины вот-вот разрежут, а Олег не мог оторвать взгляда от слишком большого халата. Медбрат протянул ему стакан воды с сочувствующей улыбкой. Олег сделал пару глотков.
Постепенно волнение начало спадать. Олег утешал себя тем, что эта клиника стоила больших, очень больших денег и считалась одной из лучших в стране, а НИИ при клинике был известен самыми передовыми исследованиями. Мужчина привык думать, что высокий ценник равняется высокому качеству — эта точка зрения ещё ни разу его не подводила.
Ольховский заставил себя оторвать взгляд от медбрата и повернулся к окошку в операционную. Наблюдая за тем, как в помещение входят хирург, анестезиолог-реаниматолог и две медсестры, Олег задумчиво постукивал пальцами по коленке. Ирина лежала головой к нему, так что он мог видеть только её взволнованное лицо — остальное закрывала светло-голубая ширма. Он не был уверен, что Ирина может его увидеть, но на всякий случай улыбнулся и помахал ей рукой. Та улыбнулась в ответ — её губы дрожали. Операция началась.
Сначала Олег подумал, что ему показалось. Будто бы он видел, как расширяются зрачки Ирины, когда доктор сделал первый надрез. «Да ну, глупости, — успокаивал он сам себя — там с ней замечательный анестезиолог, я читал его резюме, всё должно быть в порядке». Широко открытые глаза Ирины выражали шок и ужас. Как будто… да нет, не может быть.
Когда по её лицу потекли слёзы, Олег не смог сдержаться. Повернувшись к медбрату, стоявшему с ним в наблюдательной, он нервно воскликнул:
— Вы бы пошли проверили, как там анестезия работает, мне кажется, ей больно!
— Разумеется, ей больно. Так и должно быть, — тихо, но чётко проговорил медбрат, рассматривая свои ногти.
— Что… Что вы имеете в виду?! — Сердце Олега забилось сильнее, а к лицу прилила кровь.
Медбрат подошёл к двери наблюдательной и медленно повернул ключ в замке. Два оборота. Два щелчка. Два удара пропустило взволнованное сердце Олега. Затем он встал между Олегом и окном в операционную, прислонился к нему спиной и, скрестив руки на груди, медленно заговорил.
— Ей очень больно сейчас, а вам будет больно, когда ей уже станет всё равно. Займёте её место и послужите на славу науке.
Взгляд Олега снова застыл на халате юноши. Он отчаянно пытался вслушаться в смысл слов, которые произносил рот медбрата, но поднимающиеся внутри ярость и страх мешали мыслить ясно.
— Какого чёрта ты несёшь, щенок? Что вы сделали с моей женой?
— Вы ведь читали о нашем НИИ, — так же спокойно и тихо продолжал медбрат. — Думаете, почему мы лучшие в стране? Надо же на ком-то проводить исследования, чтобы хорошо лечить людей. — Медбрат отделился от окна в операционную и начал размеренно ходить вдоль стены со стеклом.
«Зачем он всё это мне рассказывает», — подумал Олег. Мысли отчаянно разбегались при малейшей попытке поймать нить рассуждения и осознать происходящее.
— Ты что-то подмешал мне в воду, скотина? Да я тебя… Да я вас всех… — сдавленно выговорил Ольховский. Зрение перестало фокусироваться даже на огромном халате, руки задрожали. Медбрат, не обращая на собеседника ни малейшего внимания, продолжал:
— А где найти столько живых желающих пожертвовать собой ради науки, скажите на милость? Государство наше такой подход не одобряет, никаких пособий или дополнительных выходных никому не даёт. Вот и приходится играть в русскую рулетку с пациентами. Сегодня вам и вашей жене не повезло.
Повернувшись к Олегу, медбрат всё так же сочувственно улыбнулся и завершил мысль:
— Если вас это утешит, в смерти жены вы не виноваты. Как говорят французы, c’est la vie.
Олег почувствовал, как горло пересохло, а ноги начали предательски подкашиваться. Лицо почему-то съехало влево, а левая рука начала ныть. Он уже почти ничего не видел. Перед мысленным взором маячил испуганный взгляд Ирины, её широко распахнутые карие глаза, её рука, до белизны сжимающая его пальцы.
— Вам стоит присесть, Олег Степанович, — раздался голос издалека. — И лучше не волнуйтесь — повышенное количество адреналина в крови мешает исследованию. Подождите немного, вам обоим осталось потерпеть всего каких-то полчаса.
***
Это лето выдалось невыносимо жарким — практически тридцать пять градусов в тени. Люди старались оставить на себе как можно меньше одежды, молодые девушки гуляли в лёгких льняных платьях и коротких шортах. Но работникам убойного отдела Южного района шорты и не светили — сотрудник органов всегда должен быть в форме. А это значило: плотные чёрные брюки с лампасами, наглухо застёгнутая рубашка с погонами, фуражка — ну хоть от пиджака на лето освобождали, и на том спасибо.
Коренастый подполковник, обливаясь потом и утирая лоб краем синей рубашки, проводил брифинг:
— На пляже у Южного пруда найдено тело. Опознать покойника не удалось. На нём был деловой костюм, явно новый, но никаких бирок найдено не было. В кармане пиджака обнаружен клочок бумаги. Установить происхождение не удалось, все чернила размыло водой. Следов насилия не обнаружено. Причина смерти — инфаркт миокарда.
— Звучит как очередной «глухарь», — задумчиво почесав затылок, сказал один из оперативников.
— Поэтому делом займётся Степанов. У него лучшая раскрываемость в отделе, — сказал подполковник, глядя в противоположную стену. — На сегодня всё. Степанов, за работу, докладываешь лично мне!
Степанов, сидевший в конце комнаты и ужасно страдавший от похмелья, не был рад такому раскладу. Его мутило, голова грозилась расколоться на две части, а во рту можно было устраивать песочницу. Страданий Степанову добавляла жара — под палящим солнцем, плавящим даже асфальт, функционировать отказывалось даже тело, а голова — и подавно.
В неполные тридцать пять лет Владимир Степанов уже построил неплохую карьеру следователя. На его счету было порядка пяти раскрытых дел, которые поначалу казались совершенно безнадёжными. В отделе считали, что у Степанова такая кривая удача — раскрывать «глухарей», видеть зацепки там, где трое следователей до него проходили мимо. Сам же Степанов, подобно многим циникам-алкоголикам средних лет, просто считал себя умнее остальных.
Владимир никогда не был женат и не стремился к браку. Всё, что у него было — а это работа, однокомнатная квартира на первом этаже и алкоголь разной крепости, поджидавший его в серванте, — его полностью устраивало. Конечно, мать давно говорила ему, что пьянство и сычевание до добра не доведут. Но об этом, как и обо всём, что не касалось работы, Степанов предпочитал лишний раз не думать.
На седого, худого и вечно всем недовольного Степанова в отделе косились недобро, но заинтересованно. Старательно игнорируя оглушающую мигрень, следователь медленно поднялся со стула, пошатнулся и отправился в морг. «Надо бы раздобыть “Боржоми”», — вяло подумал он.
В морге было темно, прохладно, и самое главное — тихо. Странной казалась эта мысль, но Степанов ухмыльнулся, подумав, что именно здесь он больше всего рад сегодня оказаться. Никакого шума, никакой духоты, никаких назойливых коллег. Следователь подошёл к каталке, на которой, прикрытый простынёй, лежал неопознанный мужчина. Из кармана пиджака действительно торчал белый бумажный треугольник. Степанов потянул за него.
— Так-так, что ты мне расскажешь, — пробормотал Владимир, вглядываясь в безымянный клочок бумаги.
На нём красовалась огромная клякса синего цвета — и больше ничего. Но что-то зацепило внимание следователя. Нахмурив брови, Степанов повертел бумажку в узловатых пальцах с обкусанными заусенцами и задумчиво поднял её на свет. Глаза следователя сначала сузились от резанувшего их сияния лампы, а затем расширились от догадки.
— С этого мы и начнём, — тихо произнёс Владимир, пряча в карман листок с водяным знаком одной городской клиники. Его плечи поднялись и напряглись, а нос задрался выше обычного, как у собаки, взявшей след.
***
Народу в больнице было немного — даже бабушки, самые заядлые посетители больниц, отказывались покидать прохладу дома в эту невыносимую жару. Степанов стоял прямо под кондиционером и жадно глотал холодный «Боржоми», минуту назад купленный в вендинговом автомате. Заботливая медсестра на посту предложила ему таблетку ибупрофена, и тот её с радостью принял.
— Скажите мне, милочка, не приходил ли к вам на днях вот этот мужчина? — С этими словами Степанов достал из нагрудного кармана фотографию покойника и показал её медсестре.
Та смущенно пробормотала что-то про «больную жену», «операцию» и «доктор занят, вызову ассистента» и убежала звонить кому-то по внутреннему телефону. Степанов, опершись на стойку, остался ждать в холле.
Через пару минут дверь одного из многочисленных кабинетов открылась, и из неё вышел молодой медбрат в халате на два размера больше. Бросив короткий взгляд на двери предоперационного отделения, он глубоко вздохнул и направился к сестринскому посту. Подойдя к стойке, он сдержанно кивнул медсестре и повернулся к Степанову.
— Добрый день! Ольга, — медбрат кивнул на постовую медсестру — передала мне, что вы хотели меня видеть. Чем могу помочь? Только прошу вас, побыстрее, у нас сегодня три операции, и доктор хочет, чтобы я ему ассистировал.
Юноша говорил тихо, но чётко, проговаривая каждое слово. Степанов, представившись и показав медбрату своё удостоверение, протянул ему фотографию найденного на пляже мужчины.
— Вы когда-нибудь видели этого человека? — спросил Степанов, указывая на фотографию. Медбрат нервно передёрнул плечами, как будто хотел отогнать от себя назойливую муху.
— Да, видел. Не припомню фамилию, кажется, Ольшанский или Ольховский, Олег Степанович, его жену буквально позавчера оперировали в нашем НИИ. К сожалению, последствия операции оказались непредсказуемыми и были несовместимы с жизнью. Очень печальная история. А что с ним случилось? — без тени сочувствия или интереса спросил медбрат.
— Нам бы тоже очень хотелось знать ответ на этот вопрос. Его тело было обнаружено сегодня утром, — сказал Степанов, внимательно разглядывая юношу. Тот, если не считать странного движения плечами при виде фотографии, оставался спокойным и безучастным.
— Это, конечно, ужасно, — покачал головой медбрат, — умереть от инфаркта в самом расцвете сил. Я помню его, он ведь совсем не старый был мужчина, лет сорок, может?
Глаза Степанова сузились. Мигрень звенела оглушающим колоколом в ушах, но на неё не было времени. На следователя накатило такое знакомое, такое сладкое и тягучее ощущение — ощущение близкой разгадки. Он задержал дыхание, а затем медленно, но очень чётко проговорил:
— Ему было тридцать восемь, вы правы. Вот только о причине смерти знает лишь следовательская группа и патологоанатом.
По виску бледнеющего медбрата скатилась капля пота, хотя больничный кондиционер дул прямо на них.

А он и не знал…
Похоже, солнце навсегда покинуло Город Света этим летом. Казалось, что из вечернего тяжелого тумана вот-вот покажется Тауэр, но никак не Лувр! А может это сигаретный дым? Докурились, парижане! Мелкая морось растушевывала свет фонарей, липла к лицу, проникала под кожу. Даже в этот вечер, созданный для того, чтобы, укутавшись пледом, пить горячий грог и лениво болтать с друзьями, Стефан не изменял своей традиции — ровно в восемь он вошел в родной и теплый музей д’Орсе. Как всегда, Стефан долго стоял у неприметной, на первый взгляд, картины, внимательно и восторженно наблюдая за читающей девушкой. Рыжеватые волосы, аккуратно убранные назад, строгое черное платье и белоснежный воротник — потрясающая игра света и цвета! Было что-то завораживающее, интимное и даже мистическое в их очередном, возможно, сотом по счету свидании.
Вечер в музее для него идеальное время — особенно сейчас, кто захочет в такую погоду выйти из дома или уютного бара, чтобы прикоснуться к вечному? Стефан направился на пятый этаж, радуясь редкой возможности в одиночестве полюбоваться импрессионистами. И вдруг… Он остановился у самого входа. Она оказалась там внезапно, пригвоздив его к полу. Правой рукой постоянно поправляла рыжие пряди, открывая взору тонкий белый воротничок. Ее чёрное платье целомудренно прикрывало плечи и декольте, но дерзко оголяло пухлые бёдра. Стефан подумал, что в нем лучше не нагибаться, хотя он лично был бы не против. Она не отрывалась от Завтрака на Траве Эдуарда Мане и, казалось, вела немой диалог с той обнаженной красоткой на холсте. Стефан подошел ближе.
— Вы заметили, что у этих полотен, которые смотрят друг на друга, одно название, но какие они разные! — кивнул он в сторону картины за её спиной. Стефан удивился, как странно прозвучал его голос, будто не он произносил эти слова.
Она бросила на него беглый взгляд, а затем обернулась: снова пикник, лес, богачи в красивых одеждах девятнадцатого века.
— Да, но там незнакомки, а эту я, кажется, знаю, — указала она на голую женщину, сидящую в обществе разодетых мужчин.
Она изучала обе эти картины по очереди грустным и сосредоточенным взором. В глазах её было море, и небо, и какая-то тысячелетняя тоска. Её звали Элоди. Он хотел запомнить каждую деталь: и непослушные завитушки у висков, и маленькую родинку на фарфоровой шее, и длинные пальцы, которые она погружала в волосы.
Стефан пригласил её в бар неподалёку. Отчаянно желая согреться в этот июльский вечер, Элоди прижималась к его горячей руке, а он то и дело, будто случайно, проводил ладонью по её бедру. Она пахла тёплым молоком с корицей, Стефан пил такое в холодное октябрьское утро, укутавшись в одеяло, и смотрел из окна, как элегантно желтеет Монмартр.
Они сидели в глубине ирландского паба, пили грог, и он читал ей Рембо. Булавкой царапнула мысль, что Элоди может исчезнуть, что сейчас прозвенит будильник и он окажется один, в своей пустой квартире. Стефан крепко сжал её холодную ладошку.
И с тех пор, когда они расставались, Элоди забирала с собой его сон. Каждую встречу, каждое её движение или фразу он проживал ещё десятки раз после. Порой Стефан ощущал, что его бешеное сердце вот-вот вырвется на свободу, как пробка из шампанского, или сам он раздуется и лопнет, и тогда он брался за кисть, чтобы хоть как-то унять это безумие в душе. На все его картины Элоди смотрела, как на шедевры в музее д’Орсе. И ему хотелось рисовать ещё, для неё! Однажды Стефан даже подумал, что и её он нарисовал, а затем оживил.
В последний день лета Элоди сама пригласила его в парк Тюильри. Когда она произнесла «Мы не можем быть вместе», обрушился ливень, а внутри у Стефана разорвался снаряд. Теперь ему уже хотелось проснуться от звонка будильника. Воздух больше не помещался в груди. Пока она говорила что-то про их несовместимость, он отчаянно искал способ задержать её. Она исчезла так же внезапно, как появилась, оставив его под дождём, совсем одного в городе. Стефан отказывался понимать, как два человека, настолько подходящие друг другу, могут вот так просто расстаться…
С заднего сиденья такси Элоди каменным взглядом смотрела на плачущий Париж. Пальцы нервно наматывали черную ткань ненавистного платья. Они стояли в небольшой пробке прямо у музея д’Орсе. Элоди вспомнила, как в детстве она часто ходила туда с папой, солнце нежно лилось по шоколадной бронзе гигантских носорогов и слонов у входа. Маленькую Элоди завораживали огромные музейные часы девятнадцатого века, ей казалось, что, если дотронуться до них, можно попасть в любую эпоху, в любое счастливое мгновение жизни. Или вовсе остановить время в те моменты, когда они с папой ели мороженое или он рассказывал ей про картины Ренуара. Но безжалостное закатное солнце забирало с собой очередное воскресенье, и папа исчезал до следующих выходных.
Элоди бросила таксисту пару купюр и мгновенно вышла, словно из убежища, в туманную морось, услышав вслед: «Мадам, здесь нельзя». Она пересекла дорогу, не обращая внимания на недовольных водителей, и вскоре оказалась рядом со своими старинными друзьями: слоном и носорогом. Её белые ноги изрезали мурашки и, недолго думая, она впорхнула в музей детства. Элоди не останавливалась, не бродила бездумно, она помнила: лифт, пятый этаж, прямо и налево. Будто там, у одной из картин Ренуара, Элоди непременно встретит отца… До цели ей помешал дойти Мане. Увидев её, совершенно голую, отстраненную, но притом уверенную, в лесу среди разодетых месье, Элоди остановилась.
— Тебе совсем не больно? — прошептала она, вспоминая, как пару часов назад точно так же сидела обнаженная в окружении мужчин. Правда, не в лесу, а в одном из дорогих парижских отелей. И уж, конечно, не бесплатно.
И тут появился он, заботливо указывая на ту, другую, «приличную» картину Моне. «Глаза тёплые, как у папы», — подумала Элоди.
А потом был август, она больше не брала клиентов, устроив себе отпуск. Они потерялись в Париже художников и музыкантов, пропадая в скрытых от глаз туристов кафе, владельцев которых знал Стефан, или в галереях его друзей скульпторов. И однажды, когда он в очередной раз вытащил сигарету, Элоди вспомнила, как не любил табачный дым её отец. А мать всегда курила… И он, влюблённый, но чужой, стал теперь совсем неуместен. Вновь захотелось опасности ночных отелей. А Стефан… он согрел Элоди в тот промозглый вечер, когда её душа продрогла, раскрасил август, но, увы, теперь пришла пора ему уйти. Ведь он и не знал её вовсе…

Болотник
Кровь бурлила в венах и отдавала пульсацией в висках. Сердце неустанно колотилось в груди охотника, который взял след своей будущей добычи. Он долго бродил по извилистым тропам старого леса в поисках мелкой дичи, но судьба подбросила ему подарок — свежие следы лося. Лось! Он никогда не возвращался домой с таким крупным трофеем. Его руки немного тряслись, а улыбка не сходила с загорелого лица.
Он взял след и медленно приближался к своей цели, замечая знаки присутствия животного рядом: надкушенные, словно сломанные побеги. Охотник аккуратно ступал по лесной тропе, стараясь перешагивать корни деревьев, встречающихся на пути. Солнце близилось к горизонту, и с каждой минутой в лесу становилось все темнее, но охотник не собирался просто так сдаваться, он не хотел отказываться от желанного трофея. Лесные деревья становились все мрачнее, их ветки стали напоминать когтистые руки, которые мельтешили перед глазами мужчины. Ветер стих, и лес стал погружаться в полную тишину, где было слышно каждый шорох, треск. Каждый шаг мужчины звучал так громко, что все обитатели леса, наверное, уже знали о его присутствии. Охотник шел по следу и думал о том, кого еще он может встретить в этом лесу: зайца, может, лисицу с пушистым мехом или…Мимолетная мысль пронеслась в его голове, и он усмехнулся, стараясь отбросить ее от себя подальше.
Он вспоминал историю своей бабушки, которую она часто рассказывала про этот лес. Он прокручивал в голове ее слова и вспоминал ее образ, ее ветхий платок, обрамляющий старое, как из теста, лицо. Он вспомнил, как она смотрела на него мутными глазами, которых почти не было видно за складками желтоватой кожи. Бабушка рассказала ему о старом болоте, что находилось среди леса, и о его хозяине болотнике — бесформенном чудище, покрытом тиной и грибами. Хозяин болота не любил непрошеных гостей и тянул все живое на дно глубокого болота. Сама мысль об этом жителе леса была такой же мрачной, как и сам лес, который становился все гуще с каждым шагом. Несколько часов охотник бродил по нему, но этому лесу не было конца. Он шел по следу, забыв обо всем на свете, и только сейчас понял, что потерялся. В темноте леса уже не было видно следов, и он просто шел вперед, пока не вышел на тропу, которая вновь и вновь подкидывала то ямы, то корни.
Он шел все дальше и дальше, пока тропа не закончилась, но за ней не было ничего, кроме бесконечного леса. Тогда он застыл на месте, не зная, что делать дальше. Он постоял так пару минут, собираясь с мыслями, когда тишину леса прервал шорох. Лось! Это точно он! Былая уверенность вернулась к мужчине, и кровь вновь закипела в его венах. Он осторожно двинулся в сторону шороха и увидел его.
Крупное и сильное животное глубоко дышало. Тяжелые рога на его голове были размахом более метра, что делало его еще внушительнее. Охотник осторожно снял с плеча ружье и заметил, что лось смотрит прямо на него. Мужчина старался действовать неслышно, но под его ногами хрустнула сухая ветка. Этого было достаточно, чтобы спугнуть добычу. Лось развернулся и бросился вглубь темного леса. Отбросив все сомнения, мужчина погнался за ним. Острые ветки деревьев хлестали по лицу и цеплялись за одежду, но охотник рвался вперед, держа перед собой ружье. «Теперь ты мой. Попался», — думал он.
Длинные ноги лося отстукивали по лесной земле, было слышно, как он тяжело набирал воздух в легкие и так же тяжело выдыхал. Размашистые рога рассеивали воздух и разводили ветки деревьев в сторону. На бегу животное преодолевало корни, торчащие из земли, о которые спотыкался охотник. В какой-то момент он просто исчезал из вида, но потом он появлялся вновь, как будто давал охотнику еще один шанс, и тот мчался за своей добычей.
В один из таких моментов лось вновь исчез, и охотник, глубоко дыша, осматривался по сторонам, стараясь высмотреть хоть малейший знак присутствия животного. Звук его сбившегося дыхания раздавался в лесу. Ему было жарко, по лбу скатывались капли пота, а во рту пересохло. Охотник щурился в темноте в поисках своей цели. Как вдруг крик животного оглушительным ревом раздался в лесной чаще.
Мужчина отправился в сторону крика, пробираясь сквозь высокую траву и молодые деревья, пока не вышел на берег старого болота, освещенного одинокой луной в небе. Его лось, погрязший по шею в воде, ревел и пытался выбраться, но что-то мешало ему. Животное рывками дергалось в сторону берега, но ему не удавалось продвинуться. На рогах висела скользкая тина. К морде животного прилипли темные и длинные водоросли, он бултыхался в воде черного цвета, пахнущей гнилью, дыханием разбрызгивая воду по сторонам. Горячий пар его дыхания поднимался вверх и растворялся в ночном воздухе. Он пытался снова и снова, вены на шее животного вздулись, а мышцы напряглись.
Пораженный увиденным, охотник стоял на месте, не отрывая глаз от представленной ему сцены. Его добыча, его трофей ускользает из рук. Он сделал шаг вперед, но понял, что не может и сдвинуться с места. Он оглядел себя и понял, что сам стоит по пояс в воде и что-то тащит его еще глубже. Что-то вязкое было у него под ногами, и оно уже заливалось в его сапоги, длинные водоросли опутывали его тело и руки. С каждой секундой он проваливался все глубже и глубже, и вот черная вода болота уже бултыхается у его ушей и заливается в рот. Его ружье ушло на дно, скрывшись под толщей мутной воды. Запах гнили был везде, казалось, что и его мысли были пропитаны гнилью этого болота. Он выплевывал воду и смотрел на лося, что ревел в нескольких метрах от него.
Он смотрел и думал, что зверь и человек одинаково беспомощны в трясине холодного болота, и собирался уже сдаться, как увидел, что те путы, которые крепко сковывали лося, больше его не держали. Он не мог двигаться, но наблюдал, как водоросли на морде медленно сползали вниз. Глаза охотника расширялись все больше, и теперь он видел, как его лось беспрепятственно вышел на берег и смотрел на него. А его самого все сильнее сковало под водой, он чувствовал как что-то или кто-то тащит его на дно. Хозяин болота не любит непрошеных гостей.

Враг
«Совсем сдал! Что такое? Кожа да кости, в чем только жизнь держится? Поел бы чего, Учитель».
Хозяин молча отвернулся и поплелся прочь. Он действительно был сам не свой все последнее время. Мрачнел все больше с каждым днем, запирался один в своей башне и часами смотрел в одну точку — кажется, даже не дышал. Почти ничего не ел, осунулся, ссутулился еще более обычного. Иногда, не находя себе места, метался по замку, будто его преследовали призраки. Жизнь, казалось, сама уходила из тщедушного тела.
Порой он возвращался к работе, иногда дописывал строчку-другую к начатому многие годы назад философскому труду. Ученицу эту так называемую, саму себя пригласившую, все чаще игнорировал, что, однако, ничуть не остужало ее энтузиазма. Когда все-таки заговаривал, понимать его было все сложнее, хотя и в лучшие свои годы он ясностью изложения мыслей не отличался.
Однажды Хозяин провозгласил мрачным голосом, ни к кому из нас непосредственно не обращаясь:
— Они нашли мою смерть!
После заперся в своей каморке на вершине башни на целую неделю. Когда я попробовал было сунуться в окно, посмотреть, в порядке ли он, Хозяин раздраженно кинул в меня черствой краюхой хлеба. Я еле увернулся, так что аж перья полетели.
Конечно же, мы волновались. Проблемы бывали и раньше. Хозяин никогда никому ничего плохого не делал, только и хотел, чтобы его не трогали и дали спокойно работать. Увы, спокойствие не дано великим. Мы уже сбегали с насиженного места, и не раз. Стоило где-то закрепиться, начать привыкать, как все шло наперекосяк. То толпа крестьян с вилами гнала Хозяина до самого леса, то хорошо организованный отряд головорезов местного правителя занимал замок и выставлял нас всех за ворота.
Люди злобно нападали на Хозяина, стоило им увидеть его бледное, костлявое, несимметричное лицо с глубоко посаженными, горящими багровым пламенем глазами. Не давали и слова сказать. Он как-то высказался, что, наверное, нечто в их «генетической памяти» заставляет видеть в нем врага. Я так и не понял, что это значит.
Хозяин ни разу не вступал в конфликт, ему было наплевать, что он бежит с позором от драки, хотя мог бы не задумываясь уничтожить любого противника. Увы, но как раз задумываться он любил, и мысли у него были все до крайности странные и опасные. Ну вот кому в здравом уме может прийти в голову идея отказа от насилия даже для самозащиты?
Нет, на доброту Хозяина я жаловаться и не подумал бы. Множество волшебных существ находили приют в его замке, спасаясь от людей и других колдунов. За эту доброту он всегда и страдал, ну и тем, кто к нему примкнул, тоже перепадало. Но никому из нас и в голову бы не пришло его бросить.
Вот и в этот раз, упрямо отряхнувшись после предыдущего изгнания, он начал заново. Вдали от людей, в густом лесу, у гряды неприступных гор он начал строить свой очередной замок. Это тоже повторялось из раза в раз, Хозяин не желал ограничиваться малым и на каждом новом месте неизменно заявлял о себе самым неосторожным образом, и так же каждый раз удивлялся, когда его находили и выгоняли.
За считаные дни поднялись, подчиняясь воле Хозяина, высокие крепостные стены обсидиановой черноты. Еще более высокая центральная башня — проект тоже особо не менялся, как подсмотрел он где-то далеко на западе показавшийся ему тогда неприступным замок, так он его всякий раз и строил. И каждый раз сдавал свою крепость без боя. Быть может, она и правда была неприступной, только шанса проверить это до сих пор не было.
Конечно же, нашли нас довольно быстро. И пары лет не прошло, как в ворота постучали. Человек, вроде бы. Девушка, одета по местной моде — вышитый платок на голове, кафтан с нерационально широкими рукавами. Наверное, по человеческим понятиям красивая, хоть и необычно высокая и крепкая. Явно очень непростая. Присмотрелись — так и есть, сильный метаморф, и почему-то очень не хотелось узнавать, во что именно она может перекидываться.
Вот что было необычно на этот раз, так это то, что незваная гостья не бросилась с хозяином драться, не пыталась его изгнать, даже не поморщилась от отвращения, как люди обычно делали, увидев его.
Наоборот, она попросилась к нему учиться. Подобного еще не случалось на моей памяти, а я Хозяину не первое столетие служу. Удивительно, но Хозяин согласился, принял гостью, без всяких условий.
Ученица назвалась Марьей и больше о себе ничего не рассказывала. Было видно, что привыкла командовать и привыкла, что ей подчиняются. Промеж собой мы как-то быстро начали называть ее Царевной, и никто бы не удивился, если так оно и есть. Нас она не обижала, но мы ее все равно побаивались, на фоне обычно мягкого и доброго Хозяина ее решительный напор пугал.
Поначалу все было вроде даже неплохо. Хозяин, конечно же, пытался учить ее своей странной философии, но она только улыбалась в ответ, хоть и не пыталась спорить. Философия царевну мало интересовала, она пришла за секретами тауматургии и некромантии, которыми Хозяин хоть и неохотно, но делился. Морщился, только когда царевна поднимала одного за другим древних мертвецов со всей округи и часами муштровала свою маленькую армию. От кого она бежала и кому хочет мстить?
Однажды Хозяин спросил ее, что она ищет. Ответ разочаровал, хоть и не удивил. «Силу. Знания. Смерть моим врагам. Власть!» — Глаза Марьи блестели недобро.
Хозяин не сдавался. Настоял, чтобы ученица проводила как можно больше времени в приюте, помогала бы ему лечить больных птиц и волшебных существ. Пригрозил, что отберет и безвозвратно упокоит ее мертвецов, если она откажется. Сначала она работала неохотно, спустя свои нелепые широченные рукава, но потом, кажется, начала подходить к делу с энтузиазмом.
Все меньше она гоняла по плацу отряды мертвецов, вместо этого часто уходила в горы в поисках нуждающихся в помощи леших и гоблинов.
Много позже она, похоже, что-то рассказала Хозяину о своем прошлом, и вот тогда-то он и начал замыкаться в себе и пугаться каждой тени. Он ждал какого-то могущественного врага, от которого так просто не убежишь. Того врага, который где-то нашел смерть нашего бессмертного Хозяина.
Пока Хозяин предавался хандре, Марья как будто к чему-то готовилась.
И вот однажды враг пришел. Мы все сначала почувствовали, а потом и услышали его приближение. Стук копыт, казалось, разносило по всей долине, столб пыли за ним можно было увидеть издалека. Хозяин, всю жизнь избегавший любых конфликтов, решительно начал влезать в черные, покрытые шипами доспехи, но царевна его остановила, мягко положив ему руку на плечо. На удивление он послушался, отвернулся и поплелся в свою башню шаркающей походкой.
Мы все расселись на ветвях редких деревьев, не тронутых Хозяином при строительстве замка. Было страшно. Я вздрогнул, когда за стеной протяжно завыл охотничий рог.
С грохотом упал мост, и ворота замка сами собой распахнулись, повинуясь движению руки царевны. За мостом, держа в поводу богатырского коня, стоял воин, опираясь на светящийся меч. Рядом скалился неестественно крупный серый волк с недобрым человеческим взглядом. Узкий лоб и выпученные глаза воина не предвещали интеллектуальной беседы.
«Выходи, Кащей, биться! Верни мою царевну!»
«Как же ты достал, Ваня! Правильно тебя дураком прозвали», — еле слышно прошипела царевна Марья, опуская забрало черного рогатого шлема. Подняла одной рукой тяжеленный фламберг, пальцами другой начала плести заклинание и бросилась в бой. За ней с жутким воем двинулась ее пестрая армия големов и мертвых.
Последовавший хаос битвы я пропустил, плотно зажмурив глаза. Потом все стихло.
Белый богатырский конь лениво трусил вниз по тропе, не обращая особого внимания на перекинутого через седло связанного воина. На голове его вместо шлема красовалась изорванная соломенная шляпа, явно позаимствованная у пугала. Побитый, облезлый, поскуливающий волк скакал на трех лапах следом.
«А ведь дома он эту историю совсем по-иному расскажет, Моревна». — Как-то разом оживший Кащей подошел к провожавшей эту жалкую процессию взглядом ученице. У ног ее лежали остывающие осколки Кладенца.
«Этот-то! Наплетет, можно не сомневаться. Ну и пусть. Что бы он ни выдумал, а нас в покое теперь надолго оставят. Мне еще столько надо узнать, Учитель».

Выходи гулять
Пятый день у Олега в голове играла мелодия, прилипла к нему как репей и непонятно, за что и где надо схватить, чтобы ее вырвать. Он уже спел её лучшему другу Толе, переделал концовку на «папу, обещаю, на масло положу» и «папу откопаю и другу покажу», но каждое утро она возвращалась снова. И девчачий голос в голове, поющий её, становился всё громче.
«Выходи гулять, выходи гулять,
Ночью можно всё: прятаться, играть,
Маме ничего я не расскажу
Папу, обещаю, я не разбужу».
Олегу никогда не снился отец, а сегодня целый сериал за ночь. В первой серии отец выглядел точь-в-точь как на свадебном фото в серванте. Молодой, улыбка в пушистые усы, белая рубашка. Только мамы нет рядом. Она появляется во второй серии, заплаканная, свадебное платье с широкой желтой полоской — перекроенное под беременность — только живота нет. В третьей серии папа был в кителе, пил водку и пинал рассыпанные по полу мандарины. Мама была с животом, который к концу серии превратился в огромный пупырчатый мандарин.
— Это всё потому, что я на масло его хотел положить и откопать.
— Сначала откопать, а потом уже на масло, — с улыбкой заметил Толя.
— Очень смешно. — Олег смотрел на друга с беспокойством. — И что мне теперь делать? Мне не нравится, что мне снится весёльник.
— Не весёльник, а висельник. — Толя продолжал улыбаться. Он был старше десятилетнего друга всего на пару лет, но чувствовал себя рядом с ним совсем взрослым. — Не ссы, это просто сон, а сны редко повторяются. Да и забудь, что тебе бабка говорила, полоумная она была.
Олег понизил голос до шёпота:
— А чё, Толь, он правда-правда там навсегда?
— Конечно, правда! — Толя снисходительно улыбался, как улыбается отец, глядя на сына, испугавшегося сверчка. — Вон, дядю Васю как похоронили, так никто там ни разу не был. За три года памятник даже не поставили, один холм с бурьяном. И чё-то к бате моему монетки клянчить за это время он ни разу не заходил. — Толя выпятил грудь, он был доволен своей острой шутке. — А бабка твоя, еще раз говорю, по-ло-ум-на-я. Вся деревня так говорит. Коль, мне не веришь — других спроси. По ночам бродила, соседей дичалась, а сама с собой говорила — не затушишь. Так что чушь это всё собачья, сплюнь и забудь.
После этих слов Олегу стало легко и радостно на душе. Он сунул руку в карман и протянул на грязной ладошке маленький серебристый камешек:
— Вот, смотри, кусочек луны нашёл. Нравится?
— Нравится. Где нашел?
— Да на могиле папкиной камень есть, с него отвалилось.
— А вот с кладбища вещи выносить — это нехорошо. — Толя перестал улыбаться и серьезно смотрел на друга. — Зачем он тебе взялся?
— Он волшебный! Он светится в темноте! — Олег уже был не рад, что взял серебристый камешек, но свой поступок перед старшим товарищем нужно было отстоять. — Я покажу тебе ночью, сам увидишь!
— Нехорошо, — задумчиво повторил Толя. — Это очень нехорошо. Вернуть его надо.
Голос Олега стал тонким, дрожащим, почти детским:
— Ну веришь, что светится? Веришь? Веришь мне?
Толя молчал. Последнюю неделю с раннего утра он помогал отцу на сенокосе, конец июля — важное для деревни время. Тут не до игр, если хочешь казаться взрослым.
— Нехорошо, — повторил он и расплылся в улыбке, — но страсть как интересно. Верю! Вечером после сена зайду, отнесём его обратно.
Бабушка Олега, Нина Павловна, пропала в начале января. В деревне все звали её «старая такса» за рыжие от хны волосы и короткие, в старческих коричневых пятнах толстые ноги и руки. Олег узнал об этом прозвище уже после её исчезновения, и хоть с бабушкой никогда теплых отношений не имел, пару часов проплакал, спрятавшись за печкой.
Они жили втроем, но как будто только с мамой. Нина Павловна всегда держалась в стороне, говорила мало, делала всё молча. Когда было солнце — в огороде возилась, когда дождь шёл — носки на продажу вязала, потом несла их на железнодорожную станцию. Туда же клубнику носила, крыжовник, черную смородину. Деньги молча невестке отдавала, мама Олега молча брала.
Про отца Олега в доме не говорили. Всё, что он о нём знал — услышал на кладбище. Мама на могилу два раза в год приходила — в июле и в декабре. В декабре — рюмку водки на серый гранитный памятник поставит, в июле — цветы на серебристый плоский камень положит. Олег смотрел на этот странный, чуждый камень и представлял, что он откололся от луны и упал прямо сюда, на могилу отца. На той неделе Олег заметил, что у камня отвалился кусочек. Пока мама мочила тряпку, он поднял его и быстро сунул в карман.
«Он какой-никакой, а всё-таки твой отец, приходится помнить, — сказала мама, убирая с памятника паутину. — Слабый оказался, не смог вынести, что душу забрал, вот и свою отдал. Да по Богу всё, нам с тобой жизнь облегчил».
Олег на черно-белую фотографию отца старался не смотреть. Странный он там был, как будто не он вовсе, не тот молодой, что в серванте улыбается. Взгляд чёрствый, мутный, неживой, смотрит исподлобья, спрашивает: «Что, совсем пропали без меня?» Олег знал, что до его пятилетия они жили в большом городе, мама нарядная ходила на хорошую работу, а у него было много красивых игрушек — большую часть из них мама продала, остальные валялись на чердаке в бане. Когда отец повесился, они зачем-то переехали сюда, к бабушке. Мама устроилась в соседнюю деревню на птицефабрику, научилась доить корову и топить печь.
«Я о той жизни уже ничего и не помню, Олежек», — мягко отвечала она на все его расспросы об отце. Скоро он спрашивать перестал. Только по двум фотографиям отца и знал.
До того, как пойти на кладбище с мамой, Олег выкинул с могилы все продукты. Зачем приносить еду покойникам, он не понимал, но раз бабушка носила, значит, так надо. Нина Павловна почти каждую неделю ходила к сыну и всегда что-то из дома брала: шоколадные конфеты и карамельки, вареные яйца, пирог с капустой, самогон. Сядет за прогнивший деревянный столик у могилы, положит еду перед собой и начинает наговаривать. Долго-долго могла говорить. Олег одно время за ней следил даже: сядет у забора, в заросли дикой малины, и смотрит, слух напрягает. Да только до могилы было метров пять, а бабушка говорила одними губами — ничего не разобрать. Один раз она замолчала на минуту, обернулась резко и зашипела в сторону кустов: «Нечего взрослые разговоры подслушивать». Олег тогда так испугался, что два дня бабушку избегал и с тех пор за ней не следил.
Иногда Нина Павловна оставляла у надгробия книгу или вырезала из газеты колонку криминальных новостей: протыкала палкой и в землю — чтобы не унесло. Некоторые книги Олег потом забирал обратно и прятал в бане на чердаке. Но это уже после того, как бабушка возвращалась домой и садилась за пряжу.
«Если не ухаживать за могилой, то покойник может разгневаться, что не чтут его покой», — говорила она то ли носку, то ли сидящему за уроками Олегу. Поэтому после того, как бабушка пропала, мальчик сам стал к покойнику ходить. Если удавалось, тайком от мамы выносил в кармане конфеты, ломоть хлеба, яблоки, огурцы. Придет на кладбище, уберет с земли листья и веточки, выдернет сорняк и, не поднимая глаз на отца, с легким сердцем по тропинке в сторону деревни выходит.
Сегодня же у Олега на сердце было неспокойно. Весь день он трогал в кармане холодный серебристый камень, доставал, рассматривал на солнце. Но камень как будто уже и не светился. Олегу было страшно, что он ошибся, что ему это всё привиделось и сегодня ночью друг назовёт его вруном.
День был знойным, потом небо долго гремело, к вечеру влага легла на поля молочным туманом. «Выходи гулять, выходи гулять, ночью можно всё: прятаться, играть». Чем темнее становилась ночь, тем громче в голове звучала навязчивая мелодия.
Толя зашел за другом после одиннадцати, и они вприпрыжку пошли в сторону кладбища. Он как всегда держался непринужденно, рассказывал, что сгреб сена размером с два — потом поправился — размером с три дома. Олег молчал, трогал в кармане холодный камешек и предвкушал тяжесть предстоящего разоблачения.
Пройдя через калитку с маленьким крестом, ребята сели в заросли малины и стали наблюдать. Высокие клены и кленовая поросль внизу совсем не шевелились, как будто ветер, не желая тревожить мертвецов, обходил кладбище стороной. Ни шороха мыши, ни писка комара, ни крика птицы. Через двадцать минут у Олега начали неметь ноги, он всматривался в тени примогильных столов, кресты и памятники, освещенные холодным светом луны, груды венков на свежих могилах и напряженно ждал, когда Толя встанет и скажет с разочарованием: «Твой лунный камень — дурацкий булыжник, а ты — врун несчастный». Но Толя сидел на шаг впереди друга и тоже молчал. В воздухе пахло прелой землей, горькими травами и чем-то тухлым.
Олег сидел и пытался представить, как отросли волосы у одноклассницы Кристины, вспоминал, как выглядят вши и какие носки чаще всего вязала его бабушка. Но вместо Кристины перед глазами стояло черно-белое фото отца, вместо вшей — белые опарыши среди рассыпчатой угольной земли, а носки вспоминались одинаково белые, с толстой пяткой, а потом снова приходил отец. Чтобы прогнать его, Олег сильно жмурился: до желтых брызг, до спазма глазной мышцы, а голову держал в сторону, чтобы Толя ничего не заметил.
— Тебе страшно?
— Не-а, — ответил Толя. Он планировал произнести твердое «нет», но прилип язык.
— И мне нет.
Толя никому не рассказывал, что попросил остаться дома, когда хоронили деда. Он еще не определился, как нужно относиться к мертвым и что это на самом деле значит «быть мертвым». Всё, что Толя говорил уверенным голосом другу, он говорил голосом своего отца. Он даже улыбался как отец: нешироко, одними губами. Но сейчас губы Толи были приоткрыты, он часто и прерывисто дышал. Мальчик смотрел вперед широко открытыми глазами, и дедушка, желтый, с ввалившимся ртом и стеклянными глазами, смотрел на него из сумрака ночи.
— А ты знаешь, что куры откладывают яйца только при свете? — спросил Толя, потрясенный тем, насколько чужим показался ему собственный голос.
Когда умер дед, Толе было девять. Он видел его на кровати сразу после смерти, потом — только закрытый гроб. Был ли он в нем — вот о чем думал Толя. Он вспомнил, как дед говорил на белорусском: «Папраў казе хвост», каждый раз, когда кто-то лез не в своё дело. Раньше эта присказка его веселила, но сейчас ему сделалось не по себе.
— А еще они съедают поврежденные яйца, — добавил Толя, сам не понимая, зачем он об этом говорит. — Это мне мама рассказала. Тебе не говорила? Похоже, их на фабрике еще и просвещают между делом.
Мальчик неуклюже хмыкнул, стараясь разрядить обстановку, затем глубоко вдохнул и стал осматриваться одними глазами. Листья кленов медленно зашевелились, и ему показалось, что серебристый камень начал издавать чуть заметное свечение.
Олег часто жмурился и думал о бабушкиных носках. «Выходи гулять, выходи гулять, ночью можно всё: прятаться, играть. Маме ничего я не расскажу, папу, обещаю, я не разбужу». В голове звучала мелодия, и он не расслышал, что говорил друг. Он завороженно смотрел на молочную дымку над могилами, и ему казалось, что это бабушка обвязывает его невидимыми шерстяными нитями, колет спицами в сердце, пальцы, коленки, стягивает горло тугими узелками так, что становится нечем дышать. Вдруг сзади кто-то дотронулся до его рукава. Олег вжал голову в плечи, дыхание перехватило. Он резко оглянулся — только тени кустов и очертанья забора. На секунду ему показалось, что сейчас он выплюнет из горла что-то большое и твёрдое.
— Толь, пойдём, уже первый час, меня мамка дома убьёт, — сказал он шепотом, или ему показалось, что шёпотом.
— Да, пойдём, меня тоже наверно потеряли.
Толя встал и не оборачиваясь на друга быстро пошел к выходу. Олег сунул руку в кусты и на ощупь сорвал несколько ягод. Кто-то осторожно тронул его за плечо. Он резко вдохнул и выдернул руку из колючих зарослей, кожа противно зудела.
— Чего ты здесь? — Мальчик готов был стукнуть друга, но понял, что ему тоже не по себе, хоть он и старается это не показывать.
— А чего мне там одному? Пошли уже.
Луна просвечивала сквозь листву и вырисовывала из темноты очертания плоского камня. Камень чуть заметно сиял. Олег постарался аккуратно положить горсть малины на подсвеченную поверхность, но рука дрогнула, и ягоды рассыпались по могиле.
Ребята попрощались на краю деревни, пожали друг другу руки.
— У тебя тут кровь, — сказал Толя, поворачивая руку друга так, чтобы хоть что-то рассмотреть.
— Это сок малины. — Олег еще чувствовал тревогу, но здесь, под открытым небом, самообладание возвращалось к нему.
— Ну, до завтра, заходи днём. — Толя резко повернулся на пятках и скрылся в плотной тьме.
«Выходи гулять, выходи гулять, ночью можно всё: прятаться, играть. Маме ничего я не расскажу, папу, обещаю, я не разбужу». Кто-то снова потянул Олега за рукав, он дернул плечом и не оборачиваясь побежал. Сердце стучало в ушах и горле, в голове гудела и перекатывалась мелодия, футболка прилипла к горячему телу. Что-то ледяное полоснуло мальчика за ногу, Олег упал коленками на мелкий гравий, но боли совсем не почувствовал. Его обдало холодной волной, он быстро встал и побежал снова. Улица вытянулась, ноги разбухли и не слушались. Мальчик добежал до переулка, срезал вдоль старого амбара, поворот, еще поворот, пустые глазницы покосившихся домов, синие окна, черные окна, забор.
Олег на ходу снял проволоку с калитки, забежал в сени, дернул массивную дверь, но она не поддалась. Заперто.
Мальчик забарабанил в дверь.
— Мама, я здесь. Мама! — Его крик превратился в стон. — Открой. Мама, я не сплю.
Кто-то медленно подул Олегу на макушку, он резко повернулся, прижался спиной к шершавому дереву. Это шиповник, здесь смородина, ирисы, куст пионов — прошёлся он взглядом по сгусткам теней. Быстро-быстро, по стенке, он обогнул дом и заглянул в окно.
В зале горел телевизор. На диване, спиной к окну, сидел мужчина в грязном кителе. Мама стояла к нему боком, в руке у нее был утюг, она гладила желто-белое платье. В отражении стекла мелькнула тень, и Олег почувствовал, как что-то холодное коснулось его ладони.

Давай не сейчас
Дина ненавидела звуки скрипки. Соня играла даже ночью.
Дина закрыла уши, чтобы не слышать музыки, и поднялась на чердак, села у открытого окна. Спина сразу намокла. Дождь бился в стекло и перебивал пронзительный звук скрипки. До рассвета оставалось еще несколько часов.
Не чувствуя от холода ног, спустилась вниз и растопила печку. В доме промозгло и сыро, обычный август на Балтике. Мама вошла в комнату. Дина, прижавшись к теплому боку печки, спала. Бледная, синяки под глазами, щеки ввалились. Совсем не выходила на улицу летом. Каникулы почти закончились, через неделю в школу. Она накрыла Дину пледом. Пора на работу. Звякнул железный замок калитки, хлопнула дверца машины.
— Дина, ты проснулась?
Дина вздрогнула, вскочила, бросилась в соседнюю комнату. В неясной предутренней дымке, у окна, приложив скрипку к щеке, стояла Соня — тонкая, неброская, хмурая.
— Завтракать будешь? — прошептала Дина.
Мелодия скрипки пронеслась по комнате, взмыла к самому шпилю старого приморского дома, замерла у окон чердака и медленно стекла вниз по ободранным ступеням.
На кухне Дина включила плиту, привычно налила молоко в кастрюлю, высыпала геркулес, добавила ванили и корицы. Долго стояла, помешивая кашу и вдыхая пряный запах специй. Проверила почту. Одно входящее письмо. От отца. Задохнулась на миг, зажмурилась. Скользкие паучки пробежали по спине, щекоча волосатыми лапками. Запахло сгоревшим молоком. Тяжелые капли дождя отскочили от подоконника и ударили по стеклу.
Соня появилась у них два года назад. Седьмая вода на киселе. Авария, смерть родителей.
— Она не будет с нами жить. — Дина, краснея лицом, смотрела на мать. — Я уеду жить к отцу, если ты ее приведёшь к нам. — Показала исписанный черновик письма, потом схватила пачку документов со стола, смяла и швырнул маме вслед.
— Зря собирала. Опекунства тебе не дадут все равно.
Позже Дине нравилось смотреть, как мама заплетает Соне косы. Соня называла маму по имени, Мариной. Никогда не улыбалась. Не дотрагивалась ни до кого. Стеснялась. Не говорила почти. Сил не было или желания. Дина хотела как-то спросить, почему, и передумала. Пусть молчит, если ей так легче. И играет на своей скрипке.
Сгоревшую кашу Дина выбросила. Прислушалась. Мелодия наверху затихла, затянулись гаммы. Поднялась наверх, распахнула дверь в Сонину комнату. Смычок чиркнул. От сквозняка хлопнула оконная рама на чердаке. По ногам пробежал холод. Села на диван и достала телефон. Соня стояла лицом к окну, прижимая скрипку к плечу, в безвольной руке повис смычок.
— Мне отец письмо прислал. Хочешь, прочту? — Динин голос звучал глухо, словно она давно не говорила ни с кем вслух.
Не дождавшись ответа, открыла и-мейл. Гаммы сменились этюдом медленным и грустным. Дина пробежала глазами по строчкам. Соня терзала струны, издавая высокие пронзительные звуки. Дина дочитала до конца, скрипка практически рыдала. Перекрикивая скрипку, снова забарабанил дождь по жестяной крыше старого дома.
Дина встала, спрятала телефон в карман. Сказать было нечего, отец, которому она написала письмо с просьбой забрать в другую жизнь, помочь не мог. Новая семья, другая страна, нет места для прошлого.
После обеда к ним постучала соседка, Дина не открыла. На чердаке сквозь приоткрытое окно были слышны крики чаек, далекий лай собак, мягкое шуршание автомобильных шин по гравию. И пела скрипка.
Звякнул замок калитки. Мама вошла в прихожую, сняла обувь, позвала ее. Не дождавшись ответа, поднялась по ступенькам, распахнула дверь в одну комнату, в другую.
— Дина, ты где? — Паника в голосе нарастала.
Задыхаясь, поднялась на чердак. Дина сидела в самом углу. Ее пальцы бесшумного двигались по невидимым струнам. По щекам текли слезы.
Мама сбежала вниз, вошла в Сонину комнату и выключила проигрыватель. Музыка стихла.
От ужина Дина отказалась. Мама пристально смотрела на нее.
— Ты ела сегодня? Как ты провела день?
Мама хотела спросить что-то еще, но Дина повела плечами:
— Давай не сейчас. Просто посидим.
— Уже полгода прошло. — Дина услышала, как голос мамы задрожал. — Сони больше нет. Ты ни в чем не виновата! Это был несчастный случай! Холодная вода в море, судорога. Никто не мог этого предвидеть!
Дина встала из-за стола и поднялась на второй этаж. На фоне темнеющего окна растворялся силуэт девочки. Тонкой, неброской, хмурой. Пока полностью не исчез.
Дина подошла к столу и нажала на play. По дому снова полилась мелодия скрипки.

Долина
I
Туман стекал в долину разбавленным молоком и ложился между виноградными лозами. Солнце спряталось за гору, а за ним отступало весеннее тепло.
Пятнадцатилетняя девочка обходила длинные ряды виноградных кустов, вглядываясь в их очертания. Она искала отца и знала — пусть ей придется ночевать под шпалерами, домой без него она не вернётся.
Обессилев, девочка упала на землю и попросила ее о помощи. В вечерней тишине слышался стрекот насекомых, а запах цветущих деревьев из низины можно было мазать на хлеб.
Когда, лёжа на влажной маслянистой почве, она перестала понимать, где находится, услышала недалеко чей-то плач.
Через минуту она стояла рядом с отцом. Вокруг него в разливе тумана тонули оборванные побеги винограда.
Отец не удивился, увидев ее, лишь снял с себя куртку и накинул ей на плечи.
— Запомни, дочка, — сказал он, пряча глаза. — Как только заметишь темные пятна на ветках, руби их до чистого тела, не жалей, иначе потеряешь лозу, а потом и весь урожай.
— Папа, прости меня, я не могла больше молчать… Теперь ты меня выгонишь?
— Я никогда тебя не брошу, — обнял ее отец.
II
Майор Кротов смотрел на кромку моря и чувствовал, как струйка пота сползает между лопаток и вместе с надеждой на отпуск стремится в то самое место, о котором не принято говорить в приличном обществе.
— Товарищ майор, мы закончили, — услышал он и обернулся.
Следственно-оперативная группа суетилась над трупом мужчины в костюме, найденном рано утром на шезлонге городского пляжа.
Руки потерпевшего аккуратно лежали вдоль тела. Небольшая седина на остатках волос вокруг лысины контрастировала с плотной щетиной на лице. Бледные щиколотки беспомощно торчали из брючин, а на подошвах босых ног краснели неглубокие ссадины.
Криминалист сняла перчатки:
— Видимых повреждений нет, следов удушения тоже. Некроз на гортани, сероватость кожных. Токсикологическую пару дней придется подождать.
Противный крик чаек заставил майора поднять глаза — на пляжном ограждении сидело несколько белых птиц.
— Эти могли и сожрать что-нибудь, пока труп не обнаружили. И ботинки утащить, — добавила она, направляясь к служебной машине.
— Яковенко! А где бабка? Показания сняли? — нашёл капитана Кротов.
Капитан Яковенко закивал, раскрывая папку с документами:
— Труп в шесть утра нашла женщина с внуком. Время смерти установлено — около часа ночи. Получается, что потерпевший прилёг поспать и умер. При нем ни документов с ключами, ни кредиток… На костюме все бирки срезаны, причём в спешке. — От усердия пухловатые щеки капитана покраснели. — Ткань в нескольких местах повреждена. Пляж осмотрели, ничего не нашли. Прилив был, товарищ майор. Ещё в заднем кармане брюк маленькая бумажка с размытыми чернилами…
Капитан выудил из папки небольшой прозрачный пакет. Кротов рассмотрел улику на солнце.
— Водяные знаки зафиксировал? Где-где, очки купи! Высылай фото в отдел, пусть ищут откуда, может, из отеля или ресторана.
Он повернулся к трупу.
— Капитан, а тебе не кажется, что костюмчик коротковат? — Ступни белели, словно две подбитые чайки. — Давай, проверяй… Как-как, руками!
Когда выяснилось, что костюм действительно короткий, а водяные знаки «5R» соответствуют названию отеля в соседнем городе — отсюда час на машине — настроение у майора окончательно испортилось.
— Увозите! И побыстрее, пока весь город в папарацци не переметнулся.
Майор повернулся к морю: солнце стояло в зените.
Молодая женщина в шелковой сорочке, сидя за туалетным столиком, расчесывала каштановые с рыжим отливом волосы и вглядывалась в отражение спящего на кровати мужчины.
— Куда его отвезли? — не выдержала она.
Мужчина не шевелился.
— Скажи!
— Зачем тебе? — спросил он, зевая. — Сама не хотела виноград удобрять. Испугалась, что урожайность испортится?
— Ты ничего не знаешь о моей семье.
— Я знаю тебя, этого достаточно, — сказал он, потягиваясь в кровати.
III
Кротов блаженно вытянул ноги, опустившись в рабочее кресло, но звонок служебного телефона вернул его на землю.
— А чего ты хотел, Кротов, — по-отечески вещал полковник, глядя на майора. — Сам бог велел тебе взяться за это дело. Ты как на пляже-то оказался? — торжественно указал он на его оплошность. — Сам знаешь, случайного в нашей профессии не бывает…
Кротов разглядывал свои кроссовки со следами мокрого песка, а начальник сдвинул брови:
— Как только разберешься, что к чему, сразу подпишу отпуск, а Яковенко все доделает. Надо поддерживать молодые кадры.
В коридоре майора поймал Яковенко.
— По предварительной костюм либо новый, либо после химчистки — генетической не за что будет зацепиться. Может, потерпевший сам его стащил? Работал в отеле и решил выпендриться перед бабой, а после свиданки вернуть, — покраснел Яковенко.
— Только длину брюк не учёл и бирки срезал, как шпиён американский. Ладно, капитан, будем ждать, может, где отзовется… Пятки его лет десять солнца не видели. Турист он, к гадалке не ходи, — загрустил Кротов, вспомнив про свой отпуск.
Когда автомобиль майора остановился на парковке отеля «5Rules», был уже поздний вечер. Пятиэтажное здание сияло разноцветными огнями, завлекая гостей на террасу ресторана, где проходила «Дегустация местных вин». Рекламный постер предлагал сначала попробовать вино, и если понравится, купить бутылку по специальной цене.
Длинная змея из такси выплевывала страждущих недалеко от ресторана и тут же заглатывала клиентов навеселе.
— Идет бизнес? — спросил Кротов юношу с буклетами.
— Конечно! — просиял тот. — Выбор большой, посетителей много. Сами понимаете, когда алкоголь на халя… Извините, бесплатный, люди интересуются. Возьмете буклет с ассортиментом?
Кротов выдернул из рук юноши рекламу и двинулся к главному входу отеля.
На ресепшене его встретили очаровательными улыбками.
— Скажите, прелестницы, есть ли у вас бассейн? — спросил Кротов, вспоминая, что так и не переоделся, но решил, что небритость и потрепанные джинсы с футболкой сойдут за современный шик.
— В нашем отеле два бассейна с морской водой, — щебетала администратор.
— А химчистка? Я сегодня без багажа.
— Для гостей круглосуточно работает прачечная и…
— Вы наш гость?
Кротов оглянулся и увидел красивую рыжеволосую женщину в строгой юбке чуть выше колена и блузке, отливающей шелком на заметной, но аккуратной груди.
— Я бы с удовольствием, — не соврал Кротов, показывая ей удостоверение. — Но я при исполнении. А вы…
— Управляющая, — побледнела она, внимательно изучив документ.
— Кто-нибудь из ваших постояльцев заявлял о пропаже костюма? Из номера или, может, химчистка что-то теряла?
Брови рыжей взлетели:
— Это исключено. У нас респектабельный отель.
— Я так и подумал, — с сожалением отвернулся от неё Кротов.
Марго проводила майора потемневшими глазами, а потом поднялась к себе.
— Лёня, слышишь? — Яркие ноготки с трудом попадали по кнопкам телефона. — Только что была полиция. Нет, не объяснил… Почему же, запомнила — Кротов А.С. Спрашивал про костюм! Говорю тебе, я спокойна!
Закончив разговор и взглянув на свои трясущиеся пальцы, Марго побежала в ванную комнату. Там она несколько раз намылила руки по локоть и тщательно их смыла, стирая с кожи проступающие, только ей видимые черные точки. Потом вернулась в кабинет, достала из шкафа бутылку виски, наполнила стакан наполовину и выпила залпом.
IV
На столе у Кротова лежали отчёты по всем неопознанным трупам в городе — всего ничего за лето: три мужика возрастом от тридцати пяти до пятидесяти. Один, скорее всего, нелегальный рабочий — загар до пояса, за две недели никто его не хватился; два других похожи на приезжих: первый напился и сгорел в съемном доме, а второй — пляжный турист в чужом костюме.
В кабинет влетел Яковенко. Глаза у капитана горели.
— Добыл огниво, служивый? — оторвался от документов майор.
— На видео с камер наш турист гулял по бульвару, перед тем как в сторону отеля двинуть. Несколько раз звонил кому-то по телефону. И одежда на нем другая.
— А камеры в отеле?
— Охрана сказала, что в тот день они не работали — сломались от перепада напряжения.
— Вовремя, — ухмыльнулся майор. — А что в ресторане? Кто-нибудь вспомнил потерпевшего?
— Вечером там сам черт ногу сломит. Персонал молчит, как воды в рот…
Капитан протянул майору бумаги:
— Зато по управляющей есть информация: Астахова Маргарита Валентиновна, тридцать пять лет, замужем за владельцем отеля Пархоменко Леонидом Геннадьевичем, детей нет, по нашей части оба не привлекались, но я кое-что нашел.
Кротов пробежался по распечаткам:
«Приемная дочь выгнала родного сына…»
«Глава винодельческого комплекса “Долины желаний” отказался от наследника…»
«Кому достанется семейная винодельня?»
— Богатые тоже плачут? — заключил Кротов, вспоминая испуганные глаза рыжей красавицы. — Боится за репутацию отеля, поэтому нервничала?
— Там все напутано, — оживился капитан. — Оказалось, что Валентин Астахов, ее отец, был ей не родным, а приемным. Лет за десять до ее усыновления у него умерла жена, но остался общий сын. Астахов грустил-грустил по супруге, да и начал сорить деньгами, но не на баб тратил, а детским домам помогал, потом ещё и девочку усыновил — личная жизнь у мецената не сложилась, к тому времени ему уже за шестьдесят было.
— Астахов все имущество приемной дочери оставил? Сына обделил? — Майор откинулся на спинку стула.
— Потому что родной наследничек привлекался неоднократно. Видимо, Астахов-старший регулярно откупал сынулю от закона, а когда тот на десять лет за изнасилование с отягчающими загремел, не стал его отмазывать. Куда младший Астахов после освобождения делся — пока неясно. Надо бы запрос в тюрьму отправить.
— Займись этим, капитан, а я вечером сам к отелю наведаюсь.
Марго открыла массивную входную дверь с позолоченной пастью льва посередине и поморщилась.
— Лёня! — Она остановилась в центре просторного холла с широкой лестницей. — Убери, наконец, с двери эту пошлятину!
Ее голос взлетел под потолок и затерялся в сотне подвесов хрустальной люстры.
— Это очень дорогая пошлятина, — отозвался со второго этажа Леонид. — Когда ты нервничаешь, тебе ничего не нравится.
— Я же просила тебя все проверить!
— Так и сделали. — Леонид спускался по лестнице. — Ребятки чисто сработали, не о чем волноваться.
— А если из-за костюма постоялец вой поднимет?
— Я сегодня компенсацию ему выдал. С извинениями от отеля. Он себе десять костюмов на нее купит.
Леонид направился в сторону кухни.
— Мне подарили бутылку «Ротшильда» девяносто шестого года. Попробуешь?
Каблуки Марго громко стучали следом.
— Мне кажется, или ты что-то скрываешь? — спросила она.
— Тебе надо расслабиться.
Леонид разлил по бокалам вино и протянул один Марго. Она отмахнулась от его руки, тонкое стекло разлетелось по столешнице, оставляя рубиновые пятна на сером мраморе.
После бесполезных разговоров с таксистами, уже за полночь Кротов обошёл территорию «5Rules» и остановился у забора с противоположной стороны здания. Баки с отходами жизнедеятельности пятизвездочного отеля ждали утреннюю смену мусорных машин, на кованых воротах висела табличка «Въезд только для сотрудников».
Фонари слабо освещали пустынную улицу с несколькими переулками, над которыми нависли старые нежилые здания.
За воротами кто-то выбросил бычок — алая точка опустилась на землю. Щелкнул замок, открылась калитка, вышел человек и бодро зашагал прочь.
Майор прогулялся за ним вдоль дороги и заметил, как в одном из переулков погасли фары у припаркованного «каблука» для грузовых перевозок. Кротов приблизился к машине и достал удостоверение. Водитель занервничал, открывая дверь.
— Загораем, гражданин? — спросил его Кротов.
Мужчина неопределенного возраста с лицом сельского жителя испуганно ссутулился.
— Я ничóго не зробиу! Горад трэба выучыть, вот и катаюся.
— Не местный? Машина чья?
Водитель стянул с головы кепку и на смеси русско-беларусского поведал, что живет «вместе с жёнкой у дядьки», ездит по ночному городу и изучает улицы, потому что днем слишком много машин, и собирается работать на своего родственника — развозить хлеб из пекарни.
— Ясно, — собрался уходить майор. — Каждую ночь катаешься?
— Усю няделю!
— А позавчера ездил по этой улице? Ничего не заметил?
Мужик отрицательно замотал головой.
— Ладно, пойду я. У меня дед с бабкой из Могилева. Держись, мужик, все у тебя образуется.
Когда беларус понял, что «начальник» ничем ему не грозит, схватил майора за руку и начал её трясти:
— И вы будьтя здаровы, таварыш начальник! Тут тяпло, мора я перший раз убачыл… Правда, людзи тут отдыхаюць и як свиньи напиваюцца. Як раз позаучóра, вон в тых воротáх, тягнули мужика двое бугаёу, ноги по зямле валакли, а потым в вяликую машыну запхнули… Одёжа якая? Пиджак быу, можа, и касцюм… Тьфу, вочи б мае не глядзели!
V
Над ухом спящего майора заверещал мобильный.
— Товарищ майор, — услышал он в телефоне голос Яковенко, — из Симферополя в дежурку звонят, у них женщина мужа ищет…
— Я похож на сваху? — открывая глаза, спросил Кротов.
— Не-е, — замычал капитан. — Муж у неё месяц назад пропал, на связь не выходит, поэтому она сама к нему прилетела.
Кротов посмотрел на часы — было восемь утра.
— …по описанию на нашего с пляжа похож.
— Так бы сразу и сказал! — разозлился майор. — Пусть привозят на опознание. Фамилию узнал?
— Так точно, Тихомиров Валерий Валентинович, семьдесят шестого года.
— Место жительства?
— Норильск.
— Если бы химчистка не боялась потерять штанишки от пиджака, мы бы его как неопознанного через месяц списали. — Кротов погрузил зубы в сочный гамбургер и зажмурился. — Что с экспертизой?
В обеденное время в кафе было не протолкнуться. Яковенко глотнул колы и полез в папку за документами.
— «При внутреннем исследовании отмечены резко выраженная паренхиматозная дистрофия миокарда и отек мягкой мозговой оболочки…» — читал заключение капитан, понизив голос. — «При химическом исследовании внутренних органов обнаружен фенол».
— А это значит, что смерть наступила от химического отравления, несмотря на присутствие следов рвоты в легких и в желудке, — вытер подбородок Кротов и довольно улыбнулся. — Отличный бургер!
— Все-таки его отравили… — Яковенко выглядел расстроенным.
— А ты на что надеялся?
— Просто не пойму, зачем владельцу отеля травить какого-то мужика?
— Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
VI
Марго не спалось. С открытой террасы на втором этаже виднелись темно-синие очертания гор. Налетевший ветер потревожил садовые цветы и оживил деревья. На землю попадали яблоки, отзываясь в сердце гулким стуком.
После похорон отца не было дня, чтобы она не думала о виноградниках, все свободное время проводила в долине, дышала землей и молилась за каждую лозу, каждую гроздь, отгоняя чёрную напасть, поселившуюся на кустах. И когда после всех усилий болезнь начала уходить вместе с тёмными пятнами ее прошлого, вернулся он.
Разыгравшийся ветер заставил Марго укрыться в доме. Она спустилась на первый этаж и вытащила из кладовки картонную коробку. Не решаясь открыть ее, отнесла в гостиную.
Голос брата, воскресший из двадцатилетнего небытия, не хотел уходить из ее головы. «Ты здесь никто, — пробирался он под кожу. — Только я могу разрешить тебе жить в нашем доме. Только я!» Марго хорошо помнила глаза брата, налитые похотью и презрением, и его сильные руки — липкие, горячие, причиняющие боль и унижение.
Когда он согласился на встречу «в людном месте», а Леня предложил их отель, она не думала, что все так закончится. Если бы она пошла туда сама, то, наверное, смогла бы с ним договориться, но брат кричал по телефону такие ужасные вещи, что полузабытые страхи вернулись с новой силой.
Лёня рассказал, что он был пьян и как заведенный требовал деньги за половину наследства, не желая ничего слушать о завещании, а потом ему стало плохо, и Лёня отвел его в свой кабинет. В гостинице брат угрожал, что не даст им спокойно жить, потому что его жизнь пошла под откос. Он закрылся в ванной комнате и долго не выходил. Когда взломали дверь, то нашли его лежащим на полу и захлебнувшимся рвотой.
Марго открыла коробку. В ней хранились вещи, взятые с собой из детдома: мягкие игрушки — потрепанный заяц и одинокая новогодняя звезда на порванной веревке, несколько открыток, а на дне картонки — ворох газетных вырезок.
Сверху лежал обрывок газеты, на котором под серой фотографией подростка с испуганными глазами чернел заголовок статьи: «После года молчания пятнадцатилетняя девочка дала показания в суде против собственного брата».
Марго подошла к камину и пошевелила остатки дров. Огонь нехотя разгорелся. Тогда она бросила скомканные вырезки в камин, и сухие листы зашипели, задергались, словно змеи на сковородке, распространяя по комнате горьковатый запах прошлого.
— Я все сделала правильно, — прошептала Марго пламени и, уронив голову на диванную подушку, уснула на полу у камина.
VII
— Товарищ майор, пришла генетическая по сгоревшему в доме на Сиреневой, — тараторил Яковенко. — Оказалось, что это Астахов-младший, собственной персоной. Проходил по изнасилованию, вот ДНК и сработала.
— Вот это поворот. Вернулся домой, но снимал жилье? — удивился Кротов.
— Хозяйка сгоревшего дома ничего путного не рассказала. Соседи говорили, что к нему какой-то мужик захаживал, пили вместе. А в тот вечер, когда дом сгорел, видели его друга на параллельной улице, но это неточно. Как несчастный случай оформили.
— Анна Петровна, полиция!
За облезлой дверью небольшого дома что-то упало, раздался кошачий вопль, а вдогонку послышалось пожелание скорой смерти «патлатой скотине».
Дверь открыла пожилая женщина в засаленном фартуке:
— Опять? Вы бы мне лучше страховку помогли сделать, ироды! Я теперь без куска хлеба останусь…
— Ваши незаконные операции с недвижимостью нас не интересуют. Заходи, капитан, не стесняйся.
Женщина усадила полицейских на табуретки и выключила кипящую кастрюлю.
— Анна Петровна, расскажите нам еще раз про вашего сгоревшего съемщика.
— Что вы мне душу рвете? Не знаю я ничего. Говорила уже — я в паспорт не всматривалась. А на что мне, если за полгода уплатил?
— Врет она все, дяденьки, боится… — В полуоткрытую дверь кухни просочился подросток с шустрыми глазами.
— Ванька, вали отсюда! — Женщина схватила со стола грязную тряпку и лупанула внука по спине. Кротов отобрал тряпку и выбросил в раковину.
— Что значит «врет»? — спросил он мальчика. — Не бойся, рассказывай.
— Не имеете права ребёнка допрашивать, я законы знаю! — заголосила Петровна.
Ванька отбежал на безопасное расстояние и выпалил:
— Я сам все расскажу, дяденьки полицейские! Ей лишь бы деньги поиметь и пропить все, а мамка ругается, что она не пойми кого пускает, и в этот раз, когда дом спалили, мамка говорила, что ждать беды надо, потому что мужик этот весь в татухах и матерился через слово. А еще я слышал, когда он за ключами приходил, что не велел болтать никому про него, потому что он скоро в городе большой дом себе купит и жить здесь останется.
Петровна размазала слезу тыльной стороной потрескавшийся ладони:
— Вот ведь, внучок вырос. Мамку слушает. А где она, мамка твоя? Может, она тебя накормит? Змеёныш!
— Анна Петровна, вспомните, что ещё он про себя рассказывал?
— Ничего. Валерой представился и все.
— А кто приходил к нему, видели?
— Приходил какой-то, видела пару раз. Зачем мне его рассматривать?
Кротов достал фотографию мертвого пляжного туриста и показал хозяйке. Та ойкнула и подпрыгнула на табуретке:
— Господи, помилуй! И этот, что ли, мертвяк?
— Значит, он приходил к вашему квартиранту?
— Вроде он, — побледнела Петровна. — Лысый, как квартирант мой, только чистый, без наколок. Похож… Это они друг за другом, что ли? А этого тогда — кто?
— Ну что, Кротов, — спросил полковник, указывая майору на стул, — докладывай.
— Нужен ордер на обыск. Видеокамеры на улице зафиксировали потерпевшего рядом с рестораном «5Rules» за несколько часов до его смерти. Отравили его чем-то вроде лизола — в сельхозработах такой химией растения опрыскивают. От вредителей. Думаю, состоял в сговоре с Астаховым — вымогали деньги у родственников. Он и убил подельника, и дом поджег.
— Ну давай, майор, развороши змеиное гнездо. Только не переусердствуй, мне на следующей неделе у прокурора обедать.
VIII
— Охрана спрашивает — там какая-то тетка с ребенком. Клянется, что твоя родственница. — Леонид вопросительно смотрел на жену. — Полицию, раз не уходит?
Он запахнул халат и протянул ей телефон.
— Только полиции мне не хватало! Пусть пропустят.
Марго подошла к окну гостиной, из которого просматривалась дорога, ведущая к дому. По выложенной плиткой аллее шла незнакомая женщина лет тридцати, круглая, ярко одетая, волоча за руку худенького мальчика дошкольного возраста. Женщина озиралась по сторонам, тыча пальцем в садовые растения, а когда подошла к дому, послышался её резковатый голос:
— Гляди, Олежка! Лев прям живой!
Марго открыла дверь.
— Здрасьте вам! — громко объявила женщина, толкая перед собой мальчишку, словно телегу с подарками. — Вы меня не знаете, Маргарита Валентиновна, а я вас на фотке видела!
Марго отступила под натиском непрошенных гостей.
— Любка я, Тихомировы мы.
— Не знаю я никаких Тихомировых. — Марго не сводила глаз с мальчика.
— Так это… Валерка мою фамилию в загсе брал. Сказал, что своя ему вроде как ни к чему. Я не в курсе, что там у вас в семье приключилось, мне-то без разницы, раз поженились. Правда ведь?
Марго закрыла лицо руками — мальчик был копией брата.
— А Валерка дрыхнет? Бухал поди, раз на связь не выходит.
Леонид обнял Марго:
— Здесь нет вашего мужа. Поищите его в другом месте.
Женщина махнула рукой:
— Да была я в полиции! Вчера сразу с самолета сходила. — Она засмеялась, а Леонид заметил, что у Марго подкосись ноги. — Когда в морге покойничка показали, я сама чуть не померла… Только не он это. Не Валерка!
— Что? — Голос Марго сорвался до шепота.
— Похожий мужик какой-то лежал, не переживайте, Маргарита Валентиновна. — Женщина осматривала гостиную. — Олежа, садись, вон конфетку бери! — сказала она мальчику, устраиваясь на диване. — Хорошо мне Валерка ваш адрес скинул, а то сказал, что поехал могилку отцовскую проведать, да дела с вами порешать, а сам месяц, как пропал. Может, загулял, кобелина?

Инь-Ян
— Бревно словили… или белую, — прокряхтел Леха, сильнее обхватывая жилистыми руками стянутую в жгут сеть. Он согнулся на носу старенького «прогресса», упершись ногой в борт. Скупой лунный свет сентябрьской ночи выхватил его высокую нескладную фигуру, монотонно раскачивающуюся в борьбе с грузом, подброшенным рекой. На лбу бейсболка со сломанным пополам козырьком и буквами USA. На плечах легкая серая роба.
Белой поморские рыбаки называли сёмгу. Попадалась она нечасто и была особенно желанной, дорогой и, конечно, запрещённой к лову.
— Ну наконец-то! Надоело уже трахаться каждую ночь из-за нескольких лещей. — Андрей нервно тянул «приму», подравнивая веслами катер, сеть должна идти с одного борта, чтобы проверяющему не нужно было вертеться. — Тёмка с этого года пошел в школе на секцию футбольную. Бутсы купить надо. Говорю ему: играй в кедах. А он мне: ты ничего не понимаешь, нужны бутсы, чтобы сразу по правильному играть.
Леха напрягся и с силой потащил сеть.
— Не, не белая… Че-то темное… — Он наклонился к самому краю катера и подтянул подарок Северной Двины к самому борту. — Коряга, что ли.
Он так резко отшатнулся, что чуть не выпал за борт.
— Твою мать, Андрюха! Это труп! — Леха, не разгибаясь, повернулся и с ужасом посмотрел на напарника.
— Че? Какой труп?
— Баба, кажется. Сам посмотри.
Андрей привстал. Но все, что он заметил — приподнятый из воды моток с бледным лицом у самого борта катера. Тело было похоже на огромный поплавок. Тросы сетей обвились вокруг него. Белесые щеки начали продавливаться под нажимом капроновых ячеек сетки, словно вареное яйцо за мгновение до того, как его пронзят струны яйцерезки. Андрею в глаза бросилось неестественно вывернутое ухо с маленьким колечком серьги. Очень хотелось поправить ухо, разогнуть его в нормальное положение. Он сдержался и быстро сел обратно за весла.
— Размотай и спихни его обратно, — прошипел он. — Нам еще не хватало с трупом попасться.
— Я не могу! — ответил Леха, согнувшись над бортом. Жгут сети свисал из его рук.
— Ты охренел? Что значит, не можешь? — Леха повысил голос, и ночная речная гладь послушно разнесла его по окрестностям.
— Я не могу, Андрюх, говорю же. Это же человек.
— Ты че, дурак?! — Огонек сигареты заплясал в темноте, словно пытался написать буквами то, о чем шипел Андрей. — Если мы пойдем в милицию, то отхватим и за сети, и за труп этот. Мне свояк рассказывал, у них там все просто — всех глухарей вешают на тех, кто попал под раздачу. Сам знаешь, какое время.
— Да не могу я к ней прикоснуться! Она уже гнить начала. Меня стошнит.
— Тогда отрежь сеть, и дело с концом. Хоть часть порядка останется.
Редкая туча наползла на неполный диск луны, отрезав от нее почти половину.
— Ладно, — пробурчал Леха и достал одной рукой добротный охотничий нож. Он уперся ногами, выискивая ускользающее равновесие, черная резина сапога оказалась у самой головы кокона.
В этот момент рука, державшая сеть, почувствовала движение.
— Погоди, повела, кажется. Да! Там белая метра через три.
Андрей выругался, бросил весла и полез на нос — с белой лучше справляться вдвоем. Он был ниже и коренастее Лехи, старше лет на десять и только что разменял четвертый десяток. Фигура в неизменной камуфляжной куртке наклонилась к борту.
— Фу, бля! Какая гадость. Так, давай вместе. — Он схватил сеть около худых рук Лехи и потащил. — Да не ссы ты!
Тело глухо повалилось в нос катера и перевернулось на спину. На трупе была черная или синяя куртка и похожего цвета юбка. На ногах надеты ботинки с высокими подошвами. Все это было обтянуто капроном сети и в темноте казалось сплошным темным мотком со светлым пятном лица. Белки закатившихся глаз уставились на звезды. Андрей пододвинул сапогом уже собранную сеть так, чтобы она прикрыла лицо трупа.
— Тащи давай! — рыкнул он. — Хорошая, килограмм на восемь будет.
Сёмгу стоило называть не белой, а серебряной. Именно серебром она отливала в свете луны. Для многих рыбаков она и была серебром. Андрей ловко подхватил рыбину за мощный хвост, втащил в катер и двумя резкими короткими ударами вытащенной из-за голенища резиновой дубинки оглушил ее.
— Отличный подарок мне подогнал свояк, — сказал он, споласкивая руки от мелкой чешуи, — а они ими людей лупят, прикинь.
Леха не хотел прикидывать. Он смотрел на темное тело покойницы с белым лицом и прижавшуюся к ней светлую тушку рыбы с черными глазами. Поморский инь-ян, в котором оба начала обреченно лежат на дне помятого катера и не помышляют о своей борьбе.
Рыбаки выпутали семгу из сетки и сунули ее в заботливо подготовленную нишу под деревянным настилом пола. Леха знал, что он не рыбак, а браконьер, но он всегда отодвигал от себя эту мысль. Насильно ставил заслон, боясь представить, куда могут завести такие рассуждения. И он всегда завидовал тем, кто об этом не задумывался. Это в городах девяностые были шальными, бандитскими. В глубинке они были выживальческими. Сбор бутылок и цветмета — самые безобидные из подножного прикорма. Браконьерство — другое дело. Охота и сети давали людям не только мясо и рыбу. Они давали людям надежду на то, что жизнь наладится, и главное, что они дотянут до этого момента.
Андрей присел на корточки, обхватил своей огромной пятерней сеть в полуметре от трупа и перерезал ее большим охотничьим ножом. Проделал то же самое с другого конца и присел около ботинок с высокими подошвами.
— Давай-ка вместе. — Даже под неясным лунным светом было видно, какое у него смуглое лицо. Поморский рыбацкий загар. — Бери ее за плечи.
Андрей не двинулся.
— Ты че, думаешь, мне приятно ее трогать? Очнись, истукан.
Леха еще несколько секунд о чем-то думал, затем медленно опустился рядом. Взял Андрея за плечо:
— Давай я за ноги.
Они навалились и спихнули тело в воду. Кокон зацепился за швартовую утку, и над речной гладью раздался такой неестественный сухой треск одежды, словно она не была долгое время в воде.
Труп стал медленно опускаться. Темные куртка и штаны исчезли почти сразу, а бледное лицо еще долго светилось, пока совсем не растаяло в ночной двинской воде.
Обратно шли молча. Леха перебрался на корму и только иногда корректировал движение катера короткими «левее-правее». Уже на берегу, когда убирали в машину весла, рыбу и обрезок сетки, Андрей остановил Леху за руку. Закурил и посмотрел сквозь дым очень внимательно в глаза напарнику.
— Леша, ты не сделал ничего плохого. Ты понял?
Леха молчал.
— Ты просто ловил рыбу. Тут все так делают.
Леха молчал.
— Нам бы не поверили, понимаешь? Да если бы и поверили! — Он повысил голос. Затем опомнился и шепотом продолжил: — За белую штраф — весь катер в чешуе, сразу бы нашли. За катер незарегистрированный штраф. За браконьерство штраф. По судам бы затаскали с этим трупом.
— Мы могли бы просто на берег вытащить и бросить.
— Ты совсем дурак, да? Она в следах сетки вся. Или предлагаешь через весь поселок в машине везти на другой берег?
— У нее же семья есть, наверное.
— А у тебя нет семьи? А твои Сашка с Танькой не семья тебе? Денег много у тебя? А если бы закрыли нас? О них подумай. Все, поехали.
Утром Леха проснулся очень рано. Да он и не спал совсем. Все ворочался в полудреме, думал о трупе. Повернулся к жене, поцеловал ее в щеку.
— Как улов? — не открывая глаз, спросила Таня и обняла мужа своими пухлыми сонными руками. — Фу, колючий какой.
— Белую взяли килограмм на восемь, — сонно ответил Леха. — У Андрюхи оставили до утра. Сейчас пойду к нему — там поделим. До работы успею.
— Наконец-то! — Таня поднялась на локтях. — Насолим, чтобы на Новый год была, можно продать немного.
— И насолим, и продадим, — задумчиво ответил Леха и встал с кровати.
Он вышел во двор, достал из сарая старый «Аист» и выехал за ворота. Что-то потянуло его не к Андрею, а на реку. Через весь поселок, мимо утренних собачников, под сентябрьское солнце прямо на старый пляж.
Катер стоял на отмели, заведенный за кусты, чтобы не бросался в глаза с воды.
Леха подошел к нему, перелез через борт и стал смотреть на воду. Затем наклонился, чтобы соскрести мелкую семужью чешую, и заметил клочок темно-синей ткани на швартовой утке. Остаток от куртки. Остаток от человека. Леха, преодолевая отвращение, взял кусок ткани в руку. Что-то металлическое охладило его ладонь. Он перевернул лоскуток и увидел кружок пуговицы. Черное пятно в белой изогнутой капле и примкнувшее к нему белое пятно в такой же черной капле. Инь-Ян. Баланс сил.
— И насолим, и продадим, — сказал он, глядя на лоскуток. Затем сжал его в кулаке и, резко распрямив хлыст своей длинной руки, метнул подальше в реку.

Истина
Мы плывем к Веритасу. Провели в пути уже четыре дня и знаем, что конец близок. Вдали в полуденном свете из скал вырастают зеленые холмы. Носом мы разрезаем изумрудную воду. Корабль гремит и торжествует.
Я сижу на палубе, отвернувшись от бассейна, и вижу твою хрупкую фигуру в тени возле поручней. Совсем не похожа на других Доноров. Кажется, ты одна не утратила свою ангельскую невинность, которую золотые дети всего человечества теряют, как только узнают о том, что им все дозволено.
Желтая ткань платья развевается на ветру. Задумчивый взгляд скользит по мягким волнам Тихого океана. Где нет суши. Нет боли.
Бассейн взрывается брызгами. Толпа густеет и ревет. Я стряхиваю с белых льняных штанов долетевшие до меня капли. Доноры наслаждаются последними минутами своей вседозволенности.
В голове звучат слова, которые не исчезают из памяти.
Десятого числа из Гуякиля… В двенадцать часов дня… Накануне… Штаб, без опозданий… Кровь, спермограмма, мазки…
Я все еще вижу перед глазами белоснежный силуэт врача, сидящего за столом, вытянутую длинную ногу и стучащие по сенсорам пальцы. Их удары отдаются гулким эхом где-то на подкорках сознания. Тогда, несколько дней назад, в фосфорном свете поблескивали полные вакуумные пробирки, в которых густела моя бордовая кровь, а меня тошнит, будто ее только взяли.
Я не свожу с тебя глаз. Встаю с места и иду к тебе, протискиваясь между галдящими Донорами. Там, где стоишь ты, совсем тихо.
— Что-то я переживаю… — говоришь ты, когда я встаю рядом.
Бурлящие волны разбиваются о нос корабля. До нас долетают мелкие брызги.
Ты кажешься такой беззащитной. В ситцевом платьице выглядишь совсем юной. Так и не поняла, на что идешь. И хорошо. Лучше вообще не знать.
— Ты уже знаешь ее имя?
— Чье?
Я смотрю в твою сторону. Наконец, твои голубые глаза обращены ко мне.
— Ну… Той женщины.
Я вновь отворачиваюсь. Зеленые холмы становятся ближе. Осталась пара часов…
— Какая разница… Это ведь не имеет значения.
— Не знаю… Тебе ведь с ней жить.
— Ей от меня рожать… — отрезаю я, впиваясь пальцами в раскаленные на солнце металлические поручни, — я не должен любить ее.
Кажется, вот-вот из глаз пойдут слезы. Но я сдерживаюсь. Знаю, что никогда не перестану любить тебя, и надеюсь, что ты знаешь тоже.
— Мы должны думать о нашем долге…
Ты прячешь глаза. Я молчу. Слова продолжают звучать.
Я оборачиваюсь. Доноры, перекрикивая друг друга, поочередно прыгают в бассейн. Кто-то танцует. Кто-то, хихикая, греет под солнечными лучами свои идеальные точеные тела. На их лицах нет горя, нет сожаления. Кажется, они никогда не любили.
Я вновь смотрю на тебя и запускаю руки в глубокие карманы. Под пальцами хрустит купюра. От одного прикосновения к бумажным сгибам меня бросает в жар.
Каких-то пару лет назад даже несколько денежных пачек не могли сделать меня счастливым, а вчера одна-единственная стопка бумажек давала мне надежду, куда большую, чем этот проклятый остров и все, кто обеспечивает его работу. Хорошо, что ты ничего не знала.
В запястье пульсирует чип. Я чувствую его металлические щупальца венами.
Слишком много человек могло пострадать из-за моей безумной отваги. И без того часовой механизм всего человечества трещит по швам с каждой новой мутацией в схеме. Я мог все испортить.
Трущобы Колумбии все еще стоят перед глазами. Я вижу нас счастливыми. С пачкой бумажек на двоих. Я вынимаю руку и пускаю по ветру то, что вчера значило все для меня. Последнее напоминание об утраченной свободе скользит по воздуху и опускается на водную гладь. Купюру накрывают волны. Этот корабль не щадил ничего.
— Джош, ты ничего не изменишь… — шепчу про себя я, проглатывая слезы. — Все находятся во власти системы. Которая держится на нас…
Я смотрю на тебя и думаю обо всем. О человечестве на грани вымирания. О бесполезных препаратах и выкидышах, которых становится все больше.
Вспоминается безбедная юность. Дорогие машины, бесконечные путешествия… Каждый Донор довольствовался своими привилегиями, не думая о цене, которую придется заплатить. Не догадываясь о том, что правительства просто покупают здоровые тела. Наши тела…
Прежде я не переживал о жизни на Веритасе. Знал, что выиграл лотерейный билет, родившись здоровым мужчиной. Нужно было лишь подождать, пока моя социум забеременеет, и тогда я смог бы вернуться обратно в свою безбедную жизнь, пока она не родит и не потребуется мое присутствие снова. Но все перевернулось с ног на голову, когда я встретил тебя…
Воздух наполняется пронзительным смехом. Он проносится по палубе и касается наших спин. Мы оборачиваемся. Брызги вновь летят во все стороны. Обнаженные тела сверкают на солнце. Парни кажутся более веселыми.
— Так странно видеть здоровых людей.
Я смотрю на крепкие молодые тела, разглядываю сильные ноги, длинные руки. Красивые, не искаженные патологиями лица. Возбужденные голоса звенят в воздухе.
— Иногда мне снится… — признаюсь я, зажмурившись. — Что все вновь стало нормально. Что мы родились здоровыми среди здоровых людей. Но каждое утро я неизменно просыпаюсь в этом обезумевшем мире…
Невольно смотрю на свои пальцы, сжимающие поручни. Они почти белые. Приходится отнять руки.
Ты молчишь. Я знаю, что тебе снилось то же.
— Джошуа?
— Что?
— Не переживай за меня только, ладно?
— Думаешь, это возможно?
Ты протягиваешь руку, и я сперва пытаюсь противиться, но вскоре сдаюсь и позволяю коснуться себя. Прикосновение обжигает.
— Это великий долг… — медленно говоришь ты, сжимая мои пальцы. Твое спокойствие рвет меня на части, и я изо всех сил стараюсь не слушать. — Не все удостоены такой чести.
— В обычной жизни мы бесполезны. Только и умеем, что витамины глотать. Ходячие инкубаторы — вот кто мы.
Твои золотистые локоны блестят на солнце. Пронзительный взгляд голубых глаз обезоруживает меня. Я ненавижу себя за то, что позволил себе грубость.
— Главное, чтобы получилось… — отпускаешь меня ты и отворачиваешься. Я слежу за тобой взглядом. Вновь появляется это напряженное выражение лица. — Что, если у меня не получится? Что, если не смогу забеременеть? Или родить?
Ты кажешься взволнованной. Я зажмуриваюсь, невольно представляя, через что тебе придется пройти.
— Получится… Вас проверили тысячу раз на совместимость. У вас точно получится…
— Так странно… Нас готовили к этому всю жизнь… И вот совсем скоро это случится. Ты волнуешься?
Я молчу. Вновь слышу свое сердце в груди.
— Волнуюсь.
Но не за себя. Ведь я знал, что как только ты сойдешь с корабля на берег этого чертового острова, ты станешь рабыней. Станешь заложницей медицинского кабинета, где тебя замучают тестами и анализами, пока организм не истощится от родов и бесконечных обследований. Ты просто сгоришь… Вот тебе и истина.
Мы снова молчим. На этот раз дольше обычного. Стоим в метре друг от друга, и я вдыхаю аромат твоих духов, который приносит мне ветер, — сандаловое дерево и чайная роза. Ни у кого больше таких не встречал.
— Жаль, что у нас все так получилось…
— Да, жаль…
Хочу растянуть мгновение, запоминая цвет твоих волос и веснушки на вздернутом носе. Пытаюсь впитать в себя каждую твою черту.
Ты пытаешься быть сильной, но я вижу, как тебя ломает изнутри.
— Все же будет хорошо, да?
Я молчу. Твои глаза, полные слез и надежды, вынуждают меня кивнуть.
Зеленые верхушки уже совсем близко. Мы видим, как волны разбиваются о каменные скалы. Стая галдящих птиц проносится над кораблем, и палуба вновь взрывается звонким смехом.
Мы подплываем к Веритасу. Я знаю, что вижу тебя в последний раз.

Ищу тебя
Я есмь Альфа и Омега, начало и конец…
Который есть и был и грядёт, Вседержитель.
(Откровение Иоанна Богослова)
***
Если только можно, Аве Отче,
Чашу эту мимо пронеси.
(Б. Пастернак)
1
Рэн сплюнул на песок. Огромное дерево, иссохшей палкой торчащее вверх, почти не отбрасывало тени. Он сел, облокотившись на него спиной, и закрыл глаза. «В этот раз я точно догоню Тебя». В памяти вспыхивали обрывки собственных записей. Вчера он до ночи раздавал их всем, кто только обнаружил себя здесь. Он глубоко вдохнул — в плотном воздухе начали появляться дыры. Через несколько часов жара спадёт.
«Второе пришествие наконец наступило. Накануне весны, в самый обычный день, миллионы людей почувствовали волнение Земли и Неба, и, боясь потерять свои жизни, потеряли их навсегда. Его голос прозвучал как рёв множества водопадов. Он пришёл с мечом. Но Он призвал нас к жизни.
Мы бессчётное количество дней пытаемся найти Его. Мы ищем Христа. Какой сейчас год — никто из нас не знает. Мы — несколько десятков человек, что воскресли. Воскреснув, мы поняли, что остались с Ним один на один.
Меня зовут Рэн. Это имя мне дали другие. Коричневая пустыня с обломками домов, торчащими то здесь, то там, лес, несколько озёр — всё, что осталось. Мы живём в этих домах, объединяясь по двенадцать человек. Иногда уходим и ищем другие, но в каждом оставляем вопросы «Где Ты?», «Для чего мы здесь?»
Я чувствую Его присутствие. Все чувствуют, но Он не отвечает нам.
У многих из нас сохранились отметины из прошлой жизни. У Сонда — чёрные руки и ноги, будто измазанные сажей. Видимо, он сгорел заживо. У Амеса — вывернутый наизнанку красный шрам на животе, у меня — шрам на шее. Но нас не интересует прошлая жизнь. Все, кто воскрес, хотят понять только одно — для чего мы здесь? И пока мы не знаем, наша цель — найти Его и любым способом получить ответ».
— Рен, проснись! — Грубая рука трясла его за плечо. — Его видели за песчаной дюной. У Амеса солнечный удар, сможешь сменить?
С трудом открыв глаза, Рэн сказал: иду. Горло саднило от сухости, и даже такое короткое слово потянуло за собой поток кашля. Он попросил у Нира воды.
В воздухе пахло ладаном. Рэн шёл, увязая в песке, с каждым шагом всё сильнее чувствуя Его недавнее присутствие. Им не приходилось добывать себе пищу или думать об устройстве жилища — всё уже было в этом мире в изобилии, кроме разве что убежищ от землетрясений. Первое время им пришлось привыкать к непостоянству природы и придумывать укрытие от бушующих стихий. Лишь природа животных осталась неизменной. Люди же были не мертвы, но как будто и не живы. Если бы не эти поиски и вечная погоня за Ним, никто из них не знал, чем занять себя.
***
Рэн посмотрел наверх. На иссиня-чёрном небе уже повисла луна. «Что ж, пора приступать». Днём они дежурили на случай Его внезапного появления, но настоящие поиски начинались ночью. С ботинок звучно сыпался песок. В голове крутились какие-то слова. «Лисицы — норы, птицы — гнёзда. Сын человеческий — ?» Где? Где же Он? Для чего было вызывать нас к жизни? Неужели это и есть Царство Божие?
Он остановился. Глаза, привыкшие к ночной тьме, выхватили из неё движение. Рэн медленно опустился и лёг. Ещё не остывший песок облепил тело. Стараясь не выдать своего присутствия, Рэн задержал дыхание. От разъедающего пота, точно загоревшись, зачесался шрам на шее, но он стерпел. За всё время поисков им ни разу не удавалось увидеть Его лица. Только спину. Отчего-то Рэну казалось, что надо увидеть именно лицо. Тень направлялась в сторону леса. Рэн начал медленно двигаться. Загребая руками жёлто-серые волны, он походил на пловца. Песок попадал в глаза, дыхание сбивалось. Голову с намотанными на неё тряпками — спасением от удара — приходилось держать выше, чтобы не нахлебаться песка. Тело двигалось тяжело, но Рэн ни за что не хотел сдаваться. Ему нужен был ответ.
Когда он наконец добрался до леса, кожа горела. Из-под повязок на голове струился пот. Он снял чалму. По мокрым волосам пробежал ветер. От облегчения Рэн на секунду закрыл глаза. Фигура всё ещё шла вдали, но как-то неровно, несмело. Рэн вцепился в толстое дерево, поросшее мхом, и аккуратно поднялся на ноги. Тень двигалась к озеру.
Белая бабочка с фосфорными крыльями кружила светлячком в темноте. «Ей тоже нужно найти смысл», — подумал Рэн. Но бабочка означала одно — тень действительно шла к озеру. Внезапно фигура остановилась. Рэн вплотную прислонился к дереву. Он слышал, как бьётся сердце и шумит в ушах, но, сделав три глубоких вдоха, заставил себя успокоиться. Постояв немного, тень скрылась за деревьями.
Когда Рэн добрался до места, Христос сидел на камне возле самой воды. Пахнуло свежестью, по коже пробежали мурашки. Он никогда не был так близко к Нему. Рэн хотел сделать шаг и выйти из укрытия, но Он повернулся.
Освещённое луной, Его лицо оказалось настолько бледным и измученным, что Рэн остановился.
Христос говорил Сам с собой. Его голос звучал всюду: в голове Рэна, в небе, в воде. Казалось, голос заполнил собой всю Землю, и тело вот-вот лопнет от напряжения, неспособное вместить в себя его.
Огромный камень, давным-давно оставленный здесь ими, теперь служил Ему троном. Но Он сидел не как Бог, и не как человек. Рэна окатило иссушающей тоской, исходящей от Его фигуры. От Того, кто, сгорбившись, сидел сейчас на камне и смотрел на воду. От Того, кто должен был дать им ответ.
«Они ищут меня.
Они ждут решения, как я ждал решения Отца в Гефсиманском саду.
Он закрыл лицо руками.
Но я ищу тебя.
Ледяной пот обездвижил Рэна. Шрам снова загорелся.
Я вызвал их к жизни своим пришествием, но я не хотел этого. Прежде я хотел найти тебя.
Я нигде не могу найти тебя, Иуда. Я совершил ту же ошибку, Иуда.
Они не понимают меня, как ты не понял когда-то. Объясни мне, как говорить с ними…»
Рэн стоял во тьме, сердце перестало биться. Кровь, закипев, застыла. Озеро, камни, лес, небо — перестали существовать. Высеченная в тёмном сознании Рэна фигура Христа вытеснила все: прошлое, настоящее, погоню за Ним, поиски. Осталось только пожирающее нутро чувство сожаления и ужасающе одинокий то ли человек, то ли Бог, сидящий у озера.
Спокойная в своём могуществе, вода молчала. Она ничего не ответила Ему.
Рэн понял, что идёт обратно, только когда ботинок погрузился в песок.
Он увидел, как плачет Бог.
2
Ночью шёл дождь. Пески размыло. Воздух, казавшийся высохшим навсегда, разбух, напитался дождём, и вдох больше походил на глоток. Лия давно поняла, что воспоминания вернулись к ней. Долгое время она предпочитала молчать, но вчера, увидев Рэна, пришедшего раньше срока с ночного дежурства, почувствовала, что хочет рассказать ему. Он прошёл в свою комнату, проигнорировал их вопросы и просто захлопнул дверь. С утра все собрались на дежурство, оставив их вдвоём.
Странная в этом мире погода — подумала она, поднимаясь по лестнице с подносом.
Лия помнила, что раньше климат был другим. Но мир после второго пришествия оказался таким же, как и чувства тех, кто воскрес, — непонятным, запутанным и непостоянным. Будто он отвергал самого себя. Бредил и стонал в лихорадке, переходя то на дождь, то на засуху, иногда заходясь градом.
От кружки шёл пар, позвякивая, дрожали пиалки. Она аккуратно перенесла поднос на одну руку и постучала в деревянную дверь. Никто не ответил.
— Рэн. Я принесла поесть. — Она помолчала, раздумывая, но всё-таки взялась за ручку. — Я захожу.
Рэн лежал на кровати лицом вверх. Он не спал, но никак не реагировал на вошедшую Лию.
Она молча прошла в комнату и поставила поднос на тумбочку рядом с кроватью.
— Сегодня дождь. Так что я занавешу окно, ладно?
Не ожидая ответа, она молча потянулась к закрученной на палку тряпке и развернула её, закрыв проём.
— Ты можешь мне ничего не рассказывать. Но, если позволишь, я расскажу тебе.
Она присела на край кровати и, поджав под себя одну ногу, начала говорить. Она смотрела в сторону окна, но краем глаза видела, как Рэн перевёл взгляд с потолка на неё.
— Я начала вспоминать прошлое. Сначала мне снились сны, какие-то странные, будто в тумане. Всё там было древним. Но чаще всего я видела пустыню. Я всё думала, что это из-за нашего дома. Чему удивляться, если мы живём недалеко от дюны?
Она улыбнулась и сильнее сжала ткань пёстрой штанины.
— Но позже я поняла, что это никак не связано. Просто раньше я и правда жила в пустыне. Множество мужчин, какие-то встречи обрывками всплывали в памяти. А однажды все они выстроились в одну большую историю, и я точно поняла, что это и есть моя прошлая жизнь. Я была очень красивой и находила удовольствие в бесконечных любовных утехах. Однажды комнату у нас снял какой-то мальчишка. Именно мальчишка, он был значительно младше, но сразу понравился мне. Только его, кроме Бога, ничего не интересовало. Он должен был уплыть на корабле в следующее утро, и всю ночь за стенкой читал вслух писание. Поначалу мне это не нравилось. Но чем дольше он читал, тем больше я ловила себя на мысли, что слушаю. Внимательно слушаю, так, как никогда в жизни не слушала ни одну историю. Возможно, потому, что он читал её не мне, а для себя. Читал, потому что хотел, а не потому, что упрекал меня. А тех, кто хотел меня исправить, было много — уж поверь. Наступило утро, и я забыла свои ночные чувства, оно смыло всё, пробудив меня прежней.
Я сбежала за мальчишкой на корабль и там продолжила то, что обычно. Мне было безразлично, куда мы плывём, интересны были только мужчины, а им была интересна я. Утомлённая путешествием, в которое я почти не спала, я сошла на берег со всеми. Оказалось, что корабль плыл в город на какой-то православный праздник, сейчас уже не помню какой. Люди нестройными ручейками потянулись к Храму. Ещё издали был слышен колокольный звон. В какой-то момент я поняла, что хочу пойти с ними.
Только когда я подошла к порогу храма, зайти внутрь не смогла. Что-то не пускало меня. И с этого момента началась вторая и самая значительная половина моей жизни. Я видела, как та я, что всё это время грешила, от всего сердца пожалела о том, что сделала. Мне было так стыдно, что, даже наблюдая за собой во сне, я хотела исчезнуть. Исчезнуть, чтобы меня не было больше нигде и никогда, чтобы такую меня никто не видел. Я упала на холодные ступени и вымолила прощение, пообещав, что никогда больше не буду вести прежнюю жизнь. Не знаю, сколько я там пробыла, но в конце концов я смогла зайти в храм. Помню запах ладана и много-много жёлтого цвета. Масло, свечи — всё было жёлтым. И пустыня, в которую я ушла после этого, тоже была жёлтой.
Я приняла на себя жизнь аскета, поселилась в пустыне, питалась только постным и всё, что делала — просила прощения. Пустыня, солнце, выжигающее вместе с кожей грехи, скудная, однообразная пища. И молитва. Вот из чего состояла моя жизнь. Я молилась, молилась, молилась на протяжении всей оставшейся жизни, пока наконец Бог не забрал мою душу себе. И вот сейчас зачем-то позвал снова. Меня звали Мария. Мария Египетская.
Рэн приподнялся на кровати.
— Зачем ты мне это рассказала?
Лия молчала. Она опустила ноги на пол, подвигаясь, чтобы Рэн мог сесть.
— Вчера у тебя было такое лицо, словно ты всё потерял. Мне показалось, что мои воспоминания тебе помогут. Бог точно знает, для чего мы здесь, просто доверься Ему.
Рэну показалось, что кто-то сильно его ударил. Он смотрел на Лию и видел, как её зелёные спокойные глаза внимательно смотрят перед собой, вспоминая прошлое. Во рту пересохло. Рэну не помогала влажность. Дефицит может возникнуть, даже если кругом избыток. Сейчас Рэн испытывал дефицит слов. Что он мог сказать Лие? Что Бог тоже не знает? Что вчера Рэн, как и все, потерял смысл всей их последней жизни? Что молитва оказалась монологом в комнате без окон? Поиски бесполезны. Только он об этом знает, а они — ещё нет.
Внизу послышались голоса — вернулись остальные. Лия быстро поднялась, поправила кофту и сказала:
— Ты поешь, Рэн. Я пойду помогу им накрыть на стол.
Рэн оторвал взгляд от коричневых досок пола и нашёл только одно слово:
— Спасибо.
Лия улыбнулась и тихо вышла из комнаты.
«Спаси Бог», — вспомнил он про себя.
3
Он шёл по размокшему месиву песка, но видел перед собой потолок, застрявший в памяти за неделю, что он не выходил из дома. Люди продолжали воскресать, несколько человек приходили вчера, благодарили его за записи, оставленные в свободных домах. «Их писал другой человек, — думал Рэн, механически вытаскивая увязавшие в мокром песке ноги, — того Рэна больше не существует, я не знаю, что сказать воскресшим. Это как читать будущее по глазам умершего».
Одежда, промокнув, липла к телу, но Рэн не хотел возвращаться. Поначалу он отказывался выходить на поиски, ссылаясь на плохое самочувствие. Избегал смотреть в глаза не только соседям, но и всем, кого мог встретить. Особенно трудно было с Лией. Она тоже не хотела выходить на поиски, но по совершенно другой причине. Вспомнив прошлое, она доверилась Богу и перестала искать встречи с Ним. Он уже был у неё. По крайней мере, в памяти. Для Рэна бог Лии — был её личным выдуманным богом, ничего общего не имеющего с Тем, Кого он видел у озера, но в какой-то степени он даже завидовал ей. Она обрела покой, а он метался по комнате, чувствуя себя дичью, принимающей смерть в собственном жилище под взглядами сородичей. Их заботливые вопросы или, того хуже, поднимающие боевой дух речи, призывы придумать новый способ поиска — всё это походило на пытку. И он снова стал выходить.
— Рэн! — перебивая шум дождя, долетел до него крик Амеса. — Взбирайся на дюну, а я обойду с другой стороны и пойду в сторону леса.
— Хорошо.
Рэн облегчённо вздохнул. Сегодня он будет на дежурстве один, а значит, можно просто провести день под открытым небом. Дома он сходил с ума от бьющихся друг об друга мыслей, изматывающих тело. Дойдя до дюны, он свернул вправо, обошёл редкие кусты, льнущие к подножию песчаного холма, и привалился спиной к стене из песка. Дождь обессилел и жалостливо колол тело слабыми иголками.
Рэн запрокинул голову: ветер дул со стороны озера и приносил слабый травяной запах. Небо над ним двигалось, и ему, неподвижно сидящему, казалось, что он тоже совершает движение. Куда лучше, чем лежать придавленным потолком у себя в комнате, делая вид, что всё хорошо. Вчера на собрании все двенадцать человек делились наблюдениями за неделю. Сонд недавно вернулся из похода на восток. Он исследовал земли, где они ещё не бывали, говорил с вновь воскресшими и передавал им записи Рэна. Те люди тоже чувствовали Его присутствие. Почти все, кто воскрес, имели одинаковое желание по пробуждении: желание незамедлительно получить ответ — для чего они здесь? На собрании Рэн сидел в дальнем углу, скрестив на груди руки, и слушая других, с удивлением отметил, что ему ни разу до этого не приходила мысль в голову, которая казалась такой очевидной и первостепенной. Было непонятно, почему все её игнорируют. Он думал «почему никто из нас не спросил первым делом — кто я? Почему мы сразу начинаем искать Его, не успевая найти себя»? Это так удивило Рэна, что он, снова прикрываясь плохим самочувствием, поднялся наверх. Сонд попытался уговорить его сделать ещё записей для новых людей, но Лия вступилась за Рэна, проводив его спокойным взглядом до самых дверей. Рэну казалось, что её зеленые глаза говорят: «Доверь всё в руки Божии».
Он провёл руками по лицу — «как бы я хотел, Лия! Как бы хотел уметь так, как ты». Рука соскользнула, и он задел шею. Мысли, уставшие от недельной битвы, бесцельно текли в разные стороны, цепляясь за воспоминания или вещи, выхваченные глазом. Теперь они вцепились в шрам. Нащупав, Рэн впервые попробовал исследовать его. Ему захотелось познакомиться с собой, и какая разница, с чего начинать? Ободком тянущийся вдоль шеи, он не был нанесён ножом, как раньше казалось Рэну, он скорее походил на отметину от чего-то, похожего на верёвку. Видимо, Рэн умер от повешения. Но кто сделал с ним это и для чего, Рэн не помнил. В отличие от Лии, он не вспомнил прошлого. Отчасти это произошло потому, что он не хотел. Сейчас ему казалось удивительным такое безразличие к собственному телу, да и вообще к себе. Это безразличие он видел у всех, кто был здесь. Они хотели только одного — понять, для чего проснулись. И ответ искали у Него.
«Я ищу тебя, Иуда. Объясни мне, как говорить с ними?» — пронеслось в голове Рэна.
Он не может дать нам ответ. Как мне объяснить им? «Сын Человеческий не имеет, где главы преклонить», — неожиданно вспомнил Рэн. И поразительным, показалось сейчас ему то, что и Христос первым делом искал кого-то другого.
Эта мысль, не успев толком обжиться, прервалась впечатлением, которое его тело не смогло игнорировать. Дождь давно сдался, и ветер беспрепятственно донёс до Рэна яркий запах ладана. Запах, который знали все воскресшие. Значит, Он где-то поблизости.
4
Озеро волновалось. Но, будто забыв о существовании людей, не замечая Бога, оно смотрело внутрь себя и находило в своих глубинах ответы, недоступные живущим. Вода, будь то море, озеро или даже лужа, развлекалась отражениями, никогда не предавая своей истиной сущности — замкнутой на самое себя мудрости. Сегодня в мутноватой глади отразилось множество людей. Рэну пришлось сказать, что в последний раз он видел Христа у озера, поэтому поиски в этой стороне стали активнее, людей больше, а птиц и животных меньше.
— Нир! Установи дежурство вместе с новенькими, пускай помогают, раз поселились неподалёку.
Сонд, надрываясь, пытался сдвинуть камень ближе к воде, но никто не шёл ему на помощь. Возле него крутился, не зная, что делать, лишь один новенький. После открытия новых земель Сонд стал чересчур активным. Порой ему нужна была деятельность ради деятельности. Люди быстро поняли это и считались лишь с теми его указаниями, которые были по-настоящему полезны. По берегу разнёсся резкий запах краски. Новенький решил написать на камне вопросы к Богу. Они были теми же, что у всех, но для пишущего — худощавого паренька с острым носом — вопросы были личными, достойными шепота. Его душа, пересиливая себя, готова была прокричать их, перенести стыд откровенности, лишь бы получить ответ. Обычно тихое, задумчивое место пожиралось суетой под молчаливое соглашение воды.
Амес, оставивший Рэна на дюне, шёл, отмахиваясь от острых веток, норовящих попасть в глаза. Ему не нравилось нынешнее состояние Рэна, но он понял, что оставить его одного лучше, чем заставлять участвовать со всеми. Как бы там ни было, он верил, Рэн не умолчит от них правды и сделает всё ради общего дела. Бесцельное существование сводит его с ума не меньше, чем остальных, а значит, он скоро вновь станет прежним. Амес на секунду остановился. Потревоженный его присутствием, рой белых бабочек взметнулся прочь, точно снег, кем-то подброшенный вверх.
— Эй, ну как вы тут? — прогорланил он, придя на берег.
Лия, вышедшая сегодня со всеми, подняла на него спокойные глаза и улыбнувшись ответила:
— Всё хорошо, скоро будем возвращаться.
Сегодня она вышла из дома, потому что об этом очень просили остальные — нужен был кто-то, кто поможет освоиться новеньким. И Лия согласилась. Но, выйдя на поиски, она не изменила своему спокойствию, пока все горячо обсуждали новости, делились мыслями о предположительном местонахождении Христа — мирно бродила среди людей. Казалось, что они играют в игру. Только в отличие от остальных, Лия знает, где спрятан клад. Они надеялись, что Христос оставил им какую-то подсказку, ответ или что-то, что можно будет так трактовать. Именно поэтому сегодня было решено все силы бросить на исследование берега, оставив на остальных точках по одному наблюдателю.
— Как Рэн? — спросила Лия.
— Да всё в порядке, дежурит на Дюне, — сказал Амес, принимая из её рук чашку. — Всё с ним будет нормально. Не знаю, что вы там себе надумали, но Рэн так просто не сломается. Он ещё нам покажет — первым найдёт что-нибудь важное.
— Возможно, — согласилась Лия.
Через три часа, так и не найдя следов Его присутствия, оставив свои вопросы, они ушли, назначив одного дежурного.
Озеро освободилось от отражений, и тишина у него внутри пришла в равновесие с тишиной снаружи.
5
Рэн задерживался. Все, дежурившие сегодня поодиночке, уже вернулись. Пришли даже новенькие с дальних постов. Двое из них — брат и сестра, напоминавшие подростков, — живо рассказывали, что ближе к вечеру почувствовали запах ладана. Девушка с белыми волосами подробно рассказывала историю, а брат кивал, как бы подтверждая её слова.
— Он точно был там. Мне даже кажется, ещё чуть-чуть, и Он ответит нам. Это одновременно страшно и радостно. Я побоялась пойти за Ним, но стала про себя спрашивать «что нам делать?», «ответь нам, пожалуйста». Мне почему-то казалось — Он меня точно услышит.
Она ненадолго задумалась, бесцельно водя ложкой по тарелке. Но потом продолжила:
— А брат, его пост был дальше, он побежал за Ним. Я видела, как он бежит вдалеке. Но ему так и не удалось догнать Его.
Светловолосый мальчик-мужчина кивнул, продолжая жевать хлеб.
— Не знаю, почему Он до сих пор нам не отвечает?
Сонд перебирал оставшиеся записи Рэна и периодически смотрел в окно. Если Рэн не вернётся в течение часа, они с Амесом пойдут на поиски. Может быть, что-то случилось? Но дюна обычно спокойна, в последнее время даже оползней не сходило. Сонд старался поймать глазами убегающие строчки, но смысл их ускользал от него.
Лия уронила что-то на кухне, грохот посуды отвлёк внимание на себя и сделал появление Рэна незаметным. Несмотря на вечер, с него градом тёк пот, воспалившийся на шее шрам пылал раздражением под воротом рубашки.
— Рэн! Пришёл наконец-то! — Амес подошёл к нему и взял вещи. — Всё в порядке?
Рэн снял накидку и ответил:
— Да, спасибо. Задержался немного, но результатов особых нет. Я поем у себя? А то устал как собака.
Рэн часто ел отдельно, поэтому Амес не стал задерживать его. И напряжённое ожидание, которое оставалось до этого незамеченным, с приходом Рэна, наконец, обнаружилось и разрешилось.
Он рухнул ничком на кровать. Что с ним произошло, Рэн не понял, но главное, что должен был сделать, — ему удалось. Удалось избежать встречи с Христом и удалось сделать вид, что всё в порядке. Оставалось немногое — убедить себя уснуть. Шею пекло. Кожа, как взбунтовавшаяся, горела с момента, как он почувствовал Его присутствие. Не зная, что делать, он с ужасом понял, что впервые бежит прочь от Того, Кого так долго хотел найти. Как песчанка, убегающая от коршуна, Рэн оставил пост и скрылся в зарослях кустарника на границе с новой землей. По дороге он видел, как новенькие гонятся за Тем, от Кого он убегал.
Рэн перевернулся на кровати и поджал под себя ноги. Еда, так предусмотрительно оставленная Лией, стыла на тумбочке, но он и не собирался сегодня есть. Рэн крепко закрыл глаза. Перед тем как уснуть, последняя неуспокоившаяся мысль, метнувшись на границе сознания — «почему шрам так горит сегодня»? — погасла, прогоняемая сном.
***
Лампа, которую они недавно нашли в заброшенном доме, горела слабым белым светом. Сейчас она монотонно светила прямо в лицо Рэну, но не могла добудиться его. В беспокойных веках чувствовалось напряжение, мышцы непроизвольно сокращались, раскиданные простыни касались пола. Было четыре утра, когда Рэн, вскрикнув, открыл глаза. Он часто дышал и нервным движением скинул с себя тонкое одеяло. Неустойчиво, держась за край кровати, он направился к двери. Свет в коридоре никогда не выключали на случай срочных сборов или землетрясений, и жёлтый поток хлынул во тьму комнаты, осветив лицо Рэна. Оказалось, он плачет. Плачет как ребёнок, на глазах которого убили мать. Ужас и невозможность поверить в происходящее читались на его лице, когда, добравшись до комнаты Лии, он упал на колени и уткнулся головой в край её кровати.
— Рэн! Что с тобой? Что случилось? — Лия холодными ото сна руками пыталась поднять его лицо, трясла за плечи. Рэн впервые слышал у неё такой голос. Он понял, что она испугалась, но смог сказать только:
— Я тоже… Лия. Я тоже вспомнил.
Рука Лии на мгновение застыла в воздухе, но тут же коснулась его головы, и уже своим голосом она произнесла:
— Я поняла. Всё хорошо, Рэн. Я поняла.
Рэн резко поднял голову:
— Нет! Ты ничего не поняла! Ты знаешь, кто предал Христа? Знаешь, кто продал Его за тридцать серебряников, а потом не выдержав, удавился? Знаешь?!
Их зелёные глаза смотрели друг на друга, но в глазах Рэна металась боль обезумевшего животного, он вскочил на ноги.
— Я, Лия! Это был я. Я — Иуда!
На несколько секунд — всего несколько секунд, но для Рэна они не остались незамеченными, — Лия растерялась. Он стоял посреди комнаты с всклокоченными, чёрными, вьющимися от влажности волосами, с мокрым от слёз и пота лицом, не зная, как быть с собой. Он отшатнулся, а затем сполз вниз и, обхватив голову, сел в углу комнаты. Лия медленно встала с кровати. Прежнее спокойствие вернулось к ней, но было ли оно настоящим, Рэн не знал. Впрочем, он готов был отдать себя в чьи угодно руки — пусть делают что хотят. Ведь он всё равно не знает, как быть с собой.
— Ты, — сказал он в колени, — ты говорила, что стыдилась себя, да? Ты просила прощения. Но для этого нужно чувствовать себя целым, нужно, чтобы было кому просить прощения. — Он поднял голову. Слёзы текли по его щекам. — А я не могу. Мне кажется, что меня нет. Как я могу быть Иудой? Как я могу быть Рэном? — Он запустил руки в волосы. — Мы просто придумали имена друг другу, когда воскресли. Но кому вы дали имя? Меня нет, не существует! Как я мог предать Бога? Как я могу быть сейчас здесь? Почему Он ищет меня? Всего этого не может быть. Меня не может быть!
Лия села рядом с ним, она гладила его по голове и тихо-тихо говорила:
— Всё хорошо, Рэн. Всё хорошо, ты — это ты.
Рэну стало бы легче от этих слов, если бы Лия не добавляла: «Бог знает, зачем мы здесь. Он знает, зачем позвал».
Рэн лежал в углу комнаты, обхватив колени, не в силах больше говорить.
Через полтора часа проснулись остальные.
6
Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний, который был мёртв и се жив. Отчего же Я, знающий тайны мира сего, и горести его, и скорби, не могу найти душу одного заблудшего? Отчего не чувствую присутствия его? Отчего слышу зов многих, не слыша одной мольбы?
Поднявшийся ветер и волнение земли заставили воскресших покинуть дома и спрятаться в укрытие, приготовленное на случай землетрясений. Люди, уже привыкшие к законам нового мира, спокойно собирали необходимые вещи и спускались в вырытые ими убежища. Лишь новенькие, не зная ещё, что делать, удивлённо прислушивались к ветру и этим словам, разносимым всюду.
— Разве Он не ищет кого-то? — спросил растерявшийся остроносый новенький у Рэна, молча плетущегося за Лией.
— Нельзя найти того, кого нет, — сказал Рэн.
«Какие-то у него мёртвые глаза», — подумал новенький. Но сильный порыв ветра заставил его бросить эту мысль и, позабыв всё, бежать к остальным.
В укрытии было темно, лишь маленькие светлячки двух ламп, которые кто-то захватил с собой, слабо освещали пространство. Нир закрыл железную крышку, которую они нашли в первые дни своего пробуждения. Она служила отличным щитом от крупного града, который часто начинался вслед за ветром. Землю трясло, но, что удивительно, прячась внутри неё же, они были в безопасности, не ставя себя противниками землетрясения, а как бы присоединяясь к нему. Обычно это продолжалось не больше двух часов, а затем наступала тишина, и лёгкая тёплая погода устанавливалась на три-четыре следующие недели.
В почти не просвечивающей тьме Рэн сидел, поджав под себя ноги, и впервые за эту сумасшедшую ночь и мучительное начало дня чувствовал себя в относительной безопасности. Находиться на свету было невыносимо. А здесь, под землёй, темнота скрывала от него прямые взгляды соседей, невыносимую доброту Лии, скрывала от самого себя. Он машинально мял в руке кусочек холодной, влажной глины. Рука сама собой отщипнула его, когда он садился. Снаружи что-то грохнуло — большая градина ударила в крышку, но щит устоял. Он походил на лист плотного железа, может быть, раньше это были ворота. Но здесь мало кто интересовался прошлым. А уж прошлым вещей — тем более.
— Рэн сегодня совсем раскис, — шепотом говорил Амес. — Что случилось с ним вчера? Он как будто побитый, зажался там в углу…
Амес уже направился к Рэну, с энтузиазмом отодвигая попадающихся на его пути людей. Но Сонд дёрнул его за руку. В темноте трудно было разглядеть его лицо, но он сказал:
— Погоди, Амес. Помоги лучше здесь — тут много новеньких, поговори с ними, ты умеешь разрядить обстановку. Рэн сам разберётся. Он один из первых, кто проснулся, так что справится.
Амес бросил взгляд на едва различимую фигуру Рэна, и вздохнув, направился к новеньким. Весь ближайший час его громкий весёлый голос сотрясал глиняные стены.
Рэн закрыл глаза и провалился в сон. Дома он боялся уснуть снова, но здесь, в присутствии людей, которые были рядом, но от которых тьма прятала его, он смог наконец расслабиться. Усталость взяла своё. Во сне он бежал по бесконечной жаркой пустыне, железными столбами высились посреди неё люди, многих он узнавал. Они показывали на него пальцем, кидали камнями, а он — задыхающийся от страха — бежал, не зная, где спрятаться. В кармане звенели монеты. Ровно тридцать монет. Он бежал к дереву, выросшему на отшибе, криво раскидавшему свои ветки по небу. Голос в его голове просил — уходи. Брось себя, такому, как ты, нет места. Брось себя. Тебя нет. Ты не Рэн, ты — Иуда. Ты предал Того, Кого хотел полюбить. Уходи.
Сильная волна пробежала по земле, кто-то не удержался и упал на Рэна. Он открыл глаза. Новенькая девушка аккуратно поднялась и извинилась перед ним, но Рэн не ответил. Его захватило чувство, когда-то заставившее его выбрать смерть. Стыд. Такой сильный, что отказаться от себя — было разумно. Правильно: нужно присоединиться к тем, кто тебя осуждает, тогда не придётся быть осуждаемым. Не придётся выносить стыд. Он обхватил шею — шрам больше не пылал. Теперь Рэн вспомнил, что кожа горела всякий раз, когда он приближался к Христу, когда Его присутствие было ощутимым. Сейчас слабая отметина давним синяком чертила круг, но он ни о чём не сообщал Рэну. После этого сна Рэн понял, что ему нужно делать.
— Кажется, кончилось. Выходите, но осторожно.
Нир открыл проход. Солнечное утро вливалось в бесконечную тьму мягкими потоками света. Было около десяти утра, когда они выбрались. Под ногами таяли крупные градины, несколько сбитых птиц замертво лежало на дороге. Рэну нужно было дожить до собрания.
7
Он знал, как сделать палатку. Плотная ткань, туго натянутая с двух сторон, четко очерчивала границы его нового дома. Хрустя под ногами, ветки источали приятный хвойный запах. После встряски погода действительно установилась хорошая. На пол он натаскал сухой травы, которую они собрали в новых землях. Поверх соломы расстелил множество тряпок. Обеспокоенный Амес вызвался проводить его на новое место. После собрания, на котором Рэн сообщил, что хочет теперь круглосуточно дежурить в лесу, он трижды пытался отговорить его. И сейчас, спустя неделю, не оставлял попыток:
— Послушай, я понимаю твоё рвение, но, знаешь, оставаться тут жить одному — рискованно. В конце концов, как ты будешь прятаться от ветра или землетрясения? Хотя мы и не умрём без Его воли, но всё же зачем подвергать себя опасности?
— Ты прав. Мы не умрём без Его воли. Всё будет хорошо, Амес.
Рэн сосредоточенно вколачивал укрепления в землю. Закончив помогать ему, Амес сдался и оставил Рэна одного. Он пообещал заходить к нему.
Рэн похудел и выглядел лёгким, даже пустым, но его глаза уже никому не казались мёртвыми. Убедившись, что Амес ушёл, он достал верёвку, на которой Лия сушила вещи — позавчера он украл её. Рэн выбрал большое дерево и перекинул её через ветку.
Ночь в лесу выдалась звёздной. Звёзды белыми зрачками светились в тёмно-синем небе и смотрели на Рэна. Его долговязая фигура, казалось, подвешена в воздухе, но он лишь стоял и смотрел на верёвку, не решаясь сделать то, что задумал. Он был где-то очень глубоко внутри себя и не слышал, как недалеко от него появилась дикая собака с щенками. Рэн вцепился в верёвку и невидящими глазами смотрел на них. Один из щенков постоянно убегал, и мать огрызалась на него. Они не были опасны для Рэна — в лесу водилось достаточно живности — но он не боялся их по другой причине. Картины жизни стали ему безразличны. Щенок наконец освободился от матери и убежал прочь. Недовольная мать нехотя последовала за ним, но он победно тявкал уже где-то со стороны озера. Что-то было в этом лае такое, что заставило Рэна вынырнуть из себя. Он отпустил верёвку и посмотрел туда, откуда доносился лай. Из кустов, мотая головой, появился щенок — в зубах он нёс рыбу, бог знает как пойманную в озере. Непослушание стало его первым шагом к самостоятельности.
Рэн развязал верёвку.
***
Вот уже третью ночь он не мог уснуть. Лия приходила вчера проведать его. По её глазам он видел, что она всё поняла. Уходя, Лия обещала молиться за него Богу. Она вспомнила несколько молитв, даже обучила новеньких правильно читать их на древнем языке. Рэн чувствовал, что теперь Христос знает, где он. В их первую встречу Рэн не помнил своего прошлого. Поэтому Христос не мог найти его. Много времени потребовалось, чтобы свыкнуться с тем, кем он был. Но ещё больше потребуется, чтобы найти себя заново. Рэн не хотел больше умирать. Но для чего жить — он не знал. Только взлохмаченный щенок с рыбой в зубах всё стоял пред глазами. И его лай сам собой всплывал в памяти. Ночи становились холодными, он натянул на себя одеяло и накрылся им с головой. Жёсткая солома впивалась в спину, но Рэн не слышал своего тела.
Он не мог быть Лией — доверившей Богу всё, не мог быть Амесом, упрямо идущим вперёд на поиски. Не мог быть, как Сонд или Нир — готовым принять мир таким, каким он предстал, или незамедлительно переделать его. Он не мог быть другими, только собой, но что это значит — понять не мог. Вспомнив то, что сделал Иуда, ему пришлось пережить тот стыд заново. Только в этот раз он наконец прожил его до конца. Переболел им, почти до смерти переболел, но всё-таки простил себя. Рэн потянул воздух — ладан. Да, пора встретиться с Ним. Рэн поднялся, залпом выпил холодной воды и вышел из палатки. Он шёл в сторону озера.
8
Чем ближе он подходил, тем сильнее ощущался в воздухе запах ладана. На этот раз пришлось идти к дальнему озеру. Самое большое из трёх, известных им, оно лежало огромным ровным стеклом и смотрело на светлеющее небо. Стрёкот насекомых в высокой траве, белые бабочки, стайками кружащие среди острых кустов травы — возле воды всегда было много жизни. Рэн шёл, смотря прямо перед собой, не обращая внимания на жжение вокруг шеи.
Чёрная земля сменилась мелким светлым песком. Рэн дошёл до берега. Напряжение в мышцах, усталость от бессонных ночей — всё это делало его слабым и одновременно решительным. Рэн понял, что чувствует. Щенок с рыбой в зубах всё не выходил из головы.
Высокая фигура в длинной одежде, похожей на подир, шла ему навстречу. Он ещё не видел Его лица, но уже знал, что оно не будет таким, как прежде. Сильный порыв ветра всколыхнул озеро, но внутри оно осталось спокойным. Кажется, всю жизнь — и прошлую, и настоящую — Рэн хотел испытать это на себе. Он ещё не был спокоен, но уже знал, чего хочет — почувствовать себя тем, кто способен самостоятельно найти ответ. Присутствие Бога заставило его слабое тело дрожать. Он схватился рукой за иву и наклонился вперёд — так дышать было легче. Он заговорил куда-то вниз, но заговорил первым:
— Я не тот, кого Ты ищешь. Я был Иудой. Но теперь я — Рэн. Поступок не может быть больше человека. — Он попытался встать прямо. — Ты не мог найти меня, потому что я не верил, что есть. Потому что я не хотел быть. Я тоже совершил ошибку. Но в этот раз… — Он запнулся. — В этот раз я смог пережить то, чего не выдержал тогда. — Рэн откашлялся и, вздохнув, продолжил: — Прости меня, Бог… Ведь даже я смог простить себя.
Христос не произнёс и слова, но Рэн знал, что его молитва услышана.
9
Синяя густота неба бледнела, растекаясь по горизонту. Две фигуры, стоящие на берегу озера, были хорошо видны друг другу. Наклонённый вперёд человек и Христос, прямо стоящий перед ним. Рэн поднял голову.
Бог увидел, как человек стёр слёзы с лица и показал Ему то, что нашёл сам. Себя.

Каждый новый день Адисы
На место работы Адиса приезжал первым автобусом. Респектабельный курортный пригород Барселоны еще спал, пляжи были пустынны, мягкие волны свободно неслись к берегу. Он раздевался до трусов, заходил в прохладную воду. Тщательно натирал песком тело, бритую налысо голову, несколько раз нырял, ополаскиваясь. Приспускал трусы под водой, возил рукой, намывая промежность. Не спеша выходил на берег, под пляжным душем смывал соль.
Несколько часов спустя Адиса шел по нагретому песку в истертых сандалиях размеренными механическими шагами, уверенно огибая истомленные солнцем тела. Кофейная кожа на его лице блестела от пота. Капли стекали по вискам за уши, дальше на напряженную шею. Низкий упрямый лоб, широкий нос с порванной левой ноздрей, рытвины от оспы на впалых голых щеках и густой черный войлок короткой бородки сразу под нижней челюстью — особенность мужчин мандинка. Скопления красных сосудов на белках черных глаз делали взгляд угрожающим, диким. Адиса знал это, надвигал растрепанный козырек старой вылинявшей бейсболки почти к самому носу, чтобы не оттолкнуть покупателей. Солнцезащитные очки чернокожему нельзя — вид становился подозрительным, так он ничего не продаст. «Вода, кока-кола, пиво, красивые парео, полотенца дешево». Подвернутые снизу бежевые брюки и рубашка с длинным рукавом из дешевого хлопка. Набитый тряпками рюкзак за спиной, через шею перекинуты образцы разноцветной ткани. В каждой руке покачивались увесистые пластиковые коробы со льдом и напитками. Корпус тела клонился вперед, руки подрагивали от напряжения. «Вода, пиво… Покупаем, покупаем. Красивые парео, сеньора, полотенца для пляжа, дешево». Вот он присел на несколько минут в тени, глотнул воды из бутылки, кивнул бредущему навстречу Бакари и двинулся на новый круг по своему участку.
После семи вечера жара спадала. Набережная приморского городка заполнялась гуляющими парочками, семьями с детьми и собаками, бегунами, роллерами, велосипедистами. Бары и пляжные чирингито гудели музыкой и голосами, непрерывно бормочущие зазывалы размахивали глянцевыми картами меню. Запах гриля, алкогольных паров, пережаренного масла, пота, смешанного с парфюмом, сладкой ваты от цветастых тележек. По краям выложенного серой плиткой променада громоздились россыпи сумок и кроссовок с узнаваемыми логотипами, очки от солнца, развалы одежды и ярких тряпок. Адиса сидел на корточках возле своего товара, разглядывая толпу. Время от времени он подскакивал, растягивал губы в улыбке, привычно прятал воспаленные глаза под козырьком бейсболки. Бакари, наряженный в красную майку с надписью «adidas» и белые кроссовки, купленные у соседей, вертелся среди отдыхающих, улыбался во весь рот, нахваливая товар.
Торговцы начинали собираться домой после десяти вечера — последний автобус в Барселону уходил в одиннадцать. Адиса паковал полотенца и парео в целлофановые пакеты, потом укладывал в большие сумки на колесиках, сверху одной из них бережно разместил свою главную ценность, с которой никогда не расставался — туго набитую черную пластиковую папку, перетянутую тканевой резинкой. Вместе с Бакари они спрятали часть своих вещей под крышкой канализационного люка в крошечном парке возле набережной. Каждый месяц они платили аренду за крючок-ключ от этого люка. Внутри на металлической сетке стояли пластиковые коробы, запасы банок пива, бутылок воды, лимонада.
Уже совсем стемнело, когда Адиса затащил свою сумку в переднюю дверь автобуса, вежливо пропуская других пассажиров вперед, вставил картонную карту в терминал для оплаты. Бакари с двумя большими тюками на колесах двинулся к широкой средней двери и постучал по створкам, привлекая внимание водителя. Тот закрыл переднюю дверь за последним пассажиром, и автобус тронулся. Бакари колотил по закрытым дверям, вещи повалились на бок, Адиса кричал водителю:
— Сеньор, сеньор, подождите, откройте двери, человек не успел зайти.
Бакари уже бежал к передней двери, махал руками, опять стучал по железному корпусу. Какое-то время они с водителем неотрывно смотрели друг на друга. Автобус медленно разгонялся, набирал скорость. Красная майка Бакари выделялась ярким пятном в темноте пустой остановки. Кто-то из пассажиров неодобрительно качал головой, но вступаться никому не хотелось. Адиса все еще что-то объяснял водителю, показывая назад рукой. Пожилой мужчина цепко держался за руль, глядел перед собой. Поджатые губы, седые усы жесткой щеткой. Наверное, это был последний год его работы. И он уже представлял, как будет жить в своем доме с маленьким садом где-нибудь в горах на заработанную пенсию. Водитель, наконец, ответил, что у него расписание, и он не может дожидаться каждого, а потом сказал «иди, парень, сядь на место». Тут же позвонил Бакари, сыпал ругательствами, с явным удовольствием вырыкивая слово «расист». Немного поныл, что теперь тащиться с поклажей на электричку, добираться с пересадками, но велел ехать дальше без него — пусть хоть один из них выспится. Адиса прошел в конец салона, уселся возле своей сумки и уставился в темные окна. Автобус несся по едва освещенным улицам пригорода, устало постанывая. В оконных проемах, как в зеркалах, отражались кресла с синей обивкой, дремлющий мужчина в наушниках, женщина с девочкой… Адису почти не было видно. Темная одежда и кожа сливались с чернотой за окном. Он казался призраком среди этих людей.
Следующим утром Адиса привычно рано приехал на пляж в пригороде. Искупался, накрылся одним из своих парео и уселся лицом к морю на бетонный парапет набережной. До наплыва отдыхающих было еще часа три, не меньше. Он вытащил из набитой товаром сумки черную пластиковую папку. Достал оттуда кусок тонкой фанеры, зашкуренной по краям, осторожно погладил пальцами закрепленный на нем клейкой лентой незаконченный рисунок. Следом на голые шершавые колени улеглись набор пастельных мелков, баллончик фиксатора, палочки для растушевки, ластик. Мужчина выбрал из пачки несколько мелков и склонился над бумагой.
Незаметно одиночные зевающие пляжники сменились шумным человеческим ручейком. Вот уже звучала музыка, детский визг, взрывы хохота. В воздухе стоял синтетический кокосовый запах солнцезащитного крема. Пляж постепенно укрывался яркими зонтами и тентами. На набережной появились чернокожие парни с привычными сумками и тюками. Бакари отделился от приятелей, подошел к парапету и плюхнулся рядом с Адисой, стараясь не толкнуть друга локтем.
— Еще не поздно рисовать для той выставки в благотворительном центре.
— Нет. Я уже сказал.
— Почему, Адиса? Это же история про нас. Нарисуй много-много глаз в темноте, как в том грузовике, на котором мы ехали в Алжир. И меня в кузове с двумя пластиковыми бутылками в руках — из одной пьешь воду, в другую от воды избавляешься. А что, смешно получится! Хотя нет, они не поймут, что это за бутылки. Тогда нашу спортивную палатку в лесу в Танжере, в которой мы больше года жили, пока деньги на дорогу зарабатывали. Лучше сразу все палатки и развалюхи из картона и пластика, чтобы видно было, что там целый город беженцев. И обязательно повсюду банки от консервированных сардин. Сардины, сардины, мы их каждый день ели, до сих пор запах рыбы ненавижу. Или вот, портрет того смешного парня, Диавара, который замучил нас своей болтовней про то, как доберется в Барселону и будет играть в футбол. Ты его нарисуй на вокзале, где он милостыню просил или вещи за еду таскал. И напиши под картинкой «Дорога к мечте». Можно еще рисовать, как люди на железный забор в Сеуте лезли. Мужика того с разорванными о колючую проволоку руками помнишь? Прямо до локтей. Вот это получилась бы картина, я тебе скажу! Или опрокинутую волнами лодку возле испанского берега с пограничниками, а вокруг головы…
— Хватит. Это все и без меня показывают в новостях по телевизору или в газетах.
— Так рисуй про сейчас. Там же про то и просят — Европа глазами беженца. Нарисуй нашу квартиру, набитую двухъярусными кроватями и тюками с товаром. Вчерашнего водилу или ту дуру-медсестру, которая отказалась подходить к Хасану, когда мы его избитого, всего в крови, приволокли в госпиталь, а она кричала, что у нас всех обязательно СПИД…
— Я не рисую страдания, друг, я уже сказал.
— Выставка ведь. — Бакари пробормотал это как-то плаксиво, по-детски вытянув губы. — Это же шанс. Вдруг тебя заметят, ты ведь не забудешь меня тогда? Все равно рисуешь, все деньги на это тратишь. А эти твои картинки даже продать нельзя — окна, одни окна с занавесками. Почему окна, Адиса? Где ты видел эти занавески?
Адиса молчал. Потер мелком пастели кусок наждачной бумаги, наточив кончик, как показывал учитель в благотворительном центре, и продолжил рисовать. Тонкая деревянная рама окна приоткрыта, полоски света на белом узком подоконнике, скошенный солнечный прямоугольник на светло-желтой стене. На ее окрашенной поверхности трещинки, потертости — это старый дом, уютный, обжитой. Полупрозрачная кружевная занавеска подлетела вверх, надутая ветром из окна. Что там, за стеклом, не видно — блеклые пятна. Здесь, внутри комнаты, мирно, отчего-то радостно, все расцвечено мягким утренним солнцем. Мужчина улыбался, вырисовывая тонкий узор на ткани. В этой комнате, у открытого окна с парящей в воздухе занавеской начинался каждый новый день Адисы.

Карусель
Со всех сторон к фонтану стекались улицы и улочки. Пришедшие по ним люди оказывались на яркой шумной площади и начинали наматывать круги вокруг разноцветных струй воды. Из-за шума и ярких лампочек это место называли Каруселью. На Карусели любили встречаться пользователи приложения для знакомств — им было удобно выглядывать из-за угла, чтобы посмотреть на человека живьём. Похож на фото — выходишь и говоришь «Салют!», а если не понравился, то пишешь, мол, извини, форс-мажор, силикон подсдулся, сегодня не смогу. Или сливаешься по-английски.
Эти двое сразу понравились друг другу — ни у одного из них не было ничего натурального, всё было перекроено хирургами по несколько раз. Довольные встречей, они пошли гулять вдоль фасадов клиник пластической хирургии. Честно говоря, вряд ли в городе была хоть одна улица без клиники, посоревноваться с ними могли только салоны красоты.
— А тут мне исправили нос, ты даже не представляешь, каким ужасным он был! — И она махала руками, будто старалась отогнать от себя эти страшные воспоминания.
— А вот в той я делал уши. И глаза — раньше маленькие были, и цвет был никакой. Глаза, в смысле, маленькие были. А уши, наоборот, большие, вот такие!
— Круто! Она же самая дорогая в городе! А у какого доктора?..
Он играл имплантами в бицепсах и показывал ей эпилированную грудь, а она надувала гигантские губы и пыталась изобразить бровями то ли удивление, то ли восторг. Весь вечер они хвастались фамилиями хирургов, у которых успели побывать, скидками и карточками, которые имели в разных местах и, конечно, дальнейшими планами. Они выискивали недостатки и недоделки у окружающих и смеялись над ними керамическими ртами.
На закате они поцеловались.
— Эмили, мы с тобой просто созданы друг для друга!
Она отшатнулась.
— Дурак, что ли?! Я Катарина!
— Что? Погоди! — Он полез в телефон. — Вот же написано: «Эмили».
— Но это же не я! Это не моя анкета!
Парень присмотрелся повнимательнее.
— И правда, не ты. Но вы так похожи!
— Да пошёл ты, Серж! — крикнула Катя и побежала от него прочь.
— Но я Майкл, — растерянно пробормотал парень ей вслед.
Через секунду он заржал, поняв, что случилось, и заторопился в бар, чтобы скорее рассказать эту историю друзьям. Но притормозил на пешеходном переходе, заметив чёрную, плотно затонированную машину. Она резко выделялась на фоне остальных, большинство из которых были кабриолетами — жители Роузвилля любили себя показать.
— Турист, — с пренебрежением сказал Майкл и отправился на другую сторону.
***
Номер был чудо как хорош, но Анри было всё равно, ему не терпелось увидеть город. По пути из аэропорта у него не было этой возможности — через стёкла туристического такси, которое встретило его прямо у трапа самолёта, он мог различать разве что светофоры и неоновые вывески.
Едва поставив сумку, он быстро прошёл к окну, раздвинул шторы и замер. Анри узнал дома, мимо которых когда-то ходил дважды в день. Улица выглядела непривычно нарядно, как будто город готовился к большому празднику. Фасад блистал свежей краской, на окнах висели одинаковые цветы, а во всех квартирах были одинаковые шторы. От этой монотонности ему стало не по себе, и он перевёл взгляд вниз, на тротуар. Вместо паркоматов там теперь стояли аппараты с косметикой и антидепрессантами. «Неудивительно…» — начал было думать он, но бой часов на ратуше прервал его размышления. Шесть!
Он отпустил шторы, оставив заломы на изысканной ткани, и заторопился к телевизору, но запнулся у зеркала — на фоне вылизанного города казалось, что он постарел ещё сильнее.
— Тьфу, тебе правда сейчас есть до этого дело? — спросил он сам у себя и начал переключать каналы.
— …дело номер 6313… — говорила похожая на Памелу Андерсон судья — об оскорблении чувств жителей Роузвилля…
Камера переключилась на обвиняемую.
— Софи! — выдохнул он.
Для Анри было счастьем видеть, как разительно она отличается от присяжных, на лицах которых не было возраста, они выглядели так, будто только что вышли из салона красоты. Хотя, скорее всего, так оно и было.
Красавец-прокурор зачитывал обвинение:
— Софи Лавьен многократно нарушала нормы нашего сообщества. Она уклонялась от омолаживающих процедур, ни разу не делала пластику и даже, — тут он поднял указательный палец, — демонстрировала окружающим седые волосы.
Камера переключилась на адвоката. На Анри смотрели умные добрые глаза алкоголика. «Интересно, — подумал Анри, — просто дурная привычка, или он так разрушает эффект ботокса?»
— Вторая поправка, гарантирующая свободу изменения внешности, — заявил он с ходу.
— Да, но ваша подзащитная ей не воспользовалась! — парировал прокурор. — Что она в себе изменила? Вот именно: совершенно ничего.
— Но, Ваша честь, — обратился адвокат уже к судье, — поправка же предполагает свободу менять или не менять…
— Господин адвокат, — поморщилась судья, — не менять можно то, что красиво, — потянула она последнее слово, — молодость, например. А для того чтобы она оставалась с нами максимально долго, надо многое в себе менять. Сядьте. Господин прокурор, продолжайте.
— Соседи многократно жаловались на то, что Софи Лавьен работает в саду в шортах и постоянно демонстрирует шрам на колене.
— Но это же смешно!.. — вскочила Софи.
Анри сделал выпад в сторону телевизора, как будто хотел потрогать её шрам через стол и одежду. Тот самый, который остался на ней после их вылазки на пляж, после их первой ночи. Он смотрел за телевизор, он видел Софи, молодую, растрёпанную и смеющуюся. В то утро она убегала от него по пляжу, а он пытался её догнать и заглянуть ей в лицо — в солнечных лучах ему казалось, что в ней что-то изменилось. Что-то неуловимое. Он пытался поймать то, что отличает девушку от женщины, и спросить: «Ты — моя? Ты всё ещё моя?» И когда он её почти догнал, она споткнулась и разбила коленку.
— Анри, мне не больно, это просто царапина, смотри, — смеясь, успокаивала она его.
Она провела пальцем по ссадине и показала ему ладонь. Капля крови вернула, отбросила его мысли на несколько часов назад, когда солнце ещё не встало и Софи была в его объятиях.
— …Этот шрам — воспоминания о важном событии в моей жизни, почему я должна его выжигать лазером? — кричала Софи. — И вообще, я его люблю. Это. Мой. Шрам. И я. Люблю. Его!
Зал охнул, Анри перестал дышать.
— У подсудимой есть право на выражение индивидуальности, статья… — вмешался адвокат.
— Индивидуальность? Это вы называете индивидуальностью? — прогремел прокурор. — Мы разрешаем любые изменения, которые подразумевают улучшения. И это как раз случай, который требует улучшения, а не культивирования и демонстрации. А воспоминания… Пусть напишет картину или сделает вышивку о своём воспоминании. Для этого у нас, кстати, тоже множество кружков и клубов.
Суд длился меньше часа и казался Анри театром абсурда. Софи возражала, плевала на замечания судьи и снова говорила о свободе, а потом плюнула и исчезла. Анри хорошо знал этот взгляд — когда телом она была тут, а мыслями совсем далеко.
После недолгой череды аргументов и глупостей присяжные удалились. Вердикт они вынесли за пятнадцать минут: «Виновна. Приговаривается к принудительной пластической операции и курсу косметических процедур».
Софи явно не ожидала столь сурового решения. Анри было больно смотреть, как она вдруг сдалась и заплакала. Они её победили, такую хрупкую, красивую и… настоящую. Софи, его Софи!
Если бы в этот момент в гостиничном номере был физиогномист, он бы растерялся — на лице Анри были законные боль и злость, но сквозь них, как у мазохиста, пробивалась радость. Но Анри был совершенно один. Даже телевизор на секунду замолчал перед уходом на рекламу.
Он открыл чемодан, поковырялся в крышке, достал оттуда пакет и направился к двери.
***
Александр смотрел «Суд красоты» на большом экране в баре. Он устроился за дальним столиком, почти не пил и пристально наблюдал за подсудимой.
Ещё недавно прямые трансляции были редкостью и смелой новинкой, но публика их полюбила, и они быстро стали популярнее спорта. Бар шумел, выпивающие возмущались наглостью Софи, восхищались зубами прокурора и посмеивались над адвокатом.
— …Судить надо не только уродов, но и врачей-халтурщиков, — услышал Александр реплику в паузе, повисшей перед оглашением приговора. — А то расслабились и делают всех под одну гребёнку. Представляете, я сегодня договорился встретиться с девушкой и перепутал её с другой. Но это полбеды, она меня тоже перепутала!.. — возмущался парень за соседним столом.
Александр замер и дослушал историю до конца, после чего впал в задумчивость. Он не стал в очередной раз отмахиваться от официанта и заказал два двойных виски. По пути к бару официант завернул к соседнему столу и сказал что-то на ухо герою неудавшегося свидания. Тот удивился и посмотрел на Александра. Тот кивнул и жестом пригласил его за свой стол. Они разговаривали минут пятнадцать, почти всё время Майкл восхищенно слушал и кивал. В конце они пожали друг другу руки, Александр залпом допил свой виски, положил на стол крупную банкноту и, не дожидаясь сдачи, покинул бар.
Он не смотрел по сторонам, на автомате уворачиваясь от столкновений с весёлыми гуляющими, и только отойдя от площади с фонтаном и ступив на песчаную тропинку сквера, он осмотрелся. Было пусто. Горожане не любили сквер, считая, что вечерами там слишком темно и скучно. Александр сел на лавочку в середине сквера. Услышав хруст обуви, он оглянулся. С другой стороны по скверу шёл Анри. Алекс закурил.
— Привет, значит, хвоста нет? — тихо спросил Анри, немного замедлив шаг, будто ещё не знал, присесть ему на эту лавку или поискать свободную.
— Нет, садись.
Анри хотел пожать руку друга, но тот протянул ему сигарету.
— На.
— Но я не курю…
— Пусть со стороны кажется, что ты попросил у меня сигарету. Бери и прикуривай.
Анри чуть иначе повернул кисть и взял сигарету. Он обернулся, не заметил ли кто это движение — в сквере никого не было.
— Я рад тебя видеть! Сколько лет! — говорил Анри, изображая телом полное безразличие.
— Я тоже. Слушай, у нас есть несколько минут. Потом ты встанешь, выбросишь сигарету и пойдешь к площади. Прогуляешься, выпьешь чего-нибудь и вернёшься к себе.
— А мы не можем вместе?..
— Нет. Нам нельзя рисковать, меня не должны видеть с тобой.
— Софи?..
— Анри, она не замужем, думаю, что она всё ещё любит тебя. Вот же вы счастливые идиоты…
— А как ты меня вообще нашёл? И почему сейчас?
— Потому что сейчас её надо спасать. И это можешь сделать только ты. Я наблюдал за тобой, и знаю, что ты был женат, я внутри системы и ко мне просачиваются разные новости, если надо… — Анри затянулся, как заядлый курильщик, но сразу закашлялся. — Я не стал ей ничего говорить. А потом ты развёлся. И вот сейчас её судят. Ты привёз паспорт?
— Да. Алекс, а это правда единственный выход?
— Доставай аккуратно и клади на скамейку. Ещё вчера я сомневался и хотел отговорить тебя, но только что услышал одну историю… если коротко, то люди на первом свидании перепутали друг друга, в смысле, тех, с кем должны были встретиться. Не узнали по фото, понимаешь? Это ровно то, что нам надо. Тем более что фото в паспорте разрешают менять после третьего изменения, то есть человек может не совсем походить на фото. И, кажется, я нашёл того, кто нам поможет. Будем связываться через него, нас больше не должны видеть вместе.
— И другого способа нет? — с надеждой спросил Анри, аккуратно укладывая пакет между собой и другом детства.
— Нет. Она не сможет выехать иначе. Как осужденной, ей не дадут визу ещё много лет. И раньше бы не дали с её-то характером. А теперь забудь и думать об этом. По документам она умрёт во время операции — осложнения от наркоза у нас случаются. У меня есть похожий труп…
— Расскажи мне лучше про неё! — попросил Анри.
— Всё, некогда, иди. Иди!
— А ты не хочешь с нами?
Александр на секунду задумался.
— Нет, Анри, нет. Ты же знаешь, ты не мог не знать. — Александр впервые посмотрел Анри прямо в глаза и почти закричал: — Я всегда любил Софи! А она никого, кроме тебя, не видела. Я даже пробовал ухаживать за ней, когда ты её бросил, да-да, Анри, не спорь, это называется именно так. Но, кажется, она даже не заметила. Ты мой друг, и тебя я тоже люблю. Прошу тебя как друга: спаси её! Уезжайте! Уходи!
Анри неумело затушил сигарету.
— Ответь мне ещё на один вопрос: почему ты постарел? Почему тебе можно?
— Я лучший хирург в городе. Не идти же мне к ученику. И как ты думаешь, у кого оперируется вся судебная верхушка, их дети и родственники?
— Дети?
— Да, Анри. Это пока нелегально, но они хотят узаконить детскую пластическую хирургию. Только никак не могут решить, кто будет выбирать изменения, дети или их родители. А я подбрасываю им разные аргументы, затягиваю их спор на максимально долгое время. Тут я на что-то влияю. Всё, иди, рад был видеть.
Анри хотел обнять друга, но сдержался и повернулся лицом к светящейся вдалеке площади. Он помедлил секунду, потом развернул ноги и шагнул. Шагнул ещё. И пошёл прочь от прошлого в надежде вернуть хотя бы его часть.
***
Следующие дни тянулись медленно, Анри присутствовал на конгрессе врачей, даже делал какие-то доклады, но в его мыслях была только Софи. Прав ли Алекс, любит ли она его до сих пор? Может быть, она вообще любит только себя? Простит ли она его за то, что десять лет назад он уехал? За эти десять лет? Мысли кружились, как детская карусель, к обеду он знал каждую наизусть, но ответов у него не было.
По вечерам он напивался в хлам в баре отеля. Он хотел встретиться с Алексом, но тот не выходил на связь. Пьяным он бродил по когда-то знакомым улицам, и они казались ему фильмом ужасов, всё было так красиво и не по-настоящему, что вот-вот должна была зазвучать тревожная музыка и начаться кошмар. Он ждал, что керамические зубы превратятся в клыки, а натянутая до ушей кожа облезет.
На третий день он не выдержал и подошёл к аппарату с антидепрессантами.
— Вам грустно? Вы хотите вернуть уверенность в себе? Сделайте выбор на табло! — защебетал приятный голос.
Анри купил и того и другого. Пить таблетки на улице не хотелось, и он насыпал их в карман. В красивом номере, который он так и не оценил, он налил себе стакан воды, выгреб таблетки из кармана и выпил залпом. Он хотел подавиться или хотя бы закашляться, но они были невероятно удобными и скользкими, ведь их делали так, чтобы можно было закинуться на ходу. Или легко проглотить после операции, когда плохо открывается рот.
Он устал. Он включил телевизор и уснул под рекламу грудных имплантов.
***
Утром его разбудил звонок телефона:
— Месье Анри, вы забыли свои очки на конференции, и вам их любезно привёз таксист. Не могли бы вы расплатиться?
— Да, конечно, сейчас, — слишком радостно отозвался Анри и свалился с кровати.
Похмелье с таблетками было чудовищным, ему хотелось убивать, но такси с очками было тем знаком, которого он ждал все эти дни. Он накинул халат и побежал вниз.
За рулём сидел Майкл, тот самый парень из бара, который перепутал девушку на свидании или которого перепутала она.
— Анри, Александр велел вам передать, чтобы вы улетали первым рейсом. Забирайте очки и дайте мне денег. Не надо столько! Дайте любую банкноту, самую маленькую, тут нет камер.
— А Софи?
— Софи? Так её так зовут? Через несколько часов я должен забрать женщину — доктор не сказал мне её имени — и отвезти в аэропорт.
— А вам что с этого? Извините…
— Александр обещал меня бесплатно исправить, чтобы я не был похож на других. Он же один из крутейших пластиков, хоть по нему самому и не скажешь.
— Понятно. Что именно мне сейчас делать?
Майкл делал вид, что отсчитывает сдачу. Анри стоял, согнувшись, головой в такси, а филейной частью на улице, и слушал.
— Слушайте. Александр велел передать вам, что он всё сделал, как вы договаривались. Сейчас она отходит от наркоза. Он дал ей много средств, чтобы не осталось синяков, поэтому она может чувствовать себя странно. У неё могут быть слабость и тошнота. Ещё… дальше не помню, я всегда лежал в больнице, пока синяки не сходили… Она летит следующим рейсом. В общем, вам надо будет встретить её там, на той стороне. Я заеду за вами через полчаса, собирайтесь.
Майкл всунул в руку Анри сдачу и уехал. Анри почувствовал боль в спине и распрямился. Хотелось закурить, но сигарет не было. Он несколько раз глубоко вдохнул и пошёл в номер. Хотелось выпить, но он не мог себе позволить встретить Софи пьяным. Он походил по номеру, потрогал шторы, постоял под душем, посидел в кресле. Он ещё раз посмотрел в окно на одинаковых людей. Он уже научился делить их по сезонам: сезон больших грудей, заострённых подбородков, приподнятых скул. Он различал тех, у кого была хорошая страховка, от тех, кто еле-еле мог заменить зубы. Его тошнило от этого карнавала красоты.
Он боялся, что Софи не понравится в его мире, в том старом, где люди старели и за который она билась. Ведь одно дело идеал, к которому ты стремишься, быть единственной против всех, а другой — попасть в него.
Майкл приехал вовремя. Они долго ехали в тишине, пока водитель не нарушил молчание.
— А знаете, у вас такая красивая складка на лбу, — сказал он, — я, пожалуй, попрошу такую у Александра. Может, даже стану законодателем новой моды…
Он осёкся, встретившись в зеркале заднего вида глазами с пассажиром.
— Извините. А почему вы тут? Кстати, мы уже почти приехали…
— Мы любили друг друга с юности. Когда началась революция красоты, я думал, что это шутки, я смеялся над ней, когда она привязалась к какому-то движению… представляешь, я даже не могу вспомнить его названия… Но это неважно. Моя семья стала продавать всё и готовиться к отъезду, а Софи всё тянула. Она уговаривала кого-то, помогала со сборами… Я уехал и стал ждать её на той стороне. Шли недели, месяцы, потом связь оборвалась… Потому что я — трус, — неожиданно для себя резюмировал Анри и вышел из тонированного такси.
***
Спустя несколько часов он сидел в зале прибытия. Голова гудела от выпитых накануне таблеток и алкоголя, мысли опять носились по кругу, только теперь быстрее и злее. Когда он пытался сосредоточиться, в глазах темнело, темнота рассыпалась фейерверком и в висках становилось больно. Тогда Анри брал очередную конфету, съедал, расправлял фантик и клал поверх стопки таких же фантиков справа от себя. Слева лежал букет.
— Рейс из Роузвилла совершил посадку, — объявил равнодушный женский голос.
Через стеклянную стену Анри видел, как к рукаву подруливает самолёт с пёстрым флористическим орнаментом на боку. Раскраска борта перекликалась с купленным в аэропорту букетом.
— Вот же дрянь, — поморщился он и с силой затолкал цветы в ближайшее мусорное ведро.
Вдруг ему полегчало. Он наконец понял, что пряталось за каруселью в его голове. Он расправил плечи, упёрся глазами в дверь, из которой сейчас хлынут прилетевшие, и медленно, почти по слогам, произнёс:
— А будет ли это всё ещё та, моя Софи?

Мешугине
На поминки он не остался. Шепнул Пашке, чтобы не искали, свернул на боковую тропинку и ушел. За спиной в каком-то дурацком, непредсказуемом ритме ударялись о деревянную крышку комки сырого песка. Такой в понедельник привезли в сенсорку, и теперь Сергеенко туда калачом не заманишь. «Руки грязные! Ноги грязные!» А как хорошо пошел было. Даже в глаза начал смотреть после истории с мыльными пузырями.
В университете его учили, что при встрече с мыльными пузырями практически все люди, независимо от пола и возраста, непременно испытывают сильные положительные эмоции. Все, только не Сергеенко. Тот, увидев, как вылетели из желтого пластикового кольца первые мыльные шары, вдруг начал безутешно рыдать и кусать себе руку. Пробовали модифицировать стимулы — работали с пузырями разного размера, на улице и в помещении, после водных процедур и перед обедом, с музыкой и без — эффект был тот же: при встрече с мыльными пузырями Сергеенко выл и кусал запястье, упорно опровергая написанное в методических руководствах.
«А ты попробуй на шерстяной платок их выпускать», — предложила бабушка.
Он вез ее по парку. Надрывались зяблики. Черемуха навязчиво освежала воздух.
«На шерстяной поверхности пузырь не лопается, помнишь? А если не лопается, то нет и резона его оплакивать. Шутка сказать, сколько мыльных пузырей человек за свою жизнь похоронил. Это ж ни у кого нервы не выдержат. Есть у вас там шерстяной платок? А то я дам». Она потянула за конец синей шали, в которую куталась. По краю желтые египетские кресты. Подул ветер, запорошил все черемуховыми лепестками. Они не таяли ни на шерстяной, недоеденной молью поверхности, ни в растрепавшихся бабушкиных волосах, почти черных, густых. Она, кажется, так и не простила потомкам остриженной косы.
Он не взял шали с египетскими крестами — купил в электричке нелопающиеся пузыри и принес в игровую. Сергеенко, как только за ним закрылась дверь, пошел знакомым маршрутом против часовой стрелки, сбрасывая на пол все, что попадется на пути. Огибая препятствие в белом халате, заметил в его руках ненавистный пузырек и палку с кольцом, остановился, заскулил и поднес дрожащий волосатый кулак ко рту.
Кольцо было желтое. Оно поднялось к губам бело-розовым. Черная линия между губами была как лодка. Она перевернулась и утонула. Из черного омута в желтое кольцо подул ветер. Появился он. Огромный, круглый, блестящий. Всех цветов сразу. Он полетел ко мне. Они всегда летят ко мне, а потом их нет. А этот был долго. Он лежал на полу. Потом полетел другой. И тоже лежал на полу. Они летели ко мне и лежали на полу потом. Их было много на полу. Потом пола не было. Были только они. Цвета пола. Из омута дул ветер, и они появлялись. И они были всегда.
Потом ветер больше не дул. Омут исчез, и опять появилась лодка. Над лодкой розовая губа. Над губой желтая трава усов растет вниз. Выше гора. Две норы черные под горой. На горе белый кружок блестит, как лампочка. От кружка дорога. Она тоже белая и блестит, как кружок и как лампочка наверху. Тонкая тропка по самому гребню. Не будешь осторожен — упадешь вправо или влево. Крутая гора. Выше лодки забираться опасно: можно остаться в желтой колючей траве и перестать быть. Выше никогда еще не ходил. Теперь шел. Шел по кромке горы и знал, что не упадет ни вправо, ни влево и будет всегда, как эти круглые на полу. Впереди, где развилка, под горой, две большие рыбы с колючими, как трава, плавниками. Одна справа, другая слева. Они шевелились. Пугали и притягивали. Поднимался к ним по кромке горы. В первый раз.
Снаружи по карнизу барабанил дождь. Несколько немыльных пузырей упали на стол и лежали там, чуть сморщенные, но все еще круглые. В них отражались толстые Сергеенкины щеки, перпендикулярные уши и серые мохнатые глаза, не встретившие пока ни единого человеческого взгляда. И в каждой капле дождя на оконном стекле тоже отражался крошечный Сергеенко, только вверх ногами.
Проход к калитке загораживала груда старых пластмассовых венков. Будто кто-то складывал погребальный костер, но, истощившись, бросил это занятие на середине. Сергеенко, когда складывает пирамидку, сидит над ней уже минут пять. Кто бы мог подумать, что еще зимой был совершенно полевой. С песком этим не повезло, конечно, но и на старуху бывает проруха. Он никогда не называл ее старухой, даже за глаза… Даже когда катал на коляске по парку, сгорбившуюся, точно любимый ее кактус-скала, с неразгибающимися коряжистыми пальцами и скрипучим голосом. Она смеялась и подкалывала его совсем как раньше, только голова на тонкой шее теперь дрожала от смеха так, будто сейчас оторвется и полетит по ветру вместе с лепестками черемухи. Но он не замечал и этого. Он не видел ее старости, как не видел, что любимый вельветовый пиджак, купленный на защиту диплома, давно истерся на локтях.
Протиснулся между оградой и венками и оказался снаружи. Обжег локоть крапивой. Здесь, за оградой, все было так же, как внутри: мокрая трава по колено внизу, березовые ветки наверху, посредине какая-то поросль — не то орешник, не то ольшаник. На выпускном экзамене по русскому он долго не мог сообразить, сколько «н» в этом ольшанике, и чуть было не лишился золотой медали. Потом было ужасно стыдно, а бабушка кормила его бутербродами с пошехонским сыром и рассказывала, как провалила выпускной по немецкому. Она была очень красивая. Все это повторяли сегодня. А он запомнил только, как зубы входили сначала в сыр, потом в толстый слой масла и наконец — в булку. Она говорила «булка», по-питерски. Запах корвалола, который приносил ей в чашке после каждой ссоры. Она просила пятнадцать капель, а у него всегда получалось почему-то шестнадцать. По утрам — идеально чистое зеркало и сверкающая, как в отеле, раковина (когда она успевала все это вымыть, если он просыпался первым, а спать уходил последним?) А еще «дрековский» и «мешугине». Первым словом она определяла колбасу, которую приносила с работы мать, вторым — его. В институте он узнал, что «мешугине» — это те, с кем ему предстоит работать. Все отговаривали. Бабушка молчала.
В листьях зашумело. На нос упала большая капля. За ней еще одна. И еще. «Как песок по крышке», — подумал он и не поднял руки, чтобы вытереть лицо. Новая капля скатилась за шиворот. Громыхнуло. Он инстинктивно прибавил шагу. В правом кармане завибрировал телефон. Правая рука болталась на плече, как рукав оставленного в ординаторской халата. Левая тоже. Телефон продолжал дергаться и жужжать, но скоро понял, что всё бесполезно, и затих.
Он давно сошел с дороги и брел теперь сквозь орешник-ольшаник в неизвестном направлении. От скопившейся в воздухе влаги было трудно дышать. То и дело попадал лицом в паутину — тогда щеки рефлекторно дергались, а зубы сжимались.
Сверху опять громыхнуло. Потом еще. Будто испугавшись грома, снова задрожал в кармане телефон. Поднялся ветер. Где-то впереди заскрипели, качаясь, сосны. С берез полетели бабочками первые желтые листья. Под ноги упала ветка. Он остановился. Медленно засунул руку в карман, крепко сжал теплый и немного влажный пластмассовый корпус, вытащил на воздух. Телефон бился в руке и жужжал. Он погладил его указательным пальцем по экрану. Поднес к уху. Слушаю. Да, могу. Что? Сергеенко? Очень плохо слышно! Какого Костю? Что? Костью? Рыба? На обеде? Вы справились? Что значит поздно? Что? Да, завтра буду. Родственникам сообщу. Бумаги подпишу.

Морок
— В смысле — ради смерти? — спросил кто-то. Все уставились на странного типа, который до сих пор молчал, уткнувшись в телефон. Некоторые глупо улыбались.
Ваня гадал, сколько этому чудику лет. Можно было дать и тридцать, и пятьдесят. Тощий, длинноволосый, одет как бомж. Даже в тусклом свете ночника было заметно, что его когда-то белый свитер изгваздан какими-то пятнами и расползается по шву на плече. Незнакомец без стеснения вытянул ноги в непарных драных носках и, изредка отрываясь от телефона, таращился расфокусированным взглядом, как будто сквозь окружающих. Интересно, кто притащил его к Лёхе?
Посреди ночной пьянки в старой питерской коммуналке вспыхнул вечный спор: в чем смысл жизни. Все упражнялись в остроумии, пока этот зачуханный тип не сказал без тени улыбки, что иногда человек живет только ради смерти. Причем не обязательно — ради своей.
— Это как? — уточнил Ваня.
Оборванец прикрыл глаза, помолчал и начал рассказывать:
— Ну вот представьте: поезд, вы в купе вдвоем с незнакомцем. Он угощает вас водкой и рассказывает про свою жизнь. Вы молчите, потому что о себе вам говорить нечего, если только приврать, но врать вы не умеете. У вас скучная судьба, бессмысленная работа, нет увлечений, талантов, мечты, любви, путешествий, да даже друзей — и тех нет. И сейчас вы мчитесь в никуда, купив билет в направлении, которое выбрали наугад, лишь бы оттянуть самоубийство, которое задумали уже давно.
А у попутчика, — похоже, вашего ровесника, — есть дело жизни. Он вам про него рассказывает, и вы видите, что этот рыжий прямо вот тащится от того, чем занимается!
На слове «Рыжий» Ваня вздрогнул. Рыжий… Поезд…
— Чувак не в состоянии говорить ни о чем другом, — продолжал зачуханный рассказчик. — Он ученый, работает в какой-то лаборатории, чего-то там изобрел.
«Все-таки ему лет сорок пять, а то и больше», — подумал Ваня, разглядев темную паутинку морщин вокруг глаз и серебристый налет на висках. — Столько могло бы быть сейчас папе… Интересно, что этот странный дядька делает на студенческой тусе?»
— Сначала вам скучно его слушать, потому что наука, эксперименты и непонятные термины, которые из него сыпятся, — всё это очень далеко от вас, — говорил чудик, не открывая глаз. — Вы просто смотрите и завидуете тому, как светится человек, у которого есть призвание, и думаете, что у вас ведь тоже могло оно быть, только вы его вовремя не нащупали.
Но потом отдельные его слова выдёргивают вас из ступора. Вы вслушиваетесь и вдруг понимаете, что перед вами — настоящий гений. Он исполнил мечту тысяч магов: изобрел формулу бессмертия — придумал лекарство, которое, если колоть его каждый день, не дает запуститься в клетках механизму старения и болезням. А если организм не стареет и не болеет, то он избавлен от естественной смерти.
«Что-что?» — переспрашиваете вы. «Да-да, именно так — эликсир бессмертия!» — подтверждает рыжий.
«Моим мышам, с которых я начал этот эксперимент, уже сто лет. Чтоб вы понимали: обычно эти твари живут максимум года три», — хвастается он.
И тут до вас доходит… Вы спрашиваете, сколько же лет ему самому, а он смеется, как довольный ребенок, и достает из чемодана очень старую желто-коричневую фотографию с вензелями в правом нижнем углу: «Мастерская Павлова, Невский проспектъ, 40». Фотография бледная, но на ней еще можно разглядеть вашего попутчика, только там он в длинном сюртуке и пенсне. Вы понимаете, что перед вами какой-то невозможно древний старик, который с…. Какой это год на фото, простите? — 1909-й! — Невероятно! — Который с 1909 года не изменился и остался на вид примерно тридцатилетним.
«Понимаете, я же должен был убедиться, что это работает не только на мышах, — объясняет вам рыжий. — Надо же было удостовериться, что эффект не временный и нет никаких побочек. Но теперь я могу предъявить свое открытие миру. Я подготовил научную статью (он поглаживает сумку с ноутбуком), а завтра выступаю на конференции. Это будет сенсация! Смотрите вечерние новости», — говорит он и пьяно подмигивает.
У Вани задрожали пальцы. Господи, такие истории так же круто мог рассказывать только… Неужели?..
Дядька продолжал: «Вы спрашиваете, кто еще знает про чудо-лекарство уже сейчас, а он отвечает, что никто, кроме вас. Двое коллег, с которыми он начинал эксперименты (они тоже принимали препарат, да), давно погибли. Одного расстреляли в 37-м, другой сгинул на войне. К сожалению, от пуль и травм, объясняет попутчик, лекарство бессильно — это всего лишь наука, а не магия.
Вы интересуетесь, как же сам он выжил в такое страшное время, и почему до сих пор никто не в курсе его великого открытия — ведь не в пустыне он работал. А он хохочет и говорит, что именно там, в пустыне, да. В 37-м вовремя свинтил в Казахстан со своими мышами, устроился на фармзавод и во время войны получил бронь. Потом кочевал по провинциальным НИИ со своим мышиным королевством, хватался за любые научные проекты, лишь бы это не мешало Делу. Семью не заводил, жил, как монах. Снимался с места всякий раз, когда шутки коллег “Почему не стареешь — в холодильнике спишь?” становились навязчивыми. Раз в несколько лет “терял” документы и “восстанавливал” с новой датой рождения — по его словам, раньше это было нетрудно, теперь, конечно, стало сложнее.
“Да ладно, всё это ерунда, — говорит рыжий и машет рукой, — Ты вот представь, старик (ха-ха, это вас-то он называет стариком!), каким будет мир без болезней и смерти! Насколько меньше станет здесь горя, насколько больше создадут великие творцы — ученые, музыканты, писатели, режиссеры — если в их дела перестанет вмешиваться смерть, ну хотя бы естественная”».
— Офигеть, это вы в каком-то кино видели или выдумываете на ходу? — восхищенно спросил кто-то из девчонок из-за дымовой табачной завесы в самом темном углу.
— Тс-с-с! Не перебивай его! — прошептал Лёха.
Чудик вздрогнул и открыл глаза, как будто его разбудили, но не до конца. Его мутный взгляд стал совсем невидящим. Ваню трясло, но этого никто не заметил: все смотрели на рассказчика. Тот продолжал, игнорируя глупый вопрос.
— И вот ваш попутчик рисует вам прекрасное бессмертное будущее, а вы вдруг с ужасом понимаете, что ничего из того, о чем он мечтает, не будет. Случится, как с ядерной физикой — великое открытие приведет к кошмару. Оставим вопрос, где взять на Земле столько места и ресурсов, если люди перестанут умирать, — очевидно же, что в реальности мировое правительство этого не допустит. Это невыгодно никому! Про нарушение естественного порядка вещей тоже не будем — это очень спорная философия.
Главное, вам ясно, как божий день, что наивного гения сразу после его доклада упрячут, вытрясут из него подробности технологии, и на этом его жизнь внезапно оборвется. Среди коллег его изобретение объявят бредом сумасшедшего, и больше никто не узнает об этом открытии, кроме спецслужб и сильных мира сего. Формула эликсира попадет в руки избранных, превратив их в бессмертных жестоких богов и тиранов. И если ваш рыжий за сто с лишним лет так и не понял, что принес миру не спасение, а мрак, значит, он хоть и гений, но — тупой фанатик науки, та самая обезьяна с гранатой. И единственный человек, от кого зависит сейчас судьба человечества, это вы, вы! Только вы можете спасти мир от тьмы! Только ради этой встречи в поезде вы и родились, и прожили свою жалкую, никчемную, идиотскую жизнь!
На последних словах оборванец уже кричал, вылупив глаза, как маньяк.
Все молчали. Мигнула, затрещала и погасла лампочка в старом абажуре. Захламленная комната наполнялась рассветным красноватым свечением. Оно смешивалось с табачным дымом, наполняло струнным блеском паутину в углах, и казалось, что это логово отшельника-алхимика.
— Что вы с ним сделали? — очень тихо спросил Ваня, из последних сил стараясь унять дрожь.
— Задушил ночью, когда он уснул, — еще тише ответил страшный дядька, мгновенно осунувшись и уткнувшись взглядом в пол. — Вытолкал тело в окно, когда мы проезжали по мосту над какой-то рекой. Паспорт и билет я, конечно, вытащил у него из кармана. Выйдя из поезда, сразу сел в какую-то электричку, вышел в лесу и сжег там его документы. Сумку с ноутбуком и чемодан — тоже. Я удержался от искушения порыться в файлах и найти статью с формулой. Все равно ни черта в ней не понял бы. Ампул с чудо-лекарством я тоже не искал. От греха.
— Эх!… — вырвалось у кого-то.
Девчонки зашушукались.
— Крутая история, — сказал Ваня, стараясь сохранять спокойный тон и пряча трясущиеся руки в карманы. — Вы настоящий герой. Спаситель!
— Правда? Вы правда так думаете? — оживился оборванец и впервые попытался сфокусировать взгляд.
— Конечно! Покурим на балконе? — предложил Ваня. — Здесь уже нечем дышать.
Когда через пару минут все выскочили за ними, услышав вопль мчащегося к асфальту спасителя мира, завизжали девчонки, и побледневший Лёха тряс за плечи такого же белого Ваню: «Что случилось?! Почему он прыгнул? Или это ты… его?» — тот скривил дрожащие губы в ухмылку:
— Он не знал, кому исповедался… Сука! Это папка мой был, понимаешь?
— Кто? Где?
— Мужик, которого он убил в поезде, это был мой отец! Он пропал, когда я в первый класс пошел…
— Ваня!
— Мы жили в Уфе… Последнее, что мы о нем знаем, — он купил билет в Питер…
— С чего ты взял вообще, что…
— Он был рыжий… Обожал розыгрыши… Как выпьет, так морочит всем головы… Мама называла его шутом гороховым… Про лекарство от смерти — блин, это так в его духе!.. Он в науку мечтал пойти… Не сложилось… Раздобыл, наверно, где-то старую фотку с похожим на него чуваком… Разыграл попутчика в поезде, а тот…
Лёха тяжело опустился на пол и заплакал как маленький.
— Вань… Да не было никакой фотки… Какой отец? Какой поезд? Какая Уфа? Это сосед мой, Митенька. Его так и зовут всю жизнь — Митенькой, хотя ему под полтос уже… Он чокнутый с детства. Безобидный шизоид… Это одна из его чумовых историй… Господи, ты еще про спасение Земли от злобных инопланетян не слышал!.. Ты же впервые тут у меня… Остальные-то в курсе… Митенька ни разу в жизни не уезжал из Питера! Да он даже на улицу боится один выходить… Что ты наделал, Вань? Что ты наделал?
Внизу орала какая-то женщина. Истошно выла, приближаясь, сирена. За домами поднимался пылающий диск.

Обычный день
— Бабушка, бабушка! Пожар! Телевизор горит! Да пошутила я. Он не горит.
Дело сделано. Бабушка пробежалась. Теперь ее больное сердце укрепилось от спорта и больше не будет инфарктов. Это когда оно рвется, и доктор его штопает. Бабуля говорит, что на нем каждый раз вышивают мои и мамины инициалы. Интересно, какими нитками? Мне нравятся толстые цветные мулине. Когда была маленькой, мама застукала меня за выворачиванием содержимого коробки для рукоделия. Я тогда запуталась в желто-красно-синей паутине и, уставшая от борьбы, но нарядная — с пяльцами на шее вместо бус, — аккуратно подравнивала ковер огромными портняжными ножницами. Ножницы завораживали своими размерами и удивительной тяжестью. Красивее их потом оказался только пузатый, гулко бухающий барабан в цирке. Шумные клоуны и дрессированные собачки зря пытались отвлечь внимание от этого царя оркестра в алой лакированной мантии. В глаза и уши помещался он один. Как бы здорово звучал такой великан в компании с металлическим ксилофоном и бубном! Кстати, родители опять их спрятали и врут, что не знают где. Я вижу, когда они говорят неправду. У папы всегда хитро блестит прищуренный глаз.
Папуля приглаживает мои кудряшки тёплыми, пахнущими табаком руками и со смехом звонко чмокает в нос. На самом деле он любит громкую музыку. Включает так, что дребезжит сервиз в серванте. Когда дома весело, папа с мамой танцуют под Битлз. С черно-белого фото на них смотрит недовольный дедушка. Он помер, и мы не успели познакомиться. Дед лысый, в геройских орденах. У меня тоже есть медаль: «Рожденная в Ленинграде».
Бабушка, кажется, уснула. Как же скучно.
Вот вчера был день, полный событий. Приезжала тётя Галя. Снова хвалила Бабу. Так бабуля называет моё наследство: красивую коричневую статую голой женщины в два раза выше меня, которую привез папа от другой бабушки. Эта бабушка не одобряет папину родню. Ругается на неё «хреновыми аристократами» с ударением на «е», но все привыкли и не обращают на её ворчание внимания. Единственный вопрос, который не давал мне покоя — почему наша Баба коричневого цвета? В Эрмитаже полно похожих, но белых. Тётя Галя перед уходом шепнула на ухо секрет: оказывается, Баба сделана из шоколада. Два коротких вдоха. Слышно, как ритмично дергается секундная стрелка в часах. Страшно спугнуть удачу. Как же такая вкуснятина сохранилась? Почему её не съели в войну? Здорово, что я смогу угостить родителей, которые покупают еду по бумажным талонам. Вечером мы будем играть в настольные игры и счастливые пить чай с настоящим шоколадом! Баба гладкая, прохладная и очень крепкая для молочных зубов. Высокая тумбочка с резным фасадом будто издевается: подняла сокровище на такую высоту, что удалось дотянуться только до пятки. Начнем с неё. А дальше терпение и труд всё перетрут, как любит говорить мамуля. Я никогда не останавливаюсь перед препятствиями, и вот пахнущий пылью обломок во рту. Внутри пятка белая и такая же безвкусная. Какое разочарование! Видимо, за много лет шоколад окончательно засох. Обидно. Можно же было полакомиться всласть. Зачем хранить вкусное и красивое? Как зеленые бананы на антресолях и воздушные, фарфоровые чашки в серванте? Вот вырасту, буду пользоваться всем и сразу.
Бабушка устроила из-за пятки переполох. Хрипела, краснела. Обещала отдать цыганам. Разве можно баловать детей, любить, а потом отдавать чужим людям? Нет, больше никаких добрых дел.
После обеда помирились и ходили гулять. Солнце напоминало сахарную мармеладку со вкусом дыни, которую бабушка отобрала за плохое поведение. А желтый выпуклый бок нашего дома — тёти Шурин абрикосовый пирог. Хотелось лизнуть его шершавую, нагретую летом корочку, но рядом с угрозой гудел жирный шмель. Он даже красивее жука, которого нашла Мурка — общая кошка с тугим брюхом. Мурка похожа на жестяной бидон с молоком. Такая же серебристая, налитая до краёв, вкусно пахнущая и безопасная. Она лениво ловила жука за оранжевые крылышки. А жук отлично поместился в спичечном коробке у Витальки. Виталька проворнее. Он больше хотел. Значит, ему нужнее. Всё справедливо.
Сегодняшнее утро тоже получилось интересным. Первым делом я сбегала полюбоваться перламутровыми переливами луж у помойки. Мы с друзьями любим эту помоечную радугу. В неё можно шептать желания и она передает их своей старшей сестре на небо.
Потом удалось докричаться до Федотовны. Она глуховата, но у меня звучный голос. Нельзя нарушать традицию. Каждый день Федотовна, подслеповато щурясь, старательно размахивается и кидает из окна четвертого этажа карамельку в смятом фантике. Говорят, ее скоро заберут в какой-то дом с одинокими стариками. Мне жалко «бабу Фу» до щипания в носу. Но пока она привычно улыбается беззубым ртом и машет. И я долго машу в ответ и иду шептать радуге новую просьбу — оставить Федотовну на месте.
У помойки всегда кружат голуби. Если сильно зажмуриться и подглядывать сквозь ресницы, кажется, будто это не голуби, а папины носовые платки, которые ветер раскидывает по двору. Когда мы с Саней наперегонки врезаемся в стаю, птицы громко аплодируют победителю, хлопая крыльями на взлёте.
Бабушка не любит голубей. Говорит, что это крысы с крыльями. Наверняка она их ела в блокаду. Надо спросить.
Странно. До сих пор спит. Как легла после шутки про телевизор, так даже не храпит.
— Бабуля, ты притворяешься? Открывай глаза. Хватит вредничать.
Она какая-то другая сейчас. Холодные руки. На желтом съежившемся лице медленно расползается фиолетовое пятно. А вот появилось второе, поменьше. Если бабушка заболела, я знаю, как лечить: поцелую в родные морщинистые щёки, и всё пройдёт.
Пусть пока полежит, отдохнёт. У меня дела. Надо съесть все конфеты, накрасить рот маминой польской помадой и проверить, можно ли приземлиться с третьего этажа во двор на зонтике, как Мэри Поппинс. А завтра вернутся с дачи мамуля с папулей и отмоют бабушку от фиолетового цвета. Мы все вместе будем пить чай с малиновым вареньем, смеяться и обниматься. Всё как обычно.

Просто посидим
Поздней осенью я ехала из Питера в северный пограничный городок навестить родных. Уютное купе мурманского поезда. За сутки езды отлежала бока, выспалась и прочитала взятую книгу. Проезжали Карелию, там уже лежал снег. Деревья становились все ниже и ниже, рано темнело.
Утром выскочила на своей станции, лицо обдало холодом вечной мерзлоты, сковало колени и зубы. За мной приехала машина, еще два часа трястись в сторону Финской границы.
Долго ехали по свежему снегу. По дороге два раза останавливались: один раз на озере Имандра, у небольшого памятника. На этом месте убили людей. Случай жестокий, неслыханный для этих мест: муж и жена приехали с палаткой половить рыбы и пособирать грибов. Убийц не нашли. Здесь теперь все останавливаются, места красивые, а после убийства так и совсем святые. Помянули невинно убиенных, выпили. Чтобы согреться, пили горячий брусничный морс из термоса с ломтями черного хлеба и вяленой семгой.
Пошел снег. Стало теплее.
— Черт, надо ехать, пока светло, — забеспокоился водитель, — заметает, а еще час пилить.
За Полярным кругом темнеет рано, день становится все короче и короче, и называется это полярной ночью. Шофер докурил папироску, сходили в лес по нужде и поехали дальше.
Заехали на кладбище. А там белым-бело, рыхлый, пушистый снег укутал могильные холмики. Положила на столик сломавшееся в крошки печенье и слипшиеся конфеты — белочкам. Зайду еще раз с цветами и позже, уже перед отъездом. Когда-то еще смогу приехать. Ближний свет.
Уходя, оглянулась. Мои следы вороньей лапой протянулись к могилам. Рыжая толстая белка уже вовсю шуровала на столике.
Наконец-то подъехали к дому. Вбежала на четвертый этаж…
Открыли дверь — ждали. Из квартиры пахнуло теплом, квашеной капустой, грибами и пельменями. Визг, радость, объятия, подарки из чемоданов. Все так же, как было. Дом, милый дом. Папа! Мама! Подзатыльник младшему брату Лешке, хотя он уже дядька, служил в Афгане.
— Опять шлендрать по друзьям пойдешь. На три дня всего приехала, — пилит мама, она строгая, всю жизнь в школе проработала. Мама не любит, когда я приезжаю домой и ухожу в гости к одноклассникам.
— Свистушка, — сказал папа, взял чай и прошел в комнату, там занял свое любимое место за столом, на краю дивана.
— Никуда не пойду, ни к друзьям, ни на лыжах кататься — все три дня буду с вами. Как я соскучилась по нашим праздникам и посиделкам!
«Мы так редко собираемся всей семьей, а когда-то дружнее и счастливее не было», — подумала я.
Мы с мамой в спальне, разбираем подарки. Радуемся. Она дарит мне свои, я — то, что привезла им.
— Тамара, накрывай на стол! — крикнул из гостиной папа.
— Ой, что это я разговорами тебя кормлю. — мама побежала на кухню.
Когда я вышла из ванной, массивный обеденный стол, стоящий посередине гостиной, был уже накрыт. Кипенно-белая накрахмаленная скатерть.
— Мам, как у тебя такие хрустящие получаются?
Белые тарелки с золотистыми звездочками, рассыпанными по кобальтовому ободку. Хрустальные бочонки с солеными грибами и вазочки с моченой брусникой к кроличьему мясу. Копченая рыба, маринованные грибочки — вместе ловили, вместе собирали и готовили тоже вместе.
В центре стола — громоздкая белая супница с торчащим из выемки увесистым серебряным половником. Пахнущий августом и лесом грибной суп с белой фасолью.
— Твой любимый.
— Мой любимый.
Смеемся. Вспоминаем, как делали осенние заготовки, лепили пельмени.
Осенними вечерами всей семьей солили на зиму капусту: стол накрывали клеенчатой скатертью, голубой в мелкий цветочек, и вся семья чистила, шинковала, жала, солила, перемешивала, наполняла капустой и тертой морковью трехлитровые стеклянные банки, утрамбовывала, прессовала. Капуста возмущалась, бродила и булькала в течение трех дней. После многочисленных проб банки выставляли в маленький погребок под окном, остальное папа с братом относили в гараж. Грибы сушили, солили и мариновали. Из брусники, черники и морошки варили компоты, перетирали ягоды с сахаром для будущих морсов и пирогов.
Пельмени же лепили по запросу.
— Мама, хочу пельменей. — Первым обычно не выдерживал брат.
— Хочешь? Организуй, — поддерживал папа, выдавал ему деньги на лук, муку и масло. Мы бежали в магазин затариться продуктами. Папа ехал на подхоз, где держали поросят, покупал мясо.
Субботним днем, после работы, мама замешивала тесто, папа крутил мясо с луком и все вместе лепили. В пельмешки-ушки прятали сюрпризы — считалось счастьем, если попадется кусок лаврового листа или перец горошком. Мне всегда везло.
К пельменям ставили тарелочки со сметаной, с желтым маслом, запотевшим после морозилки, наливали в блюдца разведенный уксус и ядреную горчицу для остроты. Посередине стола пупком торчала супница с пельменями — съедали половину заготовок, не отходя от кассы. Если пельмени лепили зимой, то тут же выставляли их на мороз, за окно. Замороженные ссыпали по порциям в полотняные мешочки, хранили в морозилке.
Пока лепили, читали стихи, загадывали загадки, мы с Лешкой толкались, ссорились, иногда дрались, мама пела, папа шутил и время от времени утихомиривал нас:
— Дети, марш по своим комнатам, если вести себя не умеете!
Затем счастливым голосом шептал маме:
— Тома, Томочка, Томуся.
Неожиданно прозвучало:
— Давайте пить чай.
Все подскочили, дружно убрали со стола, бегали из кухни в гостиную и обратно, носили и мыли посуду. Мама принесла и выложила на стол закрытые пироги с палтусом и открытые, с брусникой, и отдельно с черникой, выложенные узорными румяными полосками теста и посыпанные сахарной пудрой…
Я достала из серванта английский чайный сервиз, расставила чашки и блюдечки. Налила себе крепкий сладкий чай, как любил папа. Поставила чашку на стол, напротив фотографий — я дома, и опять мы все вместе.
Завтра утром отнесу в библиотеку мамины книги, соседям раздам посуду, в музей обещала коллекцию спортивных значков, собранных братом. Рыболовные принадлежности и палатку заберут друзья отца. Альбомы с фотографиями и супницу повезу с собой. За три дня нужно освободить квартиру для новых хозяев.
А сегодня…
Просто посидим.

Процион сапиенс
Солнце шло на запад, но Родион этого не видел. О смене времени суток он понял по стукам, шорохам, деловитым шагам по бетонному полу и лязгу ржавых замков за стенами камеры. Проционы предпочитали ночь, хотя жизнь вынудила их активничать и днём. Значит, скоро допрос. Дверь камеры распахнулась. Ловкие руки с длинными пальцами надели на Родиона наручники. Его вели тёмными коридорами. Солнечного света он не видел уже две недели.
Его снова усадили напротив майора Меркушева, снова ждали ответов, хотя знали — Родион их не даст. Спецслужбы не особо усердствовали. Расколется — прекрасно, если нет, то и ладно. Повстанцев немного, угрозы от них нет, только воду мутят да тревожат народ.
Меркушев запил шоколадку сладким чаем и равнодушно спросил:
— Надумал выдать сообщников?
— Надумал поцеловать мой гладкий зад? — ответил заключенный и получил затрещину от проциона, стоящего сзади.
Черный блестящий нос майора дернулся от раздражения. Круглые глаза сузились, тонкие губы растянулись в улыбке, пушистые уши наверху головы навострились. Светлые длинные усики указывали прямо на Родиона, выдавая скорее неприязнь к собеседнику, чем агрессию.
— Хомо сапиенс, — оскалился он. — Вы просто обезьяны без хвоста и с раздутым самомнением. Ошибка эволюции, которая скоро останется только в учебниках истории.
— А как же ваше «мир во всем мире, гоминиды и проционы — дружба навек»? — наклонился к столу Родион.
— У вас был шанс пожить, вы его профукали. Теперь мы поживём.
— И какой план? По одному будете гоминидов вырезать или сразу бомбу сбросите?
— А нет никакого плана. — Майор поднял с кресла и заложил руки за спину. — Мы ничего не будем делать, вы и сами справитесь. Опыт у вас есть: уже довели планету до катастрофы, почти уничтожили свой вид.
— Да вы должны ноги нам целовать в благодарность за экострофу, — сказал Родион. — Если б не мы, рыться вам в помойках, как делали это веками ваши предки, и доедать за нами мусор. Может, мы и обезьяны, а вы как были воришками–енотами, так ими и остались.
Слово «енот» оскорбило Меркушева. Он хрустнул длинными пальцами и уставился куда-то выше арестанта. Родион понял, что судьба его определена и из здания он живым выйдет только на казнь. Словно в ответ на его мысли майор сказал:
— У нас хватит оснований для смертного приговора тебе. При обыске у тебя нашли книги антипроционского толка, призывающие к насилию, и записи в дневнике, оскорбляющие Великого лидера. Ты — мусор. Может, наши предки и поедали его, но мы — проционы сапиенс — будем избавлять планету от отбросов.
Родион смотрел на Меркушева и подмечал все те черты, которые ненавидел. Так ему было легче молчать и делать вид, что собственная жизнь его не интересует.
— Уводи. — Меркушев махнул мохнатой рукой конвоиру.
В коридоре Родион сник. При майоре он держался нагло и храбро, но умирать не хотел. Пусть мир не идеален, но жить лучше, чем не жить. Мать предупреждала, что радикальный настрой не доведёт до хорошего, но тогда, на свободе, он об этом не думал.
Насколько убеждения против проционов действительно его — вот о чём он размышлял все две недели в заточении. Когда Родиону было десять, отец привёл его на стадион. Там он услышал те самые слова, за которые ругали детей, но отец и его друзья по фанатскому клубу произносили их громко и открыто. Проционы тоже отвечали оскорблениями, чудом не дошло до массовой драки. В тот день ему, словно зараза, воздушно–капельным путём передалась ненависть к потомкам енотов.
В школе с ним учились проционы, их было большинство. Он никогда не смотрел на них с точки зрения вида. Делил детей на друзей, врагов и тех, кто просто проходит мимо. И в каждой категории были и гоминиды, и проционы. Но после той игры всё изменилось. Различать «своих» от «чужих» стало проще, достаточно одного взгляда. Отец стал более откровенным, научил не принимать то, что пишут в учебниках истории. Вместо этого он рассказывал Родиону свою, альтернативную версию.
Родиону она нравилась. В ней единственным разумным видом был гоминид, пусть его царствование и закончилось глобальным промахом. Отец ругался, когда мать говорила, что всё к тому и шло, что надо было думать об экологии, планете, ядерной силе, а не только о выгоде и амбициях. Он заводился, а когда потерял работу, стал донельзя агрессивным. Виноваты в том были проционы, раньше его место не занял бы какой-то «енот».
Фанатский клуб был лишь входными воротами в ассоциацию гоминидорадикалов, но сами себя они так не называли. Родион сторонился самых отпетых приверженцев превосходства гоминидов над проционами, но однажды понял, что и в другом лагере есть враждебно настроенные. В старшей школе, когда они проходили виды, исчезающие из-за деятельности разумных существ, Родион высказался:
— Так нельзя, надо что-то делать. Почему мы снова губим планету?
А в ответ услышал шёпот сидящего позади одноклассника–проциона:
— За себя беспокоишься? Не очень-то вы волновались об исчезающих видах раньше, а теперь сами в их числе. Каково это — ощущать, что с каждым годом вас остается меньше и меньше, а ты ни фига не можешь сделать?
После урока Родион хотел разобраться с обнаглевшим одноклассником, но того окружили друзья. Против толпы не попрёшь, если нет своей стаи. Он не мог назвать точный момент, когда стал одним из антипроционистов, но мог перечислить эпизоды, которые раз за разом подталкивали его в их логово.
Всё закружилось: тайные собрания, листовки, заявки на мирные демонстрации, которые отклоняли, присылая безликие отписки. Кто-то набивал татуировки на видных местах, но таких сразу же изолировали, давали реальные сроки, чтобы обдумали своё поведение, подрывающее мирное сосуществование разумных видов. Родиону казалось, что только таких и сажают, а он — умеренный, не отбитый. Но потом взяли и его.
Его повели обратно в кабинет Меркушева через три дня, но в кресле сидел другой майор, старше и плотней.
— Родион, добрый вечер, садитесь. Будьте любезны, снимите с него наручники, — обратился процион к конвоиру. — И можете быть свободны.
Заключённый и конвоир посмотрели друг на друга с удивлением, Меркушев о таком никогда не просил. Родион по привычке потёр запястья, хотя за короткую прогулку по коридорам наручники не успели доставить дискомфорта, и сел.
— Чаю? — спросил его майор. — Нет? Я тоже больше по кофе, но отдел закупок пока не успел заказать. Меркушев пил только чай.
— Где он? На повышение пошёл? Таких садюг там, наверху, любят. — Родион надел привычную для себя маску дерзкого повстанца.
— Можно сказать, да, он наверху. — Майор сложил руки на выпирающем животе. — Два дня назад его избили, он не выкарабкался. Теперь тут главный я, майор Зеваков. У меня пока не было времени детально изучить ваше дело, Родион, но кое-что мне уже понятно.
Он достал из тумбочки знакомую тетрадку, которую Родион когда-то нарёк дневником, и бегло пролистал до середины, потом вернулся на несколько страниц назад.
— Ничего нового или интересного. Такое за свою карьеру я видел сотню раз. Некоторые места даже слово в слово. Это ведь не ваши мысли, Родион?
— А чьи ж?
— Так, дайте подумать. — Зеваков не поднимал круглых глаз с тетрадки. — Братьев у вас нет, учились вы в школе смешанного типа, значит, скорее всего, отец. Не думаю, что мать. Я прав?
Родион недовольно поджал губы.
— Знаете, у меня в семье была совсем другая атмосфера. — Голос Зевакова стал таким, словно он готовился рассказывать сказку группе дошкольников. — Мой дед любил рассказывать о предках, которые жили в зоопарке. Много–много лет назад. Они доверяли людям, ели у них с рук, позволяли себя чесать за ушком, а люди вычищали их клетки и подкладывали новые игрушки. Дед говорил, что в ДНК нашей семьи записана любовь к гоминидам, мы просто не способны вас ненавидеть.
Гоминид напротив него раскрыл рот, но в горле у него пересохло, и вырвался лишь невнятный хрип.
— Я думаю, Родион, вы с вами в чём-то похожи. В вас тоже нет ненависти. И к антипроционистам вас занесло совершенно случайно. Им до вас нет никакого дела, так почему же вам отдавать за них жизнь? Подумайте об этом. У вас есть выход.
Он поднял вверх руку, останавливая те слова, которые Родион был готов произнести. Гоминид и сам не понял, почему подчинился. Оказавшись в камере, он обнаружил на кровати книги, которые не запрашивал: «Приглашение на казнь» Набокова и «Процесс» Кафки.
Целую неделю его не водили в кабинет. За это время он успел прочитать оба романа. Их содержание, а также то, что Зеваков, сам того не зная, озвучил все те мысли, что терзали Родиона, взволновало заключённого. Когда его делом занимался Меркушев, он был уверен, что дни сочтены. Теперь задребезжала надежда. Однако каждый раз, когда Родион представлял, как пишет донос на тех, кто долго время заменял ему семью, надежда вновь угасала. Руки Родиона даже в его видениях не могли выводить слова предательства.
Лязг замка прорезал тишину, Родион соскочил с кровати. Он не знал, который час, но по ощущениям было ещё слишком рано для сумерек. На нём снова защёлкнулись наручники, его поверили по коридорам, но не в привычную сторону.
— Куда меня ведут? — Родион не смог сдержать паники.
Конвоир ничего не ответил. Через пару минут они оказались во дворе, не в том, где разрешено гулять за хорошее поведение, а в том, что ведёт на выход. Но Родион не сразу это понял. Глаза плотно захлопнулись из-за яркого света солнца, а его теплота, которая разом покрыла всё тело, показалась забытым наслаждением. Его повели дальше, за ворота. Там стояла чёрная машина, рядом с ней курил Зеваков.
— Прекрасно, все готовы? Тогда в путь.
Родион не мог поверить, что всё происходит так быстро. Не было суда, не было шанса на защиту. Он был уверен, что его казнь будет публичной, показательной. А вести его на смерть так, в секрете и тишине, — вверх проционовской подлости. Он пытался запомнить, куда его везут, но запутался в поворотах и светофорах. Наконец, машина остановилась возле двухэтажного домика с зелёным забором.
Дверь открыла проционка в фартуке, оставив на ручке белые мучные следы. Она тут же засуетилась, приговаривая что-то тихо себе под нос. Родиона пригласили за стол, хотя на нём было пусто. Его мало интересовало, что происходит в доме Зевакова, он смотрел в окно на чистое небо и белый круг летнего солнца.
— Афия ещё спит?
Вопрос Зевакова вывел Родиона из транса, и он заметил, что перед ним стоит тарелка со стопкой блинов. Алое варенье, пьянящее запахом клубники, стекало с блестящих боков стопки.
— Сейчас разбужу. — Жена Зевакова побежала вглубь дома. — Афия! Завтрак!
— Угощайтесь, Родион, пока тёплое. — Зеваков ловко свернул блин в трубочку и макнул в самый центр вазочки с вареньем.
Родион прикоснулся пальцами к верхнему блину и закрыл от удовольствия глаза. Домашней еды он не вкушал уже около месяца. Всё это — падающий на лицо свет из окна, запах клубники и маслянистая спина блина — казалось какой-то фантастикой. Пока он не увидел Афию.
В отличие от отца, она прятала хвост под одеждой. Увидев на кухне чужака, она прижала уши к голове, но потом быстро выпрямила их обратно, показывая, что не боится. Глаза зеленовато–коричневого оттенка скользнули по лицу Родиона, рот тронула улыбка. Родиона отучили видеть в проционах красоту, но после недель изоляции не только от мира, но и от товарищей по радикализму, это учение отделилось от него как что-то чужеродное. Афия показалась ему самым прекрасным существом в мире.
Назад ехали другим путём, более длинным. А может, для Родиона просто замедлилось время, ведь теперь живот его был наполнен, а сердце утопало в горячем чувстве прекрасного. Зеваков молчал и нарушил тишину лишь тогда, когда машина затормозила у знакомых ворот. Родион потянулся к двери, но майор остановил его жестом.
— Знаете, Родион, Афия редко столько смеётся. Подростковый возраст, сами понимаете, вы немногим старше. Тем более, шутки ваши были несмешными. Я знаю, Меркушев готовил вас к казни. Но я — не он. Я вижу будущее для вас за пределами висельницы. Выбор за вами.
— Какой же? Блинчиками и честью?
Зеваков ухмыльнулся и вышел с другой стороны. Дверь возле Родиона открыл знакомый конвоир и защёлкнул наручники на запястьях. Они показались Родиону туже, чем вчера. Коридор, ведущий к камере, показался длиннее, чем обычно. Кровать показалась жёстче и холодней, чем ночью. Товарищи по бунту показались более дикими, чем стая волков.

Психопат
«Представь, что ты отправляешься в космическое путешествие. На старт, внимание, марш!» — сказала я с напускным энтузиазмом. Федя скрылся в большом белом аппарате МРТ. Оператор щелкал мышкой и смотрел на экран монитора без выражения. Наконец, процедура закончена. «Пойдем, Федюша. Сейчас к врачу за справкой — и мы свободны».
Я сказала Феде подождать в коридоре, постучалась и толкнула дверь. В безликом кабинете с зеленоватыми стенами пожилая врач строго посмотрела на меня и зачем-то приспустила очки.
— Боюсь, у меня для вас плохая новость. Результаты МРТ показывают выраженную психопатию.
Я себе только смутно представляла, что это значит.
— Вы ошибаетесь, Федя не устраивает истерик, не психует, не кричит.
Врач устало вздохнула и еще ниже спустила очки.
— То бытовое определение психопатии, о котором вы говорите, не имеет ничего общего с научным. Психопатия — это сниженная способность к эмпатии, безответственность, лживость, эмоциональная поверхностность. Многочисленные исследования показывают, что дети с такими чертами часто имеют антисоциальные и преступные наклонности, поэтому их выявляют на раннем этапе и изолируют от общества.
Да-да, про изоляцию потенциальных преступников я слышала, конечно. Но пропускала мимо ушей. Никогда не представляла, что это может коснуться моего сына.
— Но послушайте, Феде ведь только семь лет. Он нормальный мальчишка, у него есть друзья, в школе на него не жалуются.
— Степень выраженности психопатии может быть разной. Раньше для диагностики применялся целый спектр методов, но МРТ продемонстрировала такую высокую точность, что теперь для постановки диагноза достаточно увидеть соответствующие структурные особенности мозга.
— Диагноз не может быть верным! У нас в семье никогда не было психопатов.
— А в семье его отца?
Я закусила губу. Отец испарился, как только узнал о моей беременности. Лживость, безответственность — да, это было на него похоже.
— Но ведь Федя — совсем ребенок! — Я почувствовала, что мои щеки горят.
— Поэтому пока мы только ставим его на учет, будем наблюдать. А изолируем, когда ему будет тринадцать.
Я резко рванула дверную ручку, выходя из кабинета. Федя еле успел отскочить, чтобы не получить дверью по лбу.
— Ты что, подслушивал?
Федя опустил глаза. А потом посмотрел на меня так, что стало понятно — он слышал весь разговор.
Выйдя из поликлиники, некоторое время мы шли молча. Потом я спросила:
— Мороженого хочешь?
Федя чуть подумал и кивнул. Мы купили в киоске два эскимо и сели на лавочку в парке. Я смотрела на Федины смешно торчащие треугольные коленки, копну кудрявых волос, и сердце сжималось в тугой жгут от любви и жалости.
Пока я пыталась придумать, как начать разговор, Федя опередил меня.
— Мам, а почему эта тетя говорила что-то про преступников? Она думает, что я плохой?
Я сглотнула.
— Ну что ты, Федюша! Ты у меня самый замечательный.
— Но эта тетя сказала…
— Она ошиблась, она ничего о тебе не знает. Разве могут какие-то снимки показать, какой ты на самом деле? Как ты забавно морщишь нос, когда чего-то не понимаешь. Как ты обнимаешь и гладишь меня, когда я прихожу с работы уставшая. Как помогаешь Игорьку с математикой. Как мастерски делаешь омлет — даже я так не умею!
Федя смотрел на меня с беспокойством.
— Куда они хотят забрать меня? Я не смогу жить с тобой?
Я крепко прижала его к себе — так крепко, что он пискнул: «Ты меня задушишь!»
— Мы будем бороться. Они не имеют права нас разлучить! И у нас еще шесть лет в запасе, — успокаивала я больше себя, чем Федю.
Его кудрявая голова склонилась мне на плечо, а с мороженого на побелевший от жары асфальт потек молочный ручей.
***
Я испробовала всё — в ход шли психотерапевты, диеты, биодобавки, даже бабки-целительницы. Но диагноз оставался неизменным.
После того первого злосчастного МРТ отношение к Феде очень изменилось. Школе тут же сообщили, что Федя поставлен на учет и за ним надлежит пристально наблюдать. Классная руководительница, не церемонясь, объявила новость всему классу и призвала детей проявлять бдительность, ведь психопаты — мастера манипуляций. Федя вернулся домой с подбитым глазом. А его лучшему другу родители запретили даже сидеть с ним за одной партой.
Мои подруги тоже все куда-то разбежались. Мой мир съежился и зациклился на одной теме, и все свободное время я посвящала чтению научных статей о психопатии. Часто я делилась прочитанным со своей мамой.
— Вот живешь, никого не трогаешь, а потом какой-то неведомый Джозеф Крольски на другом конце планеты вдруг берет и разрушает твою жизнь, — сказала я, откусывая кусок маминого пирога. Мы пили кофе у нее на кухне.
— Кто такой Джозеф Крольски? — подняла брови мама.
— А это автор статьи, на которую все ссылаются. Большой авторитет. Я столько раз ее перечитывала, что уже наизусть выучила. Цитирую: «Все метаисследования, посвященные попыткам реабилитации преступников с психопатическими наклонностями, убедительно показывают, что психотерапевтические методы в работе с такими личностями оказываются неэффективными. Психопатия часто сочетается с высоким интеллектом и умением проявлять обаяние, таким образом, в процессе психотерапии вместо реальной эмпатии психопаты обретают умение еще более правдоподобно ее имитировать, что делает их манипулятивные тактики особенно действенными и опасными. В связи с этим можно сделать вывод о невозможности эффективной реабилитации психопатов. Чтобы оградить общество от аморального и преступного поведения, детей с психопатическими наклонностями рекомендуется изолировать до достижения взрослости». Как тебе?
— Ужасно.
— Давай придумаем для этого Крольски какую-нибудь изощренную казнь? Или средневековую пытку?
Мама грустно улыбнулась.
— Не шути так, а то точно решат, что у нас семейка психопатов.
— Так ведь уже решили. Без суда и следствия.
Я залпом допила остывший кофе и уронила голову на руки.
***
Прошло два года после диагноза. Я находила спасение на форуме для родителей детей-психопатов. Там было много поддержки, проводили очные встречи. Маленькие изгои начинали дружить между собой — для большинства детей это было единственное сообщество, где их принимали. Родители обменивались информацией, советами и просто сочувствовали друг другу. Больше всего мне помогал Роман, папа мальчика Вани, с которым Федя очень сдружился. Когда Ване поставили диагноз, его мать собрала вещи и ушла — как она сказала, не выдержала позора. А Роман решил бороться.
На одной из встреч группы, пока дети прыгали и кувыркались на надувном замке, Роман отвел меня в сторону и сказал: «Я хотел бы пригласить тебя на ужин. Есть важный разговор».
Я была заинтригована. Подумала, что разговор пойдет о наших детях. В конце концов, больше нас ничего не связывало. Или связывало? Загорелый, в темных очках, Роман очень эффектно смотрелся на фоне аквамаринового неба. Я улыбнулась и весело приняла его приглашение, пытаясь за шутливым тоном скрыть волнение.
Мы встретились в маленьком ресторане, о котором я раньше не слышала. Роман заранее забронировал столик в закутке, отделенном от основного зала. Без лишних предисловий он рассказал мне про Гермес. Так назывался маленький остров в Тихом океане под юрисдикцией Аргентины. Отверженные обществом семьи с такими же детьми, как Федя, купили остров в складчину и поселились там. Они хранили тайну, опасаясь огласки и нежелательного внимания. Остров уже был вполне пригоден для жизни. Первые поселенцы провели туда коммуникации, построили водопровод с опреснителями воды, нашли поставщиков еды, накупили для детей учебников. Среди родителей было несколько учителей, которые организовали на острове школу, а по недостающим предметам проводились уроки онлайн. Казалось, Роман со своими друзьями продумал и предусмотрел все на свете. Я смотрела на него с восхищением.
Когда подали десерт, Роман робко взял меня за руку. Его ладонь была мягкой и теплой, и мне сразу стало уютно. Я подняла на него глаза.
— Завтра мы с Ваней уезжаем на остров. Я продал все имущество и бизнес, так что для нас это билет в один конец. Я много чего умею, мы не пропадем. Буду работать удаленно и иногда ездить в Аргентину на материк, уже завел там кое-какие связи.
Я молча кивнула. Роман продолжил:
— Конечно, это трудный путь, и он не для всех. Поэтому наше сообщество пока маленькое. Но если ты думаешь, что вам с Федей такая жизнь подойдет — то я сделаю все возможное, чтобы помочь вам.
Чуть помолчав, он тихо добавил:
— И мне бы очень хотелось, чтобы вы были рядом.
Когда мы прощались в тот вечер, Роман меня поцеловал — нежно, сладко, протяжно.
***
У меня появилась цель. В течение следующих двух лет я копила деньги на долю в острове. Роман торопил меня, уговаривал переезжать скорее, предлагал добавить недостающую сумму. Но я привыкла быть независимой и такую помощь принимать не хотела. К тому же моя профессия веб-дизайнера была не очень-то полезной: хоть я и собиралась работать на острове удаленно, там могли в любой момент отрубить интернет. Роман все время твердил, что это только вопрос времени, когда власти заметят Гермес. И для страховки я стала изучать сельское хозяйство. Всю жизнь я считала, что руки растут у меня не из того места и я умею работать только головой — но я пересилила себя и научилась прилично разбираться в почве, удобрениях, тонкостях выращивания фруктов и овощей. Много узнала и про то, как собирать и хранить урожай. Даже овладела искусством консервации и стала готовить блюда более сложные, чем мои обычные сосиски с макаронами.
Между тем Феде уже исполнилось одиннадцать лет, и с ним становилось все сложнее. Привыкнув быть изгоем в школе, он часто замыкался в себе. Мне было трудно понять, что у него на уме. Он стал мне регулярно врать — пытался скрывать свои побеги с уроков и игры со странными новыми друзьями, непонятно откуда взявшимися. Они научили его курить и ругаться матом. А однажды они всей компанией сделали термитную шашку из окалины от раскаленных гвоздей и алюминиевой краски. Подожгли термит бенгальским огнем и взорвали мусорный бак возле главной площади города. Двух мальчишек задержали, но Федя и остальные успели убежать, и их участие в хулиганстве не смогли доказать. Только это и спасло Федю от немедленной изоляции: если дети с психопатическими наклонностями были замечены хоть в каком-то асоциальном поведении, их изолировали сразу, не дожидаясь тринадцати лет.
Я ходила по комнате взад-вперед, глубоко дышала и пыталась убедить себя, что криком я ничего не добьюсь. Яростным полушепотом спросила:
— Федя, ну скажи мне, вот о чем ты думал? Зачем это тебе?
Он только пожал плечами.
— Мне было весело.
— Весело? И это весь ответ? А о последствиях ты думал? Тебе хоть чуть-чуть стыдно?
Федя ничего не ответил, но по его лицу я видела, что ему не стыдно. «Психопатия — это сниженная способность к эмпатии, безответственность, лживость…» — вспомнилось мне. Я себя одернула. Он всего лишь ребенок, и я должна его защитить. Надо было как можно скорее уезжать, подальше от всего этого. Поближе к Роману.
***
Настал день отъезда. Мама приехала в аэропорт провожать нас. Она принарядилась и выглядела моложе своих лет в новом бежевом свитере. Мы обе бодрились и шутили с Федей. Начали вспоминать известные романы, где действие происходит на острове. Когда дошла очередь до «Графа Монте-Кристо», Федя очень заинтересовался историей Эдмона Дантеса. Стать сильным и отомстить своим обидчикам… У Феди во взгляде вспыхнуло что-то, что меня напугало. Мама тоже это заметила и поспешила сменить тему. Мы пили чай с круассанами, и чем ближе подступал час отъезда, тем более вялым становился разговор. Под конец чаепития все слова кончились. Мама смотрела в окно, Федя гонял ложкой чаинки по дну чашки, а я с пристрастием оценивала свой свежий маникюр.
Наступил момент прощания. Я обняла маму, по ее щекам медленно текли слезы.
«Ты к нам приедешь, когда мы обоснуемся. Все будет хорошо», — сбивчиво лепетала я.
Осталось пройти паспортный контроль — и можно садиться в самолет.
Пограничник с широко посаженными глазами долго что-то высматривал в компьютере. Вдруг он нахмурился, сказал нам подождать и ушел с нашими документами. Мы переминались с ноги на ногу. Люди, стоявшие за нами, начали нервно расходиться и вставать в очереди в другие окошки. Я смотрела то на часы, то на растерянного Федю. Наконец-то пограничник вернулся, с еще более хмурым лицом.
«Ваши паспорта больше не действительны. Пройдемте со мной».

Раз, два, три
Последний раз он спускался в нью-йоркскую подземку еще до карантина. Приезжал по работе. Сейчас метро было совсем другим, полумертвым и каким-то отталкивающе чистым, без запахов, как будто само было поражено отнимающим обоняние вирусом. А тогда…
Алекс закрыл глаза — и тут же оказался на Bay Ridge, конечной станции желтой ветки R, которая идет из Бруклина в Манхэттен. Было душно, липко уже с утра, как обычно бывает в начале августа в Нью-Йорке. Пахло марихуаной, кофе, потом, гремучей смесью из сотен духов и одеколонов и панкейками. Алекс крепко держал Сью за руку. Сесть у них не получилось, в поезд набивалось все больше народу. В дальнем конце вагона развалился на сиденье бомж, и половина пассажиров, сраженная наповал волной запаха, синхронно отпрянула — от этого другая половина оказалась еще сильнее сжата, смята, сдавлена.
Сью уткнулась веселой рыжей головой в его плечо и попыталась если не задремать, то хотя бы закрыть глаза и отключиться. Она все так же крепко держала его за руку. Алекс любил ее ладони: верные, теплые, сухие. Она всегда продевала мизинец между его указательным и средним пальцами, объясняла: «У тебя рука большая, а так удобнее».
Алексу вдруг захотелось сказать то, чего он еще никогда ей не говорил. Пассажиры вокруг стояли очень плотно: точно услышат. Надо сказать как-то по-другому. Отправить сообщение? Алекс представил, как она высвобождает руку и смотрит на экран Apple Watch. Не годится. Руку отпускать точно не хочется. Руку… Господи, все же так просто! Сью, словно почувствовав что-то, открыла глаза и вопросительно посмотрела на него. Он улыбнулся и сжал ее руку три раза. Раз. Два. Три. Она беззвучно рассмеялась — удивительная способность хохотать молча! — и ответила: Раз. Два. Три…Четыре.
— Ай. Лав. Ю
— Ай. Лав. Ю. Ту
Поезд бездушно громыхал от станции к станции, открывая двери редким скучным пассажирам — лениво и печально, как будто сам ностальгировал по доковидным суетливым временам. До нужной остановки еще полчаса. Алекс от нечего делать рассматривал свое отражение в окне напротив — долговязый, длинные «карантинные» волосы собраны сзади в хвост — и продолжал отматывать назад воспоминания, как ленту фейсбука. Которого, кстати, у него никогда не было: он не любил соцсети и всю эту жизнь напоказ. Как и многие его коллеги-программисты, старался не оставлять цифровых следов. Даже приложениями для знакомств пользовался всего один раз: ровно 28 часов, 12 минут и 5 секунд. Было как-то скучно и непонятно. Со всеми девушками, которые к двадцати семи годам были в его жизни, знакомился по старинке: в Старбаксе, во время пробежки, в гостях у друзей, в метро.
Да, со Сью он как раз и познакомился в метро — это случилось за пару месяцев до локдауна. Алекса отправили из Чикаго в нью-йоркский офис на месяц помочь с проектом. Она оказалась рядом с ним в вагоне метро: он до сих пор помнит их руки совсем рядом на поручне, буквально в миллиметре друг от друга. Было душно и шумно. Сью была высокая, почти такая же, как он. На голове — рыжее боттичеллиевское облако. И от облака этого шел не только утренний свет, но и …утренний запах. «Кофе! Как же вкусно пахнет!» — подумал Алекс и как бы незаметно придвинул свою голову к голове незнакомки, втянул еще раз воздух. «Кения, да?» «Простите?» — удивленно сказала девушка. Алекс покраснел. «Извините, думаю вслух. Я имел в виду, кофе кенийский, да?» — Он покосился на ее термос.
Рыжее облако беззвучно рассмеялось. Алекс еще никогда не слышал, точнее, не видел такого смеха — молчаливого, но невероятно искреннего.
«Я бариста, работаю в кофейне. Кофе просто все пропиталось — и одежда, и волосы, — сказала девушка. — А вы кто, парфюмер?»
«Программист», — коротко и слегка обиженно ответил Алекс. А потом вдруг не выдержал и рассмеялся.
Выяснилось, что девушку зовут Сью, она работает в кофейне на Union square, и на этом поезде именно в это время ездит каждое утро.
Алекс думал, что его месяц в Нью-Йорке будет тянуться долго, а оказалось, что он короче, чем свайп вправо: с тех пор, как он встретил Сью, прошло ровно 29 дней 4 часа и 17 минут — и ни одна из этих минут не была скучной. Они завтракали, смеялись, ходили вместе на ланч, гадали по лицам людей в подземке, играя в шерлоков холмсов, ездили гулять на только начинающий оживать после эпидемии Кони Айленд, катались на аттракционах, переворачивались, волосы Сью хлестали его по лицу теплыми кофейными волнами. Она приучила его пить кофе из джезвы. Утром, не снисходя даже до растянутой футболки, ускользала голой на кухню и стояла у плиты, словно загипнотизированная поднимающейся кофейной пенкой.
То утро, когда он признался ей в любви беззвучным «раз, два, три», было последним — вечером он возвращался в Чикаго. Им не было грустно, и они не строили планов: в конце концов, кого удивишь long distance relationship? К тому же не так уж и long — не в Европу же летать, в конце концов.
А через месяц Нью-Йорк закрыли на локдаун. Алекс с его астмой начал затворническую жизнь. Сью звонила, он любовался ее беззвучным смехом, и они пили кофе по FaceTime: он заказал себе на Амазоне точно такую же джезву. Через пару месяцев звонки стали реже, а еще через пару — стало понятно, что ничего не понятно: пандемия не заканчивалась, страны одна за другой переходили на жесткий локдаун. По телевизору ведущие с обреченными лицами рассказывали истории пар, разлученных ковидом.
На одном из этих странных, затянувшихся онлайн-свиданий Сью вдруг расплакалась: «Мы проиграли, Алекс. Я не могу так больше. Я уже даже не помню твоего запаха… Это все не имеет смысла. Прости». Попросила удалить ее номер. Алекс всегда честно выполнял ее просьбы, и, разумеется, удалил. А потом понял: это был единственный номер в его записной книжке, которого он не знал наизусть, — с его-то феноменальной памятью и страстью к цифрам. У номера Сью был только один опознавательный знак — ее короткое, щебечущее имя.
***
Голос в метро объявил его станцию: «Лексингтон-авеню — 59-ая улица». Алекс вышел из вагона и решил, что сегодня — в крайнем случае завтра — точно найдет ее. Телефона нет, но мы, в конце концов, в XXI веке: зайдет в ее кафе, найдет в интернете, даже в фейсбуке готов зарегистрироваться, черт с ним!
На улице, несмотря на март, было уже жарко — фальстарт июня. Нью-йоркский воздух набухал, как бутон — нетерпеливый, уже готовый взорваться запахами, отсветами, голосами. Сверкающие небоскребы играли в солнечную перестрелку. Не доходя до офиса, Алекс встал в небольшую очередь за кофе на улице. Сразу уткнулся в телефон, забил в гугл имя и фамилию Сью. И вдруг бросил взгляд на руки пары, стоящей впереди. Держатся люди за руки, ничего особенного. Но вдруг женская рука три раза сжала мужскую: раз, два, три.
Алекс поднял глаза. Рыжие волосы, большие солнечные очки и маска. Она его не заметила. Ее бойфренд удивился: «Ты чего?» Сью посмотрела на него долгим, внимательным взглядом — по крайней мере, так показалось Алексу сквозь солнечные очки — и сказала: «Да ничего, секретный код тебе пыталась передать».
Они взяли свои стаканчики с кофе и пошли в сторону Центрального парка.
«Интересно, — подумал Алекс, — а где же ее фирменный беззвучный смех? Или его просто не видно под маской?»

Средь бела дня
На самом деле её звали Юзлебика, хотя все в деревне называли её Убырлы Карчык. Есть такой персонаж в старых, привезенных еще из доордынских времен, сказках. Это спрятанная в глубоком лесу колдунья, старуха-одиночка, что-то вроде Бабы-яги, но только она не всегда такая злая. Например, в некоторых сказках она проглатывает больных детей и выплевывает их здоровыми, румяными, смеющимися. И Юзлебика тоже, в далеком, почти мифическом, своем детстве обладала даром целительницы. Так, по крайней мере, рассказывали деревенские старики, плюясь сквозь дебри седых усов от горечи, которую оставляли во рту эти воспоминания. Говорили, что она могла одним прикосновением своих мягких, как пышки-кабартма, пальцев залечить любые раны, устранить страшнейшие боли.
Тогда она была ещё совсем юной девчонкой, лет двенадцати, с двумя упругими черными косичками, взрослыми глазами и карминной губой, выпирающей вперед, как резной чердачный балкончик. К ней приходили со всей округи — молодые и старые, бедные и богатые, — и каждый раз, дотронувшись пальцами до больного места, Юзлебика слышала вкусный хруст в воздухе, как хрустит свежеподанный к праздничному столу хворост-урама, как щелкают вместе два бревна с прорезями друг под друга. «Цок» — и все встает на место.
Но, как порой бывает в наших краях, черный коршун пролетел перед солнцем и крылом обрезал добрый луч, который так редко посылает нам небо. Холодной весной принесли ей молодого парня, умирающего от страшного ожога. Всю ночь она сидела около его стонущего тела, кончиком пальца трогая каждый кусок расплавленной, разъяренной кожи. Утром он вышел полностью здоровый, только нежно-розовый шрам на щеке и шее. Через три недели он сошел с ума, зарезал свою мать, а потом и сам повесился.
Юзлебика окутала в голубой платок опущенную узкую голову и пошла на похороны. Вместе со всеми другими женщинами и девочками она прошла сто шагов от дома покойных по направлению к кладбищу. По дороге домой она смотрела, как маленькие капельки ее детских слез тонут в бесконечном месиве весенних луж. С тех пор она больше не лечила.
Тогда-то её и начали называть ведьмой, колдуньей, Убырлы Карчык. Так кричали ей вслед заплаканные матери, которые несли к ней своих больных младенцев, так шипели на нее изнемогающие от язв старики. Но как бы жалобно они ни умоляли, как бы ни валялись они у неё в ногах, Юзлебика всем отвечала одинаково коротко: «Нет». Скверная и бессердечная! Убырлы Карчык!
Потом бездетная тетка, что жила на самой окраине деревни в маленьком домике, спрятанном за высоким забором, забрала ее к себе — подальше от назойливой толпы. Там Юзлебика и прожила всю свою тихую пустую жизнь. Почти никогда не выходила за калитку и в гости никого не пускала. Один за одним померли все ее родственники, и почти все, кто ее когда-то знал и помнил. Осталась она одна в своей далекой глухой избушке на лысой опушке. Остался у нее ее спрятанный за забором сад-огород: с дюжину тенистых фруктовых деревьев-пустоцветов, заросшие разбросанные грядки, кусты прозрачного крыжовника вдоль забора, а за ним просторное, наполовину вспаханное картофельное поле.
И вот средь бела дня в её огород что-то упало. Тяжелый полый шлепок, словно пинок с неба. Она услышала его с заставленной пустыми банками веранды и сначала подумала было, что это снова пьяница Усман въехал своим буйным трактором в ее забор. Как это было лет пять, десять назад? Пьяный, он ворвался в калитку начал извиняться. Юзлебика, поморщившись от воспоминаний, потопала к воротам и ощетинилась бровями на одинокую дорогу. Но там было тихо, ни души. Как всегда.
Вооружившись ржавыми вилами, она пошла осматривать двор. Медленно, как кошка, выслеживая пеструю сойку, она пробралась вдоль забора, мимо бани и в огород. Ее взъерошенная тень скользнула по паре-тройке полулысых морковных грядок, застыла и попятилась назад. О, Всевышний! Что это еще такое! Кого из местных алкоголиков занесло сюда в этот раз? Что они тут натворили?
Прямо посередине огорода она увидела неизвестно откуда взявшуюся яму парой метров шириной. Юзлебика сильнее вцепилась в вилы, готовясь к атаке. Хоть и тупыми этими вилами, но я их достану, достану и…
Но вдруг из глубины ямы раздался звук — далёкий тягучий гудок, как убегающий в глубину тоннеля паровоз. Так звучали когда-то ей в ухо иногородние гудки на почте. Необычный звук захватил ее, как аркан, и, ступив к краю, Юзлебика посмотрела вниз. Яма была неглубокая, по пояс, и абсолютно ровная, округлая, словно ее вырезали по трафарету гигантской чаши для великана, а в глубине лежало что-то круглое, металлическое, загадочное, размером чуть больше футбольного мяча. Юзлебике вдруг вспомнилось, как в детстве они с братом искали подшипники в груде металла. Очистив их от пыли и ржавчины, она вглядывалась в каждый металлический шарик, удивляясь своему выпученному миниатюрному отражению. Ей казалось, что в его ровном, блестящем мире жила маленькая пленница, которую так и хотелось спасти оттуда, и в то же время хотелось нырнуть к ней туда, в эту звенящую ровность, и остаться там навсегда.
Также и этот испачканный грязью и пылью шар в яме сразу же показался ей живым, несущим в себе скрытое дыхание. Гудок, исходящий из него, то нарастал, то становился тише, и чем тише он звучал, тем жалобнее казался он Юзлебике, словно тонким сухим пальцем он из последних сил щекотал ее ушную перепонку.
Немного подумав, Юзлебика сходила в сарай, принесла мешок и начала решительно спускаться в яму. Добравшись до шара, она бережно закутала его в мешок, принесла домой и выложила на стол. Чистый воздух ее скупо обставленной избы наполнился его щенячьим гудением. Она взяла гусиное крылышко, которым подметала пол, и начала очищать шар от пыли, но вскоре поняла, что пыль намного быстрее очищается руками. Так, очерчивая маленькие кружки подушечками пальцев, она очистила его всего от грязи и увидела перед собой настоящее чудо: шар сверкал и переливался разными цветами, и по всей его поверхности бегали мельчайшей работы тонкие узоры, изображающие странные, непонятные ей, но изумительно красивые мотивы, похожие на квадратные ложки, чайники без ручек, безголовых угловатых коров.
Завороженная Юзлебика продолжала поглаживать шар, который, казалось, отвечал ей еле уловимой пульсацией. Тук-тук-тук — мягко постучала она по нему пальцем. «Тук, тук-тук», — что-то ответило ей изнутри. «Ш-ш-ш-ш», — шепнула она, почти касаясь шара морщинистыми губами. «Ш-ш-ш», — что-то отозвалось из круглоты.
Вот так впервые за сорок пять лет попал к ней в дом гость. Незваный, непрошеный, незнакомый, но все же желанный. Она устроила ему место в кресле на веранде, где было прохладнее, и отнесла его туда. Заварила себе крепкого чая с лимоном и присела рядом на стул. Шар все жалобно постанывал. Она хотела было сказать ему пару сочувствующих слов, и тут ее прорвало. Так многим хотелось поделиться, как будто они были друзьями, которые давно не виделись. Взахлеб, перепрыгивая с одного на другое, повторяясь, она подошла наконец-то к главному, к тому, что она всю жизнь с самого детства знала, но не находила слов, не находила кому, и вдруг сейчас оно само вылилось. Про одиночество, про необъятную боль, которой так много, что ей никогда ее всю не излечить, про светлый господний луч, сахарный хруст…
И тут шар громко застонал. Это был все тот же монотонный гул, но намного громче и пронзительнее, перерастающий в писк, в скрежет, в крик. Замолчав, Юзлебика закрыла глаза и тихонько коснулась пальцами шара. Тихонько, как делала это когда-то очень давно, осторожно и мягко по больному месту. И вдруг, знакомый милый хруст! Праздничный хворост! Сахарная пыльца на губах. Назад попятилась пустота, и воздух вокруг нее стал теплым и мягким. Пара минут космической тишины. Потом легкий прохладный ветерок скользнул по ее пальцам, вдоль носа, лба. Что-то громко хрустнуло над головой и посыпалось на пол. Закинув голову, Юзлебика открыла глаза и увидела в потолке ровную круглую дырку размером чуть больше футбольного мяча. В ней летнее небо и одинокая звезда, к которой стремительно летел ее гость, сверкающий металлической шар.
Летел он долго, так долго, что, засмотревшись на него, Юзлебика сама не заметила, как заснула. Заснула легким, летним, почти детским сном. А если б не заснула, то, наверное, увидела бы, что, немного не долетев до звезды, шар остановился, постоял немного и взорвался. Маленькая, еле заметная вспышка в густом тёмном небе. А может, она и не разглядела бы все это вдалеке. Тонкая спичка щелкнула о стенку коробки, но не зажглась. Потому что тела лечатся, а души нет. Потому что сломанная душа сломана навсегда. Сломанная судьба тоже. Потому что все в деревне называли её Убырлы Карчык, хотя на самом деле её звали Юзлебика.

Телефонный звонок
На крохотной сжавшейся кухне капал кран. Капли набухали на сопле, собирались тяжестью ржавой воды и срывались в одинокое, так и не домытое блюдце. Кап. Кап. Размеренно, раскатисто и, кажется, бесконечно.
Артем обещал разобраться с прокладкой еще год назад, но так и не выполнил свое обещание. Мокрая тряпка по-прежнему обнимала сломанный смеситель, и иногда Марина ловила себя на мысли, что завидует крану — пускай он сломан, но зато его держат.
Телефон в агонии беззвучного режима трясся на кухонном столе. На плитке остывала турка и пускала запах кофе в потолок, там он смешивался с майской духотой и смолистым дымом.
Марина с тяжестью выдохнула в форточку и осела на обгрызенный сигаретными поцелуями подоконник, сжимая меж двух пальцев пожелтевший фильтр. Она уже давно не бралась за пачку. Ее невзрачной внешности абсолютно не шли сигареты, в тонких губах они казались чуть ли не бревном, обернутым в курительную бумагу. Да и должности ее эта привычка нисколько не подходила — учитель должен подавать пример, а не разносить липкий табачный перегар по школьному классу.
Марина смотрела на дисплей, который то гас, то вновь зажигался очередным звонком. Размеренно, раскатисто и, кажется, бесконечно.
Мысль пульсировала в голове тремя словами: «докурю и отвечу». После очередной затяжки Марине вдруг показалось, что Артем никуда не уходил. Что он, как и прежде, сидел на своей любимой треногой табуретке, громко хлюпал чаем и щурил глаз на тиражные таблицы лотереи.
Говорили, что Артем стал успешным трейдером. У него появились деньги, он зажил одним днем… Марине тоже хотелось, чтобы она зажила, но раны все еще саднили — вечером тишина пустой квартиры давила на уши шлепаньем капель с кухонного крана, и от этого похоронного ритма отчаянно хотелось обернуться в один огромный бинт.
Еще говорили, что от его успеха в один день ни осталось ничего, но он всем обещал отыграться. Марина еще тогда подумала, что у него даже карьера шла по тому же пути, что и их отношения. Взлеты, засосы на шее, сигналы SOS, падения. А потом, после театральных сцен на подмостках маленькой кухни, они вновь крепко обнимались, падения оказывались взлетами, змея вновь давилась своим хвостом.
Она специально не брала трубку, потому что знала, что ему от нее нужно.
— Мне нужен всего шанс, я поднимусь на ноги и все верну. Вот увидишь, через неделю все верну. Шанс, Мариш, прошу, один шанс.
Самое обидное, что Марина даст ему шанс. Она еще не слышала его голоса, но уже успела произвести в уме все нужные вычисления, вот только от этого умнее себя не чувствовала. Вместе с кошельком осунется ее лицо, в животе вновь затрепещет надежда, пока ее не выбьет крепкий кулак.
Они расставались раз пять. После его последнего «пока» она даже разрыдалась на уроке, и маленькие детские ручки гладили ее по волосам, пока она сидела коленями на обмеленном полу. Эти колени столько раз просили не уходить, остаться с ней и прощали самые болезненные удары, что сейчас, спустя три месяца вымученной игры в молчанку, они казались Марине слишком чистыми.
Седой кончик сигареты упал мимо пепельницы на усыпанный крошками пол.
Рука потянулась к телефону.
— Привет.
Хоть Артем отчетливо раздавался в динамике все теми же низкими частотами, почему-то в этот раз Марина совсем его не слышала.
— Да, удобно. Ты чего-то хотел?
Марина ждала, что после трех сигарет подряд ее горло пережмет тугим комом.
— Да нормально все. У детей, вот, каникулы прошли, опять куча работы. Без дела не сижу, в общем.
Вдох.
— Не, у меня нет лишних денег… Сам знаешь, учителя много не зарабатывают… Да и за квартиру скоро платить. Так что вот так. Наверно, в долг дать не смогу… Ладно, я побежала, у меня тут молоко убегает!.. Ага, пока.
Она быстро положила трубку экраном вниз и пробежалась глазами по выключенной плите. Подошла к турке и плеснула кофе себе в рот, не наливая его в стакан.
В нервно сдавленной пачке осталось еще три сигареты, и Марина вытащила твердой рукой самую целую из них и сжала ее зубами. В зеркале у мойки поймала свое отражение — оттуда на нее смотрела неожиданно помолодевшая девушка; серые губы налились кровью, и теперь сигарета лежала во рту неожиданно по-французски.
Марина с минуту разглядывала себя, а затем быстро моргнула и сплюнула сигарету в пепельницу. Широко распахнула окна и, схватив со спинки стула сумку, отправилась в коридор собираться в школу. Через минуту раздался бодрый щелчок замка.
Порыв ветра запутал порыжевшие занавески, пробежался по подоконнику и сбросил с пепельницы окурки, и вместе с ними семенами одуванчика полетел на пол белый пепел.
На пустой кухне перестал капать кран.

Трамвай на Ливерпуль
— Последний вагон на сегодня! Последний вагон!
Голос кондуктора отскакивал от глухой кирпичной стены, вдоль которой Карлушка проходила каждый день. Ей представлялось, что стена отгораживает маленький ад от ада побольше, хотя она точно знала, что там только склады, склады, склады до самого порта. На одном из них она нашла себе копеечную работу.
Стена отсырела и кое-где покрылась мхом. Дождь с небольшими перерывами лил второй месяц. Кондуктор в брезентовой крылатке размахивал ржавым фонарём. Фонарь на металлической дужке противно скрипел. В трамвайчик набирались люди.
Карлушка совсем продрогла и сильнее завернулась в чёрный шерстяной шарф — подарок от школы на выпускной. Шарф, который был её единственным богатством, промок насквозь и почти не грел. Есть хотелось, а идти было ещё долго. Она заглянула в вагон — погреться бы чуток. Эх, тётка не одобрит опоздания — вечерами та устраивала свою личную жизнь, и Карлушке приходилось сидеть с малышом.
Она не успела ни вздохнуть, ни охнуть, когда кто-то схватил её за шкирку и втащил на заднюю площадку вагона. Это оказался громила в бушлате с чёрной бородой по самые брови. Из бороды торчал большой красный нос. Карлушка по-черепашьи втянула голову в шарф.
— На улице решила ночевать? — спросил нос, рассматривая её приютскую форму — остатки былой стабильности.
Карлушка попыталась улыбнуться:
— Куда едем?
— В Ливерпуль.
— Почему в Ливерпуль?
— У тебя дом есть?
— Нет.
— Тогда какая тебе разница, куда ехать?
— А билет? — Карлушка кивнула в сторону кондуктора.
— За меня спрячешься, — сказал нос. — Меня Фильдеперс зовут.
Карлушка было хихикнула, но осеклась, когда из бороды на неё сверкнули два синих глаза. Фильдеперс порылся в кармане, достал мандарин, потёр его о бушлат и молча протянул ей. Карлушке стало стыдно:
— Спасибо!
Фильдеперс подвинулся, пропустил её к угловому окну, где можно было присесть на выступающий поручень, и почти закрыл своим большим телом. Последний раз Карлушка ела мандарины в приюте. Спрятав корки в карман, для запаха, она протянула Фильдеперсу половину фрукта. Тот покачал головой:
— Сама ешь.
Сама так сама, Карлушку не приходилось упрашивать, если речь шла о еде. На мгновение ей стало так вкусно, что она зажмурилась. А когда открыла глаза, увидела, что трамвайчик уже полон и разговаривает.
— Сколько можно ждать! — возмущался козлиный голосок. — Люди на площадке стоят, а ноги-то не казённые. Вот, и всё здесь так. Всё для людей.
— Я почему еду, — говорила кому-то старушка в красном кимоно с золотыми птицами, — у меня там дочка замужем. Хороший муж, грех жаловаться, только вот приезжают редко — дорого.
Кимоно старушка надела поверх пальто, а на голову — старенькую шляпку с облезлыми перьями. Старушка кивала сама себе, перья покачивались в такт.
— А они мне — вы не заслужили! — громким шепотом кричал упитанный мужчина с портфелем. — Я не заслужил, вы подумайте! Да я на них всю жизнь отпахал, здоровье угробил. А они мне…
— Мама, я не хочу. — Малыш в жёлтом комбинезоне миньона — Карлушка когда-то мечтала о таком — дёргал за рукав ухоженную блондинку. — Мама, пойдём домой.
Блондинка лениво отмахивалась, глядя в телефон:
— Пупсик, потерпи, мы скоро приедем.
— Нет, не скажи, а колбаса у них лучше. — Двое мужчин неопределённого возраста, похожих, как близнецы, разливали что-то в пластиковые стаканы.
— А водка? — спросил один.
— А водка — у нас! — И оба заржали.
Сквозь разговоры кто-то отстукивал на стекле: We all live in a yellow submarine… Карлушка услышала только потому, что в приюте любили всякое ретро, а современное ненавидели. Она любила и ненавидела вместе со всеми.
Карлушку стало клонить в сон. Она боролась с собой, не желая пропустить момент отъезда, но всё время проваливалась куда-то в голубое и зелёное, словно на качелях. Ей казалось, что в её жизни такое уже было — весёлое, светлое, беззаботное, вверх, всё время вверх, туда, где птицы, и солнце, и что-то ещё, давно и прочно забытое. Почему-то противно скрипят качели. Зачем они так скрипят? Не надо! Она очнулась.
— Ваш билет! — сказал тяжёлый, бессердечный голос где-то за чёрной спиной Фильдеперса.
Карлушка замерла на своём насесте, придавленная бушлатом к окну. Ей захотелось как-то пролезть внутрь и спрятаться, может быть, в рукаве, под мышкой — так и ехать всю дорогу. Но Фильдеперс что-то глухо проворчал, кондуктор клацнул по билету, и Карлушка наконец выдохнула, чуть не свалившись вниз.
— Тебя как зовут? — спросил Фильдеперс, когда кондуктор уселся на своём пьедестале в начале вагона.
— Карлушка.
— Ну, я так и подумал.
— А что в Ливерпуле будем делать?
— Переоденем тебя юнгой, за сына моего сойдёшь. — Голос Фильдеперса дрогнул, но выправился. — И пойдём в Гонолулу.
— Где это?
— В Тихом океане.
Карлушка немного помолчала, обдумывая услышанное:
— А потом?
— А потом видно будет. Земля, она большая.
Трамвай тронулся с места и медленно пополз вдоль бесконечной стены. Потом стена кончилась, и оказалось, что не так уж и темно, а в сером небе, где-то за тучами даже угадывается солнце. Карлушка и Фильдеперс видели сквозь мокрое стекло, как отражаются дома в каналах, как качаются зачехлённые лодки, как золотятся деревья в парке, а на скамейке сидит старичок в больших очках. Он сутулится над книгой, и капли воды стекают с зонтика за воротник. Они ему не мешают. Он читает.