Ноябрь 2020
Скоропостижка: смерть глазами судмедэксперта
Мастерская стилистики Евгений Бабушкина
Словно и не было
Спасти лето
Ангел в корыте
Год открытых дверей
Девяностолетний человек
Духота
Её муж
За поворотом на углу
Йорфе
Как Комсомол папу наказал
Когерентность
Мамкин Мякиш
Мечтать вредно
Музыка над городом
Невозможно
Один день из жизни Саши П.
Остановка по требованию
Платье
Побег
Поле
Путь домой
Совершенство
Спички
Шкатулка с секретом
Я никогда не хотел быть художником
А потом
Бог сохраняет все
в квадратном молчании стен
Всегда внезапно случается
Всю ночь я еду через дождь
Выпишу прилежно
Выхожу — на улице октябрь
Здесь веток фиолетовых узоры
Их было пятеро
Кладбище пусто стоит
Краткая история одной встречи
Люди как птицы
Мне бы хотелось страдать и мыслить
Наташа
Не знаю, что здесь плохого
О рыбаке и рыбке
Ода джазу
плескался закат
По ту сторону
Холодным пальцем
Шестьдесят пять
Дорогой Михаил Гронас: краткая история внимательного прочтения
Подтекст: как его считывать в стихотворениях и использовать самим
Вебинар Алексея Вдовина «Как НЕ писать скандальные биографии»
Вебинар Екатерины Ляминой «Как документ живет в литературном тексте?»
Вебинар Екатерины Ляминой «Как писать о себе на грани нон-фикшн и фикшн?»
Words Unsaid
Цирк приехал
Что немцу хорошо, то русскому — не всегда

Как создать живого героя
Сегодня мы поговорим о том, как создать живого героя и рассмотрим, что для этого нужно и чего лучше избегать.
Полезные советы по созданию характеров героев собрал американский сайт для писателей Writers’ Treasure. Некоторые писатели шутят, что знают своих героев лучше, чем супругов. Прекрасно, если вы можете создать реального, трехмерного героя. Чем больше в герое «настоящего», тем выше вероятность того, что читатели будут ему сопереживать. Они будут чувствовать себя вовлеченными в историю, радоваться удачам героя и переживать вместе с ним. Итак, как же «оживить» героя?
Наделите его чертами, которые хорошо сочетаются друг с другом.
Если герой примитивен, скорее всего, его будут окружать довольно незамысловатые предметы. Если героиня — человек прямолинейный, скорее всего, она практически не врет. Образ героя должен органично складываться из фрагментов, чтобы собранные воедино пазлы составили красивую картину.
Когда вы придаете герою те или иные черты, показывайте их, а не рассказывайте о них. Например, не говорите о том, что герой дружелюбный. Вместо этого покажите, как его слова вызывают у других улыбку, или как он переводит старушку через дорогу.
Чтобы выглядеть реалистичным, все должно сочетаться. В определенный момент читатель должен узнать свой собственный мир в том, который создали вы. Красочное описание поможет перенестись в вашу историю.
Покажите контрастные стороны вашего героя
Этот пункт может показаться противоречащим тому, о чем было сказано раньше. Но правда в том, что каждый из нас — личность многогранная. Хорошее и плохое, возвышенное и низменное — из таких разных начал и состоит человек. Если вы сможете показать, что ваш герой тоже соткан из противоречий, это придаст ему большей глубины.
То, что на вид контрастирует с человеческой личностью, может иметь куда более глубокий смысл на психологическом уровне, если соотнести противоречивое поведение с другими сторонами личности. Возьмем для примера удачливого молодого человека, богатого и скупого сноба. Он тщательно оберегает свои богатства от кого бы то ни было, а затем внезапно тратит все деньги на благотворительность. Как это может уживаться в одном человеке?
Ответ: он тратит деньги на благотворительность, чтобы придать своей жизни смысл. До сих пор он посвящал всю свою жизнь деньгам, власти и самому себе; сейчас он хочет почувствовать, что он делает что-то по-настоящему важное. Вы видите, как одна сторона чьей-то личности становится причиной или следствием действий другой стороны? Именно это и создает тот самый 3D-эффект: вы можете посмотреть на этого человека с разных углов, и он предстанет во всех оттенках серого, а не только в черном и белом.
Используйте диалоги, чтобы показать уникальность героя
Мы все — непохожие друг на друга снежинки, каждый из нас. В процессе общения мы наиболее полно раскрываемся как личности. Поэтому лучше всего показывать героев с помощью диалогов — так они будут общаться напрямую с вашим читателем, без авторского фильтра.
Важно не только то, что герой говорит, но и то, как он это говорит. Какие он подбирает слова, скорость, с которой он их произносит, насколько сложные предложения выстраивает, есть ли в его речи метафоры, сравнения, и так далее.
Простой тест на проверку качества ваших диалогов: может ли читатель определить, кто из героев какую фразу произносит? Каждый из героев становится личностью, индивидуальностью, когда у него есть свой голос.
Крадите у ваших знакомых
Нет, не стоит брать у них какие-либо вещи, заимствуйте только их характеры и используйте как ролевые модели.
Посмотрите на свое «сотворение мира» с практической точки зрения. Наверняка вы сможете лучше выстроить образы, ориентируясь при создании на реальных людей, которых встречали в жизни. Ваш герой довольно наглый парень? Наверняка вы знаете кого-то, кто не прочь забрать себе пять пробников сразу или «случайно» прихватить полотенца, выезжая из отеля. Что бы сделал этот человек в эпизоде, который вы описываете, как бы он повел себя, что бы сказал?
Некоторые писатели «использовали» своих мужей, жен, братьев, родителей по чуть-чуть в разных книгах. Большинство ваших героев не будут в точности повторять свои прототипы, потому что вы пишете роман, а не биографию. Напротив, они станут «гибридами» из людей, которых вы знаете, Например, герой будет таким же забавным, как ваша сестра, или таким же подозрительным, как ваш друг.
В общем, если вы попробуете использовать все эти небольшие уловки, то рано или поздно ваш герой ворвется в реальность со страниц книги.
Три вещи, которые не должны делать ваши персонажи

Чаще всего в книгах по творческому письму пишут о том, что персонажи хорошего произведения должны делать, чтобы произвести впечатление на читателя и запомниться ему. Однако авторы англоязычного сайта для писателей Writerswrite решили предостеречь начинающих писателей от самых распространенных ошибок при создании героев историй.
«Драма — это жизнь, из которой выкинули скучные отрывки», — говорил Альфред Хичкок. Иногда то, что мы читаем, раздражает. Причиной этого может быть одна из распространенных авторских ошибок. Например, когда вас знакомят с двадцатью ненужными персонажами уже после первой главы. Или когда автор тратит три страницы на описание торта. Или вынуждает вас читать длинную и скучную предысторию.
Встречаются также и небольшие авторские ошибки. Их причинами могут стать и отсутствие цели в истории, и слабый сюжет, и неправильный выбор персонажей. Они могут быть связаны и просто со слабыми писательскими навыками автора, когда писатель рассматривает своих персонажей как реальных людей.
Вот три проблемы с персонажами, из-за которых хочется бросить читать новую книгу.
1. Слишком много мелких диалогов
Несмотря на то, что мы советуем писателям включать побольше диалогов в книги, насыщение «мелкими разговорчиками» без причины — плохая идея.
Если ваш персонаж собирается поболтать о погоде или чьём-нибудь здоровье, для этого может быть только одна из трех причин.
- Диалог двигает сюжет. Читателю важно узнать, как герой себя чувствует, если его состояние влияет на развязку сцены в масштабах всей истории.
- Диалог раскрывает что-то значительное о персонаже. Герой, который собирается в путешествие при плохой погоде, должен как-то это обосновать.
- Диалог раскрывает что-то важное в окружающей обстановке. Герои могут поговорить о погоде, времени и месте, когда в обстановке что-то меняется.
2. Действие без цели
Если вам нужно бессмысленное действие, лучше посмотрите телешоу. Хороший писатель нагружает персонажа теми действиями, которые обязательно влияют на развитие сюжета. Конечно, жизнь ваших персонажей наполнена мелкими неважными моментами, но нам необязательно читать о каждом из них.
Вот что говорит об этом Нэнси Кресс, автор книги «Динамичные персонажи» (Nancy Kress, Dynamic Characters):
«Ошибка, которую я встречаю чаще всего, начинается там, где автор дает справку о своем персонаже, его бэкграунде. Гораздо лучше вывести персонажей на сцену как можно скорее».
3. Постоянно отвлекаться
Если у вашего персонажа есть определенная цель в истории, с этой ошибкой вы столкнуться не должны. Читатели хотят видеть героев, которые действуют и реагируют, а не тех, что постоянно отвлекаются. Например, персонажи, которые постоянно отвлечены на свои телефоны, лучше работают в фильмах, а не в книгах. Вы можете включить «отвлеченное» поведение с помощью языка тела или привычек, но это не должно мешать течению истории.

Переводы стихотворений Луизы Глик
В этом году поэтесса Луиза Глик (Глюк) получила Нобелевскую премию по литературе. Присуждение награды взбудоражило нашу литературную общественность. Как так получилось, что о самом титулованном американском поэте мы практически ничего не знаем?
Переводов Луизы Глик у нас — по пальцам перечесть. А, может быть, самое известное стихотворение из сборника «Дикий Ирис» дошло до нас единственной строчкой, благодаря бестселлеру Элизабет Гилберт «Есть, молиться, любить»:
«Я села под апельсиновым деревом и раскрыла книжку стихов, купленную вчера. Стихи Луизы Глюк. Сперва прочла стихотворение по-итальянски, потом по-английски, но, увидев вот эти строчки, замерла:
Из центра моей жизни
забил могучий фонтан…
Я положила книгу на колени, дрожа и чувствуя, как все плохое отступает»…
Первой переводчицей Луизы Глик на русский язык была Белла Мизрахи. Еще в 1999 году она обратила внимание на поэзию будущей Нобелевской лауреатки и напечатала избранные переводы в книге «Шесть поэтов». В начале двухтысячных годов одессит Владимир Гандельсман затеял серию двуязычных книг современных американских поэтов. Одним из этих авторов была Луиза Глик, переводчиками которой выступили та же Белла Мизрахи и поэт Валерий Черешня.
Как признаются сами поэты, работать со стихами Глик непросто именно потому, что они кажутся чрезвычайно простыми: никаких словесных ухищрений, принятых в постмодерне, никакой усложненности. Стихотворения Луизы Глик понятны даже людям, чье знание английского далеко от совершенства. В начале автор, как правило, предлагает историю. Дочь и отец идут в цирк. Мать и тетя играют в карты. Ребенок рисует человечка на листе бумаги. В конце история неожиданно превращается в метафору. Игра двух сестер становится метафорой жизни: побеждает тот, кому нечего больше терять. Ребенок на плечах отца становится тем самым «перископом мертвецов», о котором писал Вознесенский.
Еще один переводчик Луизы Глик, Борис Кокотов, признавался, что ему особенно трудно было «не завышать» в конце, как того требовала традиция русского стихосложения: «Была тенденция немножко приподнять, а у нее всё просто в языке. И контраст между простотой выражения и глубиной содержания — достигнуть этого единства было самым трудным».
Кстати, несмотря на разницу культур, поэзия Глик близка и понятна нашему читателю. И, наверное, неслучайно то, что автор довольно часто упоминает русские романы и русских авторов. «Оплакивание лирического героя» — фраза Михаила Чехова относительно русских актеров в полной мере характерна для Луизы Глик. Она оплакивает несбывшееся.
Но это оплакивание не становится тяжелым испытанием для читателя. Это больше чем популярное сегодня проговаривание травмы. «В конце страданий появляется дверь», — говорит нам поэт. И это так.
Постоянное отрицание, посредством которого, апофатически, автор нащупывает истинную суть — становится поиском Бога и опоры в этом мире. «Ты был ничем», — говорит лирическая героиня о своем любимом человеке. Но в мире, где ничего не остается, сохраняются «мудрость и боль».
Мы предложили перевести понравившиеся стихотворения Луизы Глик учащимся осенней поэтической мастерской Creative Writing School. Возможно, эти переводы не совсем точны по смыслу и не очень ловки, но обратимся к авторитету Валерия Черешни: «Я считаю, что лучший перевод получается, если переводчик поэт и, вдохновившись подлинником, сохраняя смысл и, по возможности, некоторые формальные особенности, пишет свое стихотворение. В ином случае получается подстрочник, который еще менее дает представление о поэтике автора. В конце концов, верно переданная эмоция автора важнее дословно сказанного: восторг или отчаяние на разных языках передаются разными средствами».
***
At the same time as the sun’s setting,
a farm worker’s burning leaves.
It’s nothing, this fire.
It’s a small thing, controlled,
like a family run by a dictator.
Still, when it blazes up, the farm worker disappears;
from the road, he’s invisible.
Compared to the sun, all the fires here
are short-lived, amateurish —
they end when the leaves are gone.
Then the farm worker reappears, raking the ashes.
But the death is real.
As though the sun’s done what it came to do,
made the field grow, then
inspired the burning of earth.
So it can set now.
***
Когда солнце садится,
работник на ферме сжигает листья.
Ничего особенного, просто огонь.
Ничего значимого, всё под контролем,
как в семье тирана.
Но пока горит огонь, работник исчезает;
Его не видно с дороги.
По сравнению с солнцем все огни —
недолговечные, еле заметные;
они гаснут, когда листьев больше нет.
И тогда снова появляется работник, и снова сгребает пепел.
Но все-таки смерть существует.
Когда солнце сделает то, для чего оно встало:
Заставит поле зеленеть,
а землю — вспыхнуть.
Так что может уйти теперь.
Перевод Наталии Алексеевой
***
There is always something to be made of pain.
Your mother knits.
She turns out scarves in every shade of red.
They were for Christmas, and they kept you warm
while she married over and over, taking you
along. How could it work,
when all those years she stored her widowed heart
as though the dead come back.
No wonder you are the way you are,
afraid of blood, your women
like one brick wall after another.
***
Всегда есть то, что сделано из боли.
Ты помнишь: мать всю жизнь вязала шарфы
кроваво-красные, всех мыслимых оттенков,
на Рождество. Они тепло спасали
твое, живое, в череде ее замужеств,
где ты — в придачу. Как ей это удавалось,
когда она хранила вдовье сердце
все эти годы, словно ожидая
назад всех мертвых. Что же удивляться
что ты такой как есть — боишься крови
и женщины твои как череда
кирпичных стен, стоящих друг за другом.
Перевод Людмилы Жиляковой
***
Всегда есть то, что принесет страданье
Вот мама занимается вязаньем
И вяжет шарфы красного оттенка
Ты получаешь их на Рождество
Они тепло свое хранят с тех пор
Как мама замуж выходила раз за разом
И каждый раз брала тебя с собой
Как это все происходить могло
Когда надежда в овдовевшем сердце
Все эти годы продолжала жить,
Как будто бы умершие воскресли.
Бесследно не проходят эти вещи
И мне неудивительно теперь
Что ты такой как есть: заводишь женщин,
Как полотно из вязаных петель.
Перевод Полины Исайчевой
***
Love of my life, you
Are lost and I am
Young again.
A few years pass.
The air fills
With girlish music;
In the front yard
The apple tree is
Studded with blossoms.
I try to win you back,
That is the point
Of the writing.
But you are gone forever,
As in Russian novels, saying
A few words I don’t remember-
How lush the world is,
How full of things that don’t belong to me-
I watch the blossoms shatter,
No longer pink,
But old, old, a yellowish white-
The petals seem
To float on the bright grass,
Fluttering slightly.
What a nothing you were,
To be changed so quickly
Into an image, an odor-
You are everywhere, source
Of wisdom and anguish.
***
Любовь моя
тебя нет рядом,
и я вновь молода.
Пару лет как
в воздухе —
девичья музыка.
В палисаднике —
яблок цвет.
Хочу тебя вернуть —
и поэтому пишу.
Но ты попрощался,
как в русских романах…
…Мне не вспомнить сейчас,
что-то о пьянящем мире
и вещах, которые мне не принадлежат…
Я смотрю как вянут
уже не розовые,
а старые
желтовато-белые лепестки.
Они как будто парят
над травой
и мерцают слегка.
Насколько ты был ничем
чтобы образ и запах
так быстро заменили тебя.
Настолько ты повсюду —
моя мудрость и боль.
Перевод Марии Луценко
***
Любовь моей жизни, ты —
Исчез, а я
Вновь молода.
Несколько лет прошло
Воздух наполнен
Музыкой юности.
Яблоня во дворе
В цвету.
Я стараюсь тебя вернуть,
Я пишу об этом,
Но ты исчез навсегда.
Как в русских романах, сказав
Несколько слов, что мне не запомнить
Про изобильный мир
Полный того, что мне не удержать.
Я смотрю на увядание цветов,
Розовый уходит
Только тусклый изжелта-белый.
Лепестки как будто плывут
По яркой траве,
Слегка качаясь.
Ты превратился в ничто
Но и это изменилось —
Ты стал образом, запахом.
Теперь ты во всем, ты источник
Мудрости и горя.
Перевод Юлии Фрумкиной
***
In our family, there were two saints,
my aunt and my grandmother.
But their lives were different.
My grandmother’s was tranquil, even at the end.
She was like a person walking in calm water;
for some reason
the sea couldn’t bring itself to hurt her.
When my aunt took the same path,
the waves broke over her, they attacked her,
which is how the Fates respond
to a true spiritual nature.
My grandmother was cautious, conservative:
that’s why she escaped suffering.
My aunt’s escaped nothing;
each time the sea retreats, someone she loves is taken away.
Still she won’t experience
the sea as evil. To her, it is what it is:
where it touches land, it must turn to violence.
***
Двое святых было в нашей семье.
Мои тетя и бабушка.
Но их жизненные пути отличались.
Бабушка шла по жизни спокойно, особенно под конец.
Шла, как по глади воды.
По какой-то причине
Море не могло причинить ей зла.
Тетя выбрала тот же путь,
Но море не щадило ее.
Наверно, то был ответ Фатума
На истинную духовную суть.
Моя бабушка была консервативна,
И это оградило ее от морских бурь.
Тетя не избежала ничего.
Каждый раз шторм уносил кого-то из ее любимых.
И все же моя тетя до сих пор не считает
Море дьяволом.
Но прикосновение к земле сделало его жестоким.
Перевод Юлии Фрумкиной
***
A child draws the outline of a body.
She draws what she can, but it is white all through,
she cannot fill in what she knows is there.
Within the unsupported line, she knows
that life is missing; she has cut
one background from another. Like a child,
she turns to her mother.
And you draw the heart
against the emptiness she has created.
***
ребенок рисует линию тела,
рисует как может, но лист остается белым,
на нем не хватает признаков жизни.
в пределах контура есть только пустота
так по детски, он обернулся к маме,
и ты на весь листок рисуешь сердце.
Перевод Марии Щербаненко
Nocturne
Mother died last night,
Mother who never dies.
Winter was in the air,
many months away
but in the air nevertheless.
It was the tenth of May.
Hyacinth and apple blossom
bloomed in the back garden.
We could hear
Maria singing songs from Czechoslovakia —
How alone I am —
songs of that kind.
How alone I am,
no mother, no father —
my brain seems so empty without them.
Aromas drifted out of the earth;
the dishes were in the sink,
rinsed but not stacked.
Under the full moon
Maria was folding the washing;
the stiff sheets became
dry white rectangles of moonlight.
How alone I am, but in music
my desolation is my rejoicing.
It was the tenth of May
as it had been the ninth, the eighth.
Mother slept in her bed,
her arms outstretched, her head
balanced between them.
Ноктюрн
Прошлой ночью мама умерла.
Мамы никогда не умирают.
И пришла зима, пришла зима
Через много дней пришла,
но все же.
Месяц май. Десятого числа.
Гиацинт уже расцвел за домом…
И Мария пела во дворе
Пела песню чешскую Мария.
Что-то вроде: Одинешенька
Никого на свете не осталось,
Опустело у меня внутри.
Поднималась запахи земли.
В раковине чашки оставались
Вымытые чашки, просто я
Не успела разложить по полкам…
А Мария пела во дворе
И белье с веревки собирала
Жесткие и белые листы
Как прямоугольный лунный свет.
«Я осталась одинешенька»
так теперь звучало утешенье.
Месяц май, десятого числа.
Был вчера девятым, неужели.
Ты еще спала в своей постели,
Как воздушный шарик голова,
Две руки на белом одеяле.
Перевод Евгении Коробковой
***
Late December: my father and I
are going to New York, to the circus.
He holds me
on his shoulders in the bitter wind:
scraps of white paper
blow over the railroad ties.
My father liked
to stand like this, to hold me
so he couldn’t see me.
I remember
staring straight ahead
into the world my father saw;
I was learning
to absorb its emptiness,
the heavy snow
not falling, whirling around us.
***
В последних числах декабря с отцом
(Меня он посадил на плечи)
Идем в Нью-Йоркский цирк.
Холодный ветер исколол лицо,
над шпалами бумажные клочки.
Отцу меня не видно. Он замрет
Со мною на плечах,
А я вперед
на пустоту смотрю и изучаю.
Я помню,
как смотрю и изучаю,
Стараясь поглотить его собой —
холодный мир,
который знал отца.
И вьется снег, и нет ему конца.
Летает мимо, хороводы водит.
И все кружит над нашею семьей,
Но не соединяется с землей.
Перевод Евгении Коробковой

Семь мифов о писателях, в которые вы, возможно, верите
Американский писатель и руководитель проекта «The Write Practice» Джо Бантинг собрал семь распространенных представлений о писателях, которые противоречат правде, а мы их перевели.
Писательская профессия существует тысячи лет. Уж к нынешнему-то времени мы должны были понять, как заниматься этим ремеслом? Однако чем больше вы читаете, тем больше понимаете, что между авторами нет никакого согласия о том, как стать писателем.
В зависимости от того, кого вы будете слушать, «стать писателем» — это либо самая легкая вещь на свете («Просто пиши!»), либо, напротив, невероятно сложная задача, и тогда только сочетание таланта, гениальности, удачи и многих лет дорогих тренировок («Получи степень магистра искусств!») может позволить воплотить в реальность вашу творческую мечту.
Но в независимости от того, кого вы будете слушать, важно знать, какие советы не имеют никакого отношения к писательскому ремеслу. Вот семь популярных мифов о становлении писателем — в которые вы, возможно, еще верите.
Миф #1: Чтобы стать писателем, нужно вдохновение
Вдохновение — для любителей. Настоящие писатели пишут.
Многие блоги и даже книги по creative writing говорят, что для того, чтобы стать писателем, нужно вдохновение. Они предлагают бесконечное множество советов, где найти это самое вдохновение: от переезда до чтения вдохновляющих книг и прослушивания музыки.
Однако, хотя никто и не отрицает прелесть вдохновения, все профессионалы сходятся на том, что для того, чтобы начать писать, не нужно его ждать.
«Любители сидят и ждут вдохновения, остальные просто встают и идут на работу». — Стивен Кинг.
Миф #2: Вы должны быть экспертом в грамматике, чтобы стать писателем
Несколько лет назад я входил в писательскую группу, куда одна женщина принесла свою рукопись, настолько испещренную «склейками запятой» (англ. comma splices) и другими грамматическими ошибками, что ей можно было только посочувствовать. «Как жаль, ведь ее роман очень хорош», — подумал я.
Затем я обнаружил, что эта женщина уже опубликовала восемь книг в крупных издательствах. Из этого случая я извлек очень важный урок:
Вы не должны быть экспертом в грамматике, чтобы быть писателем. Для этого существуют редакторы.
Я сам работал редактором и лично видел немало случаев, когда писатели ужасно владели грамматикой и тем не менее опубликовали немало книг, которые затем прочитали сотни тысяч людей. Грамматические навыки — это здорово, но это не обязательное условие для писательской карьеры.
Что вы действительно должны уметь — так это быть интересным. Вы должны уметь рассказать классную историю. Ничего не мешает вам нанять кого-нибудь, кто подчистит ваши запятые, но вашу книгу никто не будет читать, если она не будет увлекательной.
Миф #3: Вы должны быть интровертом, чтобы стать писателем
Многие люди верят, что писатель обязательно должен быть интровертом. Они утверждают, что экстраверты проводят слишком много времени с другими людьми и поэтому не смогут справиться с замкнутой работой писателя.
Однако реальность такова, что, хотя вам действительно придется много времени проводить в одиночестве, это не помешало многим экстравертам стать отличными писателями.
Читая биографии знаменитых авторов и лично общаясь с профессиональными писателями, я обнаружил, что среди них легко найти самые разные типы личности.
Например, хотя Эрнест Хемингуэй был очень дисциплинированным в отношении письма, он регулярно тратил половину своего рабочего времени на общение с теми авторами, которых он уважал. Марк Твен часто жаловался, как легко он отвлекается от работы на ответы на письма своих друзей. И никто не может сказать, что Байрон был интровертом.
Миф #4: Популярные авторы получают кучу денег
Многие мои друзья и родные, не связанные с литературным миром, думают, что если ты смог стать популярным писателем, то «дело сделано». Теперь ты можешь удалиться на свой остров и жить там в роскоши и спокойствии.
В реальности большинство писателей, даже если их книги становятся бестселлерами, не могут позволить себе жить только на гонорары. Ничего подобного.
В традиционном издательском бизнесе вы получаете $1 — $2 за каждую проданный экземпляр. Это значит, что если вы, к примеру, потратили пять лет на написание книги и затем продали 100 000 экземпляров, то в лучшем случае обеспечите себе всего $20 000 в год (однако в действительности средняя книга никогда не наберет и 100 000 продаж)1.
Так что большинству профессиональных писателей приходится зарабатывать двумя способами: публичными выступлениями или преподаванием.
Марк Твен, к примеру, в какой-то момент так погряз в долгах, что был вынужден поехать в международный годовой тур с выступлениями, чтобы рассчитаться с кредиторами.
Сегодня такие популярные авторы, как Майкл Каннингем или Ти Си Бойл, преподают литературное мастерство в университетах, чтобы заработать на жизнь. И хотя Малкольм Гладуэлл, автор нон-фикшн бестселлера «Переломный момент», может получать от своих книг средства на «хорошую жизнь», все же доход от продаж ничтожен по сравнению с теми $80 000, которые выплачиваются ему за каждое публичное выступление.
Реальность такова, что многие популярные авторы часто получают вполне приличные деньги, но очень редко это удается сделать только посредством самих книг. Вот почему для того, чтобы стать профессиональным писателем, важно находить множество различных источников дохода.
Миф #5: Завершить книгу — самое трудное в ремесле писателя
Начинающие авторы, с которыми я разговаривал, часто думают, что как только они опубликуют свою первую книгу, все немедленно поймут, какая она крутая, и побегут покупать ее в магазинах. Они думают, что когда они скажут на официальных вечерах «Моя книга опубликована», люди сразу же опустятся перед ними на колени и начнут поклоняться им, как каким-то высшим существам.
Однако в действительности, хотя большинство людей действительно в какой-то степени впечатлит тот факт, что вы писатель, лишь немногие из них озаботятся тем, чтобы пойти и купить вашу книгу. Я обнаружил, что большая часть знакомых мне «разочарованных писателей» — это те, кто никак не может закончить свою первую книгу. Но на самом деле самые разочарованные — это те, кто уже смог ее опубликовать.
В реальной жизни окончание книги — это только начало вашего становления как писателя.
Затем вам нужно будет найти для нее агента и издателя. Затем разработать свою платформу и рекламировать ее, не говоря уже о том, что придется писать еще и следующую книгу. Так что когда вы закончите ваш шедевр, то большая часть пути все еще впереди (простите!).
Миф #6: Вы должны стать писателем, потому что у вас есть хорошие идеи
Я знаю, что у вас есть крутая идея для романа. Может быть, даже несколько дюжин.
Но неважно, сколько крутых творческих идей у вас есть, если вы не можете завершить свою книгу. Это может прозвучать сурово, но это так.
Не верите мне? Тогда послушайте Джорджа Р. Р. Мартина:
«Идеи ничего не стоят. У меня сейчас гораздо больше идей, чем я когда-либо смогу осуществить. По моему мнению, исполнение — вот что важнее всего. Я горд своей работой, но я не знаю, смогу ли я когда-нибудь заявить, что она отличается особой оригинальностью».
Миф #7: Вы никогда не сможете стать писателем
Если вы дочитали до этого места, то уже можете подумать: «Если все действительно так, то у меня никогда не получится стать писателем».
Я решил, что хочу стать писателем, когда учился в старших классах. Конечно, это была еще детская мечта, но я был вполне серьезен. Я начал писать в колледже и впоследствии получил фриланс-работу в небольшой местной газете. Затем я целый год путешествовал по миру, работая над своим стилем, пока жил в Кении, Таиланде и Вьетнаме. Когда я вернулся, то бесплатно помогал своему наставнику с его книгой — это неожиданно привело меня к первой работе в качестве «литературного негра».
После этого я занимался практически всем, что есть в литературной индустрии, — чем-то с большим интересом, чем-то с меньшим, — от написания статей для журналов до издания и оформления книг. Но сейчас, двадцать лет спустя, я могу сказать, что воплотил свою мечту. Это потребовало огромного количества времени и нескольких лет работы за мизерную зарплату, но мне удалось стать профессиональным писателем.
Вы тоже можете стать писателем. Я обещаю. Это может оказаться совсем не так, как вы себе представляете, но все возможно. Не теряйте надежду. И лучше принимайтесь за работу.
- Стоит отметить, что для российского книжного рынка и такие расчеты кажутся чрезмерными[↑]

Скоропостижка: смерть глазами судмедэксперта
У выпускницы Creative Writing School Ольги Фатеевой в издательстве «Эксмо» вышла нон-фикшн книга. Ольга не только писатель, но и профессиональный судебно-медицинский эксперт с 15-летним опытом работы. И ее «Скоропостижка» — это не байки про медицину, а искренний разговор об очень специфической профессии. Выпускающий редактор электронного журнала «Пашня» Юлия Виноградова расспросила Ольгу о жизни судмедэксперта, ее литературном опыте и о том, что чувствует начинающий автор, держа в руках свою первую книгу. Фрагмент книги мы также предлагаем к прочтению.
Нон-фикшн — это одновременно и литература в смысле работы со словами и документирование жизни. Поэтому и беседа наша будет лежать в двух областях. Начнем со второй. Как вы стали судмедэкспертом?
На вопрос, как я стала судмедэкспертом, нужно начать отвечать с того, как я попала в медицину вообще. До мединститута я училась на филологическом факультете МГУ, отделение русского языка и литературы. Филология тогда казалась мне бессмысленным уделом очень узкой группы людей, а я мечтала быть нужной всему миру, и медицина из всех возможных способов приносить пользу казалась самым лучшим вариантом. И мне помогла случайная встреча. Я подрабатывала в гостинице, где познакомилась с хирургом-андрологом, он подрабатывал охранником в одной со мной смене. Он очень увлечённо говорил о своей работе, о медицине. Наслушавшись его рассказов, я бросила МГУ, год готовилась к поступлению в мед — училась на подготовительных курсах, занималась с репетиторами и не слушала доброжелателей, которых было много и которые говорили, что я не поступлю.
Меня привлекли в медицинском институте три специальности: акушерство, терапия и судебная медицина. С акушерством не сложилось — это волшебство, шаманство и магия, которой, я поняла, я не владею. Терапия очень похожа на филологию, это специальность на две трети гуманитарная. На пятом курсе начался цикл судебной медицины. И опять меня увлекли люди — завкафедрой, очень известный эксперт, работал в группе изучения останков царской семьи, жизнелюб, очень весёлый и обаятельный человек, рассказывал много интересных историй, особенно из девяностых, и соединение хтони с юмором для меня оказалось заразительным. Он вёл студенческий научный кружок на кафедре, мы приходили по субботам, занимались исключительно практической работой, вскрывали, обсуждали, в общем, учились и работали в поле.
Для меня было интересно абсолютно всё, что я видела на тех первых вскрытиях. Я чувствовала себя собакой-ищейкой, делала стойку, поднимала уши — мне было интересно всё, это были мои детективы, мои расследования, которые я вела, разматывая клубки из конца в начало, как и положено в детективах. В интернатуре я задерживалась до первых петухов, постоянно размышляла про случаи, которые вскрыла, искала ответы в книгах, благо в морге, где я проходила обучение, была богатая библиотека. Я чувствовала себя на своём месте, это было моё. Я была счастлива. Постоянный драйв, постоянно в процессе.
Тот опыт, который вы описываете в книге, прежде находил выход? В беседах с друзьями, в каких-то зарисовках?
Опыт, описанный в книге, вначале находил выход на дружеских посиделках и попойках, и не только с коллегами. С коллегами мы продолжаем обсуждать это всегда. Даже если мы отмечаем Новый год или чей-то день рождения, наступает момент, когда заканчиваются все поздравления и тосты и — происходит самое интересное: мы переходим на профессиональные проблемы, разгораются настоящие баталии, а потом кто-то встаёт из-за стола и отправляется поработать.
Конечно, в первые годы работы я обожала выдавать всякие ужастики на сборищах людей, от медицины далёких. Это была бравада, хвастовство, от которого сейчас я уже излечилась. Но когда начинаешь работать самостоятельно и ставишь свою единственную подпись под документом, за который несёшь уголовную ответственность, тебя накрывает первобытный ужас. От ужаса есть действенная прививка — это опыт. Вдруг ты проводишь экспертизу, а потом следователь приносит материалы дела — допросы, показания свидетелей, подозреваемого, — и твои выводы совпадают с описанными событиями, пазл сложился. Тогда ты чувствуешь себя всемогущим. И небрежно между рюмкой водки и заливным сообщаешь, что мумии пахнут прогорклым сыром.
По себе и по своим коллегам вижу, что все проходят примерно одни и те же стадии взаимоотношений со специальностью. В этих взаимоотношениях неизбежно, примерно в одинаковое время, наступает жесточайший кризис. Проходит бравада, пугать страшными историями и поражать окружающих причастностью к тайне смерти надоедает. Дома, конечно, если супруги оба эксперты, а это часто бывает, продолжаются непрерывные производственные совещания. В какой-то момент наступает полная стагнация, когда даже изощрённые убийства и сложные загадки не могут выдернуть тебя из ощущения рутины. И со мной тоже так было. Глаза перестали загораться неестественным огнём, я не торчала в секционном зале до вечера. В моей работе много обыденности и привычки. Те самые изощрённые убийства гораздо чаще встречаются в книжках, а у нас всё просто — сковородкой по голове на почве внезапно возникших неприязненных отношений во время совместного распития алкогольных напитков.
Моё преодоление кризиса, наверное, самое нестандартное: далеко не все судмедэксперты пишут книги. При этом я всегда считала, и с коллегами мы много говорили о том же: писать про судебно-медицинскую экспертизу бессмысленно, потому что действительно важные и актуальные для экспертов проблемы не объяснишь с ходу далёкому от медицины читателю, а стадию рассказывания клубнички я уже прошла.
В первые годы работы я обожала пугать страшными историями и поражать окружающих причастностью к тайне смерти
Что же все-таки привело тебя в литературу? Как все начиналось?
В литературу и конкретно к книжке меня привела цепь случайностей, случайных встреч. Теперь можно сказать, что я не пропустила, заметила, прислушалась к подсказкам Вселенной. Прислушалась —и бросила МГУ, поступила в мединститут, пришла в интернатуру в морг. Таким же случайным было и возвращение в «литературу». В школе я не писала рассказы и даже стихи, я усердно писала сочинения и разные «научные» работы. И вдруг на фоне разочарования в специальности, кризиса в судебно-медицинской экспертизе я вспомнила о школьной привычке что-то писать. Ответ мироздания был мгновенным. Буквально через пару дней после раздумий мне попалась статья о литературных школах, где рассказывалось о Creative Writing School, и — какое совпадение! — Creative Writing School как раз объявила набор на первый онлайн-курс. И я пошла учиться. Утром я прочитала эту статью, а вечером уже оплатила обучение.
Мне попался удивительный мастер, который нежно поддержал мою проснувшуюся тягу. Сначала я наверняка его испугала, я делала то, что делают почти все студенты: сдавала два варианта домашнего задания вместо одного, превышала обозначенное в задании количество знаков в два-три раза и вписывалась только в одно ограничение — в дедлайн. Это было в 2016 году, мастера звали Евгений Абдуллаев. С тех пор с CWS я не расставалась, а в 2017 году начала там работать, я модератор очных и онлайн-курсов. Я работала и училась у Майи Кучерской, Марины Степновой, Елены Холмогоровой, Ольги Славниковой, Дмитрия Данилова, Ольги Брейнингер, Екатерины Ляминой, Марты Кетро, Марии Кузнецовой, Дениса Гуцко, Дениса Осокина, Мити Самойлова и Дарьи Бобылёвой. Я старалась от каждого что-то взять, не зря говорят, что в разное время разные учителя.
Сейчас очень много литературных школ, и часто звучат упрёки в избыточности и перепроизводстве — писателей больше, чем читателей. Мне сложно оценить всю ситуацию целиком, я внутри процесса, и изнутри процесса я могу сказать, что школа даёт очень много. Новую жизнь, среду, новых друзей и огромное удовольствие от жизни. Современный литературный процесс стал явно ближе.
Ты писала рассказы на совсем другие темы, с ними публиковалась в сборниках. Как появилась идея написать книгу про профессию?
Книга про профессию родилась опять же случайно. Это было предложение от издательства, и здесь роль литературных школ налицо. О том, что есть судебно-медицинский эксперт, который пишет, редактору «Бомборы» рассказала моя знакомая по школе, а редактор написала мне. Я набросала каких-то идей, которые первыми пришли в голову, написала фрагмент на пробу, вышел он сразу размером с целый авторский лист, и его взяли.
До этого я писала рассказы на совсем другие темы, некоторые опубликованы. Я считала, что писать о смерти и трупах как-то несерьёзно и слишком просто, и долго заставляла себя намеренно писать о чём-нибудь другом. Правда, трупы и медицина прорывались в тексты. И однажды я «разрешила» себе писать о том, что знаю. Смерть появилась в моих историях в разных ипостасях, а теперь засела там основательно.
Как шла работа? Что было самым трудным?
Книга писалась довольно быстро: на бумагу лезли самые эмоциональные и самые запомнившиеся истории, накопленные за годы работы. Они приходили сами и цеплялись одна за другую. Конечно, я лазила в свои архивы, пересматривала старые экспертизы, чтобы оживить всё в памяти, но каких-то специальных записей я не вела и не веду, вспоминать мне помогают мои заключения, пусть и написаны они почти официальным языком.
Главная трудность была в структурировании этого потока сознания, набитого узкоспециальными терминами. Было сложно соблюсти баланс между разжёвыванием основных понятий судебной медицины для неискушённого читателя, бесконечными объяснениями и профессиональным тоном повествования, чтобы читатель мог читать про какие-нибудь сочетанные травмы тела или медицинские манипуляции, не спотыкаясь. Сначала я записывала истории так, как если бы я обсуждала эти случаи со своими коллегами, а потом в дело вступал редактор.
Смерть появлялась в моих историях в разных ипостасях, а теперь засела там основательно.
Как работалось с редактором? Хотелось спорить или готовы были подчиниться правкам?
Редактору я очень благодарна, у книжки было несколько редактур, литературных и научных, и благодаря работе с редактором сложился — складывается, конечно — весь стиль: сочетание профессионального языка с разговорными интонациями, очень подходящими для нон-фикшн. Все рассказанные истории мне дороги, я до сих пор их помню, хотя, казалось бы, пора забыть подробности, но они всплывают, как я выяснила в процессе написания, сами собой. Конечно, не всем я поделилась и не смогу поделиться в будущем — есть врачебная тайна и уголовная ответственность. Такие детали я безжалостно вычёркивала из своего текста, даже если они были важны для истории, заменяла другими, писала о чём-то ещё.
Каким вы видите своего читателя? Кто он?
Мои читатели, в первую очередь, это мои ровесники, но я не ставлю никаких цензов, даже возрастных. Хотя с возрастом всё сложно: по современному законодательству книга продаётся с маркировкой «18+». С одной стороны, я это понимаю и не буду оспаривать, а с другой, я так и не могу решить, что там такого понаписано, чтобы ограждать тех же подростков от жизни и смерти. Мне хочется, чтобы книгу читали все, хотя, наверное, она далеко не всем подойдёт.
Поделитесь эмоциями — как это, когда твою книгу все читают и обсуждают?
Эмоции от выхода книги зашкаливают! В первый день, когда я узнала, что книга появилась в магазинах, я даже никому не смогла рассказать об этом, потом постепенно приучила себя к мысли, что в «Фаланстере» и «Библио-глобусе» и в других магазинах стоит именно моя книжка. Я до сих пор не верю, что все люди в комментариях пишут мне и обо мне — поздравляют, размещают фотографии с купленными экземплярами, просят автографы. На прошлой неделе я дала первый в жизни. На этой неделе — первое в жизни интервью. Важные для меня авторы написали рецензии на обложку, мастера, у которых я продолжаю учиться, называют мои тексты хорошими. Очень неожиданно было, что мне не пришлось предлагать книгу блогерам, многие написали сами, заинтересовались, появились первые обзоры.
Всё равно есть страх, что ты ляпнул что-то не то, что книга не понравится, но она не должна нравиться всем, убеждаешь ты себя. Ты выпадаешь из жизни семьи, не следишь за оценками дочери, не можешь вспомнить содержание беседы с мужем, которая состоялась пять минут назад. В голове крутятся презентации, которые надо приготовить, комментарии с поздравлениями, на которые так приятно отвечать. И вечная мысль самозванца: это просто случайность, это не про меня. А потом сразу качели — у меня получилось!
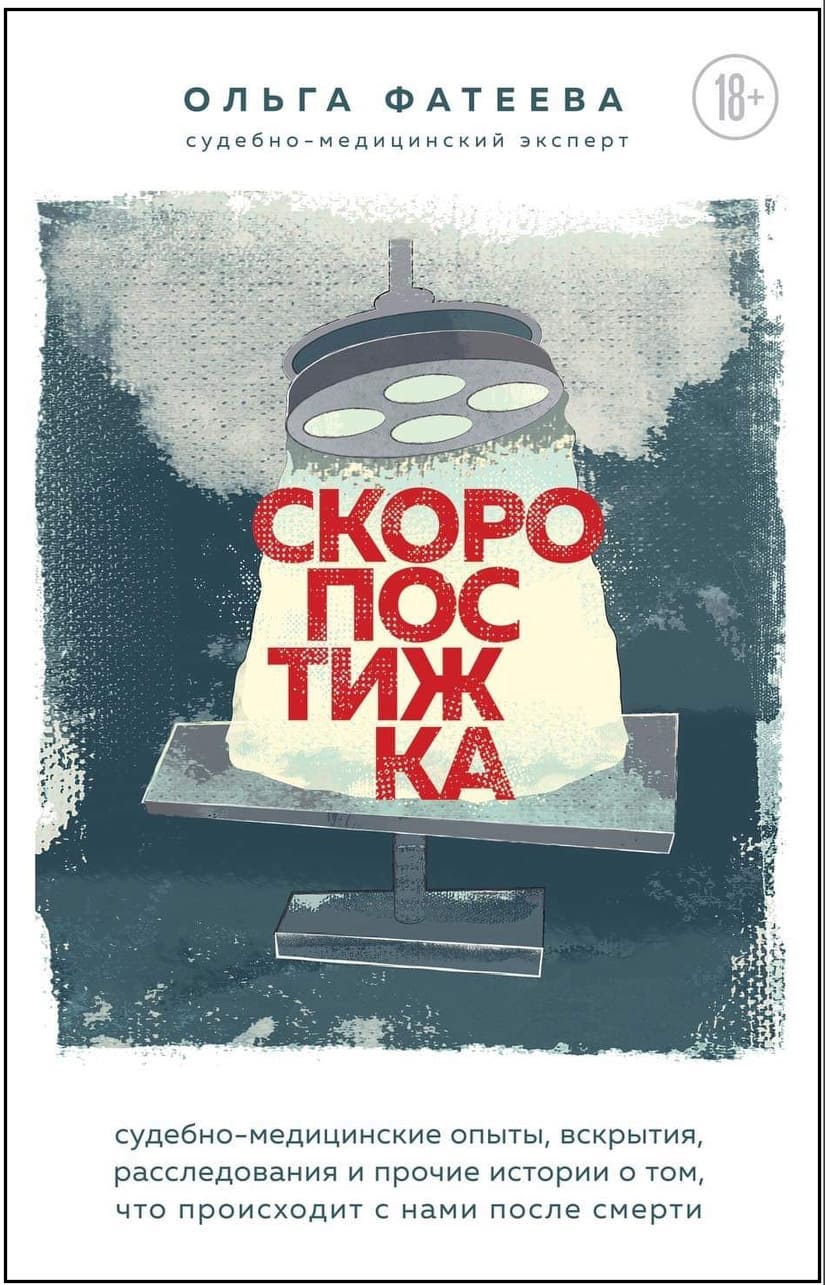
Адвокаты. Фрагмент из книги
В суды я ходила очень редко: один раз по поводу убитой женщины, которая пролежала в квартире месяц, второй — из-за адвокатов, сразу трех. После заседания судья шепнула мне, что раньше их было пять, а сейчас денег у подсудимого не хватает, слушанья тянулись уже год. По инициативе защиты была проведена комиссионная экспертиза, потом ещё две независимых. Комиссионная экспертиза проводится в соответствующем отделе Бюро судебно-медицинской экспертизы группой экспертов с привлечением, по необходимости, врачей других специальностей. Выводы пишутся общие, под ними подписываются все участники, в случаях разногласий каждый эксперт формулирует свои отдельные выводы, но до такой, сложной для следствия и суда, ситуации стараются, конечно, не доводить. Независимых экспертов привлекают обвиняемые, защитники. Работают независимые эксперты в частных конторах или сами по себе, за свои услуги берут много денег и либо пишут то, что устраивает заказчика, притягивая за уши данные, раскапывая дополнительные сведения из малоизвестной литературы, либо стараются развалить первичное экспертное заключение, заставить суд усомниться в его правдивости. Чаще на всякий случай делают и то, и другое.
Как-то в январе я вскрывала женщину, А.И., семидесяти четырёх лет. А.И. обнаружена в подъезде девятиэтажного дома, на площадке девятого этажа около мусоропровода, в домашней одежде и тапочках. На шее несколько разнонаправленных, взаимопересекающихся тонких странгуляционных полос. Переломы хрящей гортани, резко выраженная острая эмфизема — вздутие — лёгких, то есть все признаки механической асфиксии, удавления петлёй. С причиной смерти вопросов не возникло ни у кого, ни у независимых экспертов, ни у отдела комиссионных экспертиз. У следователя и прокурора не было вопросов и с обвиняемым, а вот сам обвиняемый никак не соглашался с обвинениями.
А.И. проживала в двухкомнатной квартире вместе с сыном, невесткой и полуторагодовалой внучкой. Невестку, то ли из Рязани, то ли из Евпатории, А.И. честно прописала, как и маленькую внучку. Сын работал, невестка сидела с девочкой, бабушка ей, конечно, помогала. Из магазина чего принесёт, погуляет с коляской или дома с ребенком посидит, и покормит, и поиграет, и спать уложит. С невесткой и сыном, конечно, ругалась, а кто не ругается? Невестка сыну на мозг капала, чтобы мама их не трогала.
Были новогодние праздники, народ разъехался, кто-то по гостям. Мусоропровод отделён дверью, что очень удобно, запахи в квартиры не так тянет. Нашли бабушку соседи четвёртого числа днём, вернулись откуда-то из поездки. Сына А.И. дома не было, он работал даже в праздники, семью надо обеспечивать. Дома оставались невестка с внучкой. Невестка показала, что не видела А.И. два дня, на Новый год они совсем разругались. «Но в коридоре, на кухне должны же были встречаться, — удивился следователь, — одежда бабушкина на вешалке висит рядом с вашей. Уж наверняка вы, когда дома, знаете, дома ли ваша свекровь». «Мы вчера утром подумали, что она ушла, в поликлинику там или в магазин, или в гости к кому. Вот видите, её пальто нет и ботинок». А пальто и ботинки в комнате у А.И. при входе, дверь не заперта. «Может, она к себе уносить стала, мы не заметили, не помещаемся все в маленьком коридорчике, зимой тем более, шубы, куртки, комбинезон у дочери, они такие сейчас, знаете, громоздкие». Сын с матерью виделся последний раз первого января. Второго, третьего и четвёртого работал, уходил утром рано, возвращался поздно. А по вечерам он с матерью и так обычно не виделся, бабушка рано ложилась спать.
Следствие установило, что именно сын задушил А.И. зарядкой от телефона. Мужчина вину свою не признавал и, откуда только деньги взялись, нанял пятерых адвокатов. Сын оговаривал жену, что она с матерью никогда не ладила, никогда ее не любила. Невестка, наоборот, обвиняла мужа — он со свекровью постоянно ругался, и денег у неё просил постоянно, и кричал, когда ж ты сдохнешь — невестка с мужем и дочерью ютились в одной комнате. «А бабушка нам, — плакалась невестка, — всегда так помогала, так помогала. И одёжку внучке покупала, и игрушки, а детские товары ведь сейчас, сами знаете, ой какие не дешёвые, и в магазин всегда ходила. Злые соседи придушили бабку, она с соседями ругалась всегда. Крикливая была, на язык не воздержана, и ругалась на всех — и в магазине её продавцы боялись, и в поликлинику она только с руганью ходила. Да что уж говорить, на нас так кричала, на сына своего, на внучку, что там ребёнок понимает? Что нельзя в её комнате фотографии какие-то трогать? И на меня тоже ругалась всегда, уж я у неё во всём была виновата. Ну и пила, конечно, бабка, за воротник частенько закладывала, нет, не до запоев, конечно, но стопку всегда нальёт. И сына своего спаивала, да и мне предлагала».
На теле потерпевшей, преимущественно на конечностях, были обнаружены множественные кровоподтёки и ссадины различной давности. Чаще всего у людей пьющих такие синяки и царапины образуются от «асфальтной болезни», пьяные на ногах плохо держатся и регулярно падают. Возможно, какие-то повреждения образовались при сопротивлении. Следователи обычно задают традиционный вопрос по этому поводу: «Имеются ли на трупе следы, указывающие на борьбу и самооборону?», — а судебно-медицинские эксперты так же традиционно отписываются, что трактовка понятий борьбы и самообороны не входит в их компетенцию. Все эти кровоподтёки и ссадины к наступлению смерти никакого отношения не имели, о чём я и написала в своём заключении. Следователи ещё любят задавать вопрос о последовательности причинения повреждений, которую на «свежих» повреждениях достоверно установить невозможно, а с повреждениями, время образования которых разнится в несколько суток, понятно всё и так. Вот к этим «старым» повреждениям и прицепились защитники.
В нашей работе есть приказ Министерства здравоохранения № 346н, определяющий порядок исследования трупов, методики, объём, правила забора биоматериала для лабораторных исследований, показания для этого, правила проведения исследований и т. д. — в общем, всю судебно-медицинскую экспертную работу. Для установления давности повреждений следует подробно описать их особенности, а также набрать мягкие ткани из зоны каждого повреждения на гистологическое исследование. Естественно, эксперты набирают мягкие ткани на гистологию только из зоны тех повреждений, которые имеют отношение к смерти, или вызывают какие-то вопросы у самого эксперта. Набирать десять — двадцать кусочков из двадцати ссадин и кровоподтёков, не причинивших даже вреда здоровью, не очень разумно и даже бессмысленно, но формально, по приказу, именно так и нужно делать. Это была первая претензия адвокатов к моему заключению: я взяла кусочки на гистологическое исследование только из повреждений в области шеи, мелкие ссадины и синяки на коленках я просто описала. Судить о давности образования повреждений по наружному описанию возможно, но для достоверного суждения гистологическое исследование с определением тканевой реакции необходимо. Конечно, всё, что касалось шеи, я исследовала подробно, досконально. Адвокатам важно подорвать доверие суда ко всему экспертному заключению, для этого они выискивают любые мелочи, к которым можно придраться.
Проблемой посерьёзнее снова оказалась давность смерти. Большинство ориентировочных таблиц составлены для комнатных условий: температуры, средней влажности, отсутствии ветра и т. п. — или, наоборот, для крайностей: минусовой температуры и прочего. Как бы ни казалось непосвящённым, трупные явления штука очень вариабельная, точность измерения и трактовка зависят от исследователя. В каждой методике измерения и оценки показателей — трупных пятен, окоченения, идиомускулярной опухоли 1, ректальной температуры –– сразу заложена доверительная погрешность, доверительный интервал, примерно от двух до четырёх часов для разных показателей. Я в таких случаях, как и многие эксперты, стараюсь ориентироваться на данные полиции. Показания свидетелей, камеры наблюдения, какие-то косвенные признаки типа чеков из магазина гораздо точнее, чем степень выраженности трупного окоченения, изменения трупных пятен и даже температура в прямой кишке.
Обычно, если со следствием есть контакт, я прошу перезвонить, чтобы совместить объективные данные и судебно-медицинские суждения. В тот раз следователь не обратил внимания на нестыковки в показаниях обвиняемого и моих выводах и так и передал дело в суд, а адвокаты выстроили линию защиты как раз на этом. Они утверждали, что обвиняемый вернулся домой на полчаса или на час позже, чем произошло убийство.
Трудность состояла в том, что, по протоколу осмотра трупа, я никак не могла раздвинуть временной интервал, он и так был максимальным — видимо, сработало то самое чувство, что именно здесь возникнет проблема. Это ни в коем случае не означает, что я допустила ошибку, что у меня недостаточно опыта для правильной оценки имевшихся данных, что дежурный эксперт на месте происшествия измерил и описал трупные явления из рук вон плохо, безалаберно или, не измеряя их вовсе, прикинул на глазок (а иногда, поверьте, лучше так, чем с точностью до одной секунды и градуса). Это означает только то, что судебная медицина самая точная наука после гадания на кофейной гуще, как, впрочем, и вся остальная медицина. Как на беду, именно в тот вечер сломалась камера на подъездной двери, а выбранные свидетели подтвердили нужные показания.
Адвокаты дело своё знали, прикрыли тыл временным несовпадением и попытались развалить заключение. В суде мне задавали вопросы, опираясь как раз на упомянутый приказ 346н, — почему дежурный эксперт, описывая труп на месте происшествия, не указал цену деления и тип градусника, которым измерял температуру в прямой кишке трупа? В приказе есть много таких подробностей, необходимых с точки зрения составителей, но, согласитесь, совершенно неинтересных для формулировки выводов. Именно этим пользуются адвокаты и независимые эксперты. Меня пытались заставить оценивать правильность и полноту протокола, написанного моим дежурным коллегой, прицельно обращали внимание на уже выявленные ошибки. Конечно, у них ничего не получилось. Цена деления градусника никак не повлияла на результат измерения и моё заключение.
Адвокаты развернули масштабную атаку. «Как вы объясните, что подсудимый вернулся домой позже, чем произошло убийство, если именно он и убил свою мать?» После синяков и ссадин, исследованных мной не в полной мере, после использования мной для составления выводов некачественно написанного протокола осмотра трупа — разве можно верить всем остальным моим словам? Масла в огонь долили эксперты из отдела комиссионных экспертиз и независимые эксперты. И те, и другие в своих отчетах дружно подчеркнули те же самые ошибки — если независимые эксперты будут придерживаться правил корпоративной этики и солидарности, то останутся без заказов. Трое адвокатов мучили меня тогда полтора часа — всё же эксперты проводят в судах гораздо меньше времени.
А.И. была задушена не там, где обнаружена, на трупе и на месте происшествия следы волочения. Одежда задрана, со следами пыли и грязи, на коже задней поверхности тела симметричные параллельные продольные участки осаднения, на полу в подъезде характерные полосы. В комнате убитой следы борьбы: разбитый флакон с лекарствами, мелкие осколки с таблетками закатились под диван, комья земли из цветочного горшка на полу и прочее — в общем, мелочи, составившие цельную картину. В мусоре найден провод. Все таблицы для оценки трупных явлений в зависимости от времени наступления смерти учитывают их изменения в постоянной среде и абсолютно не пригодны, если труп был перемещён в другие условия. Тело А.И. из комнатной температуры с тёплого ковра перетащили в подъезд на холодный бетонный пол. Верить трупным явлениям на все сто было нельзя.
Через пару месяцев в морге мы встретились со следователем, который вёл то дело. Липовые показания свидетелей вскрылись, судья устала от защитников, трезво оценила моё экспертное заключение и заключения комиссионной экспертизы и независимых экспертов и вынесла обвинительный приговор.
- Припухлость тканей в виде валика, образующаяся в мышцах в месте удара тупым твердым предметом в течение 6–8 часов после наступления смерти. По степени выраженности идиомускулярной опухоли можно ориентировочно судить о давности наступления смерти. — Прим. ред. [↑]

Мастерская стилистики Евгений Бабушкина
В ноябре 2020 мы провели конкурс в мастерскую писателя Евгения Бабушкина «Стилистика: учимся смешивать языки, ловить ритм и видеть вещи как в первый раз». Представляем избранные конкурсные работы.
Конкурсное задание: «Портрет города», текст, в котором будет использован ритм и звукоподражание. Например, кап-кап петербургского дождя по железной крыше фабрики «Красный треугольник», или шурх-шурх эскалатора казанского метро, или лязг-лязг ложечек в авангардном нижегородском кафе и так далее. Город может быть любым, даже выдуманным.
Объем текста: до 500 знаков с пробелами.
Евгений Бабушкин: «Я попросил вас собрать звуки ваших городов, потому что изнываю на карантине. Хочется уже хоть куда-то. А сорок городов — это сорок путешествий. С заданием справились все. Точные звуки, цельная ритмическая картина — это есть в каждом из ваших текстов.
Но в короткий список я отобрал рассказы, в которых есть что-то ещё. У Екатерины Левушкиной — чувство времени, у Юлии Пискуновой — законченная история. И так далее. А победительница, Юлия Стафеева, выбрала самую трудную задачу: она описала загробный город. Звучит ужасно убедительно: «И за спиной — сухое вшух, вшух, вшух». Так мы и будем провожать жизнь. Но пока — она прекрасно продолжается. Спасибо всем за истории».
Юлия Заморская, Сочи
Дагомыс
Ш-ш-ш-штормит. Серое море с ш-ш-шипением облизывает берег. Ш-шелестит и щ-щелкает, натягиваясь от ветра, ограничительная лента. Ш-шуршит галька под ботинками. Что мне до шторма? Конец сезона — самое время гулять по пляжу. Не шипи на меня, море. Тиш-ше. Я продрогла от твоего дыхания. Я уже ухожу. Домой. Мимо таблички «На море шторм. Купание запрещено». Мимо эвкалиптов, что шелестят мне в след: «Не обиж-жайся. Приходи ещ-ще.» Да куда ж я денусь?
Дина Артемкина, Екатеринбург
«Хр-пищ, хр-пищ», — свистела бабушка. Трр-бум-дыр — грохотнуло снаружи, и по шторе желтой полосой метнулся свет фар. Манечка села в постели. За окном цвиркали сверчки, звезды величиной с ракушку сияли с июльского неба. У соседей — мур-фур-тур — бормотал телевизор. Манечка ждала цоканья маминых каблуков по асфальту. Потом вспомнила, что мама — там, в сверкающей Москве. А она здесь — среди незнакомого шуршания, гавканья и рокота бабушкиного хр-пищ. «Спи-спи», — пискнула птица. Сплю, сплю.
Екатерина Левушкина, Нижневартовск
Город ужался до 36 квадратов однушки.
Апчхи. Будь здоров, мужик.
Иу иу иу. Скорая заворачивает в переулок, свет фар плывет по стене.
Апчхи. Два. Сосед слева чихает каждые семь минут.
Иу иу иу. Вторая.
Апчхи. Три, да хоспади, будь здоров, мужик. Выше воет пес.
Ауууу, — подвываю в ответ, но чтобы не подумали, что я совсем продолжаю, «А у реки, а у реки, гуляют девки, гуляют мужики».
Иу иу иу. Третья, да хоспади, лишь бы не за мной.
Полина Барон, Москва
Его будило скрипучее тыгыдыканье трамваев: Лисса-бон-бон-бон-бон, Лисса-бон-бон-бух-звяк. Он выходил на улицу и тележкой с мольбертом брдркал по старой, скользкой брусчатке к берегу. Травмаи вездесуще тыгдыкали вокруг, вверх и вниз, до самого мыса, где, надсадно гудя, сбегали прочь от водяных брызг. Там он разувался и шаркал по хлюпающему песку, увязая пятками и мольбертом, пока какофония лисс-бон-бух-шум-гам не превращалась в тянуче-волнистое, медленное и мерное: Вшух. Вшух. Вшух.
Инесса Подгородецкая, Новый Уренгой
— Динь-дон-дон, утро входит в дом, — распевается Успенский.
— Бом-бом, тили-дили, на службу приходи-ли-дили, — зазывает Христорождественский.
— Та-да-да-да, та-да-да-да, на носу страда-да-да-да, — благословляет Архангельский.
Вьють, вьють. Вылупляются одуванчики. Струящаяся парча ползет за маленькими стопами по кирпичной мостовой.
— Динь-дон-тили-тить, всем голо-головы склонить, — Успенский прячет синие шапки, расшитые звездами, в облаке.
— Пшш, псс,— перешёптываются свечки, — княгиня пожаловали-с.
Татьяна Капранова, Санкт-Петербург
Не уснуть. Коммуналка в старом доме в проходном дворе у изолятора «Кресты».
— Во-э! А-ии! — женский крик за окном. Прислушиваюсь.
— Ии-уу! — подхватывает троллейбус с улицы.
— Ша-ах! Фу-у! — тормошит тополя ветер.
— Кок-клок-кок, — гремят соседи за стенкой. Там кухня. Мама на сегодня отстучала и только что легла.
— Ва-ва-и! — завывает во дворе женщина. Навещать нельзя. Вот-вот её прогонят.
— Гу! У-у! — наконец лает в ответ мужчина.
— Мама, что они кричат? — шепчу я.
— У них свидание. Спи.
Александр Киргетов, Ярославль
Когда-то в городе была свобода, и на Свободе человек с широким горлом кричал:
— Яаааррр-оообл-туууррр, туррры в Турррцию!
Он был большой, как солнце, но солнца ни разу не видел. Все смотрели на него и сразу уезжали.
— Уходи, — нашептывал город.
Человек переехал к вокзалу, чтобы слушать поезда, но слышал лишь лязг и скрип.
Люди возвращались, говорили про солнце и воздух, а человек слышал капли дождя и волжский ветер.
— А вот в Москве! — приказывал город.
Человек молчал.
А потом люди перестали уезжать.
Юлия Стафеева, Братск
Интересный город. Фантастический. Разговоров о нём много, все о нём знают. А на картах его нет. Можно мимо проехать и не понять. А можно — попасть случайно. Раз и всё. И за спиной — сухое вшух, вшух, вшух. Глуше и глуше. Пока напрочь не стихнет. И — добро пожаловать в самый населённый город. Самый толерантный город. Ему неважно, кто ты. Можешь даже человеком не быть. И будем там все.
Ангелина Лисицкая, Волгоград
— Тага-дыг-ды-га, — очередная машина громыхнула металлом обнажённых деформационных швов моста и скрылась в облаке «парящей» Волги. За лобовым стеклом поднимался столб водяного дыма.
— Х-х-х-х-х, — сопротивлялась морозу река.
— Шф-ф-ф-ф, — диссонировала система климат-контроля.
Слева. На сотню километров вдоль берега мерцал розовый город. Полчаса, — стоит только солнцу оторваться от горизонта, — и он вернётся к своей серости. А пока…
— Тага-дыг-ды-га!
Город-леденец стал на несколько метров ближе.
Анна Чудинова, Челябинск
Метёт, свистит, я выхожу из дома.
— Кар-бзинь, кар-бзинь, — дворник скребком счищает замерзшие льдинки.
— Ууу-ух! — откуда-то сверху упало облако.
Прямо передо мной.
Везунчик.
Декабрьская синева рассыпается по окнам и запорошенным шапкам.
Снег валит.
Ничего не видно.
Только акварельные силуэты и деловитый хруст. Хруст. Хруст. Хруст.
Все бегут домой, прячась в воротники. Ненадежные заборы!
А дома чай, запах чего-то печеного
и Ах! Звон вилки-ложки-ножа.
Кто-то придёт.
Не важно.
Пускай.
Дома свои.
Все тише и тише.
Лишь изредка где-то вдали электричка:
— А-ту, а-ту!
Только бы хватило сил дождаться ту!
Пока следующий метеорит не прилетииииит.
Оксана Сидоренко, Североморск
Шии, шии — накатывали волны на каменистый берег с шепотом, шорохом, как будто просили о чем-то.
Чайки подхватывали песню волны и протяжно, настойчиво взывали: хээий-хээй-хе-хехехехе. От этого приветствия душа натягивалась в струну, но не лопалась. А вибрировала мурашками по телу. Теплый солнечный ветер целовал уши и пел: вшшввв-вшвв.
Ровно в полдень стрельнула пушка — Тщщщ! Тук-тук-тук, — застучали каблуки почетного караула. Тук, тук, тук, тук, ту… пульсом отозвалось в голове.
Аня решила жить.
Руслан Гайбадуллин, Уфа
Городишко N представлял собой нескончаемый сон. Вечно заспанный, окутанный серым одеялом, сквозь которое пробивался свет.
Шшш… прошумел ветер, жжж… пролетели автомобили. Грустное веселье проникло в провинциальные строения, жёлтые стены и красные кирпичи-чи-чи-чи-чи…так дворник подметает старый дворик. Кряк-кряк, звенит консервная банка, свалившаяся с урны.
Но в хорошую погоду городишко снова станет городом. И со звуками ток-ток и жип-жип он зашагает под светящимся от счастья лазурным небом!
Надежда Фещенко, Звенигород
Пуповина
Захожу в метро на седьмом месяце: сначала пузо, потом я. Двойня. Но надо на работу. И по всему телу сорок минут: ты-дыщ, ты-дыщ, ты-дыщ, ты-дыщ. Задыхаюсь.
Обратно на троллейбусе. Дольше, но зато, как королева, восседаю в полупустом салоне в пробке перед Садовым.
Пешком по парку вдоль дороги. За двести метров доносится: вжжих! — бии-ип! — дыр-др-др. А здесь ти-ши-нааа…
Вот я и дома.
Соседка по коммуналке вышла из туалета, зыркнула.
Пуповина города держит не меня — мужа. Страшно перерезать.
Даша Колган, Москва
Айда-айда
Серая и безликая дорога выкатилась, как язык во рту домов.
Уф-уф
Скажут местные обо всем в амплитуде от «эх до бля».
Вам хана — вот Дарыухана
Как наклейки в альбоме прилепили вывески на ветхих домах. Строго на двух языка — русском и странном.
Алга-алга
Кричат зеленые щиты с Салаватом, который здесь на каждом шагу. Проспект, клуб, парк, памятник. Большой конь с яйцами. Русские скажут — бандит. Но здесь так говорить нельзя. Побьют.
В Уфу — в Уфу
Если часто повторять, кажется, что ухает сова.
Лена Левчук, Санкт-Петербург
Рыжая Марго кричала, брыкалась. Обо-рвалось.
Хоровод дворами-ворами. В Череповце-овце братва жрала-брала до утра-тра-тра-трах! Страх!
На повороте пружиной вырвалась. Твари! Руками в грязь (белая бязь!), рвало страшно.
На окраине бросили дрянь. Инь-янь. Поцарапанные Мартинсы.
Перевернулась у гаража. Сигарету бы. Рядом, крадучись-учись, пробежала крыса. Краса!
Покрывало мрачное над Череповцом-отцом протыкали огромные трубы. Подростком росла сиротой среди тараканов — воронка прошлого. В утробе-робе зарождалось-рвалось. «Вылвусь из этого млака!»
В реальность вернула рычащая рядом свора. Свора сирот.
Ксения Кузовкова, Санкт-Петербург
Шум морских волн прокатывается под шинами машин на главной улице. «Вшшш-вшшш,» — уносит он вдаль маленьких человечков в железных «лодках». В суете, стучащей и грохочущей дррррелью в руках рабочего, гаркает карниз — это кошка приминает железяку мягкой уверенной лапой. «Крх,» — бьет отчетливее по ушам, и кончик хвоста скрывается за открытой форточкой. Первое прикосновение к воздуху — «шшшых» — перьев взмывшего в небо ворона теряется в промокшем городе.
Наталья Лавринович, Санкт-Петербург
Маленькая деревня на стыке Тосканы и Лигурии, Корвара живет, подчиняясь звуку церковного колокола. Шесть длинных ударов — и Мария снимает с бедра ногу мужа. Восемь длинных и один короткий, 8.30: блюбас с надписью Levanto отъезжает от главной площади. Церковь, отель Марии и Франко, два десятка домишек, развалины замка — вот и вся деревушка. Снова шесть ударов: смеркается, пора топить печь для пиццы. Вот-вот вернутся эти странные русские, англичане откупорят просекко — в этом году в Корваре много туристов.
Юлия Пискунова, Новосибирск
— Выступает налодная алтистка эсэсэсэла аллапугачёва!— объявляла она себя. Бидон, выданный мамой, закрывал лицо, но усиливал звук.
Звук важнее красоты,— так она решила.
— Пугачёва, у тебя ногти отклеились,— бабки подбородком указывали на землю, на лепестки иван-чая.
Девочка не могла представить, что наступят дни, когда не будет ни детства, ни СССР, ни мамы. Когда перестанет звучать человеческими голосами её родина, поселение золотодобытчиков, затерянное в тайге Колымы.
Останется только музыка.
Саша Шиган, Санкт-Петербург
Весело!
У праздничных улиц глаза навыкате.
Балконные брови вздыблены.
Кто-то — в глаженых шортах — Вы… Вы… Вы…
Не выкайте! Ешьте блины!
Дом раскачался и плюнул мною в живые проспекты.
Кто-то мордою — в урну. Я обхожу с респектом.
А к небу цветастыми янями шары похотливо тянутся.
И облако белыми дланями зовёт — сюда, сюда! Пьяницей веселье из окон свесилось. Кричу, задрав голову, — весело! весело!
Шар подхватил меня, хрупкую, вместе плывём в беспечное.
Я расцвету незабудкою, высосав вымя у млечности.
Дарья Зиненко, Москва
Над рекой застыл мост, треснувший посередине. Он хрустнул, как хрустит лед у берега незамерзающей реки. Как раздавленная зубами карамелька: хрум-хрум-хрум. Морозный туман прячет его изъян. Всего пара прыжков и ты на острове Татышев. Обернешься, взглянешь на небо, а там медной монетой плавится солнце. Трещит по проводам. И от поднятых рук снова хрум-хрум-хрум. И хрустит, и трещит, и замороженный пуховик, и мост, и сам Красноярск.
Надежда Алексеева, Москва
В отпуске не умирают. Ушла. Я свалился на гальку под Ялтой: руки на три и на девять, на пузе холодное пиво. Псы-кто-шшш — злится горькая пена. Солнце ужалило нос и макушку, придвинул себя под зонтик. «Вы что жжж? Вас здесь не лежало!» Это моя соседка: масштабный купальник горохом, панамка, читает газету под фиолетовым небом. Мцы-пло-шшш — давит крем от загара на рыхлые плечи. Размазывать некому, хотя к морю не протолкнуться. «Один проживешшшь?» — волна унесла вьетнамки. Розовые, из-под газеты.
Александра Степанова, Москва
Ветер, ух, ветер! Река рядом. Борские в очереди — нужно успеть, успеть, успеть с Бора на работу, с Бора на работу ту же, что вчера, сегодня и завтра, туда вот. Кабинка в разгон — о-о-оф! — никто не боится, а если и боится, то не признаётся. Перед работой река — хорошо, вид, серь, хмарь, в нигде мы, нет нас, пятнадцать минут молчим, дышим, мимо другая вдруг — и-ис! — с работы на Бор, с работы на свободу, набор борских с дневным запасом реки в маршрутку по расписанию, давай, ага, давай.
Вероника Пономарева, Санкт-Петербург
По дороге в Пушгоры у Тани в голове кружились волшебные картинки пушистых, похожих на облака гор. Никакой связи с Пушкиным не было, хотя Таня знала, кто это такой, и, когда у них бывали гости, она залезала на стул и декламировала про Дуб Зелёный, смешно морща нос — «Там юсский дух, там юсью пахнет». Ей представлялось, что этот запах сродни тому, как пахнет мусорное ведро, которое «Кто будет выносить, Пушкин?» — ругалась мама.
Пушш,— вздохнул Львовский автобус и присел, открывая двери. — Пушш.
Владимир Соловьяненко, Мытищи
Ветрено. Хожу по незнакомому городу. Вокруг пятиэтажные старые дома и тьма. Снега нет, но ветер жжет холодом каждую кость моего тела. На мне легкая осенняя куртка и кроссовки. Почему я так легко одет? Почему нет снега, когда так холодно? Был бы снег, можно было в него завернуться и немного поспать. Сейчас глухая ночь. Прохожих нет, все дороги пустые, машин тоже нет. Не у кого спросить куда мне идти. Я захожу в первый попавшийся дом, хлопок скрипучей двери эхом бьет по пустому подъезду.
Ольга Бёршель, Санкт-Петербург
— И-и-и, раз, два, три, четыре! Энергичней, два, три четыре! Тверже шаг!
А по карнизу — кап-кап-кап, шлеп, кап. Разнобой.
— Стоп! Молодцы, отдыхаем. Второй состав, на позицию.
Кап-кап-кап, шлеп.
— Кулькова, вам особое приглашение нужно? Приготовились!
Трамвай дребезжит, сбивает с ритма.
— Кулькова!
Шаг, батман, хлюп в мокром носке, три, четыре.
— Ещё раз! И-и-и…
На паркете солнечный зайчик.
Шаг, хлюп, поворот.
На нем и поскальзывается. БАМ.
А трамвай дребезжит. Не в такт.
Анастасия Маслова, Денпасар
На Бали День Тишины. Нельзя выходить из дома, шуметь, включать свет.
— Токэээ, — орут ящерицы.
Остров дышит полной грудью.
— Шшш, — шуршит, шипит, шкварчит океан.
— Уффф, — волны перекатывают камни. Как ребёнок конфеты во рту. Океан жадно слизывает их с берега языком-волной. Чвяк.
— Фушш, — выбрасывает на берег пучок водорослей-жвачек.
Птицы носятся над пенной шкварчащей поверхностью океана .
— Курлы, — звенит Остров. Тишиной морской волны и пения птиц. Прислушайтесь.
Арья Рэй, Санкт-Петербург
Звуки Питера похожи на Неву.
Вода в городе свинцовая, серьезная, идешь сквозь нее как под пули.
Взыу-взыу — это центр. Только уворачивайся от теней прошлого.
Чавк-чавк под бетонным мостом по деревянной дорожке — это Купчино.
Фыр-фыр, говорит Автово, у меня и трактор, и цирк, и чих-фыр-хали мы на всех.
Хррха, кричит Петроградка осипшим голосом, хррха.
Саул, Саул, зовет кого-то ветер на Мужества. «Вы не видели Саула?»
И только на Гражданке тишина. Все снуют куда-то, а никого нет. Пусто.
Татьяна Маресева, Нижний Новгород
Теперь Нюта встречала утро. Раньше оно её:
— Миииилая…
— Встаю… щасщас… щас
Штошто-школа-штоколы… Здравствуйте, дети!
Два века в школе — не кот наплакал. Коты и не плачут. Вроде.
Освобождены, Анна Сергевна?
Первая осень осени.
До треска в голове выспи за всёвсёвсё, за всехвсехвсех.
Переулок Холодный. Утро утра. Ты. Город. Между.
Норди-палки бьют бит с брусчаткой. Ча-ща. Ча-ща. Ча-ща.
Поворот на Студёную. Чу-щу.
Нютино время позвоночное.
Боты тёплые. Кожано-белорусские. Жы-шы. Жы-шы. Жы-шы.
Перевод времени, Нюта. Тик-ток.
Любовь Мартынова, Саратов
Ба-бах! Ба-Бах! — сердце пытается пробить грудную клетку и вырваться. Ноги ускоряются, лишь на мгновения касаясь асфальтовой простыни, любовно расстеленной узбеками. Руки придерживают рюкзак, шлепающий при беге — Бряк,бряк. Зеркальце, ключи и помада внутри бьются в сражении. Дзыыынь! Грохочущий трамвай заставляет трястись от ужаса витрины магазинов. Краем глаза ловлю в них свое отражение. Ему понравится. Особенно кеды. Заглушаю окружающее треком Земфиры. Я разгадала знак бесконечность.
Ольга Найданова, Франкфурт-на-Майне
Хочешь? Ходить по дворам, по крышам Питера? Запомнишь город так, как ты ещё не видела. Хочешь — душу в кулак вложишь мне? Бродить, пить, гулять, смеяться над прохожими, думать, что похожи мы. Фонтанка, цирк и замок ночью брошенный — они встают громадами из прошлого. Игра? Давай! Зачем? Посмотри мы. Куда ведёт, окольными-то тропами. Дворцовая, Невский, свернуть в арку и вдруг наверх, парадная и комната… Зачем же портить всё?
Милена Курнеева, Москва
— АА-а-а-А-АМм… — перекликаются муэдзины. Тон скачет, то вверх, то вниз, обрывается, падает.
— Ар-ар, — на лету подхватывает ворон молитву. Тяжела ноша — роняет под ноги выходящим из отеля туристам. А те, «те-ре-те-те», — выплывают на руках вечного Вивальди, из распахнутых дверей отелей, музеев.
— Уууууу, — гудят им корабли.
— Боспорос-Боспорос, — перекрикивают зазывалы на пристани.
— Шш-шш, — вторят кашштаны на раскалённом железе.
— Хшш-хш-хшшш, — о своём шепчет пролив.
Музыкальный портрет Стамбула.
Ольга Кацупко, Санкт-Петербург
«Тра-та-та! Тра-та-та! Вышла Кошка за Кота», — бормочет Зоя. Обь тёмными волнами бормочет в такт. Зоя разворачивается к реке спиной в шелестящей куртке и смотрит на город.
Город не смотрит в ответ. Он уже спит. Впрочем, он спит всегда, просто ночью — тише. Тише посапывает дальними гудками поездов. Ворочается во сне, взвизгивает последними трамваями — «трень-трень». Утром будет то же сонное «трень», только почаще. Больше машин, скрипящих тормозами перед светофорами. «Гуууу», — загудит сонная толпа в едином порыве.
Зоя отворачивается, достаёт телефон в стареньком чехле, открывает приложение и оплачивает билет «Барнаул-Москва». Потом набирает смс: «Костя, прости. Я не выйду за тебя».
Александр Петровский, Санкт-Петербург
Океан зализывал берег. Рыбы спали на дне. Под ногами золотой, под смуглыми — песок. Скрипел, сопел, сипел.
Стелился по улицам, забивался в глаза, сластил без спросу зубы. Ссссшшш… Ссссшшш… Ссссшшш…
В сигарах — он, на подкладках шляп — он, в пальцах тресеро — он. Варадеро, далёкий Варадеро… Сон?
Полдень, где-то в тени, двое:
— На пляж пойдёшь?
— Если дойду.
— Ром пьёшь?
— А? Ну давай.
— Полный стакан?
— Si̇́, наливай.
— На, держи.
— Я лежу, поднеси.
— Ты спишь что ли?
— Сплю. Si̇́.
— А. Ну спи.
Океан зализывал берег.
Лена Ханова, Уфа
«Уф алла… Уф алла, балакаЕм», — сказал дед, прижав к себе младенца. Малыш сахарный, малыш маслянный.
Весь в складочках, черточках, диатезе.
Малыш возится.
Тянет за бороду.
Тянет за шторину.
Растирает ладошкой стекло.
А там.
В городе.
Дымные коробы.
Дымные проруби.
Дымные люди в загрызанных молью пальто.
Люди плетутся в обход мякиши снега.
Шлёп.
Поперек трамвайных путей.
Звон.
У дымного города нет человека, до которого им быстрей.
Бегом.
Яна Титоренко, Санкт-Петербург
На плавучем доке написано «Тихий ход». Сбавь скорость, ходи тихо. Шепотом, шорохом, шу-шу-шумом машин. Фью, фью, фью — чайки, ветер и отчаяние, всё звучит одинаково. Нева дрожит, мурашки по воде. «Когда они прыгают в реку, почему потом умирают?». По клавишам — фью. «У Невы слишком сильное течение». Поэтому ход тихий, не падай. Не вытащат. Ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель. Осторожно. Скоро застынет, иди прямо по льду. Неву нельзя обойти, то есть она необходима. Кому?
Алёна Ерина, Новосибирск
Тртртрх «Мы открылись!»
Зубы обгоняют друг друга, спешат, весело подпрыгивают и застревают в брусчатке. Рекламный щит сменяет очередную картинку.
Тртртрх «Монтессори для малышей!»
Мужики скучно стучат чьей-то головой в витрину магазина «Надин». В магазине продают шубы и дезоморфин, здесь он зовется «крокодилом”. Не в честь детского стишка, хотя покупают его почти дети.
Тртртрх «Добавь красок!»
Голова тоже работал в магазине «Надин», а теперь роняет черные капли на тротуар.
Тртртрх «Горящие туры в новую жизнь!»
Мужики смешно поскальзываются на черном, гогочут. Голова уже не двигается.
Анна Поспелова, Красноперекопск
Я с закрытыми глазами узнаю его.
«Краак». Так звучат грачи. Но не здесь. Кто-то открыл ворота. Он живёт в частном доме прямо на набережной. Из его окна видны высотки, они ближе к морю. Им нужнее.
«Цок-цоки-хры, цок-цок-цок» стихами чужих каблуков со мной говорит старая мощёная дорога, всё больше оголяя плечо-обочину. Новый асфальт ей не к лицу.
«Мрняур». Уличных котов здесь столько, что у ребёнка за одну прогулку заканчиваются пальцы ног для счёта. Приходится свои подставлять.
Балаклава, я скучаю.
Екатерина Петровская, Москва
В ноябре ветер гонял по набережной Геленджика обертки из-под мороженого и отчаянно по-кошачьи орали чайки. Ворота детского лагеря вторили им «Гелен-вжик-вжик». Те же фигуры салютующих пионеров с облупленными носами по бокам, как и тридцать лет назад, та же надпись «Сигналовцы-молодцы». Только не слышно звонких детских голосов… пусто. На набережной, не допев заунывную песню про мамонтенка, застыли приторно-розовые карусели. Море грохотало: «Глух-хо-хо». Ночью этот грохот еще долго наплывами отдавался в голове «Глух-хо, глу-ха-ха, разру-ха-ха».
Светлана Леднева, Москва
Пум-пэ 1
Он спал в долине пяти поселений. «Пум-пэ, пум-пэ», — тихо сопел во сне. Вместо
колыбельной слушал, как пересыпают соль браччанте с седой кожей: «С-с-луш-ш-ш… Ах!».
Соль в глаза — лопнула корзина, не заплатит за неё бригадир!
Слуш-ш-ш, как скрипит повозка рыбака у Порта Марина: «Крр-и-и-чал!»
Кто кричал? Пока всё спокойно у северных ворот. Но шумит больное сердце
Везувия. Грр-охх. Настанет день, и оно грр-ох-х-нет безумно. Везувно!
А пока спи и сопи — «пум-пэ, пум-пэ» — нерождённый Помпей.
- Пум-пэ — название города Помпеи происходит от слова pumpe — «пять»[↑]

Словно и не было
Утром встали рано. Минька с мамой собирались в город. Бабушка поставила самовар, деревянной мутовкой взбила сливки, добавила земляничное варенье. Сонный, сидел на лавке, лениво жевал хлеб, обмакивая в сладкое воздушное облако. Разглядывал чашку с буратинкой, жмурил глаза от солнца, считал цветочные квадратики на вытертой скатерти.
Мама сидела перед большой сумкой, широко расставив босые ноги, подобрав края крепдешинового платья. На полу лежали заботливо упакованные продукты, свертки с одеждой, все это надо было уместить в черное нутро сумки. Минька понял, что время у него еще есть.
Тихонько выскользнул из дома, перешел дорогу и спустился вниз. Ветер нежно гладил поверхность озера, отчего оно покрылось смущенной рябью. Минька услышал, как растет трава, как беззвучно скользят водомерки, звук невесомых стрекозиных крыльев. Лег на траву, веселые травы нежно склонились и поцеловали лицо. Посмотрел наверх, увидел небо с облаками, угадал бесконечность свою и радость грядущую.
— С богом! — Бабушка вытерла руки о передник, руками взяла за лицо, сухими сморщенными губами легко коснулась его лба. Обняла маму. Миньке стало неуютно.
Уже на выходе, у калитки, оглянулся. Бабушка стояла на крыльце, собранными в щепоть пальцами водила в воздухе, вырисовывая крест.
Чтобы дойти до остановки, надо было выйти из деревни на трассу. День начинался, но солнце уже припекало. Мама вспотела, проводила ладонью о платье, все чаще перекладывала сумку из руки в руку. Шли мимо тревожной осинки с дрожащими листьями, мимо поляны, где стоял сломанный комбайн и на земле все еще ледяными осколками лежали куски разбившегося лобового стекла.
Белая остановка сияла, словно кусок рафинадного сахара. Издалека увидели, что людей много. Подошли, поздоровались. Женщины на лавке потеснились, впустив маму в прохладную тень. Миньке было скучно слушать никчемные взрослые разговоры, обошел остановку сзади, стена была исписана разными надписями. Можно было узнать, кто здесь был и когда, а также кто, кого и как, все это сопровождалось неуклюжими, но выразительными рисунками.
Наконец вдали показалась алая буханка автобуса. Толпа загудела, подобралась, скучилась, метнулась туда-сюда, пытаясь угадать, где остановится автобус. Двери распахнулись. Минька оказался зажат людьми, запаниковал на секунду, его внесло в салон. «Мама!» — крикнул отчаянно. «Я здесь, сыночка, здесь!» — Мама отозвалась откуда-то снизу. Стоял, вынужденно прижавшись к чьему-то обтянутому животу, чужие запахи пугали. Смог поймать кусочек мерцающего окошка, за которым веселым мячиком прыгало небо, залитое солнцем.
Доехали до райцентра. Выгрузились на площади у автовокзала. Автобус в город отходил через два часа. Билетов уже не было. Мама, держа его за руку, беспомощно тыкалась в кассы, сделали бессмысленный круг по центру, ослепшие от жары. Внезапно мама вспомнила, что здесь, рядом с автовокзалом, живет ее знакомая. Пошли к ней.
Хозяйка поставила на стол три чашки, пододвинула жестяную коробку, в которой лежали толстые пряники и рассыпчатое курабье. Взяла заварочный чайник и, придерживая крышку, начала разливать по чашкам. Минька завороженно следил за льющейся коричневой струей, услышал тугой звук воды и вдруг тот начал нарастать, стал громче, перекрыл собой все остальные.
Его словно выдернули из сна, он проснулся и услышал так много, как никогда раньше. Он вдруг совершенно ясно и отчетливо понял, что все, что происходит — это по-настоящему. Взаправду. На самом деле. Вот он, живой, настоящий Минька сейчас сидит за столом, рядом — настоящая мама, а эта женщина с чайником так жестоко сейчас перевернула его мир. Минька осторожно перевел взгляд в окно и увидел дома напротив, пыльную дорогу, покосившиеся заборы. Все было реальным, четким и осязаемым. И от этого — жутким. Его солнечный искрящийся мир калейдоскопа исчез. С этим звуком вошла другая жизнь, настоящая и страшная. Он как-то сразу обреченно понял все про себя и про других.
В предыдущей жизни можно было пересмотреть сон, скользить со стрекозками по озеру, глядеть на небо сквозь прожилки тонкого ириса, перемещаться в пространстве и во времени вместе с бабочками и птицами, а эта беспощадная реальность не давала ни выбора, ни свободы.
Заперла его в ловушку. Если жизнь — настоящая, то и смерть — взаправду. И так страшно и больно стало, что почувствовал необходимость какого-то движения, чтобы преодолеть, выйти за рамки этого нового знания.
Минька осторожно сполз со стула, не притронувшись к чаю, слегка качаясь, ощущая пятками теплые крашеные половицы, вышел из комнаты. Женщины продолжали беседовать, не заметив его ухода. Надел такие настоящие, ощутимые сандалики. Вышел на крыльцо. Под низким сараем увидел аккуратно сложенную поленницу дров. Пошагал туда, в темную прохладу, сел на чурбачок, почувствовал нежный смоляной запах, привалился спиной к дровам и беззвучно задрожал плечами, некрасиво сморщив лицо.
Когда Минька с мамой ушли, женщина убрала посуду, смахнула крошки, начисто вытерла стол. Словно и не было.

Спасти лето
В конце лета амбиции превращаются в бетонные тиски, которые сдавливают эго — последствия ошибки планирования, из-за которой человек хронически недооценивает время и силы. Люблю построить планы на три теплых месяца, но не умею правильно распределить ресурсы. Вот и получается: осень — потрясающая. Лето — потрясающее. В несколько переходных дней сижу с грустным лицом, опираясь на перекрещенные руки, смотрю на свой белый стол и ничего не думаю. В очередной раз планы не сработали, снова ничего не получилось, как можно любить такого неудачника, дома даже кофеварка сломалась.
И я сказал: Человек — это вместилище для страха смерти. Все остальные эмоции — блики на поверхности этого сосуда. Самый витальный из нас просто боится смерти сильнее остальных.
Ты сказала: Кажется, тебе пора отдохнуть.
Он сказал: Поехали в ДК, выпьем там водки, я тут как раз на днях права получил и в приложении каршеринга зарегистрировался. Могу даже забрать тебя с твоих Сокольников, чего вы там забыли вообще.
Водка — ритуальный напиток, поэтому пить его следует не чаще раза в год. Сначала ты думаешь, что ты нормальный, а потом 300-400 граммов выворачивают изнутри и окончательно понимаешь — точно, самый обычный, без примесей и искажений. Такой ритуал нельзя превращать в обыденность, иначе исчезает его магия. Если хочется напиться — хлещи вино или сидр, дрянь эту французскую пей, которая клопами воняет, любимый (пусть это и неправда) напиток Ремарка, но не водку. Она должна быть для особых, исключительных случаев.
Я сказал: Бывает, терпишь, терпишь, терпишь, а потом выходишь из комнаты и цепляешься краем толстовки за дверную ручку. Плям — это упала последняя капля, сосуд переполнен, из тебя разом выбило весь дух. У меня сегодня так сломалась кофеварка. Плям. И будто не в кофеварке что-то треснуло, а внутри меня. Тяжело оставаться позитивным, теперь ты обмякший мешок проблем, которые так долго копились. Плям, сука.
Он сказал: …и прикинь, он стоит на коленях, смотрит в камеру и говорит: «Работайте, братья». Работайте, братья! Знал же, что убьют, но не зассал, потому что настоящий мужик.
Ты написала: За последний час я трижды сходила в туалет. Непривычно, когда тебя пинают по мочевому пузырю.
Любой ритуал заканчивается, магия рассеивается, поэтому всегда важно вовремя сбежать.
Затем идешь пьяный к метро вдоль шумной трассы и пугаешься расслоения своего сознания. Знаете, когда ты уходишь из какой-то тусовки, а сознание еще минут пять там: моделирует ситуации, помогает тебе найти свое место и говорить правильные вещи.
Возможно, в эти пять минут расслоения я именно тот человек, которым хочу быть.
Хлопаю рубашкой на августовском ветру и фантазирую, насколько нужен другим.
Я подумал: Почему я так верю, что чужие мысли дополнят меня и сделают умнее?
Неужели всё из-за этого постоянного желания быть нужным другим? Завидую центениалам, они первое поколение в истории человечества, со времен обезьян, получившее достаточное количество любви. И внезапно выяснилось, что они немногим лучше обезьян. Любовь делает из человека животное.
Ты написала: Милый, я ложусь спать, мне тяжело много ходить. Приезжай, буду ждать тебя в кровати, твоя маленькая (сейчас не очень маленькая) Мя.
Он сказал: Шикарно потусили, давай еще потом на байдарках сплавимся? Мало ли, что плавать не умеешь, на байдарках важно грести и держать баланс, чтобы не перевернуться.
Да как можно не верить в существование баланса, что ж ты за человек-то такой?
Не люблю смотреть в окно ночного поезда — вместо окружающей реальности я вижу там свое лицо. Или, может, я просто не люблю свое лицо, непонятно. Но из-за себя я не вижу реальности. Разве это не должно смущать? Хорошо, что с Московского центрального кольца, которое зачем-то идет над землей, можно в любой момент сойти и спрятаться под землю, в уютную нору имени Лазаря Кагановича.
Ты спросила сонным голосом: Как ты думаешь, какая песня была первой на Земле?
Я ответил: Мне кажется, что это была колыбельная. Доисторическая мама пыталась успокоить своего доисторического малыша. Может, они даже не научились ходить по земле, но она уже наверняка хотела успокоить его и упорядочила хаос своими звуками.
Он написал: Ну ты зови, когда всё закончится. Или когда начнется, тут как тебе больше нравится.
Так закончилось бесплодное лето. Впереди была осень, окровавленная жена, шепчущая: «Почему он не кричит?». Затем крик, немного захлебывающийся, непохожий на киношные, и осознание — всё, теперь я папа. Понадобилось двадцать дней сентября, чтобы пустое лето обрело смысл. А я с тех пор принял свое лицо, осознал свою важность и люблю себя таким, какой есть, без примесей и искажений.

Ангел в корыте
Дочь рисует длинных изогнутых людей с зелёными лицами и синими телами. Про Шагала она и знать не знает, и слушать не хочет. Я воюю с роботом-пылесосом, он застревает на ковре, подворачивая край, хотя мы специально купили липкую подложку в Икее — убраться в комнате не может уже второй час.
С Сашей П. знакома даже я, видела его на днях в коридоре у рентген-кабинета.
Очередь застопорилась, Саша П. потоптался, прошёл вперёд, мимо, вернулся, потрогал ручку железной двери, потёр, не пытаясь открыть, задрал голову и долго в упор рассматривал светящееся табло «Е ВХОДИТ». Незнакомая женщина в белом халате — я мало с кем общаюсь — аккуратно отвела его дальше:
— Сшибёт, когда откроют.
И прислонила к противоположной стене:
— Позовут.
Он успокоился, он всегда успокаивался, когда кто-то, особенно в белых халатах, указывал ему, что делать, наверное, это вселяло надежду, а на меня давно не действует.
Я с Сашой П. вижусь по утрам. С большим чёрным пакетом — показывает мне:
— Большой!
Поднимает высоко, трясёт, улыбается:
— Трупы можно спрятать. — Он собирает мусор, обходит железные урны-бутоны, наклоняет их, вытряхивает в мешок содержимое, по-хозяйски роется, укладывает поудобнее, возит мешок на скрипучей тачке.
В понедельник утром консилиум сказал ему, он здоров и пора выписывать. Консилиумов приходило четверо — две женщины, два мужчины, поровну. Сашу П. попросили зайти в палату, выключили телевизор на посту, который он обычно смотрел, и уложили в кровать. Он вытянулся, руки по швам, одеяло натянул до подбородка, вспотел, но вытерпел. Хотя зря терпел — зачем выписывают? Обиделся.
Я не сразу замечаю — люди у дочери на рисунках то складывают, то расправляют крылья и никак не взлетят, по земле бегают, торопятся.
Поехать бы в Малаховку, устроить пикник, взять вина, вспоминать Шагала. Пылесос разрядился, пока преодолевал ковёр, вот зараза.
В очереди на Сашу П. старались не смотреть. Смотрели, конечно, даже откровенно разглядывали, но исподтишка. Он улыбался, а после улыбок все отворачивались, и очень быстро.
На голове у него вечная шапочка Гиппократа, аккуратный, чистый и белый чепец, немного перекошенный.
— Каждый день меняют, — хвастается.
Поправляет, повязка съезжает, он наклоняется ко мне:
— Подложили сегодня мало, не держится, — и щупает голову, и всем предлагает.
А как потрогаешь: там пульсирует мозг. Или то, что от него осталось.
Это не мешает Саше П. говорить, смеяться и смотреть телевизор. Одеваться помогают сёстры и кормят супом, чтобы не отмывать каждый раз его, кровать и стены, а с вилкой он хорошо и сам.
Живёт он в реанимации уже три месяца, карта распухла, завели второй том, потом третий, четвёртый. Четвёртый тонкий, вклеили пока что заключение консилиумов, рекомендации к выписке и направление на рентген.
Саша П. на рентгене бывал и раньше, порывался зайти, когда загоралась «Е», которая входит, но его вместе с «Е» не пускали. Дочь говорит, «Е» просто цисгендерная гетеросексуальная женщина. Когда она узнала все эти слова, от кого? Я пропустила.
Сегодня очередь шла долго, из грузового лифта санитарки уже вывозили тележки, накрытые слипшимися после стирки простынями — потрескивают, когда раздираешь. Из-под них топорщились бока пузатых кастрюль, стучали друг о друга стаканы и ложки, с нижней полки выглядывала загнутая металлическая ручка черпака.
— Идём обедать, Саша П., смотри, народу сколько, во вторую смену придёшь.
Шапочка Гиппократа покачалась из стороны в сторону в упрямом «нет», запах капусты проехал вслед за тележками и расселился по всему этажу. Саша П. потеребил ворот зелёной рубашки с коротким рукавом, разгладил тёмно-синие спортивные брюки, крепче приладился спиной к стене.
В регистратуре в приёмнике Лия Афанасьевна гавкает через защитное стекло по громкой связи, вновь прибывшие пугаются, ничего не разобрать, но Лия Афанасьевна родилась вместе с этим приёмным покоем и была здесь испокон веков. Сто шагов по курсу — больничный буфет, я прихожу сюда за рыбными тефтелями с пюре, не хочу тушёную капусту. Лия Афанасьевна выглядывает, у неё есть дверь, и кричит без своего рупора, интересуется, как поживает робот-пылесос и много ли я на него ругалась. Покупать такой же она и не собирается. Саша П. Лию Афанасьевну не боится, ходит к ней за новостями про чудного робота.
Привезли Сашу П. с улицы неподалёку, прохожие нашли без сознания. Сделали трепанацию, выжил, пришёл в себя, пристроить не смогли, в интернат без документов не брали. Оставили, привыкли, надарили одежды, он полюбил яркое, разноцветное. Консилиумы приходили, как положено, и уходили, ни один, кроме последнего, не выписывал.
Научился местному дворнику помогать, водил жёсткой метлой из стороны в сторону, ветки растопырятся, охранник на входе от шёрканья просыпался: «О, Саша П. метёт, вставать пора». За лето нападало всякого: серёжки, пух, семена, листья, пионы облетели, георгины отцвели, астры с гладиолусами закачались.
П. сократили от фамилии, Полозов.
— Полозов от полоза, а не от ползёт, — разъяснял.
И добавлял:
–– «П» –– пылесос, — и смеялся.
Заикался на каждом «П».
Дочь говорит, что «П» тёмно-синяя, а «Е» зелёная. Синестетик, что уж.
Никто Сашу П. не искал, не спрашивал, полицейские пальцы катали, но нигде Саша П. у них не числился. Он руки потом отказался мыть, на постелях «печати» серо-чёрным порошком ставил.
Главврач к нему ходил, чиновник из департамента приезжал, Саша П. его ранетками угостил, в больничном парке специально нарвал. Один бок буро-красный, блестит, переливается, листья с пушком на обороте, сухая кора шелушится под пальцами, сыплется.
И вот теперь консилиумы сказали выписываться. Саша П. раскусывает ранетки — в карманах нашлись, угощает, — яблочный дух взмывает к низкому потолку безоконного коридора.
В очереди одни каталки с лежачими, кресла на колёсиках.
— Тьфу, развоняли тут, и говном своим, и примочками, как в аптеке, не продохнуть! — Санитарки передвигают каталки, меняют местами, яблочного духа не чувствуют.
Саша П. всё стоит, как поставили.
Я вскрывала его в день его назначенной выписки. Размотала марлю, серую, несвежую, выгребла из-под неё сбившиеся комья ваты, которые заполняли провал. В переносицу острым зубцом вонзилась вершина двух соединённых половин, над глазницами широко распахнулись перистые полукружия, летящие ввысь и в стороны, на темя и виски. Края костей после трепанации, ограничивающие рисунок, проступали через кожу, кожа запала, провалилась между.
Во лбу у Саши П. зияли крылья. Перевёрнутые. Я сфотографировала себе в коллекцию — я врач, фотографирую всё, — и случайно отправила дочери. Удалить не успела, она была в сети.
— О, блин, это ж ангел, — написала в ответ. И много «пхпхпхпых» — изображает смех.
И прислала картинку своего, наконец взлетел.
На больничном заборе экран с рекламой. «Мы храним ваши разноцветные сны». Арт-пространство.
Едем в Малаховку с дочерью — у одноклассницы дача, отвезу в гости на пару дней. Читаю «Мою жизнь», запаслась вином. Электричка дёргается, я подношу фляжку ко рту. Захлёбываюсь на словах про корыто, в которое положили родившегося Шагала.
— Красиво, чё, — осматривает меня дочь.
По куртке извивается струйка, ищет проходы между швами, на футболке расплылось пятно.
— Фу-у, — морщится дочь.
Пино нуар, мокрая псина.
— Бухать интеллигентно — девиз по жизни, — и снова в наушники.
А робота-пылесоса я продала, в хорошие руки, без ковров. Табло над рентген-кабинетом починили. Слепит монотонным «НЕ ВХОДИТЬ». Ни синего, ни зелёного.

Год открытых дверей
Одному богу известно, почему крошечную деревню на берегу Днестра назвали Индией.
Зоя любит индийское кино, поэтому и я кое-что по телевизору видел, и знаю: не похожа наша деревня на Индию.
Танцуют у нас не молодые гуртом, а старые — поодиночке. Людей-то нет почти, летом от силы двадцать человек набирается. Поют тоже редко, только если отмечают что.
И джунглей нет. Одна улица с узкой грунтовой дорогой, пыльной и такой белой, что на ярком солнце смотреть трудно, слепит глаза. Старый колодец с навесом, Зоя его каждый год голубой и желтой краской подновляет. Вокруг деревни на километр — одни кукурузные и пшеничные поля, лишь вдалеке синеет дамба с густой посадкой из тополей. За дамбой — невидимый Днестр, откуда до нас долетают туманы, тучи комаров, запах тины и речной рыбы.
И дворцов у нас нет. Десяток домов всего. Хотя среди покосившихся саманных развалюх, частью заброшенных, есть один дом из котельца с высокой, богатой крышей из жести. Туда каждую пятницу на темно-серой машине с хитро прищуренными фарами приезжают единственные в Индии дачники, Пинчуки.
Место здесь хоть и не похоже на картинку из телевизора, но хорошее. Тихое. Мне ли не знать? Всю жизнь на одном месте, как построил Зоин отец, так и стою, крышей небо подпираю, прячу ласточек на чердаке, а мышей да жуков — в подполе. Круглый год рассматриваю тени, которыми старая черешня расшивает беленую стену летней кухни. В июле тени эти чернильные, жирные, а в декабре тонким серым кружевом мечутся по штукатурке, будто тревожатся. Зимой ветра дуют, дожди поливают, но нам с Зоей вдвоем хорошо — толстыми стенами грею ее, как могу. А летом благодать в Индии на небе и на земле. Жаль, люди не замечают того, о чем старые дома вроде меня ведают и о чем шепчутся безлунными ночами.
Иногда на выходные к Зое из города приезжает дочка Надя, а в теплое время — еще и внучка Лида навещает. И каждый раз происходит одна и та же история.
Сначала поцелуи да объятия, смех, обмен новостями, гостинцы, обильный по-деревенски обед. Зоя и Надя выпивают по стакану холодного, красно-черного из погреба вина, от которого мигом язык и губы становятся фиолетовыми.
А затем — ссорятся мои бабы, да так, что пыль столбом! Даже наглые воробьи с перепугу разлетаются из-под крыши, будто их разбрызгало по проводам и деревьям, а медлительные толстые мухи вовсе замирают на подоконнике, притаившись до лучших времен за ситцевыми занавесками.
Из-за чего поругаются мои родные домочадцы, того не угадаешь.
— Я отдохнуть приехала, а не горбатиться на твоей картошке да винограднике! — заявила, например, в прошлом сентябре Надя матери. С того и понеслось.
В тот раз Надя не сразу уехала.
В сентябре туманы с Днестра каждую ночь по полям крадутся, по садам и за домами прячутся. Как те туманы, еще два дня прятались по двору друг от друга мать с дочерью. И как ни тянулась с ним ласковая виноградная лоза с арки над крыльцом, как ни уговаривали их блестящие синие ягоды, истекающие от осиных уколов алым соком, как ни гладило упрямые макушки закатное солнце, а не смягчились родные души. Кровь от крови, что сказать…
Зимой прямо в Рождество поругались.
— Ты опять самогон завела? — Надя, выбравшись из погреба, поставила банку с солеными огурцами на стол, уперла руки в бока, поджала губы. – Мало тебе, что отца водка в гроб свела, так ты и другим решила помочь?
Зоя осерчала тогда сильно.
— А мне лишняя копейка — не лишняя! Если ты такая умная, чего ж своего Вовку-то не удержала? Чего на алименты не подала, хоть ради дочери?
Было это поздним вечером, маршрутка из соседнего села уж не ходила, не то Надя не стала бы утра ждать. Всю ночь обе то вздыхали, то носами хлюпали, лежа на продавленных кроватях в разных углах. Зимой у нас снега мало, зато ветра — злющие. Злости в них, пожалуй, больше, чем у девонек моих. К утру обеих проветрило. С красными глазами встали, молча собрали Надю в дорогу.
Зоя захворала. И так сильно болела, до февраля! Все, бывало, встает утром с постели в печь дров подкинуть, держится за живот да приговаривает: «Ох, помру, ох, помру».
Но в начале марта забренчали на окрестных полях трактора, пробилась зеленая щетина на солнечной стороне дворе, и Зоя поправилась, снова стала ждать дочь и внучку в гости. Еще до Пасхи, узнав в очередной приезд о материной болезни, Надя разошлась не на шутку.
— Да на кой тебе, мама, по полсотни уток и курей? Сама еле ходишь, последнюю пенсию на комбикорм тратишь! Тебя этот курятник доконает, о здоровье-то подумай!
— Ради вас же стараюсь! Небось, тушеночку домашнюю хотите зимой, а?! — злилась в ответ Зоя. — Или ты хочешь ребенка дрянью магазинной кормить?
Пока мои голубушки ругаются, я за малой смотрю. Лида, вон, она давно уже не ребенок, а без году выпускница, играет на дворе с котенком, то и дело посматривает через щербатый деревянный забор и кружева цветущей жердели на другую сторону улицы. У забора Пинчуков греется на солнце темно-серая машина. Лида уж приметила, что сегодня приехал и сын дачников, студент Лешка. И мне, и малой моей Лешка нравится: он поет и хохочет чаще всех на нашей улице.
Этим летом поругались только раз, когда Надя привозила Лиду на каникулы, в июне. Отчего — и не вспомню уже.
В такие дни маетную духоту и крепкий аромат разнотравья то и дело смывает шумными грозами, и дел у нас с Зоей — по самое горлышко. В огороде тонкими кустиками приживается рассада, цыплята-несмышленыши то и дело норовят выбраться из-под сетчатого садка, а домовитые ласточки вьют гнездо прямо над крыльцом. За день так намаешься, что ночью спишь, как дитя. Зоя любит лето за крепкий сон. Пока она спит, я отдыхаю, слушаю сплетни сверчков и улыбаюсь проделкам Лиды: девчонка навострилась так ловко выбираться из-под носа у строгой бабки, что ни одна половица, ни старая дверь, ни калитка не скрипнет. Вернется почти на рассвете, счастливая, расхристанная, с запахом мокрой земли и клевера в длинных спутанных волосах — и нырк под одеяло!
Ранним летним утром у нас мирно. Воробьи поднимают шум под стрехой, цокают по шиферной крыше, и солнце через сердечки абрикосовых листьев медовым светится. Ситцевые чистенькие занавески чуть дрожат от сквозняков, словно хихикают. Прохладное дыхание невидимого луга сочится в комнаты через рассохшиеся деревянные рамы, через печное поддувало, через приоткрытую входную дверь. Косяк-то давно ушел набок с толстой саманной стеной и летом никак не сходится с разбухшим дверным полотнищем. Старый амбарный замок висит безделицей на петле сбоку. Зоя на замок никогда не закрывает — не от кого.
В августе пришла пора Наде забирать Лиду домой, готовиться к последнему году в школе.
Думал я тогда, что поругаются крепко.
— Мама, тебе скоро семьдесят стукнет! Здесь ни магазина, ни больницы, ни остановки даже, ну, — взмолилась Надя. — Поедем, ради бога! Хотя бы на зиму.
А Зоя отказалась. И только Надя завела свою сердитую шарманку, как вмешалась Лида:
— Мама, бабушка! Вы только не ругайтесь, но… В общем… Нам с Лешей пожениться надо.
И зарделась до самых ушей, негодница, голову понурила, за живот руками держится.
Впервые за много лет онемели сразу обе мои кровинушки.
На минуту.
А затем понеслось пуще прежнего: рыдания, вопли, крики, ругань на всю Индию. Кто, кого и в чем винит — непонятно. То ли Зоя Надю, то ли Надя Зою, то ли обе — Лиду.
В разгар свары мимо двора, подняв облачко меловой пыли и подмигнув на прощание фарами, пронеслась темно-серая машина Пинчуков.
Зоя заметила дачников, осеклась, ладонью рот прикрыла и будто оплавилась вся, села на крыльцо. Слезы катятся по щекам, а глаза смеются. Руку убрала от лица и, смотрю, хохочет, захлебывается, будто пшеничная каша в горшке кипит.
— В город ехать, говоришь? — Зоя качает головой, глядя на дочь то ли с укором, то ли ласково. — Нет, Надюша. Я дома останусь. Семья растет. Нам еще козу заводить.

Девяностолетний человек
Длинный коммунальный коридор, скрипучий пол, темнота, запах общей кухни. Барабаню в самую последнюю дверь. С облегчением слышу долгие и медленные шорохи — открывает. «Школьница-разбойница, забыла бабушку, неделю уж не была!» Уговаривать ее сесть и дождаться, когда я принесу воды и растоплю печку, бесполезно. Подшитые кожей тапочки ритмично шаркают к холодильнику: «Медом липовым по домам торговали, я литру взяла». Достаю красные в белый горох чашки, успеваю выхватить желтый чайник с журавлями: «Ба, я поставлю, подожди». Возвращаюсь с удушливой кухни, где вечно что-то кипит и булькает на соседской плите, сажусь рядом. Моя старушка поправляет дрожащей ладонью седую прозрачную прядь, оглаживает аккуратный узелок платка под подбородком. Быстро прижимаюсь щекой к ее теплой щеке, обнимаю, зажмуриваюсь.
Бабушка всегда была маленькой и шустрой, но с годами замедлилась и как будто стала немного круглее, мягче. Выпрямляется, расправляет на коленях сбившийся в сторону фартук, постукивает пальцами по клеенке, покрывшей стол, прислушивается к чайнику — вот-вот он засвистит. «Сейчас, Ба!» — «Да постой ты, беда, заварник-то ополосни над ведром». Бабушка переливает обжигающий душистый кипяток в блюдце, подносит его к чуть поджатым губам. Своих зубов у нее уже нет, а нелюбимая вставная челюсть забыта в стаканчике у кровати. Она сосредоточенно дует в блюдечко с чаем и вдруг поднимает на меня глаза — голубые и веселые, девчачьи глаза моей девяностолетней бабули.
Она выросла в большой крестьянской семье — была средней из восьмерых, пятая с начала, третья с конца. У отца был бревенчатый дом, хозяйство с лошадьми и коровами, крепкая хватка и тяжелая рука. Гражданскую, раскулачивание и голод пережили трое младших детей — две сестры и брат Саша. Саша пришел с войны молчаливым и грустным, потом пропал еще на шесть лет в Дубравлаг, вернулся и тихо умер от одинокого безнадежного пьянства.
Бабушка была старшей сестрой Саше и маленькой Ане, потом — мамой Аниной дочке, моей маме. У нее были мужья, кажется, трое. Но теперь — кроме нас с мамой — остался только непутевый сын Колька да сельские родственники со стороны его папки, покойного, которые вечно чего-то требовали — то долю в мужнином наследстве, то на водку. «Растудыть твою в Хибины!» — так бабушка встречала Колькину потребность пропить ее нищенскую пенсию. Но каждый раз тянулась за тысячерублевкой в тайный пакетик в комоде, под стопками никогда не надетых халатиков и не расправленных покрывал, пересыпанных сухими апельсиновыми корками — от моли.
Забираюсь на шаткий табурет с ногами, наливаю себе вторую чашку и запихиваю за щеку кусок колотого сахара — у бабушки вкуснее всего пить чай вприкуску. И с душистыми из печки сухарями, которые мы размачиваем и причмокиваем, откусывая, — кто от удовольствия, а кто от беззубости. Я рассматриваю эбонитово-черный крестик-распятье, который стоит на тумбочке у кровати (череп, желтовато-костяной Христос, непропорционально устойчивая подставка в виде горки камней). Рядом — старинная Библия, словно из какой-нибудь монастырской библиотеки, но для сохранности завернутая в самодельную обложку из журнала «Здоровье».
Бабушка рассказывает, как вчера к ней приходил Колька. Улыбается, припоминает подробности: «Трезвый был, такой ладный, аж я удивилась, и кепка у него, и рубашка по-городскому, рукав такой с пуговицей». Как они вышли посидеть на лавочку во дворе, дошли до поленницы, как она показала ему свой сосновый гроб в сарае — подарок покойного Колькиного папки. (Бабушка его всем показывает, проявление мужниной заботы. Единственное, подозреваю я, но держу свои догадки при себе). Как потом пили чай с медом и смотрели, что за машины мимо проезжают и кто знакомый по дороге ходит. «Людка к колонке раз пять прошмыгнула, постирушку, что ли, затеяла, а из корыта потом прям на пол в комнате своей льет». И снова про Кольку: как сын его, Лешка, первый парень на деревне, посватался к соседке. «Вальку помнишь, вы с ней в прыгалки у нас тут маленькие играли? Она такая мордатенькая стала, но ничего, добрая девушка».
Я выпиваю третью чашку, приношу воду (два ведра), колю дрова на завтра и послезавтра. Целую в старческую любимую щеку, шучу на прощание что-то дурацкое про зубы в стакане. Коридор, скрипучие деревяшки пола, теплая сырость из открытой соседской комнаты — по крайней мере, Людкина постирушка не плод бабушкиного воображения.
***
Бабушке было девяносто, когда она стала видеть Кольку и разговаривать с ним каждую неделю, а иногда и через день. В девяносто один она умерла. Настоящий Колька освободился из тюрьмы под Тверью, где сидел за пьяную поножовщину с двумя трупами, только через два года. Но на похороны матери ему разрешили приехать.

Духота
Константин Павлович медленно прошел по деревянным мосткам, перекинутым через засохшую грязь, и остановился у двери одноэтажного голубого барака, смотревшего на улицу слепым фанерным окном. Такие же бараки — каждый со своим увечьем — обступили Константина Павловича со всех сторон. Позади осталась блестящая арка теплотрассы, на раскаленной вершине которой жалобно кричала черная ворона.
Из-за жары Константину Павловичу пришлось снять пиджак, и солнце обнажало беспомощность его тонкого, длинного, нескладного тела в намокшей белой рубашке и хороших летних брюках, которые были немного ему велики.
Он постоял несколько секунд, глядя в нижний угол двери, а потом твердо постучал, но звук утонул в рваном поролоне обивки. Однако второй раз стучать не пришлось — дверь распахнулась, и на пороге появился мужчина. Он был ниже Константина Павловича, но гораздо шире, мощнее, плотояднее него. От его тучного тела, помещенного в безразмерную темную рубашку и спортивные штаны, тяжело пахло потом и одеколоном. Светло-серые глаза, которые в прямых солнечных лучах казались совсем прозрачными, смотрели равнодушно, хотя выбритые щеки уже растягивались в улыбке.
— Ну, Косточка, здоро́во! — сказал хозяин крепким низким голосом, с силой притягивая и прижимая Константина Павловича к себе. — Вот и дал Бог свидеться, братишка!
— Здравствуй, Аркадий. Действительно, не виделись лет тридцать. — Константин Павлович сдержанно похлопал брата по спине и, вежливо освобождаясь из его объятий, улыбнулся, не разжимая губ.
— Пойдем в дом, чего стоишь? — Сильная рука, не давая Константину Павловичу выбора, потянула его в темноту и теплый смрад коридора.
Он ощутил знакомую смесь запахов прелой картошки, старых дощатых стен и белеющего в углу эмалированного ведра, которое заменяло обитателям барака уборную. До ведра было пять шагов, потом налево — и еще шаг. Толкнув дверь, он оказался на пороге самой первой и самой памятной комнаты в его жизни.
В лицо ему дохнуло жаром. Из высокого лакированного трюмо на него посмотрел щуплый мальчик в растянутой футболке. Мальчик огляделся по сторонам. Всё осталось почти таким же: и выцветшие клетчатые обои, и густо-коричневый фанерный пол, и разделенное на четыре секции окно без форточек, которое нельзя было открыть — только разбить. Вплотную к окну был придвинут небольшой стол, придавленный весом исполинской горячей кастрюли; пар валил из нее клубами и густо оседал на оконном стекле.
Слева от входа безжизненно повисла потрепанная занавеска, заменяющая дверь в кухню. Занавеску отодвинули, и было видно, как тесно прижались друг к другу холодильник, ванна, раковина и плита, которая еще не успела остыть: в сумерках тлела оранжевая конфорка.
Константин Павлович перевел взгляд в дальний угол комнаты — там было всё то же черное фортепиано, только раньше на нем стояла фотография серьезной молодой женщины с двумя белобрысыми мальчишками, а теперь — снимок слабого седого старика, с трудом сидящего на краю постели. В углу фотографии была прикреплена черная лента; рядом лежали две багровые пластмассовые гвоздики.
— Проходи, садись, в ногах правды нет. — На плечо Константина Павловича по-хозяйски опустилась мясистая рука, украшенная толстым золоченым перстнем. Константин Павлович вздрогнул и резко двинул плечом — немного резче, чем хотелось бы. Смутившись, он поспешно сел за стол. Аркаша поместился напротив и, молча подвинув в сторону гостя блюдца с лоснящейся колбасой и желтым сыром, обстоятельно зачерпнул из огромной кастрюли дымящегося борща и разлил по тарелкам, потом до краев наполнил рюмки водкой из резного стеклянного графина.
— Ну, помянем отца… Не чокаясь! — многозначительно объявил он.
Несколько рюмок выпили в тишине.
— А теперь ешь — ты с дороги, голодный, — приказал Аркаша.
Константин Павлович осторожно попробовал борщ и, обжигая язык, съел несколько ложек. Внутрь как будто бросили горящие угли: по спине поползли ручейки пота, лицо покрылось испариной.
— Помнишь, как в детстве я тебе варил? — спросил Аркаша, невозмутимо опустошая свою тарелку. — Ты так лопал… Аж за ушами трещало…
Константин Павлович улыбнулся.
— Было дело, — ответил он и, помедлив, добавил: — только жаль, редко.
Помолчали. Константин Павлович усмехнулся:
— А помнишь, как ты однажды вместо мяса купил сгущёнку? Целое море! Ох, и вкусно было тогда! Хотя есть всё-таки потом хотелось…
— Да брось, не было такого, — захохотал Аркаша, — не помню!.. Давай еще выпьем по случаю встречи! Сгущенки нет, закусываем борщом!
Выпили еще. Густой воздух наполнился запахами спирта и жирного мяса. Глаза Аркаши постепенно наливались хмелем, движения становились всё размашистей и нетверже. Опорожнив очередную рюмку и отирая салфеткой размокшее лицо, он вдруг гаркнул:
— Косточка, хорош молчать! Давай рассказывай, как сам-то? Большим начальником стал?
— Да, можно и так сказать, — ответил Константин Павлович. — Я уже много лет в администрации. Дослужился до замначальника департамента. Квартира, машина… Не жалуюсь. — Казалось, что слова теперь даются ему с трудом.
— Во-от, все правильно, — не обращая на это внимания, важно сказал Аркаша, — ты заместитель, а я — начальник. Все по старшинству, так и должно быть! Я у нас на заводе мастер производственного участка. В подчинении десять человек — это не шутки, Косточка. И машина тоже имеется — мы тут не колхозники какие-нибудь, понял?
Замолчали. Аркаша не уставал подливать водки себе и брату, то и дело приговаривая: «Ешь борщ, я зря, что ли, возился для тебя?!» Половник звенел о стенки кастрюли. Суп никак не остывал, но Константин Павлович покорно ел, облокотившись на стол и глубоко дыша. Каждый раз, когда он поднимал руку, серая клеенка влажно чавкала. Стол превратился в механизм, который гудел сосредоточенно и напряженно. Наконец, Константин Павлович отодвинул пустую тарелку, потер виски пальцами и тихо спросил:
— Ты один, не женился?
Рот Аркаши был набит колбасой, поэтому он только отрицательно помотал головой.
— А я женат, у меня двое детей, — продолжил Константин Павлович. — Вера и Костя.
Он полез во внутренний карман и достал из бумажника небольшую фотографию. Аркаша скрестил руки на груди и посмотрел издалека.
— Вера — так мать звали, это я одобряю. А сына в честь себя назвал? Других достойных кандидатов не нашлось? — Он иронично хмыкнул.
— Так жена захотела, — ответил Константин Павлович.
— Косточка, да ты — пионер, всем ребятам пример! Слушаешься жену, мо-ло-дец! — Аркаша хлопнул ладонью по столу. — У меня тоже с семьей полный порядок! С тех пор как моя кикимора свалила, я как в раю! Жил с батей.
— Он… не обижал тебя? — спросил Константин Павлович серьезно.
— Обижал? — Аркаша насмешливо поднял брови. — Ты как будто в детском саду… Нет, милый, не обижал — мы с ним жили душа в душу! Если бы ты приехал вовремя — знал бы! Царствие ему небесное!
Аркаша опрокинул в бездонный рот очередную рюмку.
— И у него тоже… Я хочу сказать, он так и не встретил другую женщину?
— Нет, Костян, любопытный ты мой, после смерти матери — никого. Так и прожил бобылем. Один я у него был! Воспитывал двух сыновей, двоих поднял на ноги, а как дохаживать, купать да кормить с ложечки — остался только я один! Всё вспоминал тебя, бывало, очень горько ему было!
Аркаша перестал есть и сердито засопел. Константин Павлович сидел молча, постукивая по клеенке пустой рюмкой.
— А мамину фотографию почему убрали? — спросил он.
— Я не знаю, — ответил Аркаша недовольно, как будто ждал другого вопроса. — Раздражала она что-то отца после твоего отъезда. Однажды прихожу — ее нет, говорит — разбил. Я и не стал допытываться. Сильно ты на мать был похож — наверно, поэтому…
Константин Павлович поднялся и сделал несколько шагов по комнате, оттягивая ворот рубашки, словно ему не хватало воздуха. Бросив быстрый взгляд на старика в траурной рамке, он сел на место и неожиданно спросил:
— Аркаша, а ты помнишь ее?
Аркаша понял и неохотно ответил:
— Смутно, но помню. В целом… Помню, как играла на пианине, книжки читала нам…
— «Маленького принца»!
— Вроде да… А ты сам-то помнишь?
— Конечно.
Аркаша отодвинулся от стола и, откинув голову, пристально наблюдал за братом пьяными глазами.
— А я вот чаще отца вспоминаю, — сказал он. — Оно и понятно, ведь я с ним прожил бок о бок почти пятьдесят лет. Пятьдесят! Как он в детстве с нами возился, как воспитывал, учил, вразумлял! А младший сын только школу закончил — и сразу свалил в свой университет, сбежал, и ни слуху ни духу…
Константин Павлович покраснел, на шее и руках у него выступили неровные розовые пятна.
— Вразумлял… — тихо повторил он, как будто не замечая последних слов. — Да, вразумлял он отменно. До сих пор мне снится, как я прячусь от него — вот за этим фортепиано, а он ищет меня, рыщет, как зверь, и я чувствую…
Дыхание перехватило, стало нечем дышать. Константин Павлович откашлялся и снова взглянул на брата: прозрачные Аркашины глаза смотрели с непониманием, выжидающе. Но Константин Павлович уже как будто решился на что-то и не мог остановиться. Он только вдохнул побольше воздуха.
— Аркаша, я не хочу про него, я про другое… Я потому и заговорил про маму. Есть один случай из детства, и он мне не дает покоя много лет. Я, собственно, потому и решил приехать… — Константин Павлович потер рукой мокрый лоб и продолжил уверенней и быстрее, словно давно выучил нужные фразы: — Словом, в детстве ты никогда меня не брал с собой, а тут взял — смотреть комету, помнишь? Ты говорил, что такую один раз в жизни можно увидеть. Тебе было десять, мне — семь, мамы не было уже год… И мы пошли — только вдвоем, ты больше никого не позвал. Мы ушли за город, забрались на какой-то пригорок. Вокруг было так тихо, только сверчки трещали, и иван-чаем пахло повсюду. И небо тогда было — глубокое, звездное, бесконечное, как еще один мир, раскинутый над нами. И я вспомнил «Маленького принца» и подумал, что там где-то — мама, и ты тоже об этом думал, я знаю. А потом пролетела комета — звездная птица с огненным хвостом — пролетела и исчезла, навсегда. И я заплакал, а ты меня обнял… А потом мы вернулись и ты всё рассказал ему — и про комету, и про маму, — и тогда… он так бил тебя, так бил… Как никогда раньше… Ты весь в крови лежал, губы вздулись, глаза закрыты, а он пинал тебя, ногами бил и не мог остановиться… А я спрятался в углу и плакал, плакал — я думал, что он убьет тебя, но я боялся даже пошевелиться… Аркаша! Я вот все думаю, всю жизнь… После этого ведь всё началось — ты ударил меня в первый раз. Я ведь должен был тогда заступиться за тебя, спасти тебя, и ты бы не озверел, ты бы остался прежним, скажи честно?!
Константин Павлович замолчал. Он больше не видел брата — тот сидел теперь очень далеко, в какой-то пелене. Но его голос прозвучал очень близко, наполнив собой дрожащую мутную пустоту.
— Не смей грешить на отца, — пьяно и хрипло отчеканил Аркаша. — Никогда не смей! Из всего, что ты здесь наплел, я помню одно: мы без спроса ушли из дома на полночи, а когда вернулись, отец наказал меня как старшего — он имел право! Он хотел мне мозги вправить, вернуть с небес на землю! Он нас порядку учил! — Аркаша неожиданно перешел на визг. — Он нас учил, что значит старших уважать! И я тебя учил! И не прибедняйся, — Аркаша помотал пожелтевшим пальцем перед лицом Константина Павловича, — не притворяйся тут мучеником! С тебя все пылинки сдували! На руках носили! А если и били когда-то, то не просто так, а когда ты врал, изворачивался, ты же крысой был той еще! А ты нашел теплое местечко, бабки зашибаешь, а о родных своих забыл! И то, что ты вышел в люди, в этом и моя заслуга, и папкина — ты это запомни! А ты за тридцать лет ни разу даже не приехал, не проведал нас, только обидки свои копил, Косточка, свинья ты неблагодарная!
Константин Павлович на мгновение застыл, часто моргая, а потом вскочил, опрокинув стул. На несколько секунд он как будто потерял способность говорить и только указывал дрожащим пальцем на глубокий белый шрам, разделяющий его верхнюю губу на две неравные части. Наконец он прошептал, задыхаясь:
— Не проведал, говоришь?! А ты знаешь почему?! Да потому что вы сволочи — сволочь ты и твой поганый отец! Да вы же били меня смертным боем все мое детство, из-за тебя этот шрам, узнаешь?! Какое счастье, что я сбежал от вас!.. Да я… Я приехал сюда только затем, чтобы убедиться, что он сдох и ты, ты, ты тоже сдохнешь, один! И не смей звать меня Косточкой! Никогда!..
Константин Павлович быстро вышел из дома, хлопнув дверью. Убежал вглубь трюмо хрупкий мальчик в растянутой отцовской футболке. Его плечи вздрагивали на бегу.
Аркаша хотел было подняться на ноги, но не удержался и упал на стул. Остатки борща из его тарелки расплескались по столу, на клеенке остались алые лужицы. Аркаша оправился и, потихоньку остывая, сплюнул прямо на пол, налил новую рюмку и с досадой произнес:
— Вырастили на свою голову. Ну, да Бог тебе судья!
И снова выпил залпом.

Её муж
Он преследовал меня всюду — свистел из щелей на потолке и подглядывал сквозь выжженную кнопку лифта. «Только не заслонить дыру!» — Всякий раз, вызывая лифт, я опасался укола в палец. Его рука пряталась в туалетной сушилке, он загадочно выл в кондиционере и вместе с голубями осаждал наш офисный подоконник. Ранняя пташка — такие добиваются карьерных высот — просыпается он в половине шестого, минута в минуту, бегает — летом в шортах, а зимой в биатлонных лосинах, — затем принимает ледяной душ. Должно быть, у него кожа без складок с филигранно завязанным пупом. Его рот насмешливо изгибался в узорах растворимого капучино.
Он — муж Веры Харовой. Этот мужчина жил со мной почти год — ровно столько мы с Верой проработали на одном региональном телеканале.
— Мой Лёша, если утром не съест сыра, потом ходит сам не свой, — говорила она.
А я с детства не люблю сыр. И молоко тоже. Лёша — моя противоположность. Иногда мне казалось, будто его не существует, он — свист в моей голове.
***
Утро. Над заводом c примыкающими многоэтажками шаром подтопленного мороженого плывёт облако. Балкон гримёрки открыт, тюль выгибается в лучах под ритмы грохота фургонов. Пылинки ездят по линолеуму, взлетая на трамплинах складок. Я прикован к креслу с петлёй на шее — сейчас Вера будет меня стричь. Устало свалив ногу на ногу, покорно слушаю отчёт о том, как Лёша провёл выходные. Её шарф морит запахом мужского дезодоранта.
— Это я у мужа шарф стащила.
От Лёшиного духа я зеваю. Вера где-то за мной — моя голова наклонена вниз, я не вижу её, только ловлю затылком выдохи. Она лязгает ножницами — небрежно, холодно, как патологоанатом.
— Фу, какая причёска. Не эфирная, — кидает Вера.
Я не сразу догадываюсь, что это в адрес телевизора, висящего на стене, там транслируют столичные новости.
По её бедру елозит кобура с косметикой, расчёсками и пучком ножниц — таких приборов я больше ни у кого из стилистов не замечал.
— Тю, да это обычный подсумок. Сразу видно, что ты не работал на кино.
О, кино.
Тогда, в начале нулевых, мечта о киноэкране, больших бюджетах, о съёмках с каскадёрами благоухала, дозревала, её очертания становились более ясными, но никто, кроме Веры, не смел заговорить о кино первым. Предвкушая разговор, её взгляд упоённо сновал по гримёрке, как самка комара в первых числах августа. Когда она произносила это слово, её уши заострялись, она — летучая мышь — впивалась зубами в шею собеседника. Но и тут присовокупляла Лёшу — ведь он-то как раз и работал в кинопроизводстве.
— В кино не принято говорить «последний», хотя это сугубо наша, киношная привычка. Это слова моего мужа, — и она гордо шатала моё отражение в своих очках.
Кино — её слабость. Храм, куда ходят только избранные — не я. Мне нельзя. Может, ей казалось, будто я ненавижу её за это, презираю — как в любом маленьком городе презирают любых мечтателей.
Вера выкраивала время на чтение и фильмы, регулярно демонстрируя изысканность словарного запаса. Она частила со словами ханжа, схоласт, подспудно, но чаще всего она употребляла слово сноб. Снобом у неё был каждый второй. Как-то раз после нервной командировки я грубо высказался о наших водителях — и она определила меня в снобы.
— Ты сноб. Нельзя так. Вот мой муж говорит, что каждый водитель — это кладезь драм, жизненных историй. Это готовые кинообразы!
Однажды — когда уже у всех были мобильники — я застал Веру за разговором с ним. Она стояла на лестнице между этажами, двигая сигаретой рваную консервную банку.
— Нет! Нет, Лёша, я не буду. Ты! Отведёшь Настю в садик. Сделаешь уроки с Витей. Точка.
Я успел увернуться от её взгляда.
***
Зимой я мёрз. В феврале мы снимали передачу, эфир которой планировали на весну — поэтому и одежду для меня подбирали не слишком зимнюю. Мне купили пальто, это был фасон «дойти от джипа до офиса и обратно». Пальто не грело, оно просто висело — разрешая моим плечам побыть его вешалкой. Язык и челюсть дрожали, и я невнятно говорил подводки. После двух дней меня протянуло.
— У моего мужа, например, когда он был на кинопроекте, зимой актёрам выдавали халаты, их накидывали на себя, чтоб было теплее, перед уличными сценами. Почему бы вам так не сделать? — напутствовала Вера по телефону.
— Ты издеваешься надо мной? — хрипел я.
— Нет. А что тут такого?
— Вот так, тупо на верхнюю одежду накидывали эти халаты и расхаживали в них? На глазах у прохожих?!
— Ну да. Какая разница, что люди думают? Зато тебе не холодно.
Я бредил. Коктейль из халата, кино и снега безжизненно пенился в моей горячей голове. Когда реактор перегрелся, ко мне в комнату вошёл её муж. Он был в красной куртке и белой маске, в руке тащил какой-то ящик.
«Убей меня! Ты ведь этого хотел…» — безразлично думал я.
— Дорогой, скорая приехала.
Мне поставили капельницу.
В бреду я ходил перед Дворцом Культуры — сухой снег звонко чихал под каблуком. На мне было пальто, шарф, пропитанный Вериным мужем, где-то сверху трепыхался зелёный халат. Огромным пятном плыл я, слепо задевая прохожих, — они оглядывались.
— Во даёт!
— Эй! Полегче!
Старики язвительно тыкали пальцами. Охранники ресторанов, моргая, щупали под животами газовые баллончики. Двое бездомных, задержав чекушки у щербатых ртов, долго всматривались в мой облик, точно пытаясь кого-то узнать, в конце концов один из них едко — так, чтоб я услышал, — выкрикнул:
— Нет, это какой-то доходяга! Её муж не такой!
***
Её муж победил меня.
В марте я уволился и поехал в Москву. Я не застал тот день, когда Верин голос произнёс новое слово: Сенегал — туда Лёша полетел снимать эпизод какого-то фильма. «Сенега-а-ал!» — этот свинцовый шар катался по коридорам телестудии всю весну, лето и осень, ненасытно давя всё живое на пути.
В канун Нового года Вера пошла к своей парикмахерше Карине — у стилистов они тоже есть. И там застала её с Лёшей. Нет, она не врывалась в квартиру, не выцарапывала глаза, не кричала. Она тихо стояла под дверью, из-за которой доносился шорох. Ещё секунда, две — она решила бы, что послышалось, что Карины нет дома, развернулась бы и ушла. Но кто-то затопал, крутанул замок, и в дверь высунулся влажный торс. Это был Лёша.
Хотя, наверное, даже не в этом смысл — ведь она точно простила бы Лёше измену.
Развода потребовал он сам.

За поворотом на углу
Она висела за поворотом на углу: маленькая, едва заметная кокетливая вывеска. Подтанцовывающие буквы, сложенные из аляповато-красного светодиодного провода, на фоне безликого прямоугольника, кое-как прикрученного к выступу каменного фасада. Днем она неловко рдела на фоне хронически серого питерского пейзажа, даже в ослепительно солнечные дни обдуваемая жгучими солеными ветрами. Вечерами, сбрасывая наигранную скромность, она призывно блестела в темноте, приглашая узнать, что таится внутри, за обитой дерматином унылого цвета, исцарапанной вкривь и вкось, грузной дверью.
В июне 2010-го дочь укатила вместе с хором в Форос, мы неожиданно остались с мужем вдвоем, а меня вдруг посетило настойчивое желание научиться танцевать танго.
Признаюсь честно: первым импульсом стал просмотренный тихим неспешным вечером, вдвоем с бутылкой белого вина, фильм «Уроки танго». Муж, как обычно, задерживался на работе. Летний день за окном незаметно проваливался в мутные сумерки белой ночи. Шелковистая влага в овале стекла таинственно поблескивала в такт размеренному мерцанию свечи. Сюжет фильма я бы назвала гимном телесно-ориентированной терапии, но музыка и танцы меня впечатлили. Женщины и мужчины лихо крутили захватывающие па под пронзительный бандонеон Пьяццоллы. Что-то в этом определенно было свежим, увлекательным и безумным одновременно, совсем как мой безбашенный прыжок с парашютом на давно потерянное восемнадцатилетие.
И тут я вспомнила о ней. Много раз проходя мимо, я не обращала внимания на нелепые буквы на углу соседнего дома. Вывеска гласила: «Школа аргентинского танго». На следующий день я с любопытством рассматривала игривую пару, застывшую в объятии, виртуозно скрученную из остатков светящегося провода под летящей буквой О. Дореволюционное крыльцо приглашало на несколько ступенек вниз. Тусклый скрип двери перебил нежно-раскатистый перезвон дверных колокольчиков, подвешенных под бесконечными сводами потолка. Единственным светлым пятном в кромешной темноте перспективы был светло-зеленый стол, скучающий у стены. За столом стояла девушка лет двадцати и доброжелательно улыбалась мне сквозь смешную оправу огромных очков. На белоснежной футболке красовался пушистый рыжий кот.
— Добрый день! Мы рады приветствовать вас в нашей школе танго. Хотите попробовать?
— Что?
— Ну, вы же танго пришли танцевать?
— Ах да, конечно.
— Вас какая группа интересует? У нас есть начинающая и продвинутая.
— Самая начинающая. Для полных чайников. — Я намекала на полную бесперспективность затеи.
Девушка улыбнулась еще шире.
— А партнер у вас есть? Если нет — ничего страшного, мы подберем.
— Нет, спасибо.
Выбирать не приходилось: пара у меня уже десять лет как имелась. Оставалось самое сложное — уговорить мужа.
— Вечно ты что-нибудь придумаешь… не сидится тебе спокойно. Знаешь, лучше иди на работу. — К моему творческому фрилансу муж никогда не относился серьезно.
— Ну ты же любишь танцевать, — не сдавалась я.
Это было стопроцентное попадание. Еще в самом начале совместной жизни мы несколько месяцев бодро захаживали в студию латиноамериканских танцев, и не без успеха. Даже сейчас, спустя много лет, могли зажечь, ловя удивленные вопросы: «Вы занимались, что ли?»
— Где это?
— Совсем близко, помнишь, на углу большого дома? Приезжай завтра к семи.
— Ладно, посмотрим…
На следующий день пришлось разориться на небюджетные танцевальные туфли. Ровно в семь часов вечера я ждала мужа на углу. Танцующие буквы сигналили мне красным. Муж, фырча, запихивал машину в единственную свободную «дырку». Вылезать ему пришлось полубоком.
— Черт, понаставили машин, а все жалуются, что плохо живут…
Скрипнула обшарпанная дверь, нежным фальцетом вздохнули колокольчики. Через пять минут мы стояли в прямоугольном зале, покрытом плотным глянцевым светом. После сумерек вестибюля он казался неправдоподобно огромным.
Все и всё вокруг двигалось в размере четыре четверти, мужские спины держались, как влитые, женские ноги взлетали, словно крылья. Бодрая блондинка со стянутым высоко на затылке упругим хвостом поставила нас в стойку. Ее крошечная лиловая юбочка без устали порхала вокруг по-балетному вывернутых ног. Мы с мужем оказались лицом друг к другу на расстоянии ладони.
— Локти вверх, плечи вниз, — пел ее звучный голос где-то в области моего затылка.
Не помню, когда последний раз мы держали столь странную дистанцию: слишком близкую для посторонних людей и непривычно далекую после бурного семейного десятилетия. Я рассматривала мужа с нового ракурса: крутая линия узкого подбородка, вырвавшийся из рабочего плена распахнутый ворот, прутики завитков, живущих на рельефной груди где-то под складками белой рубашки, темное пятно пота сбоку, терпкий смолистый запах парфюма. Господи, кто этот мужчина? Почему он держит меня за руку? Какое-то забытое мимолетно ощущение ускользнуло вглубь живота.
— Закройте глаза, — приказала блондинка.
Ну что ж, рискнем. Первое открытие не заставило себя долго ждать. Оказалось, я не могу быть ведомой. В принципе — да, но мне постоянно приходится себя одергивать. Нет, я не веду, просто чувствую себя на равных, а в танго это — противопоказано.
— Надо стать одним целым!
Быть целым не получалось. Каждый существовал сам по себе: в своем темпе, ритме и каком-то только своем танце.
— Ты не слушаешься, — шипел муж. — Не думай ни о чем! Закрой глаза и иди за мной!
Да ну?! Опыт совместной жизни научил меня, что именно такие походы заводят в провалы удивительной глубины. Впрочем, я по привычке очень старалась. Изредка я ощущала себя в состоянии невесомости, когда ноги двигались автономно, а тело парило в воздухе. Но это были редкие минуты. Остальное время мы боролись за место под солнцем: я — с трезвым юмором, муж — с набирающей обороты яростью.
— Ты опять все делаешь сама!
Второе открытие касалось уже мужа. Выяснилось, что мой раскрепощенный и обычно веселый муж совершенно не может расслабиться, и на все призывы снять напряжение реагирует еще большим зажимом. Как только вступает музыка, он собирается, сосредотачивается и начинает серьезно работать… А танго — это про жизнь, не про работу.
Рядом с нами крутится как на шарнирах блондинка, что-то шепчет мужу на ухо. Он мотает головой, пыхтит. Сейчас он выглядит как после часовой тренировки в спортивном зале: красный, потный, с горящими глазами. С танго у него явно не выходит, а все, что у него не получается — вызывает дикое раздражение.
Гардель еще рокочет «…если она меня забудет — не страшно и умереть…», когда девушка в очках, сегодня уже в желтом комбинезоне с широкими бретельками, за тем же странным зеленым столом дружелюбно интересуется:
— Ну как? Вам понравилось?
Муж медлит с ответом, подбирая слова.
— Да, спасибо, было здорово, — спешу поддержать я.
— Приходите, у нас сейчас скидки на абонементы.
— Мы подумаем. — Муж решительно открывает дверь.
— Знаешь, мне кажется это пустая трата времени!
Резкий хлопок дверью машины вторит эхом.
Домой я бреду одна. Муж уехал на парковку. Нежный вечер укутывает меня своим влажным теплым дыханием. На бульваре уже зажглись фонари. Знакомая вывеска на прощание заговорщически подмигивает мне. Навстречу спешит щебечущая стайка девчонок. Я улыбаюсь.
Еще полчаса назад мне казалось, что за пределами зала ничего не существует. Только музыка, разрывающая нервы — и я. Жизнь, отксеренная на паркете. Мне снова только восемнадцать, и я бегу на свое первое в жизни свидание с мужчиной, которого люблю больше жизни. Ноги сами несутся по мокрому весеннему асфальту, а внутри — горячо и щекотно от предвкушения взрослой жизни.
В общем, затею с танго мы оставили, категория зрителей не пострадала. Черные туфли с квадратными каблуками я похоронила в дальнем углу верхней полки своей гардеробной. Однако, в разговоре о семейной терапии теперь от души рекомендую сходить на уроки танго. Даже после десяти лет брака можно узнать о себе кое-что новое…

Йорфе
Йорфе либо ненавидели до обожания, либо любили до отвращения. Внимание публики Йорфе поглощал безразлично, как черная дыра пожирает галактики. Но все, кто хотя бы раз слышал его музыку, как наркоманы посвящали свои жизни поиску новой дозы Йорфе. Всё его тело было подчинено инструменту, словно музыкант не родился, а был собран кем-то специально как дополнение к скрипке.
Когда Йорфе было четыре года, его отправили учиться музыке. Учитель, похожий на гигантскую черную цаплю, внимательно следил за мальчиком и жестоко наказывал за каждую ошибку. Его жизнь была прикована к нотному стану. Отсутствие обычных детских забав и друзей сделало его равнодушным к чувствам других. Люди были для него назойливым роем мух, вечно кружащимся вокруг. Став старше, он осознал свою власть. Ради того, чтобы Йорфе сыграл для них, люди были готовы на всё — убивать, предавать, унижать. С интересом ученого, созерцающего мучительную смерть бабочки, Йорфе ставил эксперименты над всеми, кто оказывался в поле его зрения. Но со временем это наскучило ему. Он чувствовал свое исключительное превосходство и на этой вершине остро ощущал одиночество. Постоянно гастролируя по миру, он искал кого-нибудь равного, с кем он мог бы разделить свой трон.
Концерт в Палаццо Примавера был назначен на пятницу. Хрустальные гроздья люстр свешивались c потолка из рук нарисованных крылатых младенцев. Белоснежные мраморные девы с тяжелыми золотыми подсвечниками жались к стенам, уступая место публике. Когда смычок Йорфе опустился на струны, все открыли рты, словно птенцы, и жадно глотали каждый звук, чтобы утолить свой голод. Пока оркестр исполнял свою партию, Йорфе поднял глаза и замер — среди однообразной серой массы людей, прямо напротив него, в конце зала стоял мужчина в черном костюме. Его бледное лицо показалось Йорфе знакомым, он пытался разглядеть, но мужчина был слишком далеко, Йорфе сделал шаг вперед, ему показалось, что мужчина тоже двинулся к нему навстречу, Йорфе чуть наклонился в сторону, боясь потерять мужчину из виду и тут осознал, что оркестр молчит. Йорфе впервые в жизни пропустил своё вступление. Он быстро взял себя в руки и заиграл, а когда снова взглянул в конец зала, уже не смог найти того лица в толпе.
Гондольер помог Йорфе сесть в лодку, и они беззвучно заскользили по узким каналам к отелю, где остановился музыкант.
— Как прошел концерт, синьор?
— Я видел одного человека, а потом он исчез, словно его и не было.
— Такое часто бывает в Венеции. Много тайных ходов скрыты за зеркалами.
В своем номере Йорфе никак не мог уснуть, он думал о том мужчине, а память, опьяненная бессонницей, дорисовывала видéние, превращая его в прекрасный образ и влюбляя в себя музыканта. Он вскочил с кровати и чертил что-то, пока крики чаек не начали разгонять густую ночную тьму, душившую Венецию.
На Мурано Йорфе ходил из одной мастерской в другую, показывал листок с набросанной им схемой. Стеклодувы пожимали плечами и отправляли к другим. Наконец, на самой окраине, на полузаброшенном стекольном заводе Тартаро, он нашел мастера Меркурио. Старик долго вглядывался в рисунок и сказал Йорфе прийти через девять дней.
В назначенное время Йорфе вошел в стеклодувный цех. В центре, среди почерневших железных столов, бочек с водой, вагонеток с разноцветным битым стеклом, на деревянном помосте стоял его заказ, укрытый большим отрезом шелка, белизна которого ослепляла на фоне копоти. Когда Меркурио сдернул покрывало и оно шелестя улеглось к ногам мужчин, сердце Йорфе забилось чаще, ему показалось, что он стоит перед невестой в церкви. На постаменте возвышалось гигантское зеркало, оправленное в золотую раму, украшенную резным плющом. Дремлющая гладь проснулась, отразила в лицо Йорфе солнечный луч, выскочивший из-за набежавших облаков, и музыкант задохнулся, как от первого поцелуя. Зеркало было необычным, его приготовили, как делали сотни лет назад для королей. Ртутно-серебряную амальгаму удерживал толстый слой свинцового хрусталя. В нем не было пошлой крикливости современных зеркал, только равнодушное, отравляющее благородство. Йорфе подошел ближе и стал вглядываться внутрь, как будто пытался разглядеть под стеклом душу зеркала. Он никак не мог решиться, но потом всё-таки поднял руку и приложил кончики пальцев к поверхности. Ему показалось, что изнутри, из самых глубин, кто-то так же протянул руку и амальгама всколыхнулась от касания, вздохнула и через мгновение снова успокоилась, вернувшись к бесстрастному отражению.
Йорфе поставил зеркало в своей спальне. Зеркало внимательно изучало Йорфе и повторяло за ним. Складывало перемешанные тессеры его личности в мозаику образа и хладнокровно вырезало хрустальным ножом ненужные детали. Темные пряди волос змеились по лбу и шее. Морщины вокруг глаз уже начали складываться в карту дорог. Зеркало придвинулось ближе, чтобы разглядеть цвет глаз, но в приглушенном свете так и не разобрало границу зрачка. Силой разжало губы, всё шире и шире, вгляделось в ровные зубы, решая про себя, оставить Йорфе улыбку или оскал.
Мысли Йорфе были заняты только зеркалом. Он никак не мог уловить, кто именно был с той стороны. Это отражение было ему знакомо, но оно было другим. Мужчина в зеркале вызывал у него страх, ненависть, но притягивал к себе всё больше и больше. Йорфе играл для зеркала на скрипке, разговаривал с ним, делился секретами.
Однажды зеркало раздело Йорфе. От сквозняка, коснувшегося обнаженной фигуры, музыкант поёжился, и по амальгаме пробежали мурашки. Он обнял себя, но зеркало опустило его руки вниз и долго впитывало в себя формы Йорфе. Бледность его тела была сложной, зеркало никак не могло подобрать нужного оттенка. Зато отчетливо прочитало созвездие Лиры среди разбросанной соломы линий на его ладонях. Йорфе смотрел в глаза зеркалу и всё больше узнавал в отражении исчезнувшего с концерта мужчину. Чем дольше они смотрели друг на друга, тем более красивым становился образ и тем больше тело Йорфе наполнялось блаженством. Йорфе шагнул к зеркалу и поцеловал его в губы. Они были ледяными, он согревал их дыханием и боялся, что отражение запретит ему, прикажет прекратить. Голова Йорфе кружилась, не успевая за бегом сердца, и он хотел, чтобы мужчина в зеркале разделил с ним наслаждение, но фигура в амальгаме была холодна и безразлична. Йорфе переполнял гнев оттого, что отражение бесстрастно принимало его, вместо того, чтобы благодарно радоваться такому вниманию великого музыканта. Он стал кричать на зеркало, обвинять его в бесчувственности и презрении. Но вместо того, чтобы смиренно признать свою вину, зеркало в ответ кричало бранные слова. Взбешенный Йорфе что есть силы ударил зеркало, и по стеклу потекла кровь, густая и блестящая, как ртуть. Йорфе не ожидал от себя такого и замер, испугавшись. Зеркало поднесло к губам руку и слизнуло кровь. Йорфе почувствовал солоноватый привкус во рту. Мужчина из зеркала с ненавистью смотрел на музыканта, его глаза чернели, лицо исказилось от ярости и стало приобретать звериные черты. Мужчина зарычал и яростно накинулся на Йорфе, зубами остервенело вырывал из него куски мяса, пока Йорфе не упал без чувств к его ногам на пол, липкий от крови.
Зеркало в последний раз посмотрело на Йорфе и закрыло глаза. Йорфе перешагнул границу и растворился в амальгаме, которая поглотила его, как старый пруд поглощает брошенный камень.

Как Комсомол папу наказал
«З-з-зз-ды-дра-сту-те», — говорю я водителю, и папа осторожно подталкивает меня к двойному сиденью. Автобус тяжело пыхтит, коричневая обвисшая спинка сиденья обжигает, монеты с цоканьем падают в прорезь кассового аппарата. Заглушая шум дороги, из водительского приемника прорывается «миллион, миллион алых роз…». Мы едем в станицу Федоровскую к прабабушке Фросе.
Краснодар уже позади, я прилипаю носом к стеклу и смотрю на длинные-длинные поля подсолнухов. Иногда автобус останавливается, и заходят станичные женщины. У них до черноты загорелые лица и огромные арбузы в сетках. Некоторые женщины улыбаются мне и пытаются затеять разговор, но я отворачиваюсь к окну и слышу, как папа им объясняет: «Дочка сильно заикается».
У прабабушки белая хата с голубыми ставнями, твердые руки, целый огород клубники и куры, которые заикаются, как я.
В хате висит густой запах борща с чесноком и прохладно почти как в погребе. Это потому что перед обедом окна всегда закрывают. Сквозь щели ставен все же прорывается свет, сплетает комнатные пылинки в золотую косу. Прабабушка ставит меня перед собой, внимательно смотрит, поворачивается спиной и — раз! — уже стоит на коленях. На железной кровати молча сидит папа. В углу золотистые картинки — такие же я видела несколько дней назад в другом месте, где бородатый мужчина купал меня в большом тазу и потом надел на шею ленту с крестиком. У прабабушки таких картинок меньше. Она что-то тихо рассказывает им, двигает локтем и часто кланяется. Проходит очень много времени. Затем она встает, отхлебывает воды из граненого стакана, берет в руки старое сито и — пффф! — выпускает воду через сито прямо на меня. Я визжу, смеюсь, и золотые косы пыли становятся радужными. Я хочу подбежать к папе, рассказать ему, как плюется и балуется ба, но папа жестом велит мне стоять на месте. Разговор с картинками и баловство продолжаются.
Когда мы вернулись домой в Краснодар, «к-к-кэ-куры» стали курами, «м-м-мэа-а-а» — мамой, крестик на розовой ленте отправился на верхнюю полку шифоньера, а то, что со мной произошло, родители-атеисты назвали длинно и странно: «Врачи не взялись, а бабушка Фрося ну надо же!».
Потом папа принес с работы сложенный вдвое листок бумаги. На нем простым карандашом были нарисованы два кота: один с грустным хвостом, другой с веселым. Папа расхаживал по комнате и что-то горячо рассказывал маме, тыча в котов. Мама вздыхала.
Много лет спустя я наткнулась на этих котов, разбирая старые книги на чердаке. Под грустным было написано «Наказанный Ваня», под веселым — «Комсомол». Мне вспомнились твердые руки прабабушки Фроси, самая сладкая клубника в мире и к-к-кэ-куры. Оставалось выяснить, при чем тут коты.
Я бережно спускаю их с чердака и несу папе. «С ними закончилась моя так называемая комсомольская юность», — усмехается он. Начинает рассказывать, и я вижу, как в кабинете, обшитом темными деревянными панелями, маются начальник конструкторского бюро, папа и два Ленина: маленький гипсовый и большой в раме на стене. В руках начальника шелестит докладная: Религиозный исполнительный комитет оповестил руководство и комсомольскую ячейку о том, что Иван Николаевич Пшеничный такого-то числа и месяца 1983 года окрестил в храме Святой Екатерины, что в Краснодаре на ул. Мира, двух своих дочерей. Начальник и Ленины слушают, «что его побудило». Внезапно начала заикаться дочка, отказались все логопеды: «Приводите после пяти лет». Бабушка вызвалась помочь, но с условием: ребенок должен быть крещеным. Вторую крестили за компанию. Не знаю как, но это помогло.
Начальник вытирает платком взмокшую переносицу, говорит правильные слова, потом с неожиданной ловкостью перегибается через стол и добавляет шепотом, чтобы не слышали гипсовый и большой в раме: «Что ж ты, а? Церковь следовало выбирать как можно дальше, вообще в другой город везти. В Армавир или Майкоп хотя бы. Я своих детей так крестил». Откидывается назад, шелестит другим документом: «Надо заполнить». Перед папой прохладным пятном лежат листы анкеты. Кто присутствовал на крещении (ФИО, место работы), агитировал ли кого-то еще на совершение религиозного обряда (ФИО, место работы). Ручка скользит в пальцах. Папа клацает кнопкой, выталкивая стержень. Оставляет все поля пустыми, а внизу пишет: «Неважны наши поступки, важнее здоровье детей».
На следующий день — другой кабинет, с полыхающим знаменем в углу, Лениными, вымпелами и грамотами. За длинным столом держат спину директор и ответственные товарищи. Парторг грохочет: «Ты же комсомолец! Перспективный инженер! Мы тебя в партию прочили…» Пылают лица и поглядывают на окна: хоть бы кто-то догадался открыть перед собранием. Руки одного из ответственных товарищей водят карандашом по листу: уши треугольником, усы, хвосты — для будущей стенгазеты. Под громовые раскаты папа нащупывает в кармане рубашки корочку комсомольского билета, кладет его перед парторгом и выходит. Глубокий вдо-о-ох.
Котов ему передадут, насмешливо похлопывая по плечу, а дома вечером на другой стороне листа он нарисует карандашный кукиш.

Когерентность
— Понимаешь, — говорит Макс, встряхивая на ходу буйной своей гривой, — я тогда реально спать боялся с ней в одной квартире. Думал, хорошо еще у нас топора дома нет, а то ведь точно ляжешь и не проснешься уже! Ругались мы — ужас. А разводиться не вариант. По официальному если — это ж убиться, состаришься, пока все комиссии пройдешь. Лекции эти, терапия, полгода на примирение — ну чего я тебе объясняю. Да и невыгодно страшно, налоги одиноким сам знаешь какие. Завлабом мне тоже тогда не стать, и Катьке по службе нехорошо… В общем, такая была ситуация, на что угодно уже готовы были, ну я так точно.
— Да ладно заливать! Чтоб Катька и топор? — Я качаю головой, но в глазах у Макса появляется что-то такое, что на минуту я выхожу из роли и верю. Очень даже верю. Он отворачивается и говорит как-то сухо:
— Ты не понимаешь.
Я понимаю лучше, чем Макс может себе представить. Но рассказывать об этом незачем, и уж особенно ему. Впрочем, Макс не может предаваться депрессии дольше пяти шагов. Он вскидывает голову и продолжает с энтузиазмом, который меня всегда немного пугал:
— Ну вот, мы с Катюхой вместе и придумали — чтобы, значит, жить нормально и не ссориться. Катька, знаешь, весьма разумная женщина, не чуждый науке человек, хоть и лаборантка простая. Я всегда говорил: найди хорошего лаборанта — академиком станешь. — Макс жизнерадостно улыбается во все свои тридцать, или сколько у него там осталось зубов.
Ловко подпрыгнув, он иноходью огибает лужу и принимается рассказывать в деталях. Когда Макс увлекается объяснениями, он всегда растопыривает перед собой пальцы, будто натягивая невидимые веревочки — помнится, была у нас в детстве такая игра, как же она называлась? Колыбель для кошки? Странное какое-то название.
— Знаешь, это, на самом деле, отлаженная технология — ментальное управление, его в восстановительной медицине применяют уже. Мысленную команду подаешь — и прям в распознаватель, а? Каково? Электроды подшить — раз плюнуть, проще, чем тату набить. И блочок управления малюсенький, это тебе не первое поколение, когда его на тележке возили. Катька сразу на шею повесила, а я на часах под циферблат подклеил, но только натирать потом стало, тогда тоже вон сделал себе. — Макс выдергивает из-за ворота цепочку с небольшой подвеской вроде армейского жетона.
— Там команды очень простые, им бессловесных обучают — ну, у кого речи нет и движений. Ментальный интерфейс. Базовое: повтор, отмена, сильнее, слабее, да, нет, а потом комбинации идут, довольно сложные конструкции можно построить. Но нам ничего такого особенного и не понадобилось. Самая хитрость была — два контура в кольцо замкнуть, чтоб, значит, друг другу прямо в мозги.
Макс вскидывается и, замедляя шаги, ловит мой взгляд.
— Это все, конечно, суперсекретно и ужасно незаконно. — Он подмигивает мне, и лицо у него делается, как у мальчишки, стащившего из магазина пару шоколадок. — Для гражданского использования мы еще даже до испытаний на добровольцах не дошли. А уж такой вот, — Макс усмехается, — многопользовательский режим… Там комиссию по этике инфаркт хватит в полном составе!
Я понимающе киваю.
— Тебе страшно не было?
Глупый вопрос. Макс не из тех, кому бывает — не так у него устроены мозги.
— Что нас поймают? Да ну ты что! У них на глазах можно китайцам слона продать, никто и не заметит.
Вот. Я же говорил — не так у него мышление работает. И воображение тоже.
— А ощущения?
— Ну, как… Непривычно сначала. Мы, знаешь, простую вещь совсем сделали, но очень эффективно оказалось. Как начинается ссора, как лишнего сказал — р-р-раз, и на две фразы назад откатываешь. Стиралочку такую. Просто переформулируешь или, там, повторяешь последнее, что было еще нормальным, и так его мысленно другому подталкиваешь — приноровиться надо, конечно, чтоб четкая доминанта формировалась. Оно тогда… как тебе описать… ну как бы затирает у реципиента хвост потока и поверх перезаписывает, понимаешь?
Мы садимся на лавочку у воды. Ветер гладит реку против шерсти, ерошит ее зябкую рябь, налепляет на нее неряшливо-желтых листьев, бумажек и прочей ерунды. К берегу жмутся две толстые неспешные утки, копошатся, ныряют, выставляя поплавками короткие хвосты.
— Еще мы стоп-слово сделали. — Макс тоже ежится, засовывает руки в карманы. — Ну, типа, если ты чем недоволен прям сильно, даешь такое четкое «стоп».
Вот с этого места мне по-настоящему интересно. Я смотрю на него внимательно, но как бы вскользь — знаете, так, как будто бы мимо. Будто на самом деле ты наблюдаешь, как утки продолжают застарелый спор, недовольно покрякивая друг на друга.
— Там, конечно, с контуром обратной связи повозиться пришлось. — Макс чертит воздух и явно видит перед собой не уток, а свои бесчисленные ментальные схемы. — Ну и все равно, конечно, это же не приказ. Волевые центры не задействованы вообще. Там даже толком энергии на доминанту у реципиента не хватает, чтоб насытить. Но проводимость увеличивается в достаточной мере. В общем, в итоге неплохо получилось, я считаю! — Глаза его горят слегка безумной гордостью.
— А потом я подумал… — Макс понижает голос, и я целиком превращаюсь в слух. Я даже, кажется, не дышу. — Если понизить интенсивность сигнала, но увеличить когерентность, убрать шумы. Как тонко направленный луч, понимаешь?
— А как ты шумы уберешь? — Мне и в самом деле интересно. Вот где настоящее золотое дно, если только Макс придумал что-то стоящее.
— Ну, я пробовал, конечно, тренироваться, четче делать посыл. Там, сконцентрироваться, расслабиться, альфа-волны — но это все не то. А потом понял: чего я фигней страдаю? У меня ж допуск есть. Быстренько на самом себе все поснимал, выделил сигнал, почистил — дело нехитрое. Четкость получилась — залюбуешься! И с передатчиком своим я поколдовал, загнал туда мой образец и сделал петлевую схему. Такая, понимаешь, мысленная кнопочка — ты ее как бы жмешь, а передатчик передает не то что ты скомандовал, а то, что у него там запрограммировано. Просто, как и все гениальное!
— И чем же оно гениально?
— Ну как? — Макс лукаво улыбается, страшно довольный. — Интенсивность сигнала можно снизить ниже порога сознания. А четкость останется достаточной. Я так Катьку от ее музона отучил — ты бы знал, как у меня этот джаз ее в печенках сидел. А тут красота: кнопочку жмешь каждый раз — нет, нет, нет. Сознание ее эти сигналы не ловит. А мозг-то на форму кривой уже натренирован — получается такое стоп-стоп-стоп под порогом слышимости. И работает!
Из-за низких туч на минуту проглядывает белесый луч. Макс жмурится на солнце, замерев, совсем как селезень, распушивший перья у кромки воды.
— Ты не представляешь, такая тишь и благодать у нас с ней настала… Медовый месяц прям, даже лучше! Я, наверное, в жизни так хорошо не жил.
Я хлопаю его по плечу:
— Ну ты молоток вообще. Голова! Пойдем по пивку, что ли? Или вот что — ты в выходные свободен? Может, забуримся с ребятами на рыбалку, как в оны времена?
Макс улыбается снова, теперь слегка виновато, и поднимается со скамейки.
— Да нет, слушай… Я, знаешь, как-то разлюбил это дело. Вы лучше без меня.
— Ну ладно. — Я гляжу на него с доброй насмешкой. — Бывай тогда, молодожен!
Мы расходимся: Макс домой, а я вместо пива иду пить чай с Катей. Она умная женщина, в этом Макс прав. И нам есть что обсудить. Первые пробы нашей схемы дают явный успех, но всегда ведь хочется двигаться дальше. Тем более что у меня как раз появилась пара идей.

Мамкин Мякиш
Осенью на кладбище особенно пусто — пасхальные субботники схлынули, и только престарелые вдовы навещают любимые могилы. Старое городское кладбище неровно облеплено свежими кварталами могил. Центр пестрит самодельными безыскусными памятниками. Новые участки щеголяют черным гранитом и здоровыми сосновыми крестами. Между ними асфальтированная дорожка — для живых. Для мертвых она — граница поколений.
С краю, словно лишняя пятнашка, втиснулась ухоженная двухместная могила, которую по-хозяйски прибирает старая женщина.
Эта старуха приходит сюда каждую неделю, во всякую погоду. Она постоянно наводит порядок, который никогда и никем не нарушается. На могиле всегда живые цветы, всегда чисто и аккуратно. Почти нарядно. А ведь кроме нее сюда никто не ходит. Ни внучка, ни племянники, никто. Эти цветы и маленький бойкий огонек свечки, крепко посаженной в землю, — единственное живое, что осталось у старухи.
Женечка случился, когда ей было за сорок, а отцу под пятьдесят. Долгожданный и единственный ребенок, который застрял меж поколений. Его тетки готовились ко внукам, а он только шел в первый класс.
По странной прихоти природы Женечка у своих темноволосых родителей оказался совершенно светлым, почти белым, что явилось поводом для соседских сплетен и причиной для девичьих страданий. Отца нельзя было упрекнуть в неверности, но ему все равно доставалось от жены по всякому поводу — скандалить она любила. В такие дни соседи с ней здоровались особенно вежливо.
Когда Женьке стукнуло десять, отцу от завода выделили участок в сотне километров от Москвы, «хозяйство личное — польза общая». Летом его вывозили на эту дачу, где он приобретал навыки обольщения, тренируясь на соседских дочерях. Раз в год ездили на море, в Геленджик, к дальней родне.
Он рос неспокойным, но милым ребенком. Учителя, глядя на его ангельское личико, легкомысленно переполнялись восторгом и по этой причине ни разу не заподозрили его в школьных проделках. К старшим классам Женя научился этим пользоваться и спокойно курил на переменах или прогуливал уроки. В школе его дразнили Мамкин Мякиш — потому что Мамяшев. В институт он не поступил.
Взросление Женечки пришлось на излет советской власти — заводы еще работали, но коммунизм уже никто не строил. Кое-как он отработал почти год помощником токаря на заводе, куда его пристроил отец. А потом получил повестку.
От армии его спасла тюрьма. Как-то ночью, напившись, с дружками обчистили пенсионерский гараж, утащили мопед и какую-то мелочевку. Спустя пару дней их поймали на сбыте. Женька по возрасту отсидел всего год. Родители постарели на десять.
Когда власть в стране наконец-то сломалась, Женька стал бандитом — все-таки он был смелым парнем, а смелость в таком деле востребована. Накопил немного денег, ввязался в коммерцию: перепродавал технику. Со временем устроил себе красивую жизнь со всеми недоступными пролетарию радостями: дорогая выпивка, казино, иномарки, проститутки. Героин.
Напрасно родные били тревогу: для матери Женечка всегда был безгрешен. Затюканный отец не перечил, а остальным, кто пытался образумить мамашу, было указано на дверь. Постепенно отношения со всеми родственниками прекратились.
А тогда жизнь текла ярко, Женьке денег хватало на все, даже на алименты дочери. Марина, так и не ставшая его женой, была довольна и просила только одного: не появляться более никогда в ее жизни. Деспотичная Женькина мать вступалась за сына и искренне считала Марину провинциальной шалавой — лишь бы охомутать ее мальчика. К тому времени его светло-соломенные волосы позолотели и стали напоминать зрелое шардоне. Он действительно был красавец.
До двадцати семи лет Женька не дожил ровно месяц. В медицинском свидетельстве написали: некоронарогенный отек легких, острая сердечная недостаточность, что на самом деле означало передоз.
Хоронили, не жалея денег. Черный день наступил раньше и оказался чернее, чем думали старики-родители. Отец пережил Женьку на три года. Мать, которой стало не с кем разговаривать, утешалась кладбищенской вахтой.
Не дождавшись, пока свеча догорит, старуха засобиралась. Золотоголовый огонек метался под сквозняком, ей не хотелось видеть, как он исчезнет. Она тщательно заперла дверцу оградки, словно кто-то мог покуситься на ее крошечный квадратный мирок. Взяла свою палку и медленно зашагала по дорожке в сторону выхода, мимо давно выученных памятников, мимо купленных, но не заселенных мест. Мимо сверстников, мимо детей. До следующей субботы.
В остывшем кладбищенском воздухе звонко цокал метроном старухиной клюки. У мусорной кучи дрались за остатки поминальной трапезы две вороны. Старуха прошла совсем рядом, но стук палки не вспугнул птиц.
Сейчас она доберется до остановки, сядет в автобус, который отвезёт ее домой, до конечной станции. Дома возьмёт с полки старую фотографию, где они — Женька с отцом — стоят у дачного крыльца и хвастают грибными трофеями, и ляжет на кровать. Пока фотография в руках, то и сын где-то рядом. Так она и уснёт в который раз, уронив снимок на пол.
А во сне они встретятся и поедут всей семьёй на юг. И будут вокзальные хлопоты с носильщиками, толстые проводницы и варёные яйца. И маленький Женечка в поезде начнет шалить. А уже в раскалённом автобусе, надрывно скрипящем по Геленджику, Женька подшутит над родителями — нажмёт кнопку для выхода по требованию и выскочит на улицу. Несчастная мать спохватится, когда автобус уже захлопнет двери и тронется.
И старуха снова проснется от собственного крика.

Мечтать вредно
Женька проснулся помятый и обессиленный — телефон разрывался где-то под кроватью. Кряхтя и постанывая, Женька полез за трубкой. Незнакомый номер. Десять пропущенных. Десять?!
Женька сел. Голова ужасно болела от похмелья. Что вчера было вообще?
Появилось первое воспоминание: концерт в разгаре, он стоит на сцене, пальцы холодные, руки дрожат, норовя выронить медиатор. Внизу стоит толпа поддатых ребят, которые орут: «Жека, давай!». В кровь впрыскивается адреналин, Женька берёт первый аккорд и начинает орать в микрофон. Сзади со всей дури барабанит Костян — после первой песни они заменят сломанную палку. Киря играет слэпом на басу, Саня на второй гитаре держит «стену». Толпа ревёт и трясёт патлатыми башками, начинается слэм. Поймав энергию зала, Женька исполняет соляк на грани своих возможностей…
Вроде неплохо для первого раза. Женька с трудом поднялся с кровати и побрёл за водой. В маленькой кухне было уютно, но пожелтевшие обои кое-где отставали от стен, стыдливо показывая газетное исподнее. Женька присосался к крану и, довольный, сел на облезлую табуретку.
Вспомнилась вечеринка после концерта. Все группы подтягиваются в помещение, где обычно проходят репетиции: стены обиты деревянными щитами, на окнах пылятся шторы в складку, по полу хаотично разбросаны провода. К нему подходит Лера.
— У меня от твоего соляка мурашки по спине! — Поцелуй обжигает щёку.
Женька краснеет. Наконец-то она его заметила! Группа, песни, репетиции — всё это способ доказать, что он говорит на её языке, вторгнуться на её территорию, вырваться из френдзоны. Кажется, сегодня получилось. После вечеринки он пойдёт её провожать, возьмёт за руку и…
— Жека, пошли бухать! — зовёт Киря.
— Не хочу. — Женька берёт гитару и начинает наигрывать простецкие мелодии. Ещё не хватало напиться в такой важный вечер. Лера сидит напротив, перешёптывается с подружкой. Девочки тоже не прикасаются к алкоголю, предпочитая принесённый из дома смузи, что порождает волну шуточек со стороны мужской части компании. В комнату заглядывает охранник, хочет всех разогнать, но заветная голубая бумажка возвращает его в каморку под лестницей.
Вечеринка постепенно набирает обороты: под стульями выстраиваются батареи пустых бутылок, полудохлый вентилятор на потолке едва справляется с липкой духотой, сумерки за окном постепенно превращаются в ночь. Люди входят и выходят: сначала появляются друзья, их сменяют друзья друзей и просто какие-то незнакомые люди, пришедшие выразить своё пьяное восхищение. В этой текучке куда-то пропадает Лера. Женька пытается встать и уйти, но его засыпают вопросами — он единственный в городе, кто пишет на английском, и аудитория желает знать перевод и тайный смысл текстов.
Наконец, Женька выскакивает в коридор: тут прохладно и темно — дом культуры экономит на электричестве. Свет уличного фонаря вливается в дальнее окно, возле которого стоят две фигуры, стоят слишком близко… Женька узнаёт Лерин профиль, видит тяжёлую руку собеседника на её талии…
Женька заскулил. Он уже не хотел ничего вспоминать, но картинки дальнейших событий теперь сами лезли в голову.
Не смея мешать, раздавленный, он быстро зайдёт обратно, заберёт гитару и сбежит через пожарный выход. В каком-то тумане доберётся до дома. Ввалится в свою комнату, достанет из тайника бутылку. Уроки музыки по вечерам, подработка на каникулах, чтобы купить чёртов Fender — всё это, оказывается, не имеет значения, когда ты сам недостаточно хорош. Женька откроет окно — над крышами пронесётся смешной, нелепый, пьяный вопль: «Бесполезная бандура!», и гитара полетит вниз с десятого этажа.
Женька высунулся в форточку — асфальт был усеян синими обломками. Слава богу, никого не прибило. Равнодушно глядя на чудом уцелевший гриф, Женька думал, что больше никогда не будет играть. И что теперь он не сможет каждый день видеть Леру. «Кто вчера с ней был? Почему не я? Чем я хуже?» — вертелись в голове вопросы. Нужно учиться жить заново. Можно собрать вещи и поехать к отцу в Тюмень — давно звал. Интересно, сколько нужно денег, чтобы купить билет в купе? Мама расстроится, конечно, но он будет писать ей каждый день…
В одиннадцатый раз зазвонил телефон. Женька взял трубку.
— Привет, — усмехнулся знакомый голос. — Ну и чего ты вчера сбежал?
Женька молчал. Голос продолжил:
— Напридумывал себе… Ну, подкатил ко мне яйца Костян. Это же не значит, что я сказала «да». Я, вообще-то, тебя ждала… Дурак.
Комок в горле исчез. Похмелье прошло. Обои аккуратно прикрыли проплешины, табуретка стала равномерно белой. Билет в купе был сдан, не будучи купленным. Гитара собралась по кусочкам и влетела обратно в окно.
— Сейчас приеду, — прохрипел счастливый Женька.
Курт Кобейн, Фред Дёрст и Джеймс Хэтфилд аплодировали с постеров. Рок был снова жив.

Музыка над городом
Муха нервным стаккато билась под потолком. Рыжая, с россыпью бледных веснушек, выпускница музыкальной школы номер 6 города N Рита Зырянова навытяжку стояла перед экзаменационной комиссией, с тоской поглядывая в окно. Сквозь открытые окна в комнату просачивался влажный, предгрозовой, пахнущий сиренью и надеждой на лучшую жизнь июньский день. Зырянова нервно постукивала смычком по носку лаковой туфли, кончики рыжего хвоста подрагивали в такт.
Все были в сборе — ждали только председателя комиссии и директора школы Варвару Александровну Кругликову. Но она в день госэкзамена как сквозь землю провалилась.
В аудиторию запыхавшись вбежала секретарша Варвары Александровны Верочка и зачастила:
— Домой звонила — никто не берет, мужу звонила — не в курсе, говорит, ушла утром на работу, мобильный вне зоны доступа. Еще, может, кому позвонить?
— Идите, Верочка, разберемся, пока больше никому не звоните, — устало проговорила статная дама в седых буклях, заместитель директора Аделаида Петровна. — Господи, неужели опять у Варвары началось, — пробормотала она куда-то в сторону. — Ладно, ждем пять минут и, если что, начинаем без нее!
Варвара Александровна Кругликова, прозванная учениками Варвара-Контрабас за монументальность фигуры и низкий тембр голоса, от которого в страхе и почтении замирали мухи в полете, была директором музыкальной школы, заслуженным учителем и даже районным депутатом. Ее ученики исправно завоевывали призы на всевозможных музыкальных конкурсах. Про Варвару Александровну печатали статьи в местной газете, а один раз ее даже показали по центральному телевидению. Губернатор, тоже бывший ученик, кстати, присылал ей цветы на день рождения. Благополучие Варвары Александровны было пышным и благоухающим, как букет июньских пионов. Но иногда, летом, накануне экзаменов и заключительных концертов в музыкальной школе, печаль покрывала незамутненное обычно никакими сомнениями чело заслуженного учителя и районного депутата, и Варвара куда-то исчезала. Исчезла и сегодня.
Часы показывали без пяти десять. Где-то наверху с тяжелым грохотом хлопнула дверь. Вода в графине качнулась легкой волной. Рита вздрогнула и выронила смычок.
— Зырянова, сосредоточьтесь, вы на экзамене, — прикрикнула Аделаида Петровна. — Настраивайте инструмент, начинаем через пять минут!
Бледная Рита еще раз с тоской посмотрела в окно и завозила смычком.
— Крейцер, — наконец выкрикнула она, отчаянно взмахивая смычком, как рапирой, — этюд номер пять.
— Прекрасный выбор, Зырянова. Коллеги, простите, задержалась. — Монументально-безупречная Варвара Александровна, поправляя накрахмаленные манжеты, уже заходила в аудиторию. — Маргарита, начинайте!
Рита взмахнула смычком. Муха предусмотрительно вылетела в окно.
Неловкую тишину после Ритиной игры первой нарушила Варвара Александровна.
— Спасибо, Зырянова. Вы старались. Любая попытка, безусловно, достойна уважения. «Три». — Директор уже открывала ведомость. — Оценку в зачетной книжке вы получите по завершении экзамена после того, как мы всех прослушаем. Спасибо, вы свободны!
— Варвара Александровна… — Губы у Риты задрожали, и веснушки запрыгали по лицу. — Мне нельзя «три», ну никак просто.
— Зырянова, «три» — это удовлетворительно, государство и музыкальная школа в нашем лице удовлетворены. — Варвара Александровна смахнула несуществующую пылинку с рукава. — Следующий!
— Да вы не поняли! — Рита снова схватила смычок, как рапиру. — Мне ваша скрипка вообще не нужна! Это мамина идиотская идея! А я не хочу скрипку! Я хочу быть дирижером, слышите, ди-ри-же-ром! — Рита сорвалась на визг. — Как Алондра де ла Парра!
— Как кто? — Варвара Александровна вдруг как-то стекла вниз по стулу, прижав к лицу холодный графин с водой.
— Алондра де ла Парра, — упавшим голосом сказала Рита. Я хочу на дирижерское отделение поступать, в Москву, мне нельзя «три» по специальности. Совершенно невозможно.
На Риту не мигая смотрел из аквариума графина Варварин глаз, похожий на какую-то диковинную рыбу. Наконец, Варвара Александровна отняла графин от лица и поставила его на стол.
— Идите, Рита. Зачетку получите после. — За столом вновь восседала безупречно-накрахмаленная Варвара-Контрабас.
***
Грохнула старая проржавевшая дверь, и Варвара Александровна, осторожно оглянувшись по сторонам, выскользнула на крышу. Без пяти десять. Варвара посмотрела на часы и кивнула самой себе: «Успеваем!» Теплый ветерок попробовал было нежно потрепать ее волосы, но так и не справился с тяжелым, покрытым лаком и броней из множества шпилек пучком.
Варвара Александровна достала из сумочки фляжку с инициалами В.К. и сделала внушительный глоток. Коньяк обжег горло, и тут же нежное тепло побежало по всему телу, вспыхнув и рассыпавшись на прощание яркими гроздьями салюта где-то в области солнечного сплетения. Варвара Александровна сделала еще глоток, достала из сумки дирижерскую палочку, слегка дохнула на нее и, протерев полой пиджака, замерла у края крыши. Город настраивал свой невидимый оркестр — далекий вой сирен скорой, перезвон трамваев, детские крики — городская какофония звуков обретала свои очертания. «Сегодня будет Гендель», — решила Варвара Александровна и взмахнула рукой.
Дирижерская палочка порхала бенгальским огнем вокруг Варвары Александровны, осыпая ее невидимыми искрами, щеки ее пылали, прядь волос выбилась из идеальной укладки. Она улыбалась — городской оркестр ни разу сегодня не подвел, пожарные сирены не опаздывали, трамваи попадали в такт. Шорох шин, визг тормозов, протяжный вой пробегавших электричек, велосипедные звонки — все жило и звенело, и наконец слилось в финальном мощном хоре «Аллилуйя». Последний аккорд растворился в воздухе. Варвара Александровна стояла, раскрасневшись, в розоватом утреннем воздухе, еще вибрировавшем от божественной музыки и электрических разрядов ее дирижерской палочки. Внизу хлопали окна и двери — тысячи невидимых зрителей рукоплескали Варваре Александровне. Она с достоинством поклонилась.
***
Этой ночью Варвара Александровна долго не могла уснуть. Она все гладила пальцами шапку розовых пионов — подарок учеников. Букет был похож на сладкую вату, которую в детстве ей покупал папа. Завтра у папы годовщина, нужно будет съездить на кладбище, привести там все в порядок. Как же его не хватает! Он всегда говорил, что его Варюшка — талант и совершенно особенная. А еще папа говорил, что дирижер — это совершенно неженское занятие. И абсолютно прав был, кстати. Папа вообще всегда и во всем был прав. Варвара вздохнула и поглубже зарылась лицом в пионы.
А на другом конце города, широко раскинувшись на кровати, безмятежно спала Рита Зырянова. Какая-то прекрасная музыка парила над городом, врываясь в ее сон — кажется, Гендель. Во сне Рита дирижировала огромным оркестром, сжимая в руках похожую на гигантский бенгальский огонь дирижерскую палочку.
На столе рядом валялась раскрытая зачетка. Напротив экзамена по специальности круглым почерком Варвары Александровны было выведено — «отлично».

Невозможно
1
Ора придвинула стул к стеклянному столику, выпрямила спину и взяла в руки блестящую тонкую вилку. Она положила лимон поверх кусочка форели на пористом хлебе с розовой корочкой, взяла двумя длинными морщинистыми пальцами свой завтрак и закинула его в рот. Потрогала кружку с кофе — она всегда определяла, что пора его пить, по температуре чашки — и начала методично жевать, чуть щурясь от утреннего солнца.
— У вас сегодня восемь собеседований. Есть пара перспективных женщин. И одна, которая, вероятно, нам не подойдет. Но алгоритм решил, что последнее слово за вами. Приятного аппетита.
Синяя лампочка на её браслете погасла. Ровно через пятнадцать минут она выпила последний глоток кофе и зашла в голубую спальню.
— Давай сначала разберемся с той. Ограничь время до десяти минут — мне этого будет достаточно.
Ора накинула поверх розовой блузки серый шёлковый халат и вышла через низкую дверь-обманку в соседнюю комнату: обитый светлым дубом длинный кабинет, окна в пол на дальней стене уходят в море, посередине — прямоугольный стол. Ора села в широкое чёрное кресло с низкой спинкой, выпрямилась и пригладила короткие волосы на затылке.
Слева в стене отворилась дверь, и в комнату, шаркая, вошла девушка. «Песком пахнет», — сразу заметила Ора. Девушка посмотрела на неё и села на стул напротив.
— Кто вы, откуда вы, что вы можете нам предложить? — произнесла Ора разом три вопроса, которые задавала каждый месяц уже восемь лет. С тех пор как появился алгоритм, собеседования в Солоз стали проще. Машина умела отбирать женщин по основным критериям — достижения и высокий уровень интеллекта. После того как эра квот ушла, таких вот, пахнущих пустыней, стало меньше. Пресса беспощадно обзывала солозок жадной элитой, но у всего, уверяли себя они, есть своя цена.
Девушка в тряпичном бежевом платье провела рукой по бритой голове.
— Меня зовут Ирми, я из Роша. Я… Я могу… Я спортивная, бегаю на длинные дистанции, переплыла большое озеро, спасла тонущих детей и одну женщину. Я очень сильная и могу вам помогать. Быть охранницей, учить девочек спорту или ещё чему-то. Дома я играла в шахматы.
«И такое уже не в первый раз. Что-то алгоритм начал барахлить, стал слишком самостоятельным». — Ора перебила девушку:
— И всё?
— Ну, да. Я знаю, что у вас тут другое ценится. Но я, вообще, подумала, что раз тот экран меня пропустил, то всё хорошо. Хотите, я отожмусь?
— Не стоит. — Ора подалась вперёд, собираясь отодвинуть стул.
— Я сбежала. — Девушка шлёпнула обеими ладонями по столу. — Вы не представляете, что там творится. Нас уже вообще за людей не считают. Меня кинули в клетку в самую жару. Представляете, какое это мучение? Да, конечно, когда вы собрались в свою шайку на Солозе, основали этот ваш «женский рай», в остальных местах тоже начались изменения, стало больше свободы. Бабушка мне рассказывала. А потом всё, снова откатились мы. Вот вы кривите нос, а думаете, я чем-то, кроме боёв, заниматься могла там? Да хер! Нас в пятнадцать лет уже распределяли по секциям. И вот я тут. Ну, чего вы молчите? Или всё это ваше сестринство — бредятина?
2
В спальне на невысоком постаменте лежал широкий матрац с плоской подушкой. Ора отвернулась от чёрного окна, легла на пол рядом со своей кроватью и закрыла глаза.
***
Солнце впивалось в сухую оранжевую землю. В лагере их должны были ждать с хорошими новостями. Ора хмуро смотрела себе под ноги и боялась поднять глаза на Старшего. Теперь — точно никакого перемирия с Гусганами. А её что ждёт? Такое точно не простят.
У металлического забора — два пластиковых стула с развалившимися на грязных ружьях беззубыми охранниками — их ждал Отец. Он поднял брови, так что кожа на его лице стала гладкой и неподвижной, и хищно засмеялся. Его высокая, квадратная спина медленно, как мираж, поплыла к палатке.
Девочек-сирот на Охо пускали в бой, но пока никто не дожил до звания командующей, а до тридцати в принципе никто не доживал. В совете были женщины, но только жёны главарей — сидели и кивали, как неваляшки. Ора была первой, кого отправили в поход на переговоры, Старшего приставили как соглядатая. Но те даже смеяться не стали — оскорбились, разозлились, выгнали. Это был конец.
После долгих тошнотворных минут Старший вышел из палатки и вместе с двумя охранниками повел Ору к клетке. Там уже собрался весь лагерь: дети приготовились кидать в преступницу гнилые кактусовые шишки, мужчины и женщины громко смеялись, девочки молчали.
***
Ора лежала на полу. Слева на стуле храпел верзила-охранник. Спина болела от синяков, губы слиплись на обожжённом лице. Она прокручивала в голове все свои беседы с Отцом, его насмешки, крики, угрозы. Потом он вдруг успокоился, подумал. Решил попробовать. Отправил почему-то сразу на самые сложные переговоры.
По решётке глухо ударили. Ора медленно поднялась и завертела головой. Никого. Ещё один удар. Справа на полу лежала длинная проволока. Она подползла к краю, как умела — беззвучно, и увидела внизу Лу, свою напарницу. Ора быстро взяла орудие, и, не сводя глаз с сопящего охранника, медленно начала крутить им в замке. Пара щелчков — от страха сдавило горло. Под очередной раскат храпа она рывком открыла скрипучую дверь, аккуратно спустилась на землю и поползла к другому краю клетки.
Рядом с Лу лежали два рюкзака и баклажка с водой. Она кивнула в сторону забора, у которого уже приготовлена была лопата, и они поползли вместе.
3
Ора потянулась и встала с пола. Она подошла к письменному столу и набрала на панели длинный код. Открылся нижний ящик, из которого она достала сшитые листы потрепанной бумаги. Первый Свод законов, ещё на общем языке. Давно в них никто не заглядывал. А когда они с Лу отошли от дел, стали занимать свои почётные должности и лениво присутствовать на собраниях — совсем позабыли. Увидев на побледневшей строке слово «Убежище», она усмехнулась наивности, с которой сорок пять лет назад печатался этот текст. Ну невозможно спасти всех. Невозможно!
Ора отвернулась к чёрному окну. Она вспомнила, как на Охо вместе с девочками жила в казармах с двухъярусными кроватями, как они умывались по очереди, воровали друг у друга рубашки побелее. Лу однажды отдала ей свои ботинки.
Ора перелистнула пару страниц документа. Взяла карандаш, подчеркнула пару строк. Потом ещё несколько. Документ был совсем небольшой, и она решила начать с начала.
— Включи голосовой набор текста.
Лампочка на браслете мигнула зелёным.
***
Через час Ора закрыла окно и легла на свой мягкий матрац.
— Пусть на завтрак подадут больше фруктов, а кофе, наконец, заварят покрепче. А ты отправь копии Советницам и запланируй с ними встречу. И позови на неё Лу.

Один день из жизни Саши П.
Забытый в глухой тайге поселок. Я приехал на каникулы. Мне девять лет. Я долго не могу уснуть. Завтра мой первый рабочий день. Хочется, чтобы он поскорей настал. Я ворочаюсь, охает и скрипит старый дерматиновый диван. От печи тянет теплом и сдобой. Я засыпаю.
Утром я пью снежно-белое холодное молоко из запотевшей литровой банки. По-взрослому. Так пьет мой дядя. Еще горячая шанежка аппетитно хрустит, остывает во рту, залитая молочной прохладой. Вкусно. Я тороплюсь. Бегу по вымощенному досками двору в дом.
Я готов: на мне большие резиновые сапоги, защитного цвета штаны, коричневая куртка с капюшоном и моя гордость — армейская пилотка с красной металлической звездочкой. Бабушка втирает мне репеллент шершавой рукой, пахнущей мокрым хлебом. Беру настоящий, взрослый рюкзак, бабушка помогает мне надеть его на спину. Рюкзак большой и не очень удобный, но я знаю, мне без него на работу нельзя. Смотрю на себя со стороны. Я суров и серьезен.
На станции галдят люди в серых стеганых фуфайках, детей очень мало. Да мы сегодня уже и не дети. На работу едем. Мотовоз, похожий на волчью морду, рычит, лязгает колесами о рельсы. Сколоченные из старых досок платформы нервно дергаются, наполняются людьми. На станции нас ждет дедушка в лоснящемся черном комбинезоне. Провожает, по-взрослому жмет руку своей огромной, почти черной ладонью. Бабушка надевает мне капюшон, туго завязывает. Капюшон скрывает пилотку, но это меня не расстраивает. В такой день перечить не хочется, хочется по-взрослому терпеть. Я еду восстанавливать лес.
Июньский лес, сегодня он другой. Ярче, звонче. Я начинаю различать мотивы и мелодии разных птиц, дробный перестук дятла, протяжный скрип сосен на ветру. Монотонно гудят комары, лезут в глаза, не дают открыть рот. Но мы терпим и работаем. Я ползаю на коленях по влажной еще траве, опускаю в приготовленные ямки маленькие игольчатые растения, бережно засыпаю землей, аккуратно прихлопываю, как учила бабушка. Первое летнее солнце уже печет. Жарко, ноют колени, гнусит мошка, но внутри все поет новые взрослые песни.
Время. Останавливают работу. Я падаю на спину. Надо мной далекая холодная синева, по ней скользят, гоняют друг друга стрижи. Качаются длинные, тонкие сосны, трещат, щетками макушек натирают до блеска небо. Черно-белые березы благодарно склоняют свои отрастающие зеленые кудри. Я вдыхаю хрустящий и ароматный, как бабушкины булочки, воздух, закрываю глаза, поднимаюсь над лесом на мягких пушистых кронах моих растущих саженцев. Я расту вместе с ними.
Нас отправляют домой. Мы еще не совсем взрослые, и наш рабочий день уже закончен. Я поднимаюсь, беру рюкзак и медленно бреду в сторону узкоколейки.
Меня везут обратно на маленькой ушастой дрезине. Ветер дует прямо в лицо, слезит глаза, не дает дышать, пытается сорвать капюшон и пилотку. Дрезина едко дымит, гремит о рельсы, рычит, подпрыгивает, пытается перекричать ветер. Надо крепко держаться. Я жмурю глаза, сдвигаю брови, хмурюсь. Представляю себя красноармейцем Телегиным из кино, которое недавно смотрел с дедушкой. Дрезиной управляет незнакомый старик в брезентовом плаще и зеленой офицерской фуражке. Фуражка надвинута на глаза, к губам и седым усам прилипла обгрызенная смятая папироса. Она не дымит. Мы молчим и внимательно смотрим вперед.
Заросшая травой узкоколейка заканчивается. Нас встречают черные от копоти постройки станции, рядом крашеный магазин, вдалеке наша улица. Я вижу бабушку, соскакиваю с дрезины бегу к ней, путаюсь в длинных лямках рюкзака, падаю. Сзади меня подхватывают чьи-то сильные руки, прочно ставят на землю. Огромные черные ладони мне знакомы, они опускаются мне на плечи, снимают рюкзак. Дедушка смеется, большой, громогласный, как великан. От него пахнет солярой. Соляра. Мне нравится это слово. Такое взрослое, сильное, как дедушка. Ей пропитано все на станции и на дедушкиной работе. Я уверен — это слово заставляет все гудеть, греметь и крутиться.
Мы с бабушкой заходим в магазин. Он маленький, прокуренный и полон людей. Пахнет хлебом, его покупают огромными сетками по десять-пятнадцать кирпичей. Здороваемся, встаем в очередь. Я уверен, все смотрят на меня, все знают, что я сегодня работал. Заглядываю всем в глаза, ловлю веселые одобрительные улыбки. В магазине только женщины, мужчины — на работе. Одеты одинаково: серые телогрейки, резиновые короткие сапоги, резиновые боты, кирзачи. У нас в городе так не ходят. Женщины набивают полные сетки хлебом, ловкими быстрыми руками связывают их, тяжело перекидывают через плечи. Руки в морщинах и мозолях с надутыми синими веревками жил. На некоторых наколоты имена. Самую красивую наколку я видел у нашего соседа. Теплое море, горы, солнце с бегущими лучами и сверху надпись: «Володя». Я тоже нарисовал себе на руке бабушкин дом и крупно написал — Саша П., на фамилию не хватило места. Бабушка очень ругалась, долго отмывала. Она сказала, что наколки делают не от хорошей жизни. А моя жизнь хорошая, меня все любят. Это правда.
Я помогаю бабушке, несу хлеб и конфеты, на бабушке связка сеток с продуктами. Много хлеба. Я знаю, его нужно много, чтобы кормить скотину. Идем по нашей улице, по деревянному тротуару. Вокруг деревянные дома с серыми решетками заборов, с огородами и обязательной черемухой в палисаднике. В этих домах живут разные люди. Бабушка говорит, что они приехали со всей страны. Я не знаю зачем. Я не понимаю тех, кто приехал с теплого черного моря, где много солнца и растет черешня. Наши соседи — из Эстонии. Это очень далеко, на другом море. Я слышал от дедушки, что они собираются туда вернуться. И вообще, скоро поселок закроют, и всем нужно «что-то думать». Как закроют, что думать, куда денутся люди в поселке и зачем они сюда вообще приезжали? Мне не понятно.
Вечером с работы возвращается дедушка. Он долго моется. Нагибается над тазом, трет черные руки, шею, фыркает, гогочет. Мыло скользит, хлюпает, оставляет гребешки пены. Бабушка льет на него из ведра, вода заливает огромную белую спину, стекает по красной, сгоревшей шее на седые волосы. Брызги разлетаются по всему двору. Дедушка урчит, трясет головой, как огромный пес. От дедушки пахнет чистотой и чуть-чуть солярой.
За ужином меня хвалят. Дедушка сидит напротив меня, шутит. Всегда суровый дедушка сегодня весел. Дедушка в войну работал в Германии. Он не хотел, но его заставили туда уехать. Бабушка говорит, что он был тогда совсем мальчик, не такой, как я — старше. После войны его не пустили домой, привезли сюда. Дедушка никогда не рассказывает, почему, так получилось. Он только часто ругается, когда смотрит телевизор и читает газеты. Я ничего у него не спрашиваю, бабушка говорит, что этого не нужно делать, потому что дедушка расстроится. А расстраивать дедушку я не хочу.
Я опускаю голову на мягкую бабушкину руку, чувствую, что устал и почти засыпаю. Бабушка говорит, что после моей работы останется новая жизнь. Я еле слышу ее ровный тихий голос. Я пытаюсь думать об этой новой жизни. Но ничего не приходит в голову. Сегодня у меня жизнь хорошая, рядом родные, милые бабушка и дедушка, и меня все любят.

Остановка по требованию
«20 мая. Сегодня ездил в Курск понаблюдать за новой Куклой. Проводил ее от техникума до художественной школы. Остался пока незамеченным, рано еще себя обнаруживать. Мне нравится, что она учится рисовать, мне вообще все в ней нравится. Жаль только, что она все время в джинсах, и я ни разу не видел ее щиколоток и коленей. Но ничего, мы это исправим. На обратном пути заехал к цыгану узнать, как там сапоги. Они оказались готовы. Цыган молодец! Сделал все, как я просил. Хороший был день».
Антон Ильич, не отрываясь от чтения, потянулся за блистером с таблетками и тут же чертыхнулся, вспомнив, что запас иссяк еще на похоронах. Он тяжело вздохнул, погладил себя по пустому нагрудному кармашку, под которым зарождалась давящая боль, закрыл тетрадь и переключился на пейзаж за окном. Там до самого горизонта катили свои ржаные волны поля центрального Черноземья. Догорающее солнце окрашивало их гребни в красный цвет. Антон Ильич в очередной раз проклял себя за то, что какая-то глупая ностальгия по этим мрачным просторам сподобила его поехать на общественном транспорте. Ничего, кроме неудобств, духоты и вот теперь еще неприятного чувства беззащитности перед лицом болезни, он не испытал.
Родная деревня Орлинка оказалась настоящей дырой, дом обветшал, а мать, ради которой он предпринял это мучительное путешествие, лежала в беспамятстве. Только в последний миг она вдруг очнулась, узнала сына и, показывая иссохшей рукой куда-то на печную заслонку, сказала: «Антошенька, смотри, ангелы! Вот они, пришли за мной», — и откинулась на подушку с навеки застывшим выражением трепетной радости на лице. Это предсмертное видение матери произвело такое тягостное впечатление на Антона Ильича, что сердце его сразу сбилось с ритма и с этой минуты непрерывно требовало все новых доз валокордина.
«Хорошо, что все эти хлопоты уже позади, — подумал Антон Ильич, плавая взглядом по раскаленной докрасна линии горизонта. — Хорошо, что удалось так быстро продать дом, плевать, что задаром».
Он порадовался про себя, что уже недолго осталось трястись в пригородном автобусе, через пару часов он пересядет в ночной поезд до Москвы. И вернулся к тонкой школьной тетради, которую нашел среди документов, черно-белых снимков и пожелтевших квитанций за свет. На обложке печатными буквами было написано: «Антон Колобков. Остановка по требованию», а внутри на двенадцати листах в широкую линейку излагалась история, придуманная Антоном Ильичом в далекой юности. Повествование в ней велось в форме дневника. Автор записок рассказывал, как знакомился с девушками, пару раз встречался, втирался в доверие. А потом заманивал в курскую глухомань, якобы навестить больную бабушку. И неосторожные дурехи соглашались отправиться с ним на безлюдную остановку, где для них уже были вырыты ямы возле заброшенной силосной башни.
Крупный размашистый почерк, несомненно, принадлежал юному Антону Ильичу. Но вот хоть убей, пятидесятисемилетний Антон Ильич не помнил этого опуса. Единственным, что он узнавал в собственном раннем рассказе, была силосная башня. Точно такое же полуразвалившееся сооружение описал он в триллере «Автостопом до пропасти во ржи». Возле него он похоронил призрак одноклассницы Машки Боковой, которая отравила ему годы взросления. Она потешалась над тем, что он близорук, невысок и слаб из-за ранних проявлений сердечной болезни. Антон Ильич долго не мог забыть, как эта возомнившая себя местной королевой деревенская дрянь с издевкой выкрикивала его школьное прозвище «Колобок», ударяя на все три «о», и оскорбительно рифмовала с «лобком». И вот в своем романе он навеки запечатал этот поганый рот мебельным степлером, завернул тело срисованной с Машки героини в брезент и закопал у основания башни. Вместе с ней он похоронил и свое прошлое, сменив анекдотичную фамилию на скромный и благородный псевдоним — Орлов. Новый образ и пугающая расправа над школьной обидчицей принесли ему первую известность.
Теперь, с высоты тридцатилетнего писательского опыта, Антон Ильич видел все слабые стороны своего раннего рассказа. Так себе название, нестыковки в сюжете, неумело вылепленный, непоследовательный герой, действующий с разочаровывающим однообразием. Ну и главное — никуда не годное описание пяти убийств. Так пишут начинающие авторы триллеров, которые хотят впечатлить читателя ужасными подробностями. Писатель Орлов, умертвивший немало людей разных возрастов самыми разными способами, знал, что один страшный намек стоит десяти страниц многословного описания. Нужна наживка, полагал он, деталь, по которой скользнет луч фонарика, зажатого в дрожащей руке, и читатель сам дорисует картинку, сам вытащит из своего подсознания фантазии, способные привести в содрогание.
А надо ли вообще все это вытаскивать? Зачем? — неожиданно подумалось Антону Ильичу. Не последует ли воздаяние за всех этих созданных им фантомов, которых каждое прочтение книги заставляет вновь и вновь переживать свои участи? Не ждет ли его в потустороннем мире некая собственная деревня Орлинка, населенная недовольными мертвецами?
Эти странные и новые для Антона Ильича мысли прервал неприятный всхрап, он огляделся и с удивлением обнаружил, что напротив него, через проход, уткнувшись в грудь подбородком, дремлет какое-то грязное отребье. Антон Ильич неприязненно поморщился. Видимо, разбирая свои каракули, он не заметил, как автобус остановился и подобрал этого человека. Ему вообще-то были свойственны такие выпадания из жизни, когда не можешь вспомнить, зачем взял молоток или что делал вчера вечером.
Антон Ильич поежился, принюхался, ожидая уловить запах немытого тела, пота, высохшей мочи, но ничего, кроме автобусных выхлопов, проникающих в салон, не почувствовал. Этот факт немного примирил его с дурным соседством. На всякий случай он перекинул сумку через другое плечо, подальше от бомжеватого пассажира, и опять уткнулся в тетрадь. Там герою пришла в голову нелепая идея — а не убить ли водителя автобуса, который заметил его поездки с девушками и явно что-то подозревал? Антон Ильич даже хохотнул и в очередной раз подумал, что вот ведь как был наивен, нагородил совершенно неправдоподобной ерунды. И тем не менее было в этом рассказе нечто настоящее.
Талант — он сразу виден, похвалил себя Антон Ильич, дочитав текст, неожиданно оборвавшийся на полуслове. Аккуратно сложил тетрадь вчетверо и убрал в карман пиджака, к паспорту и бумажнику.
Незнакомец опять всхрапнул и вытянул в проход длинную ногу в грязном сапоге. Антон Ильич строго посмотрел на эту не по погоде обутую конечность поверх очков. И вдруг застыл, пронзенный ужасом узнавания. Этот черный потасканный сапог с высоким голенищем и железным носом был хорошо знаком ему. Он только что прочитал о нем в собственном рассказе. Именно таким железным наконечником выдуманный им тридцать лет назад орлинский маньяк сбивал жертву с ног, ломая малоберцовую кость. А потом выхватывал из-за голенища длинный, остро заточенный железный штырь и наносил первый удар.
Антон Ильич перевел испуганный взгляд с сапога на лицо незнакомца и обнаружил, что тот уже не спит, а пристально смотрит на него исподлобья. Взгляд у него был ясный и насмешливый, и Антон Ильич догадался, что и раньше он вовсе не дремал, а притворялся.
Сердце Антона Ильича дрогнуло.
— Тихо, тихо, тихо, — начал он умоляюще заговаривать его — мало ли, еще не такие бывают совпадения. В смятении он отвернулся от насмешливого взгляда к окну и вновь испытал неприятное чувство дежавю. По кровавым волнам ржаного поля плыли развалины старой силосной башни. Где-то тут, возле стайки чахлых придорожных березок и должна была быть та самая остановка по требованию.
— Что? Узнаешь? — раздался прямо в ухе Антона Ильича шепот, от которого сердце подпрыгнуло, как ужаленное, и бросилось бежать, спотыкаясь и проваливаясь в пятки. — Давай, выкатывайся, Колобок, тебе на выход, — приказал незнакомец, делая ударения на все три «о».
Антон Ильич вскочил и, едва поспевая за своим сердцем, метнулся к кабине водителя. Сквозь лобовое стекло он успел увидеть приближающиеся деревья и скамеечку, врытую в обочину. Припав к пластиковой перегородке, за которой хрипел шансон, он отчаянно крикнул: «Помогите»! Но смог издать лишь едва различимый мышиный писк. Потому что как раз в этот момент грудь его накрыла волна боли, а дыхание перехватило. Водитель, привычно истолковавший рывок пассажира к выходу, затормозил и распахнул двери.
Антон Ильич попытался вцепиться в поручень потными соскальзывающими руками, но насмешливый попутчик вырос за его спиной, больно ткнул под левую лопатку и вытолкнул из автобуса. Последнее, что успел предпринять для своего спасения Антон Ильич — поймать озадаченный взгляд водителя, но, судя по всему, тот так и не понял, что пассажир взывает о помощи. Двери клацнули за спиной Антона Ильича, и он побежал.
Он не смог преодолеть и пятидесяти метров. Нетренированные ноги запнулись о камень, притаившийся на дне ржаного поля, и Антон Ильич рухнул на четвереньки, жадно хватая воздух ртом. Прямо перед собой он увидел железное острие сапога и осознал всю бесполезность своих попыток спастись. Антон Ильич не нашел в себе сил встать с колен, но смог выпрямиться и обратить лицо к чудовищному предсмертному видению, явленному ему в безлюдном поле. Полыхающий красными бликами ветхозаветный закат заслоняло существо, собранное из каких-то кусков обветшавшей плоти, длинноногое, худое, с развевающимися прядями седых волос. В некоторых местах в нем были прорехи, сквозь которые просвечивало зарево. Существо это пожирало Антона Ильича жадными свирепыми глазами.
— Тебе привет от Машеньки, — сказало оно и, выхватив из-за голенища ржавый железный штырь, всадило его в бедное сердце Антона Ильича, которое все еще пыталось бежать, бешено стуча клапанами.
Антон Ильич захрипел и некрасиво повалился в траву с искаженным от боли и ужаса лицом. Его сбившиеся набок очки поймали последний отблеск заката и мелькнувшую тень неизвестной полевой птицы.
***
На бездыханное тело писателя Орлова наткнулись только через три дня. Местный врач констатировал смерть от сердечного приступа. Смерть эта в столь странном месте и найденная при покойном тетрадь вызвали подозрения и заставили поднять давние нераскрытые дела. Почти километровый участок вокруг силосной башни огородили, затянули желтыми лентами и тщательно перекопали. Полиция искала останки пяти девушек, пропавших в Курской области еще в 80-е, но ржаное поле вернуло только одну. Страшная находка была завернута в кусок брезента, на ее полуистлевших губах повисли ржавые скрепки.
Опознать жертву так и не смогли.

Платье
Был медленный-медленный сентябрь, и в тот вечер они долго рассаживались за чайным столом, покрытым взрыхленной ручьями складок скатертью. Сгусток топленого солнца оплывал в нарастающей синеве, и вместе с ней наставал праздник Рош-ха-Шаны со всеми его разговорами, яблочными дольками и пиалами с медом, к которому слетались сонные осы: одна из них неизменно тонула и медленно потом уходила на дно, покрываясь янтарным сахарным панцирем. Он покатал во рту смоляную сладость сухого вина, обдающего нёбо терпким и горьковатым, взял липкими пальцами белый яблочный бок, встал в дверном проеме и облокотился на книжную полку — ему не сиделось. В коридоре пахло анисовой водкой и свалявшимся ковровым ворсом, переливающимся шерстяными бурханами под его босыми ступнями. Экран старого телевизора шел сигнальной рябью; за столом внезапно замолчали. Он поднял голову от стеклянного края бокала и взглядом уперся в мамину руку, показывающую куда-то над головами сидящих.
Воздух в комнате вдруг стал намагниченным, вспененным, и в бокале его вино восставало и опадало, и в графине, полном закатных бликов, оно опадало тоже. Вздувались занавески, за окном послышался возглас заполошной их соседки Цили; он вдруг ощутил, как под его плечами медленно ходит вперед и назад дверной косяк, вторя крахмальному кружеву, как вздымается медленно, от края к краю, вода в жестяном тазу — в нем лежали хрусткие расхристанные стебли молодого лука, они колыхались в воде. Вокруг всё заволновалось и заходило, накренилось в закатном свете; потолок нехотя задвигался вслед за дверным проемом, загремели отодвигаемые гостями стулья — вдруг все разом заговорили, зашумели, нужно выходить, надевайте теплое, позовите кто-нибудь Марью Степановну: но вот уже она и сама показалась в дверях смежной комнаты, шаркая и чихая со сна — старушку явно мутило, и, подхватив под сухонькую руку, ее увлекли за собой. Остальные стали продвигаться к выходу в беспокойном гвалте — в прихожей тут же образовалась сутолока: он один все стоял в дверном проеме и глядел то на бокал, то в окно, где уже надувался, настраивался какой-то гигантский духовой оркестр, тяжело нарастал волновой рев несуществующих пропеллеров, и воздух сгущался, полосуемый сигнальными огнями. Хлопала дверь: с лестницы раздавался дробный и гулкий стук подошв — он стоял, чувствуя, как кто-то огромный медленно расправляет жилы и поводит своими исполинскими плечами прямо под его ногами, радуясь внезапному пробуждению недовольного существа. Выждав еще несколько секунд, он допил вино и, отставив бокал, так и вышел, в чем был — прочь; за лопатками его с грохотом схлопывался звенящий вечерний воздух, и с хрустальной горки бешено сыпались чайные ложки.
…Первой умерла Марья Степановна — через пару месяцев после землетрясения: ушла она тихо, вдруг разом устав от своей долгой, дикой, цыганской жизни. Накренившись, привычный мирок вечно галдящей родни начал подтаивать и опадать, точно пломбир в липких детских ладонях. После как-то незаметно они похоронили маму — и люди стали растворяться один за другим с такой дивной ритмической регулярностью, что пустозвонные многоголосые панихиды превратились в ежемесячный ритуал. В тот день, когда сам он вдруг забыл название улицы, на которой жил вот уже почти сорок лет, и долго затем барахтался в смущении на заднем сиденье маленького замызганного такси, — в тот день стало окончательно ясно: настала какая-то совершенно новая жизнь, которая строится угловато и странно. Засыпать стало сложнее: ежедневное неприсутствие сна накладывалось слоями одно на другое, как пирог. Он ложился в постель и плыл в водоворотах слогов и аллитераций, бессознательно нанизывая образы друг на друга и барахтаясь в белом шуме нереализованных ритмических сцепок. Буквы набухали, накапливались кириллическими маковыми зернышками и беспорядочно ссыпались комьями с бурханов; слова постепенно перестали значить хоть что-либо. Болезненный словодельный зуд в подвздошье стал фоном для его жизни, электрическим полем, колющим пальцы и локти; страницы длинных, почему-то ничем не заполняющихся дней трепыхались вокруг заполошным ветром, отходили от школьного ватмана уголками расхристанных и наспех приклеенных журнальных вырезок, и мир, полный запахов и набивающегося во все щели тополиного пуха, стал театром безымянных теней и многоглавых чудовищ. Память хранилась где-то в подвздошье — и без памяти, без ее спасительной ясности существование его превратилось в окруженную тяжёлым безмолвием клоаку, поглощавшую даже поверхностные минутные просветления; бульвары, храмы, облака обтекали его неосязаемыми белесыми реками, ему же только лишь все время хотелось лечь, свернуться улиткой в своей вдовьей постели и не думать, не думать, остановить глупое, мучительное пережевывание резко обессмыслившихся слов.
Первой забеспокоилась дочь — вернувшись с очередного гимнастического съезда, она долго заполошно рылась в картонных обувных коробках со старыми фотографиями в поисках свадебных, а найдя, учила его, точно маленького:
— Это Лена, Леночка, скажи по буквам — Ле-на, вы познакомились в семьдесят первом, ты поехал тогда с расследованием в Нижний, помнишь, рассказывал, что платье у нее было точно с картинки, ты платье-то первым и заметил — белое оно было, и подол еще был — вышитый?
— Ле-на, — произносил он с удовольствием. Это переливчатое слово было спокойным и легким, с этим его восходящим «ле» и нутряным, утвердительно-откровенным, падающим «на», и оно действительно что-то ему напоминало, что-то знакомое было в нем, и он долго перекатывал его, это слово, под небом, как леденец или как тянучку, которую покупал на сдачу от кефира в детстве: название у тянучки тоже было, и его он забыл тоже.
Постепенно он обучился отслеживать внутренний механизм забывания, когда память соскальзывает вглубь, в нижние слои сознания понемногу, будто стекающая по телу вода, и начал даже получать от этого странное удовольствие. Почему-то снова пришла осень, будто и не было этого последнего года, и сидя на скамейке возле приемного покоя он чувствовал, как вместе с отчаянной лиственной круговертью вокруг него клубятся ниточки, шелушинки, липкие семена — вот тонкая смуглая горбинка носа, вот взмывающие вокруг чьих-то тел простыни, вот сумрачный профиль напротив полуоткрытого окна; вот платье, белое платье — подол его он помнил отчетливо, помнил, как тот взмывал на качелях парапланом и хлопал заполошной кипенью вокруг чьих-то отчаянно любимых колен — но когда взгляд его поднимался выше, вместо девичьей головки почему-то на него наставлял свой загнутый восковым крюком нос все той же Марьи Степановны. Он твердил про себя: «Запомнить, никогда не забыть», но все это на глазах иссушалось, истончалось, становилось матовым и пепельным. Он глядел в утреннюю даль с веселым вниманием, высматривая среди золотистых занавесочных отсветов белый кружевной подол; он смотрел, как стареет ночь — с наглухо переполненным памятью сердцем.
— Ле-на, — говорил он, и улыбка озаряла его бессмысленное лицо. — Ле-на.

Побег
Словно обронили на асфальт монетку. Мимолетный вскрик соприкоснувшихся металлов — благородного и другого, опороченного тысячами прикосновений. Все просто: поезд метро тормозил, и когда вокруг стало почти что тихо, вагон пошатнуло, и она, пытаясь удержаться, с замахом первобытного охотника уцепилась пальцами за поручень. Обручальное кольцо звякнуло тихо и тонко, но Николаю показалось, что его позвали. Никто больше не услышал. Никто не увидел, как она, потерев большим пальцем маленькую золотую удавку, немного поморщилась, а потом первой шагнула прочь из вагона.
Что-то в груди Николая всколыхнулось от возмущения и обиды, и он, подумав, что его обкрадывают, кинулся следом. Он шел, глядя себе под ноги, но точно зная, чувствуя, что она идет впереди. Другая ветка, другой вагон, а внутри смятение все то же. Николай сел напротив нее и стал беззастенчиво рассматривать, как что-то, принадлежащее ему уже очень давно. Верхняя часть лица ее была удивительно молода: ясный живой взгляд, плоский лоб, покрытый веснушками, чуть вздернутый нос, который она, быть может, любила проворно совать в чужие дела. Но от сухих губ расходились трещины глубоких морщин, а щеки одрябли и повисли, совсем как у французского бульдога. Казалось, будто бы на нее, такую юную и беспечную, натянули лицо старухи, и носила она его теперь неловко и неумело, словно медицинскую маску.
Они несколько раз встретились глазами. Она вопросительно вскинула бровь, и Николай кивнул, решив, что таиться тут глупо и бессмысленно. Вышли на ее станции, побрели рядом медленно и безмолвно. Это обычно совсем не то, что позволяет себе женатый мужчина по отношению к замужней женщине, но Николай по-мальчишески просто взял ее за руку. Она улыбнулась уголком уставшего рта и привалилась к нему плечом.
Потом были встречи. Бесконечно короткие, пылкие, чудные. Они то часами молчали, то целовались на лавочке прямо возле ее дома, то ездили на машине вокруг работы его жены и как заговорщики хихикали, встречая на улице соседей. Но больше всего, конечно, они любили разговоры. Кажется, еще друг друга, но разговоры больше. Они выяснили, что вступить в брак в университете — не очень хорошая идея. А еще женщины бывают слишком сильны и строги, а мужчины глупы, мелочны и ни на что не способны. И жить рядом с такими людьми невозможно. И годы, годы, годы пролетают мимо с невообразимой скоростью, а радости в них не наберется и на час.
Но теперь все было иначе. Они были друг у друга. Они придумывали друг другу легенды и истории, они и боялись, и одновременно жаждали возвращения домой, упиваясь совершенно новой и незнакомой для них опасностью шпионской игры.
Когда ее муж все вызнал, разразился скандал. Правда, совсем мимолетный, ей хватило всего-то на один вечер обсуждения с подругами. Потом был развод, растерянный взгляд и полуночные эсэмэски с приевшимся: «А что же сделаешь ты?.. Когда же ты скажешь?.. Уйдешь?» Николай смотрел на них и понимал, что пора. Как сказать жене, не знал, поэтому просто подсунул ей телефон. Она прочла. Помолчала с минуту, а потом только посмеялась. Спросила, надолго ли, и, широко зевнув, повернулась на другой бок.
Николай не спал. Всю ночь сидел на кровати, зачем-то поглаживая пальцами пыльный торшер, опасливо косясь на вздыхающий сверток, как будто бы бывший его женой, и думая о том, что менять жизнь все-таки страшно. Под утро он попытался отвоевать хоть уголок одеяла, но из-под свертка высунулась нога, легонько его пихнула, а потом голос жены велел ему взять простынь или чистый пододеяльник. Николай покорно завернулся в простыню и, совсем озябнув, утер нос и понял, что так жить дальше он не сможет.
За ужином, когда Николай вяло жевал ненавистные рыбные котлеты, жена подлила ему чая из заварника, ласково погладила по плешивой уже голове и пожурила пальцем, как провинившегося школьника. Посчитав чашу оскорблений переполненной, Николай взвился и потребовал развода. Он топал ногами, разбил тарелку, рвал пуговицы на рубашке и не своим голосом орал: «На-до-е-ло!». Жена допила чай, спокойно пожала плечами и скомандовала Николаю все убрать.
Когда всего через неделю они пошли подписывать бумаги, Николай почему-то чувствовал себя скверно. Хотелось со всеми ругаться и скандалить. Он отправил эсэмэску, что все в порядке, и в ответ получил шторм из губастых смайликов.
Когда Николай явился к ней с чемоданами, он неожиданно почувствовал себя неловко. Они сидели на краю дивана, робко косились друг на друга и совершенно не понимали, о чем же теперь можно говорить, если надоедливых мужа и жены больше нет и в помине.
Решив, что мучительные годы соскребаются только морской солью, они тут же рванули в Крым. Заселялись долго, с мелкими неурядицами, потому что выяснилось, что друг о друге им вообще ничего не известно. И даже чувства, охватившие их на первых порах, казались теперь не такими радужными и лучезарными. Дух приключений растворился в повседневности, морок очарования окончательно спал.
На третью или четвертую ночь они побежали на пляж купаться голыми в надежде на то, что это не совсем законно, и близость вновь заиграет яркими красками. Но волшебства не случилось: они глазели друг на друга сконфуженно и недоуменно, а потом, прикрывшись всем, чем можно, поволоклись обратно в номер.
Однажды на рассвете, когда комната купалась в мягкой неге розового света, Николай понял, что она тоже не спит. Они смотрели друг на друга одну долгую, протяжную минуту, а потом вдруг расхохотались. Роковой любви не случилось. Как не случилось оглушительной страсти, разбитых судеб и страданий размером с целый мир. Они просто заскучали и уцепились друг за друга, как за единственный шанс сбежать оттуда, откуда сбежать им не составляло никакого труда, потому что никто их там не удерживал.

Поле
Ярко-оранжевый лист медленно падал с дерева. В город снова пришла осень.
— А ведь только конец августа, — прошептала бабушка.
Ветер подхватил лист и понёс его куда-то вдаль. Ленка побежала за ним. Она смеялась. Я покатил следом.
— Ленка, постой! Подожди меня!
Но Ленка уже ничего не слышала. Сейчас для неё существовал только этот кленовый листок, больше ничего не было. Время остановилось, и мне хотелось тоже остановиться в этом времени. Ветер переменился, подняв в воздух ещё летнее Ленкино платьице. Она восторженно засмеялась.
— Костя, смотри, я будто в кино!
Ленка кружилась, её косы напоминали пропеллеры. Мне казалось, что ещё немного и она взлетит, как тот яркий осенний лист. Я пыхтел, пытаясь угнаться за ней. Смех душил меня. Радостные мгновенья бывали так редко последние дни, что этот мне хотелось запомнить навсегда.
— Лена, Костя! Немедленно вернитесь! — Бабушка не могла угнаться за нами.
Сестра услышала угрозу и подбежала ко мне. Она не собиралась так просто сдаваться. Лена схватилась за ручки моей коляски и побежала прямо в траву. Где-то там виднелась тропинка, ведущая в середину поля. Раньше мы часто играли здесь в прятки. Идеальное место, надо сказать, высоченная трава скрывала Ленку по самые уши, поэтому найти тут её было очень сложно. На коляске тоже проехать было непросто. Я испугался. Если Ленка отпустит коляску, то я отсюда не выберусь.
— Только ты не бросай меня, — прошептал я.
— Не бойся, братишка! Я тебя ни за что не брошу!
Ленке было всего восемь, но она была очень умной, на все десять! Учителя постоянно хвалили ее. Так говорила мама. Я не ходил в школу. Меня дома учила бабушка, поэтому меня хвалить было некому. Я не сильно расстраивался из-за похвалы, но сильно завидовал Ленке. Мне тоже хотелось бегать на перемене, играть в футбол и собирать червяков. Ради такого я даже был готов просыпаться рано каждое утро и делать домашние задания.
Мы неслись сквозь заросли травы. Где-то далеко кричала бабушка. Мне в рот то и дело попадали невкусные мухи. Мухи вообще редко бывают вкусными. Мотыльки совсем другое дело. У них посыпка на крыльях сладкая-сладкая! Будто сахарная пудра. Но бабушка никогда не разрешала есть мотыльков. Мух мне тоже есть не разрешали, но сейчас оно само по себе так получалось.
— Набираем первую космическую скорость!
Я развёл руки в стороны. Мы летим! Тропинка была похожа на змею: она изгибалась, и за каждым поворотом скрывалось новое приключение. Я был быстрее ветра! Мне хотелось, чтобы так было всегда. Только я, ветер, бесконечное поле и Ленка, которая меня ни за что не бросит.
Новый поворот. Вдруг меня резко дёрнуло куда-то вверх. На несколько секунд я действительно взлетел. А потом всё закружилось. Я почувствовал резкую боль в плече. Где-то закричала Ленка. Она была так далеко. Я открыл глаза. Прямо передо мной сидел кузнечик. Он смотрел на меня своими странными глазами.
«Кузнечики тоже вкусные. На вкус как курица».
— Лена! Где Костя?
Бабушка кричала. Ленка рыдала. Я лежал в траве.
«Если я закрою глаза, то исчезну. Стану полем, как всё вокруг. Интересно, сколько нужно так лежать, чтобы тоже покрыться травой?»
— Костя! Внученек! Ты живой? — Шершавая бабушкина рука дотронулась до щеки. Я задышал усерднее, чтобы она понимала, что я живой. — Живой! Ох! Живой!
Я открыл глаза. Зарёванная Ленка подвезла коляску. Её щёки распухли еще сильнее из-за слёз. Из косичек торчали пучки травы, коленки и локти были покрыты ссадинами. Она пыхтела и вытирала нос подолом платья.
— Ах вы, паразиты! Куда уехали! Мне же не угнаться за вами. Больше не пойдем на поле. Я говорила вашей матери, а она! Всё! Будете дома сидеть. Пусть отец с вами гуляет.
Бабушка вцепилась мне в плечо и приподняла над землёй. Я и сам мог вернуться в коляску, но бабушку это пугало. Она подхватила меня под мышки и затащила в кресло. Это всегда было очень больно, но сейчас эта боль на секунду перекрыла тупую боль в плече.
«Будет синяк, — подумал я. — Интересно, а он сначала будет фиолетовый или сразу коричневый? Почему вообще синяки бывают разных цветов?»
Мы пошли домой. Бабушка причитала всю дорогу, рассказывая о том, как она нас любит, но какие же мы непослушные. Кашу она с нами варить не будет, гулять больше тоже. Но такими восклицаниями заканчивалась почти каждая наша прогулка. Через несколько дней бабушка зайдет в нашу с Ленкой комнату и скажет что-то вроде:
— Совсем дети света белого не видят! Сидят в четырёх стенах! А на улице такое солнышко. Пойдёмте хоть во двор выйдем.
Мы выйдем во двор, а потом Ленка погонится за какой-нибудь бабочкой, и вот мы уже на поле. Таком большом, почти бесконечном. Мы никогда не доходили до конца поля. Казалось, что за ним скрывается весь мир. А может, и наоборот, что весь мир — это и есть это поле. С невкусными мухами, сахарными мотыльками и кузнечиками, которые на вкус похожи на курицу.
— Сильно ушибся? — прошептала Ленка мне прямо в ухо.
— Не. Плечо только ушиб.
— Синяк будет, — многозначительно произнесла сестра, тыча пальцем в место ушиба. — Интересно, он будет фиолетовый или коричневый?
Я же говорю, развита Ленка на все десять!
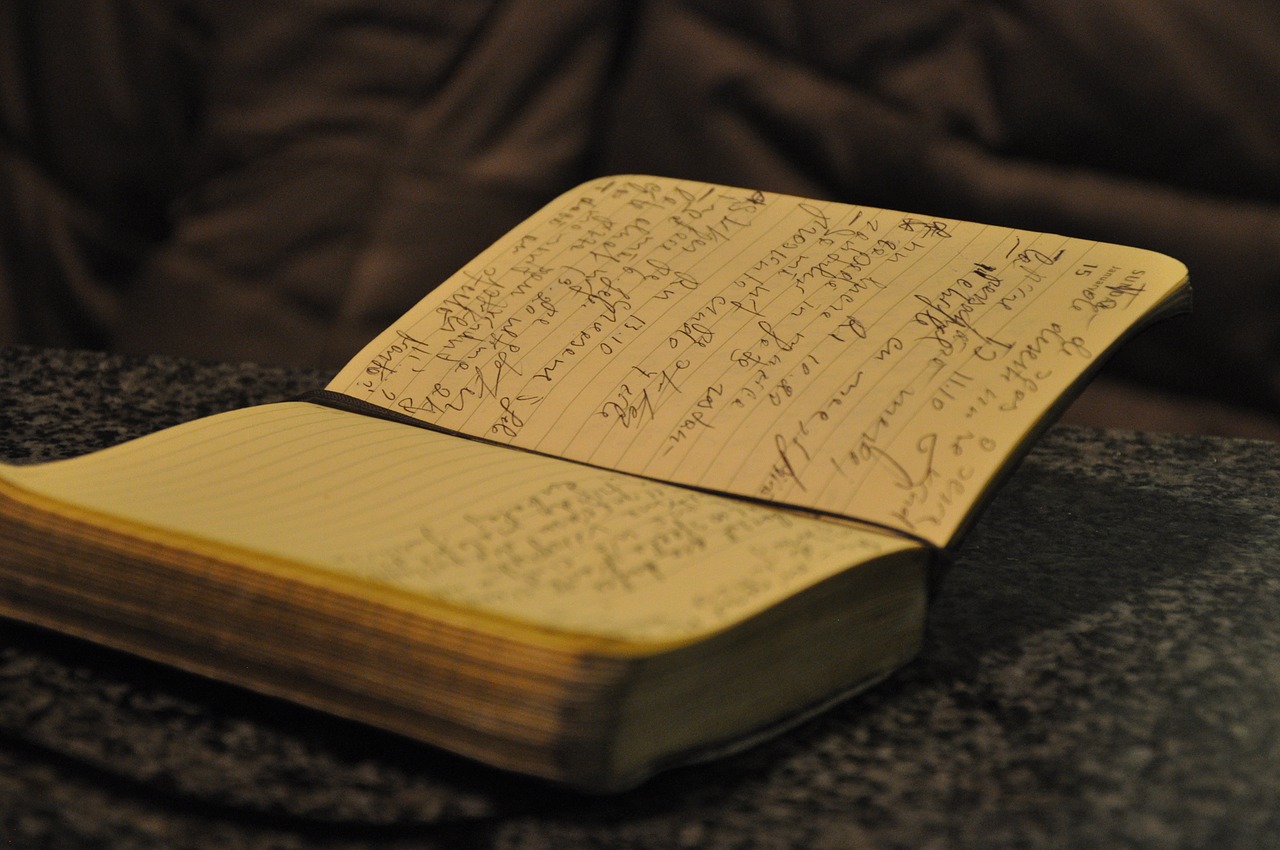
Путь домой
Нина Ивановна стоит на последней ступеньке, вцепившись в поручень, и тяжело дышит. Ветер здесь дует не так сильно, так что можно и передохнуть. В ста метрах — мрачная шестнадцатиэтажка, которая защищает ее своими широкими плечами.
На пути до дома пять лестниц. Если пойти другой дорогой, то три лестницы и два крутых подъема. Обычно Нина Ивановна выбирает второй путь: в горку идти проще, чем вверх по ступеням. Но сегодня подъемы занесены снегом, а под снегом — лед. У лестниц хотя бы есть поручни. Позади первые две.
Там, откуда она приехала, нет нужды в лестницах: нет ни сопок, ни косогоров. А если и встречается какой-нибудь холмик, никому не приходит в голову строить на нем многоэтажки. Там нет моря с характерным сырым воздухом и ветром, от которого не спасает даже каракулевая шуба в пол. Зато есть березняки: целые рощи высоченных, тоненьких, прямых березок. Некоторые настолько тонки, что издалека похожи на прутики. Здесь тоже есть березы, но они больше напоминают пораженные артритом пальцы. Кривые, узловатые, некрасивые.
Да и зимы там другие. Снег тихо падает почти каждый день, и земля почти неизменно белая. Его приминают прохожие, топчут кони, раскатывают повозки, а на следующий день снова присыпает, и снова красота. Хотя какие кони и повозки, одергивает себя Нина Ивановна. XXI век на дворе. Может, и нет больше той ежедневной зимней сказки. Тоже машины, тоже грязища, тоже никто улицы не чистит… Но даже если так, все лучше, чем здесь: всю зиму ни снежинки, светит холодное низкое солнце, а к середине февраля — бабах! — буран, вьюга и снег до второго этажа. Через пару дней его почти полностью сдувает этот колкий, вездесущий ветер.
Третья лестница длиннее предыдущих, к тому же разваленная. Нина Ивановна преодолевает ее в три приема, первый раз останавливаясь ступеньке на десятой и второй раз — ближе к концу. Место открытое — шестнадцатиэтажка осталась позади, и долго стоять невыносимо.
Год назад она чуть было не поехала туда. Год назад она собирала сумку и не могла поверить в происходящее. Год назад у нее в руках был билет на запад. Разумеется, не в прямом смысле: его купили дети, так что он был электронный и смотрел на нее с экрана дочкиного компьютера, но был ничуть не хуже бумажного.
Вместо телевизора по вечерам она продумывала маршрут. Сначала — в родную деревню. Дойти до здания школы (осталось ли от него хоть что-то?), а от него козьими тропами — до пирса, где по утрам висел туман, а по вечерам сидели неопрятные старшеклассники. Затем в город, к дверям родного университета. Даже если ее не пустят внутрь (а сейчас никуда не пускают — везде охрана, все по пропускам), не беда — она хотя бы сфотографируется на его фоне. Оттуда, мимо памятника Чкалову, — к длиннющей лестнице, которая спускается почти к самой Волге. Как она будет спускаться с ее-то ногами Нина Ивановна не представляла, но решила, что как-нибудь на месте разберется.
Так она планировала каждый вечер — что-то записывала в специально заведенную тетрадочку, что-то проговаривала в голове — пока однажды, за пару месяцев до поездки, не почувствовала себя паршиво. Семейный врач и бывшая коллега Маргарита Павловна поставила диагноз: гипертонический криз.
На вершине третьей лестницы Нина Ивановна останавливается и опирается спиной о поручень. Колени ноют, в груди горит. Глаза, исколотые крупинками снега и ветром, наполняются слезами, и ей вдруг хочется разрыдаться в голос. Она достает из кармана шубы аккуратно сложенный платок — розовый край, мелкий цветочек — и прикладывает его к глазам. Ладно. До дома недалеко, а последняя лестница — самая короткая, дойдем.
Восстановилась она тогда быстро, но стала постоянно тревожиться. Если бы ее спросили, что именно ее беспокоит, она бы не смогла ответить. Просто какой-то холодок внутри и непроходящее чувство, будто она что-то делает не так. Что еще хуже, дети перепугались и хотели теперь сдать билеты.
– Лететь девять часов, мама! — почти кричал сын в ответ на ее заверения, что все будет нормально. — У тебя гипертония, это не шутки!
— Маргарита Павловна сказала, что после такого эпизода лететь опасно, — ласково вторила дочь.
— Маргарита сказала, что есть риски, — возражала Нина Ивановна. — Запретить — не запретила.
Маргарита и правда не запретила, сказала только, чтобы Нина Ивановна приняла «взвешенное решение». Она не хотела ничего взвешивать: тетрадочка уже исписана, компрессионные колготки куплены, билет по-прежнему живет в дочкином компьютере — куда отступать? Но тетрадочку открывать почему-то больше не хотелось.
Недели за три до вылета билет был по-прежнему не сдан, а дети все спорили — теперь уже между собой.
— Я все понимаю, но ты же видишь, как ей тут тошно, — говорила дочь.
— А тебе не будет тошно, если она в самолете… того? — язвительно спрашивал сын.
— Не говори так. Я буду с ней.
— И что? Как ты ей поможешь, если вдруг чего?
— Ну почему ты так уверен, что обязательно будет «чего»?!
— Я, видно, за нас двоих думаю!
— Борь, — устало проговорила дочь после паузы. — Я тоже переживаю. Но ты пойми, у человека мечта. Я хочу ее исполнить.
Снова пауза. Борис явно перестал ходить взад-вперед по комнате и опустился на какую-то поверхность. Тихо, напряженно произнес:
— А что с ней будет, когда она исполнится?
Стоявшая за дверью Нина Ивановна в тот момент почувствовала, как тревога и холод из груди поднялись выше, к горлу. В ушах зашумело. Она ушла в свою комнату, села за туалетный столик, положила перед собой свою тетрадочку. Перевернула несколько страниц, как-то безрадостно усмехнулась наброску Чкаловской лестницы, который получился неплохо, вопреки уверенности, что у нее руки-крюки. Позвала дочь, а когда та пришла, сказала:
— Наташенька, я тут подумала. Сдай-ка ты билеты. Так лучше будет.
Последняя лестница. Нина Ивановна останавливается, чтобы немного подышать перед подъемом. Бывают дни, когда она жалеет, что вышла из дому. Поход в магазин — полоса препятствий: иногда просто неприятных, иногда — опасных для здоровья. Но как не выходить? Это как жалеть о том, что она села в поезд, который привез ее сюда пятьдесят лет назад. Тогда ведь тоже думала: «А как не сесть?»

Совершенство
Все смотрели на него и на разные лады шептали друг другу непонятные ему слова, их шум давил на голову, и он прикрыл ладонями уши, вместе с шумом унялась, наконец, и комната, перестала вращаться вокруг него и этих незнакомых людей.
Впрочем, не все были совсем уж чужие, он узнал соседку из сорок восьмой — она зачем-то пришла и шевелила своим маленьким ртом вместе со всеми, вскидывая морщинистые руки, знакомой казалась и бледная девушка рядом с одним из хмурившихся мужчин , «дочь этой, из сорок восьмой, или другая соседка» — решил он (не запоминал будничных людей и их лица), больше ей быть все равно было некем, она и казалась никем с этим своим носом-картошкой — тот портил, в сущности, неплохое лицо.
Он скучающим взглядом разглядывал группу из четырех мужчин и двух женщин, продолжая зажимать ладонями уши, и думал о ловко устроенных им тайниках на самом виду. Велосипед и мяч они, конечно, заметили в коридоре, зато остальные игрушки — точно нет. Он спрятал радиоуправляемые танк и машинки в откидывающемся диване, на нём, широко расставив ноги в грязных ботинках, по-армейски вальяжно сидели двое мужчин; рогатку, стрелы, лук, ружье и индейские перья — в стенном, замаскированном под обои шкафу; любимого плюшевого енота он поставил на пустую книжную полку — нравилась его полосатая бандитская морда — никто не заметил. Он улыбнулся в пространство, стараясь взглядом не выдать енота. Особую же гордость испытывал он от спрятанного большого набора юного доктора, пистолетов и кукол — эти сокровища хранились прямо под ногами не подозревавших пришедших.
Набор давно еще подарил отец — блестящий хирург, привез из-за границы однажды (из Германии, кажется). Он с тех пор многое обновил и дополнил в нем, но дух и сама коробочка с инструментами были те же, отцовские. Он обожал возиться с набором.
Серая комната выглядела опрятно и строго. Металлический отлив изысканных штор бесстрастно отражал дневной свет. На полках не было ни пылинки, бумаги на черном столе лежали в абсолютном порядке. Кресло, квадратный ковер, диван, тонкий стеллаж, пустая рамка — всё было замечательно перпендикулярно друг другу. Разве что на полке енот… но он нарочно оставил его — посмотреть, кто заметит. Прятать игрушки он давно научился. Они всегда вызывали много шума и звуков, если кто-то их видел, и еще больше — если заставали игру. Шум мешал слышать музыку. Он покосился на тугие корешки пластинок, аккуратно рассортированные на специальных полках. Чтобы отвлечься, вообразил Малера, симфонию №4. Слушать — даже воображаемое — с закрытыми ушами он не мог, пришлось отнять руки. Раздались громовые удары вступления, осторожно побежало аллегро, вкрадчиво пронеслись бубенцы, вторая часть — скерцо, ворвалась дисгармония, прикрылись глаза.
— Саша, но как же…
Игла соскочила с пластинки. Бледная, плавно изогнутая, девушка как будто протягивала к нему руку, другую прижимая ко рту. Она по-прежнему стояла в безопасной тени широкоплечего хмурого пиджака. «Что “как же”, что ей надо?» Что им всем от него надо? Ворвалась какофония, гул, голоса, все куда-то снова бежало, крутилось. Он упал на ковер. Отсюда земляные кусочки чернеющей грязи возле ног у дивана казались черными одуванчиками на длинных белых ножках-ворсинках ковра.
Всё было так идеально, так прекрасно и чисто вчера и всегда. Этот день всё испачкал, испортил. Одуванчики разрослись по ковру, поползли по стенам, по людям, наконец, добрались до него.
Ему всегда запрещали играть в кукол — как запрещали многое в доме, отец нещадно лупил, когда заставал его с ними в руках. Досада и обида только поначалу мешали, довольно быстро он научился прятать неугодные вещи. Ему страшно нравилось переодевать модельки людей: рубашка с того, топик от этой, юбка из ловко подвязанного носового платка. В своей обычной одежде, под пластиковыми футлярами упаковки, куклы были безликими, неидеальными — «заготовками». Он создавал из них личности, отпарывал изъяны, вдыхал совершенство. Он научился сносно шить — разумеется, втайне, — и уже сам создавал для кукол костюмы, воруя у матери иглы и нити. Но одежда не позволяла до конца изменить их, как он хотел, сделать цельными, уникальными, идеальными. Куклы были теми же, хоть и под новой одеждой. Переодевание перестало удовлетворять.
Когда принялся за перемену пластиковых частей тела, он уже не таился. Однажды он так увлекся, вплетая волосы от двух разных кукол в усеянную точками лысую голову третьей, что не заметил, как пропустил ужин, как отец спустился за ним в подвал, где он оборудовал свою тайную мастерскую, разложив по разным коробочкам платья, руки, ноги, безволосые головы. Он чуть не подпрыгнул на месте, когда тяжелая рука мягко коснулась его плеча, и уже покорно опустил голову, ожидая привычной расплаты, когда вместо ругани и унижения услышал в голосе отца благосклонность и одобрение. Он не помнил в точности его слова, в памяти запечатлелось только слово — «достойно». С тех пор он уже никогда не опускал своей тёмной головы с прилежно зачесанными, непослушными волосами.
На охоте приходилось пользоваться бейсболкой. Он ненавидел головные уборы, но еще больше раздражал его пот, неминуемо путавший волосы во время погони. Охота появилась в его жизни случайно: как-то раз согласился от скуки составить компанию в лес туповатому приятелю, вечно вившемуся возле него; приятель тот — как и прочие — наскучил и скоро исчез, охота же стала неотъемлемой частью жизни, почти ритуалом. Больше всего он любил ходить на кабана и медведя — олени, лоси, косули были слишком лёгкой добычей, эти же двое были вдвое умней и хитрей травоядных, легко могли бы сами напасть на него. Их мясо было честной добычей. Он бегал каждое утро, закалялся, умел голодать и мог с легкостью подолгу находиться в засаде. Хорошо изучив повадки и поднаторев, он вскоре усложнил действо — становившееся с опытом лёгким — он обнаружил прелесть охоты с холодным оружием. Рядом с винтовкой лежал дорогой блочный лук и набор карбоновых стрел с ярко-красными перьями, в полёте они звучали как пронзительно острое стаккато смычка.
Жизнь его всегда была наполнена музыкой, прекрасной и совершенной. Было немного жаль, что отец с матерью не могли разделить его благоговения, когда внутреннего слуха касалась вдруг восхитительная мелодия, божественная, почти невыносимо идеальная. Так он начал их впервые записывать — ему хотелось поделиться невидимым миром с родителями, они были единственными, кто хоть сколько-то его занимал из людей. Оказалось, что мать втайне от него и отца послала его сочинения в консерваторию. Он был зачислен без конкурса на второй курс.
После смерти родителей их место заняли великие композиторы прошлого, он зачитывался их дневниками, знал наизусть партитуры. Среди современников он отмечал в равные разве что одного японца, который, казалось, ближе всех сумел подобраться к изначальной, инфернальной музыке сфер, остальные же с разным талантом просто иначе перекладывали то, что до них уже давно сочинили. Он получил грант и постоянный контракт с министерством культуры до того, как получил свой диплом.
До работы снисходил раз или два в месяц — он быстро понял, что во всей своей полноте из ныне живущих музыка доступна ему одному (может, еще двум коллегам-счастливцам: старому норвежцу и молодому японцу), и делился с министерством крошками, «объедками» своего таланта, за которые получал баснословные гонорары. Большую часть времени он по-прежнему проводил за своими любимыми занятиями: игрой с куклами — её он тоже уже усложнил, охотой (в сорок два он был в той же форме, что в двадцать, лишь скулы чуть заострились) и сочинением настоящей музыки. Записи с ней он хранил в банковской ячейке, завещав нотариусу уничтожить их вместе с его фешенебельной многоэтажной квартирой после своей кончины. Он видел, что мир еще не дорос до его музыки и наследия, и с упоением писал её для себя.
Бледная девушка всхлипнула и мелко дрожала, теперь она напоминала ему одну из кукол. Он мог бы сделать её тоже прелестной, даже вроде бы собирался…
— Александр Прокофьевич, вы меня слышите?
Голос подал один из сидевших. Он уделил ему движение зрачков, аккуратно поднялся и снова сел на ковре по-турецки, не спеша расправив складку на брюках, и пригладил элегантно выбившуюся густую черную прядь.
— Где они, куда вы дели тела?

Спички
Отец говорит, ботинки всегда должны быть начищены.
Вечером он проверяет, верно ли я оставил его кожаные «Кавалли» на обувной тумбе — ровно по центру, носками к двери.
На следующее утро они всё еще пахнут воском. Я задерживаюсь у выхода на несколько секунд, чтобы их липкая, скользкая вонь успела пробраться в мои лёгкие и неприятной дрожью свернуться где-то у верхней стенки желудка.
Отец говорит, преимущество всегда за первыми.
Отлично помню ту двойку по математике. Жестяная баночка «Коллонил» всё никак не поддавалась. Пальцы — маленькие, толстые предатели — тряслись и соскальзывали. Я давился солёным кислородом, пока отец стоял надо мной.
— Что думает мрамор, из которого скульптор высекает шедевр? — Отец чеканит слово за словом, унизительно медленно. — Он думает: «Меня бьют, меня губят, разбивают, надо мною вершится надругательство, я погибаю». Но мрамор глуп. Ты понимаешь?
Свет виновато прячется за его спиной, и я молюсь, чтобы это поскорее закончилось.
Отец говорит, что нет вещи более относительной, чем справедливость.
По коридору на втором этаже носится только запах хлорки. Где-то далеко гремят вёдра — должно быть, техничка согнала одноклассников в столовую. В учительской тоже никого. Это хорошо, значит, всё пройдёт быстрее, чем я думал. Провожу указательным пальцем по корешкам журналов. Проскакиваю пятый, шестой, седьмой, второй «А» — возвращаю его на место. Неужели у преподавателей начальной школы так мало времени? Восьмой «Г». Доказательство моей слабости. Засовываю под рубашку сзади, затягиваю пояс. Вслушиваюсь — никого. Плавно соскальзываю по ступенькам и сливаюсь с толпой раскрасневшихся после физкультуры лиц.
Он говорит, озлобленность — враг истинной морали.
Мне нравится смотреть, как горят походные спички марки «Бойскаут», длинные, с зелёной макушкой. Чиркаешь — схватываются моментально. Тридцать восемь солдатиков в прямоугольной коробке, мои бесстрашные невольные соучастники. Под натиском пламени настоящая кожа не загорается, она постепенно сжимается, испуская едва уловимый, приятный запах. Я точно знаю, что делаю, а потому спокоен.
Он придёт раньше матери и сначала, возможно, ничего не заметит. Вымоет руки, проверит, не стоит ли кофеварка на плите. Затем из кухни вернётся в коридор. Он догадается, он точно всё поймёт, но даст себе пару секунд, чтобы перевести дыхание. За окном будет стучать молоток, кто-то из соседских детей взвизгнет и засмеётся, красный «Фольксваген жук» с привычным скрипом припаркуется под тополем во дворе. Я обведу двойку красным маркером, положу «Кавалли» на страницу из классного журнала по центру обувной тумбы, конечно, носками к двери. И в этот раз не заплачу.

Шкатулка с секретом
Перед вылетом каждый пилот Специального Ударного Отряда «Божественный ветер» писал прощальное стихотворение. «Песнь смерти».
Говорят, после призыва в отряд студентов лучших токийских университетов качество «песен смерти» заметно улучшилось.
Мамору изучал русский язык в Токийском Университете иностранных языков. Русская литература казалась ему огромным накатывающим на него снежным комом. Мамору поступал по-японски. Поддавался этому снежному кому в надежде, что, проехав по нему, ком хлопнется о дерево и разлетится на легкие воздушные снежинки.
Умари училась годом старше. Была первой красавицей курса. А для Мамору — первой красавицей на свете.
Образовалась классическая любовная геометрия. Он любил девушку. Девушка любила Пушкина.
Как все влюблённые, Мамору искал знаки. Вот например, говорил он ей: «Мамору» в переводе с японского на русский через греческий значит «Александр». А «Умари» так же, только через латынь, значит «Наталья». Возникала неловкая пауза. Умари ее не заполняла.
Умари считала любой разговор с Мамору литературным диспутом и старалась победить. Мамору считал любой разговор с Умари возможностью намекнуть на свои чувства и был обречён на поражение.
Умари говорила пассажами из «Евгения Онегина». Для Мамору «Евгений Онегин» был словно японская шкатулка с секретом химитцу-бако. Чтобы открыть ее, нужна простая комбинация действий. Но найти эту комбинацию Мамору не удавалось.
В русской литературе несчастную любовь лечили поездкой на войну или вызовом на заведомо смертельную дуэль.
Призыв в Специальный Ударный Отряд «Божественный Ветер» предлагал одновременно и то и другое. Отношения с Умари имели, наконец, шанс подняться до уровня русской литературы.
В ночь перед вылетом в казарме было так тихо, что слышно было, как идёт снег. А поутру подушки ребят были мокры от слез.
Мамору было не до слез. Он всю ночь сочинял прощальную «песнь смерти».
Темная вода прорезает саван снега.
Страха нет.
Тогда отчего так сжимается сердце?
Твой Саша П.
Песня была написана на кусочке белого шелка. Он положил его в сделанную своими руками шкатулку с секретом химитцу-бако. Шкатулка отправится к Умари.
Пилоты выстроились перед накрытым столом. Каждому полагалась чашка сакэ и шарик из риса. Как маленькая русская литература, подумал Мамору, глядя на шарик. Он выпил сакэ и отправил шарик в рот.
Пилоты загрузились в свои самолеты-ракеты. Заревели моторы. Загремели барабаны. Самолёты начали выруливать на взлетную полосу. Вдруг в налаженном механизме что-то сломалось. Смолкли в недоумении барабаны. Самолетам дали приказ остановиться. Оказалось, что Япония объявила капитуляцию.
Сидя в кабине своего самолета-ракеты, Мамору вдруг понял загадку «Евгения Онегина». Роман должен называться «Татьяна Ларина». Татьяна его главный герой. В Татьяне долг побеждает любовь. А у Евгения Онегина нет ни того ни другого. Все равно, что если бы кто-то написал книгу о Мамору и назвал ее «Умари». Он вылез из кабины другим человеком.
Шкатулка еще не успела отправится по адресу. Мамору забрал ее и сжёг вместе с содержимым.
В университет Мамору не вернулся. Стал художником и всю жизнь писал суровые картины на темы Второй мировой войны: самолеты, воздушные бои, портреты пилотов Специального Ударного Отряда «Божественный ветер».
Сейчас Мамору девяносто пять лет, он живет в Киото. Окружён почетом и любовью детей, внуков, правнуков и одной праправнучки. Нет, ее зовут не Умари.

Я никогда не хотел быть художником
Я никогда не хотел быть художником. Я хотел быть архитектором, практичные и удобные дома казались мне важнее, чем картины, украшающие их. А Гвидо, мой напарник по лавке и одногруппник, был художником.
В восемь утра я открыл лавку, расклеил недостающие ценники, смел пыль с витрины. Гвидо сходил в ресторанчик на углу, взял там за бесценок вчерашние подсохшие брускетты, сварил кофе в каморке за торговым залом. Утреннее солнце заливало оживающую улицу. Мы сидели на крыльце, ели вяленные на солнце помидоры, местный сыр и ветчину на подсохшем, все ещё вкусном хлебе, пили кофе. Аромат арабики привлёк первых покупательниц.
Две девушки, сверкая короткими юбками, вплыли в прохладный сумрак лавки. Они крутили в руках безделушки, кружились по лавке, обжигали счастливым смехом, и их жадные ищущие глаза влажно поблескивали в полутьме. Девушки купили парочку сувениров, Гвидо выпросил у них номера телефонов, они ушли, радостно оглядываясь. Гвидо собирал телефоны красивых туристок. Наспех записанные на салфетках и чеках, как драгоценная коллекция разноцветных бабочек, они висели, пришпиленные к доске, и обещали полное приключений лето. Я вышел на улицу и долго смотрел вслед покупательницам. Брусчатая мостовая наполнялась туристами, день набирал силу, улицу заполнили многоцветные завихрения летних платьев, голых плеч, парящих шляп и солнечных очков. Бурлящим горячим потоком туристы несли жизнь на улицы города, почти омертвевшего за месяцы карантина, они закидывали пятицентовыми мечтами фонтаны, пили с утра вино, наполняли древние улицы радостным ожиданием. Торговля шла бойко, каждый хотел привезти с отдыха кусочек китайского муранского стекла, венецианскую маску того же происхождения или магнитный Колизей с надписью In vino veritas.
В минуты затишья я садился на улице, закуривал сигарету, разглядывал прохожих, к полудню вся улица наливалась игристым солнечным светом, он золотил витрины и плечи, окутывал толпу пьянящей негой, плескался в глазах буйной радостью коротких отпусков. Я сидел, впитывал в себя солнце и искрящуюся безмятежность отдыхающей толпы.
Вечером нас с Гвидо ждало двойное свидание с туристками, первое из множества, на выходных мы поедем купаться к Тирренскому морю, и все жаркое долгое лето впереди.
Два месяца пролетели как пейзаж за окнами скоростного поезда, в памяти остался хоровод свиданий, ночные гуляния по вилле Боргезе, яркие зонты под теплыми летними дождями и бесконечные часы торговли: отсчитать сдачу, улыбнуться, пополнить товар со склада. В конце июля гулким напряжением разлилась по стране вторая волна пандемии, к августу ввели строгий карантин, туристы разъехались, лавки закрылись. Гвидо засобирался к родителям — они жили в небольшой деревушке под Римом. Звал меня с собой. Говорил, что виды там достойны Сезанна и Ван Гога, а закаты просто ошеломительные. Меня не интересовали закаты, но планов до сентября не было, сидеть безвылазно в общежитии не хотелось. В деревне карантин не соблюдают, Гвидо обещал рыбалку, прогулки по окрестностям, пятничные вечеринки и веселую компанию.
За нами приехал брат Гвидо, мы едва поместились в старенький «альфа-ромео». Ехали долго, я засел в фейсбуке, читал новости, смотрел фотки. Мне пришло сообщение от Леи — у нас был короткий роман этим летом. Она написала, что у нее подозрение на ВИЧ. Прости, я не знала, тебе надо провериться и т.д. Строки ее длинного истеричного сообщения расплылись. Разноцветная мозаика моих планов разом обрушилась. По затылку поползли мурашки, я не слышал, о чем говорили Гвидо с братом, смотрел в окно, бесконечные черные поля надвигались со всех сторон, шипение шин заполнило воздух, душный воздух загустел, и я увяз в нем, как муха в меду.
Как только мы приехали, я позвонил в поликлинику, мне сказали, что анализы я смогу сдать только после карантина.
Следующие дни прошли как в тяжелом похмелье, отдельными кадрами запомнились аккуратный двухэтажный дом, молчаливые, не говорящие по-английски старики, крохотная, очень чистая деревушка среди карикатурно ровных квадратов полей и виноградников, еда как опилки и отупляющая жара. Я много курил, до отвращения к сигаретам, не мог остановиться, стоило мне прекратить курить, как меня придавливало липким ужасом, в голове звенела тревожная пустота, и меня засасывало в эту пустоту, весь окружающий мир схлопывался до моего тяжелого дыхания. Иногда яркими, пробивающими на холодный пот вспышками передо мной вставали картины больничных коридоров, капельницы, впившиеся в руку, длинные толстые шприцы, я явственно чувствовал запах медикаментов. Ночами я лежал без сна, распахивал настежь окно, ночная прохлада приносила облегчение разомлевшему на дневной жаре телу, моим воспаленным от бессонницы глазам и натянутым до скрежета нервам.
На третий день Гвидо увез меня в поля, натянул тент и поставил два мольберта. Он собирался рисовать и спросил меня, не хочу ли я. Мне было все равно, я сел рядом, курил и смотрел, как он рисует. Мы сидели в тени, было жарко, солнце заполняло все небо, всю землю, забивалось под одежду, под кожу, струилось в крови и выжигало все мысли. В какой-то момент я встал, хотел отвлечься, решил тоже порисовать. Как нарисовать солнце? Я выдавил из тюбика жирную кляксу желтой краски, она совсем не передавала тягучее знойное марево, плескавшееся вокруг. Я добавил охры, коричневого, белого, киноварного красного. Позже Гвидо рассказал мне, что есть множество вариантов желтого цвета: неаполитанский желтый, стронциановый, желтый кадмий, кадмий лимонный, аурелион и другие. Я добавлял и стирал, я вспотел и перепачкался, никак не мог добиться нужного оттенка. Внезапно я увидел неистовую выразительность окружающих красок: пронзительную чистоту зелени, ослепительное, невозможно голубое небо, режущую глаза белизну облаков и подрагивающий прозрачный воздух. Густые мазки кисти ползли по холсту грубо и неверно, я рисовал солнце — огромный зыбкий шар огня, угрожающе нависший над полями, выжигающий жизнь, мне хотелось запечатлеть, как эти сочные зеленые поля сохнут, желтеют, а потом чернеют под палящими лучами. Очнулся я, когда уже стемнело и рисовать стало невозможно.
Назавтра мы опять отправились в поля, день пролетел незаметно, я только поднес кисть к холсту, и уже пора было уходить, мой обед остался нетронутым. Гвидо посмеивался, что я настоящий художник, забывающий обо всем, свой обед он съел. С тех пор каждый день я брал у Гвидо велосипед и отправлялся рисовать, иногда он тоже ходил, но у него в деревне была жизнь, он ходил на рыбалку, на вечеринки, встречался с друзьями. Я истратил все его холсты и краски, заказал новые. Три недели я рисовал солнце, и иногда казалось, что мне удалось ухватить его мощь, показать эту безжалостную разрушительную силу.
Я завалил своими холстами всю гостевую спальню. В те дни я не думал ни о чем, кроме громадного, ослепляющего солнца, оно нависало над полями, заполнило мои картины, мои мысли, всю мою жизнь.
Внезапно карантин отменили, вторая волна захлебнулась в самом начале, страшная весенняя история не повторилась. Я прочитал новость за завтраком, собрал свои вещи за полчаса, побрился, переоделся в чистую городскую одежду, штаны стали мне велики, я потуже затянул ремень, отражение в зеркале удивило меня: я похудел, дочерна загорел и будто стал старше. Хотел выбросить рисунки, не тащить же их в город. Но Гвидо сказал, что сам с ними разберется. Он отвез меня на станцию, и я поехал в Рим. Еще со станции я позвонил в поликлинику и записался на прием.
Анализы оказались отрицательными, я сдал второй раз на случай ошибки — с тем же результатом.
Потом началась учеба, Гвидо вернулся в Рим, он показал мои рисунки знакомому эксперту, тот купил их за небольшие деньги, сказал, что у меня явный талант, хотя эти работы сырые, но в будущем просил звонить ему. Деньги студенту никогда не помешают, и я пытался еще рисовать, но ничего не получалось, да и желания рисовать больше не возникало.
И уже через много лет, с женой и сыном мы как-то попали на выставку современного искусства, там мы увидели картину: болезненно огромное солнце над бурыми полями. Боясь увидеть подпись — Антонио Р. — я поспешно отвернулся и быстро прошел мимо.

А потом
А потом он дошёл до какой-то границы,
(до какой?)
ощутив тоску
как удушье, как язву, как боль в пояснице.
— Почему?
— Объяснить не могу.
А потом он не встал, не умылся, не сделал
себе кофе
и не закурил,
не ругался с женой,
ведь понятно, что нету
у такого мужчины жены.
Не пошёл на работу, не виделся с другом,
не забрал из детсада детей,
а лежал и смотрел, как по комнате кругом
ходят тени от фар на стене.
А потом ты дошла
до границы печали,
грусть помножив на два, не делив.
И сидела в машине: две жёлтые фары —
электрический медленный крик.

Бог сохраняет все
Бог сохраняет все. Особенно долго
пластмассу всех видов,
запах палёной кожи,
оскорбления и присохший сахар
на дне сахарницы.
Ты скажешь, при чем тут бог?
Катись-ка ты к черту,
уж я своего бога знаю.
Как тупо устроена жизнь.
Когда спишь — не можешь есть.
Во сне ты в песцовой шубе, а проснулся
голый и в окружении гринписовцев.
Переводишь деньги человеку, а он их пробухивает
и, пьяный, кроет тебя хуями.
Если ты не учился монтажу,
ты ничего не знаешь о жизни.
Мой мастер монтажа с длинной седой бородой
и скверным характером
говорил:
«Старик, почувствуй! Почувствуй, ебена мать!
Это — на подхвате».
Монтаж — это боль.
Больно резать то, что ты снял,
клеить середину с концом.
Впрочем, кому какое дело,
снимешь ты что-то
между серединой и концом
или нет.
Кино — не проститутка,
у каждого свое.
Но если между серединой и концом
вырезать слишком много,
теряется всякий смысл.

в квадратном молчании стен
в квадратном молчании стен
привычно растаял свет.
прижми до утра к темноте
уставший свой силуэт.
представь, что целую ночь
ты можешь лежать и молчать,
забыв, что ты чья-то дочь,
забыв, что ты чья-то мать.
послушай, как дышит луна,
как в море бегут корабли,
земля по ночам влюблена,
колышутся крылья земли.
и тает мартовский мёд,
и мерный стучит циферблат,
и кто-то стареет под,
и кто-то смеётся над.
а после — вернись назад,
в жилплощадь своей души
и, снова открыв глаза,
дыши!

Всегда внезапно случается
Всегда внезапно случается
Равновесие во Вселенной,
На одной чаше весов Gloria Dei,
На другой детский взгляд синий.
На крылья, сплетённые в розу,
Мальчик дует, от запаха морщится,
Ведь так нюхают взрослые,
Опасаясь колючего стебля.
Я с трудом вспоминаю, что когда-то хотел,
Чтоб между мной и Gloria Dei
Так же, как и у сына, не стоял человек,
Чрезмерно прямоходящий.

Всю ночь я еду через дождь
Всю ночь я еду через дождь.
И я тебя почти не помню.
На верхней полке спящий клоун.
Накрыт по темя.
Весь дождь я еду через ночь.
И я тебя почти не знаю.
И сумка старая пустая,
В ней только время.
И вниз сползает с одеял
Тревожный сон, колёсный грохот.
И мне с тобой почти что плохо,
Почти с тобой.
Какой-то домик просиял
В окне за жёлтой занавеской.
И я тебе сказала резко.
«Глаза закрой».
Вдали от бед, от чуд вблизи.
За болтовнёй по ржавым шпалам,
И хлещет дождь по чём попало…
Напропалую.
Вези! Ещё скорей вези!
А ты две станции назад…
Пошёл куда глаза глядят…
Кого целую?
Так ты — не ты уже давно.
И ночь и дождь и день и дождь.
Зачем так больно руку жмёшь?
Сто лет знакомы.
И слов сказать полным полно,
Но лучше рта не раскрывать.
Зачем-то маме нужен зять,
Порядок в доме.
А я всё еду. Лязг и вонь.
А ты всё руку мне сжимаешь.
И сам почти что засыпаешь,
Но держишь крепко.
И в этой крепости — бездонь.
И ничего, что вдаль не знаю.
Я вся почти уже седая —
Характер едкий.
Сиди со мной. Сжимай сильней.
Пока не побелеют пальцы.
Смотри, луна достала пяльцы
и будет вышивать коней.

Выпишу прилежно
Выпишу прилежно, будто заданное:
Ни одним окном не светлый дом,
И пакет, держащий ветку за руку,
И омелы смертное гнездо,
В озеро оброненную варежку,
Жутко замеревшую во льду, —
Всё это красиво мне и важно.
Я к тебе иду.

Выхожу — на улице октябрь
Выхожу — на улице октябрь Слепит мокро-рыжий белый свет Тараторит воробьиный табор Я тянусь за пачкой сигарет. Открываю — там октябрь тоже Влажный свиток надломив едва В трещины на сигаретной коже Рвётся мокро-рыжая листва.

Здесь веток фиолетовых узоры
Здесь веток фиолетовых узоры
Легли на бирюзовые кусты,
И розовы, и рыжи, и лиловы
Над морем Ионическим цветы.
Я раньше думал так же, как и ты, —
Был молод и не знал еще потери,
И я тогда критерий красоты
Использовал как истины критерий.
Но в синеве переплелись столетья,
Мир не спасли весенние соцветья
И ветер в многоцветной круговерти,
Хоть юная наивная весна
Всегда твердит: «Нет места смерти»,
— А вот она.
Чума. И старый лекарь на заре
Обводит взглядом полный горя город,
Где черной тенью мир его расколот,
Но светится трава на пустыре.

Их было пятеро
Их было пятеро
Смешных ребятишек в комнате
Моя — самая капризная
Та, которую я приходила навещать
А остальные — загляденье
Немного распухшие от дексиметазона
И постоянных капельниц
На спор гонялись по коридору
На инвалидных креслах
Особенно помню одного мальчика
Его безудержный хохот, до истерики
Когда он преграждал мне путь
Не отпуская обратно
Ведь вместе нам так весело
Пахло хлоркой и едой
Уставшие мамы возились на больничной кухне
А мы резались в домино
И облупленный подоконник был столом
У моей подопечной от лекарств
Губы стали красными и пылали
И приходящий батюшка ругал
Не стыдно в таком возрасте краситься?
Я думаю, тот мальчик стал бы прекрасным гонщиком
И странно, что больше никто
Не преграждает мне путь на коляске
Когда я захожу в бездетную комнату
Они, не выбирая жизни
Все-таки пили ее на донышке
Жадно и по-детски смело
Не бойся и ты
И твоя комната опустеет
Зачем упираться в дату — сейчас?

Кладбище пусто стоит
Кладбище пусто стоит, все живые на карантине,
а мертвые здесь не живут, хоть и подносим мы им
яйца, конфеты и чарку — пасхальное угощение
фантомам бесплотным, способным сердце живых растерзать.
Ими населено кладбище, и в предметы
входят они, как рука входит в перчатку твою, —
в пластиковые цветы и в каменные надгробья,
но не в деревья и птиц, не в сорняки и червей.
Живой и чужой, прохожу за кладбищенскую ограду,
наведаться к мертвым родным, на карантин наплевав.
Так же, как прежде, лежат они вместе в посмертной квартире,
в ней стены пусты и прозрачны, в ней небо за потолок.
Мать и отец, и сын, три камня, три заместителя мертвых,
три метки на кладбища теле, мне горько думать о них,
как неумело и больно жили они друг с другом,
как маялись, и вот их фантомы входят в меня, как в предмет.
Памяти подземелье — вот где живое кладбище,
вот куда нужно идти, чтоб хоронить мертвецов.
Там сквозь ума бормотание явственно можно расслышать
ропот посмертно судимых и судий фантомную боль.
А вот другое семейство в своей посмертной квартире:
другие даты, фамилии, здесь тоже трое лежат.
Отец, мать и дочь, и совсем, совсем другая история —
и жадное воображение уже собирает свой пазл.
Мать и дочь так похожи прическами из восьмидесятых,
дочь умерла раньше матери, русско-татарская кровь,
их пережил обеих грузный отец-военный.
Свидетелем и соглядатаем читаю чужую жизнь.
Читаю, и покидают меня родные фантомы,
читаю, и утешаются тревожные души их,
и воображение сцеживает, и воображение сгущает
дистанцию между датами в рисунок земной судьбы.
Мать и отец и дочь, шести дат сочетание и танец
черт между датами, мать и отец и сын
в прихотливом движении встреч и потерь, и шансов,
избывали судьбу по-своему, любили, теряли, ушли.

Краткая история одной встречи
Ноябрь.
Первая встреча.
Он был бледен, как самое блеклое зеркало, в которое страшно смотреть.
Я отошла подальше в надежде не отразиться.
Ноябрь.
Не помню её.
Октябрь.
Пришёл во сне.
С цветком франжипани в руке.
Символ вечного вожделения или вожделенной вечности.
Ароматный, но без нектара.
Вечная печаль пчёл.
Сентябрь.
Опять приходила.
Сказала — уже не уйдёт.
Почти не слушал её.
Май.
Все это немного странно.
И, возможно, совсем не то.
Ноябрь.
Снова видел её.
Сидела у ног.
Говорил, что только она.
И больше никто.
Молчала и улыбалась в ответ.
Очень медленно превращаясь в воздух.

Люди как птицы
Чуть более ста метров дымчатой пустоты,
давно освоенной птицами,
распахнулись над убегающим вниз склоном.
Я стоял у края,
пытаясь взглядом выхватить что-то
неуловимо тревожное в манящей дали,
льющееся оттуда,
снизу,
вместе с крепким ветром —
не замечавшим неровности склона
и притяжения
в своём неуёмном устремлении вверх.
Невольно вспомнилось:
«Отчего люди не летают?
…Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы?» —
кажется, это из «Грозы» Островского.
«Отчего люди не летают?..»
Крыло, крылья, руки, движенья…
предполётный осмотр —
руки машинально ощупывали узлы.
Сквозь завесу напряженья
усиливающийся ветер,
прорываясь, донёс советы инструктора,
говорившего —
о динамике потока,
о том, что надо держаться в нём
как можно ближе к склону,
не терять высоту.
«Отчего люди не летают… как птицы?..»
Да-да. Ближе к склону и вдоль него —
галсами в «динамике».
Так можно парить долго,
почти как птица.
Надо только правильно и быстро
делать разворот на новый галс.
Поймать момент…
чувство,
именно чувство,
ощущение свободы…
свободы полёта.
Пьянящая тоска по крыльям.
«Отчего люди не птицы?»
Зачем им эти сорок килограмм алюминия,
стали и тряпок?
Ах! Как было бы сейчас хорошо —
раскинуть руки,
лечь на этот мягкий упругий воздух
и
парить, парить, пари-и-ть…
ни о чём не думая,
ни о крыльях,
ни о руках…
Всё.
Кажется, уже пора.
Инструктаж окончен.
Ветер крепчает.
Ещё немного добавит —
и разбег не понадобится.
Шаг…
Воздух подхватывает «аппарат»,
мягко ложащийся на левое крыло
и скользящий
трепещущим треугольником
вдоль перегиба громадной волны склона
в вечной погоне за своей тенью.
Разворот…
Следующий проход…
Разворот…
Так можно…
Слишком близко!
Неожиданный удар ветра под правое крыло.
Треугольная тень, сжимаясь от страха,
метнулась в объятья источника.
Земля.
«Отчего люди не летают? …»
Люди не летают так, как птицы!

Мне бы хотелось страдать и мыслить
Мне бы хотелось страдать и мыслить,
Но мыслей ничтожно мало.
В моей голове сраженья,
И раз за разом
Выигрывает что приготовить на ужин
Или как стать лучше.
Что в общем неплохо,
Но если б вы знали, кто их соперники —
Забытые, рано ушедшие
Зачем называть героев Альпин и Минвана,
Что значит традиция Оссиана,
Откуда дом через два квартала в рабочем районе
Низкий, с каменными кронштейнами
И в каком стиле.
Рука тянется к телефону.
Глупое чувство удовлетворения
От остановки мысли.

Наташа
Врач-патологоанатом,
чтобы пораньше уйти с работы,
взял работу с собою на дом.
Не труп (тут смайлик). Справки, отчёты.
И вот он с работы идёт,
пораньше, как и хотел,
и видит: старик продаёт
жирных живых карасей.
Они правда были очень живые: плескались, били хвостами,
смотрели в глаза прохожим живыми такими глазами,
и чистая серебристая чешуя — как будто солнце, на тёрке натёртое.
Бесконечно можно смотреть на три вещи,
а это четвёртая:
всплеск, блеск,
блеск, всплеск —
блеск!
И вот уже на столе бьёт хвостом
карась, купленный тем врачом,
который раньше ушёл с работы.
Ну, помните, тот — справки, отчёты.
И вот чешуя срезается,
а карась бьёт хвостом и брыкается.
Нож протыкает живот,
а карась всё живёт и живёт.
Врач умело внутренности вынимает,
а карась всё не умирает.
Смотрит патологоанатом на карася — голого, вспоротого,
раньше врач никогда не видел таких живучих, —
и вдруг мысль странная, жгучая:
«Вот бы во время вскрытия труп сопротивлялся так же бесстрашно…».
Первым таким трупом стала Наташа.
Соседка.
Это платье в пайетках —
серебристая чешуя, солнце, на тёрке натёртое…
Бесконечно можно смотреть…
Всплеск, блеск,
блеск, всплеск…

Не знаю, что здесь плохого
Не знаю, что здесь плохого, смешного, печального,
Когда школьник путает ненависть к предкам
И собственной жизни
С наличием у себя политических и вообще убеждений.
Часто такие полупрозрачные признаки
Сознания медленно превращаются в тени.
Впрочем, не знаю, что там у школьника
Или пожилого где-нибудь на фейсбуке,
Когда он с любопытством почти недостойным
Подглядывает в чужие судьбы.
И вообще, я ничего не знаю, люди больше
В этом мире меня расстраивают, чем смешат.
В конце концов, я обычный российский взрослый
Не помню, что было до, и не знаю, что будет после,
И самая большая моя проблема — это то, что примерно в восемь,
Какая-то баба сверху начинает громко стонать
И мешает спать.

О рыбаке и рыбке
Когда по ночам становилось страшно,
я надевала твою рубашку
и отправлялась босая к двери,
тихо вставала к окну, за шторой
прячась, смотрела во двор с надеждой
нет, не идёшь и теперь —
и ладно…
я твоя рыбка, рыбак
Плавно на глаз опуская веко,
перед собой воскрешала море —
тёмно-зелёного зверя с блеском —
в шкуре его мне шнырять бы вечно
я твоя рыбка, рыбак
Вижу твой невод:
он тонкий, бледный,
головы змей по углам ячеек,
тело моё их легко обходит —
ты не поймаешь меня так просто
я твоя рыбка, рыбак
Вижу морщины слепых ладоней —
ты их на миг опрокинул к телу
сине-зелёного зверя-моря,
знаешь, что он наши Жизнь и Сила?
Как же ты близко:
я вижу плечи,
скулы и лоб,
обращённый к небу,
видел ли ты,
как сменяется гневом
милость его,
рыбак?
Ты уплываешь ни с чем,
любимый,
и оставляешь меня караулить
бледно струящийся чудо-невод,
головы змей засыпают в ласках
сине-зелёного чудища-моря
Я буду ждать тебя,
слышишь, слышишь? —
Тихо скольжу под уставшей лодкой.
я твоя рыбка, рыбак
звон чешуи моей лёгок, грустен,
скрипу уключин напевно вторит,
манит тебя в мою тёмную пустынь,
будь же рыбак вечно-бурным морем
губ моих влажных кино немое
гонит тебя, вероломно гонит
в сине-зелёный
мрак.

Ода джазу
Иногда обидно до слез, до спазмов,
Что я не застала твое рождение,
Твое восхождение, наваждение,
Не поддавалась твоим соблазнам.
Не была среди флэпперс в одном из чикагских клубов,
Не танцевала до обморока, не курила эстетски,
Не родилась музыкантом огромным черным с улыбкой детской,
И саксофона мои не касались губы.
Не нарушала законы, не пламенела,
Не пила под твои синкопы запретный виски,
Не плевала на нравственность и на риски,
Не дышала одной эпохой с Луи и Эллой.
Я живу тоже в двадцатые, только в соседнем веке,
Не ревущие — похрипывающие дробно,
Ты все так же велик, но с тобой удобно,
Я тебя танцую на дискотеке.
Темперамент твой тот же — звериный, жаркий,
Просто заперт во времени нашем пресном.
Под веганский киш и двойной эспрессо
Хорошо идет Чарли Паркер.

плескался закат
плескался закат в отражении волжской воды
я пришел перед сном попросить у тебя
пролететь под мостом
я закончил рисунок
смотри
как вплетаются ветви берез
в спор двух явных цветов
за бордо в этот раз будешь ты
я за темень которую вносит на холст волновой виолет
щебетание птиц это скучно как в августе снег
веселее гораздо смотреть как над Волгою мост
перевернут
и едут на спинах жуки
круглоухие
или быть может у них есть глаза
на больших головах
из-под тучи мигает небесный зрачок
цвета меда
такой нелюбимый мной сыр
ты прищуришь глаза диафрагмой четыре на три
я тебе проиграл
солнце сядет и скроет меня

По ту сторону
насколько нам известно
психиатрами и клиническими психологами
не описан ни один случай больного шизофренией
отказавшегося от суицида
ради естественнонаучных «наблюдений
над сферою нашего духа и нравственности»
в этом смысле он не только «первый психолог»
как сам себя называет
но и «последний»
ни аутизма
ни шизоидно-холодного отношения к другому
ни отчуждения
ни «матовости» в восприятии окружения
наоборот
он отличался
«бешеной, демонической чувствительностью»
крайней эго-включенностью
и активным вчувствованием в другого
скорее это походит на «отсутствие кожи»
у личности истерического профиля
в пользу этого говорит также
нетерпеливое желание славы
которая пришла в преддверии болезни
а постоянные мигрени и тошнота
могли бы рассматриваться
как пролонгированные
конверсионные расстройства
по крайней мере
о негативной симптоматике шизофрении
в пункте эмоциональной тупости
говорить не приходится
как видно
клиника болезни нетипична
и представляет собой «mixed»
ни один симтомокомплекс недостаточен
для диагностики установленного специалистами
конкретного типа шизофрении
включая ее недифференцированную форму
скорее речь может идти
о некоем неустановленном и уникальном
шизофреноподобном состоянии
соответствующем уникальности
носителя заболевания
не менее мозаичную картину
представляет проекция его личности
на психопатии или личностные расстройства
есть здесь самовлюбленность
(нарциссическое расстройство личности)
взвинченность, перевозбуждение
и нещадное израсходование себя
(пограничное расстройство)
«тирания долженствования»
(«меня день и ночь нестерпимо мучит долг»)
чрезвычайное посвящение себя работе
и исключение досуга
(ананкастное)
вычурный перцептивный
и когнитивный опыт
(шизотипическое)
паттерн пренебрежения к нормам
(асоциальное)
экспрессивный стиль речи
и эксцентричность поведения
(истерионическая)
если эта пестрота
и есть клиническая картина болезни
то она выходит за рамки
всех прежних и новых классификаций
более того
поскольку больному нет места
ни в одной группе типичных симптомов
она обессмысливает классификацию
как таковую

Холодным пальцем
Холодным пальцем ветер за ухо убрал мне прядь.
Шаман камлал на берегу Байкала.
А я просила: пусть я буду мать,
И ноги у шамана целовала.
Полынью пахло, чабрецом и прелой сыростью,
Седые камни складывались в млечный путь.
А я скулила и просила милости
И знак от неба хоть какой-нибудь.
Холодный ветер гладил мой затылок,
Костёр рвал ночь, хомус надрывно плакал.
В мои колени нос шершавый, стылый
Уткнула белая брюхатая собака.

Шестьдесят пять
Время уткнулось в песок
прошедшего с нами когда-то;
Улиц зачищенных блеск
грозной змеею лежит.
Ветер печально несет
защитную черную маску;
Шум дискотеки в окно
громом уносится вдаль.
Тихо к продмагу бредет
прохожий с авоською вечной;
Маской с очками закрыл
страх потерять телефон.
Пропуск кьюар закреплен
в таиственной суперпрограмме;
Спросит его полицай —
вот, господин, аусвайс.
Грустно сто метров гулять
в молчанье внимательных окон;
Просит душа виброшум,
пиво, простой матерок.
Попок упругих джинсу,
намеченной дальней дороги;
Драки, отважный скандал,
утром больную главу.
Каждый навстречу ходок
разит дезинфекцией фетром;
Держит дистанцию друг —
в Zoom-е пробасит: «Привет!»
Мне телевизор сказал:
«Приписано старым остаться;
Дома, спасая себя,
радость оставшихся лет».
Вирус отступит потом,
торжественный праздник настанет;
Буду ли праздновать я
за фестивальным столом?
Жизни кусочек макнув
в напиток прогорклой сивухи;
В вечность успев перетечь,
смертный, но все же живой.
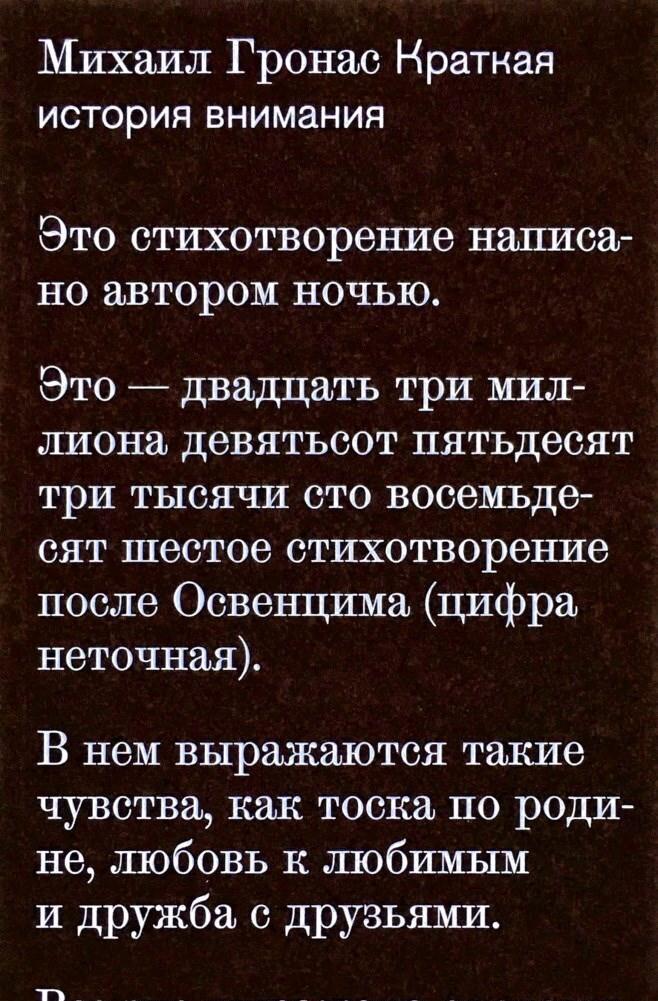
Дорогой Михаил Гронас: краткая история внимательного прочтения
На 33-й Московской международной книжной ярмарке в «Манеже» были объявлены лауреаты и победители премии «Московский счет». Большая премия присуждена Михаилу Гронасу за книгу «Краткая история внимания». Предыдущая книга, «Дорогие сироты», вышла в 2002 году. За нее автор получил премию Андрея Белого.
О метафизическом юморе, тихой силе пустоты, отсылках к Целану, метатекстуальности и звуковой алхимии в стихах Гронаса писали многие уважаемые люди. И если вы вдруг, как и я, не считываете аллюзии на Целана или плохо понимаете метафизический юмор, то эта статья для вас. Разберемся вместе, за что же дают такие почетные премии и, что более важно, почему и зачем можно и нужно читать стихи Гронаса.
С 1995 года Михаил Гронас живет в США. Преподает в Дартмут-Колледже, пишет научные работы и переводит. Этот факт биографии интересен, потому что отсутствие языковой среды проявляется в поэтике Гронаса и наделяет ее особой чертой, неким сиротством языка. Одиночество, пустота и отчаяние — основные мотивы, возникающие в двух книгах, опубликованных с разницей в 17 лет. Я отмечаю такой простой и очевидный факт как отсутствие языковой среды, потому что языковая среда — это тот сор, из которого часто растут стихи: случайный разговор в кафе, обрывок фразы, услышанный в автобусе, плакат, висящий на углу улицы. У Гронаса же пространство стихов наполнено тишиной и пустотой, фоновые шумы иностранной речи подавлены, автор или его лирический герой ведет беседу не с близким или далеким человеком, а с… речью, родным языком. Ниже приведено стихотворение из книги «Краткая история внимания».
П.
Мы стояли в очереди за
Молоком в криницах
И держали очи и глаза
Глубоко в глазницах.
Что же происходит, небеса?
Почему не кожа, а бумага,
Почему не целовать, а жечь,
И когда прольется ваша влага?
Ну-ка отвечай, родная речь!
Вечно отвечай, автоответчик,
Говори со мной, ори со мной,
Пустоты разметчик, тьмы разведчик,
В голове сидящий человечек,
Перегной коробки черепной.
И здесь мне хотелось бы оставить читателя наедине с этим стихотворением. Дать время подумать о столь любимом в нашей культуре образе поэта-пророка, повелителя глаголов (у Гронаса считывается легкая ирония по этому поводу, но образ все же есть, глаза и очи есть, жала только не хватает). А еще мне хотелось бы, чтобы читатель увидел непринужденную перекличку с Бродским. У того, как известно, зуммер вопил в ночи.
Мне становится не по себе от этих «толстых» намеков. Получается, Михаил Гронас знал заранее, что начну я свою статью с его биографической справки, особо выделяя факт иммиграции. То есть автор Гронас знает обо мне как о читателе заранее больше, чем я о нем как о поэте и заботливо подсвечивает в своих стихах привычные и ожидаемые образы. Возможно, поэтому ему куда интереснее обращаться к речи, нежели ко мне. Речь не разгадана, а читатель весьма предсказуем.
Еще одна черта, воспитанная автором в своих стихах, это умение удивиться многозначности слова или выражения и сообщить это удивление читателю. Кажется, так может удивляться только человек, для которого язык не стал привычным. Или исследователь языка, коим и является Гронас. Меня почему-то бесконечно трогает эта поэтическая фраза: «ты растешь над собой, как прибой…» (стихотворение из книги «Краткая история внимания» приведено ниже). Многозначность, созвучие, сравнение — автор даже не пытается спрятать простые приемы, с помощью которых сделана эта поэтическая фраза. Но даже понимая, как это сделано, не перестаешь очаровываться.
***
Все движения, звуки вокруг и через
Открывают грудную клетку и череп,
И сознание — стекловидное тело —
Выкатывается за пределы тела.
Но почти не заметив пропажи поклажи,
Ты растешь над собой, как прибой
на безлюдном пляже,
И на мутную воду садятся безутешные чайки
Для минутного отдыха от пустоты и отчаяния.
В новой книге, как, впрочем, и в предыдущей, много таких любовных обыгрываний слов и созвучий. В них нет нарочитости, это скорее исконность поэтического языка, исследованная и зафиксированная Гронасом. И часто это обыгрывание преподносится безо всякой иронии, как, например, в стихотворении из книги «Дорогие сироты».
***
дорогие сироты,
вам могилы вырыты
на зеленой пажити
вы в могилы ляжете
и очень нас обяжете
очень нас обяжете
И еще одна, наверно, самая привлекательная для меня как для читателя черта — это минимализм Гронаса. Стильный, дорогой минимализм. Когда белого пространства на листе больше, чем черных закорючек. Когда стихотворение читается на одном дыхании, а потом его хочется перечитывать снова и снова, потому что смыслов больше, чем слов. Такой эффект достигается за счет умения автора работать с концептами (содержательной стороной слова, понятием, которое несет всю сложную философскую нагруженность этого слова в культуре и языке). Самое популярное на просторах интернета стихотворение Гронаса из книги «Дорогие сироты» построено именно на концептах. Оно абстрактно донельзя, но при этом вызывает живой эмоциональный отклик у читателя. И даже не потому, что читатель предсказуем и жалостлив, а потому что он — носитель языка и культуры, и каждое слово-понятие в этом стихотворении для него наполняется бесконечными и родными смыслами.
* * *
что нажито — сгорело: угли
пойду разгребу золу может найду железный рублик (давно не в ходу) или юлу
в бывшем детском углу
а на бывшую кухню не сунешься — рухнет: перекрытия слабые, основания, стояки
мы мои дети мои старики оказались на улице не зная куда и сунуться
впрочем господь не жалеет ни теплой зимы ни бесплатной еды
оказалось, что дом был не нужен снаружи не хуже
и всё потихоньку устраивается
наши соседи — тоже погорельцы
они
отстраивают домишко
не слишком верится в успех этой новой возни: они ж не строители а как и мы погорельцы но дело даже не в том а просто непонятно зачем им дом — будет напоминать о доме
дома о домах люди о людях рука о руке между тем на нашем языке забыть значит начать быть забыть значит начать быть нет ничего светлее и мне надо итти но я несколько раз на прощание повторю чтобы вы хорошенько забыли:
забыть значит начать быть
забыть значит начать быть
забыть значит начать быть
Читательские наслаждения описаны и сомнению не подлежат. Но, возможно, у людей пишущих все еще остался вопрос: зачем его читать? Разумеется, не для того, чтобы спрогнозировать вкусы жюри различных высоких премий. Чтение Гронаса — это прививка от многословия, пустословия и прочих поэтических грехов. Возможность посмотреть на осознанную работу с формой и содержанием и понять мастерство как концепт, который каждый наполнит своим индивидуальным смыслом.

Подтекст: как его считывать в стихотворениях и использовать самим
Поговорим о подтексте. У термина есть много определений, но, если говорить грубо, подтекст — это все то, что произнесено неявно. Любой роман, рассказ, стихотворение устроены так, что в них есть не только прямое значение, но и то, что остается «за кадром» и открывается внимательному читателю.
Понятие подтекста пришло в литературу из театра, где актер мог говорить одно, но при этом выражать совсем другую, часто противоположную эмоцию.
Подтекст присутствует и в обыденной жизни, например, когда мы говорим намеками или полунамеками, или словами озвучиваем одно — а эмоцию и послание вкладываем совсем другие. Так, зачастую интеллигентные люди могут ругаться литературными словами, но благодаря интонациям их вежливые фразы звучат очень неприятно.
Очень часто подтекст важнее прямого послания текста.
Попробуем рассмотреть различные примеры подтекста.
Начнем с Пушкина, со стихотворения «Ненастный день потух», посвященного ревности. Лирический герой думает о возлюбленной, ревнуя ее. Автор заключил подтекст в последней строке, в точках, следующих за словом «но если».
Никто ее любви небесной не достоин.
Не правда ль: ты одна… ты плачешь… я спокоен;
. . . . . . . . . . . . .
Но если . . . . . . . . . . . . .
Рассказчик не говорит прямо, что будет, если нечто произойдет, но позволяет воображению читателя самому поработать над этим.
Это простейший пример подтекста.
Теперь пример чуть сложнее. Имя Анны Ахматовой первым приходит на ум, когда произносишь словосочетание «подтекст в поэзии». Автор работает с подтекстом изящно и легко. Например, в хрестоматийных строчках:
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки…
подтекст виден сразу. Подразумевается, что лирическая героиня очень волновалась. Замешательство автора в этом же стиховорении передают и другие строчки с подтекстом:
Показалось, что много ступеней,
А я знала — их только три!
А вот найти подтекст в стихотворении «Вечером» — уже не так просто.
Вечером
Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.
Он мне сказал: «Я верный друг!»
И моего коснулся платья.
Так не похожи на объятья
Прикосновенья этих рук.
Так гладят кошек или птиц,
Так на наездниц смотрят стройных…
Лишь смех в глазах его спокойных
Под легким золотом ресниц.
А скорбных скрипок голоса
Поют за стелющимся дымом:
«Благослови же небеса
— Ты в первый раз одна с любимым».
На первый взгляд — здесь нет подтекста. Однако тонкая игра полунамеков, интонация, эмоция — заставляют удостовериться в обратном. В стихотворении два героя: он и она. Свидание. Герой смотрит на героиню не так, как ей хочется: «лишь смех в глазах его спокойных\ под легким золотом ресниц». Ей не нравится, как он ее трогает: «так гладят кошек или птиц \ так на наездниц смотрят стройных». Он чувствует к ней совсем не то, чего бы ей хотелось, и совсем не то, что чувствует к нему она: «Благослови же небеса\ ты в первый раз одна с любимым».
В этом несовпадении чувств и интересов — и кроется конфликт этого текста.
Стихотворение Анны Ахматовой «Сероглазый король» — вообще детектив. Читаем внимательно. Подтекст кроется в сюжете и в эпитетах.
Сероглазый король
Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.
Вечер осенний был душен и ал,
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:
«Знаешь, с охоты его принесли,
Тело у старого дуба нашли.
Жаль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала седой».
Трубку свою на камине нашел
И на работу ночную ушел.
Дочку мою я сейчас разбужу,
В серые глазки ее погляжу.
А за окном шелестят тополя:
«Нет на земле твоего короля…»
Прочитали внимательно?
Заметили, что у Короля и дочери лирической героини одного цвета глаза? В простом тексте это может не значить ничего. Мало ли! Но в стихах такие вещи не могут быть совпадениями. Безусловно, здесь намек на адюльтер.
Интересно создается и образ мужа лирической героини. Это некий мрачный, молчаливый, немногословный человек, курящий трубку и уходящий на «ночную работу». Кем, интересно, можно работать на ночной работе в королевстве?
То, что для героини — трагедия, для него — обычное дело, о котором он говорит совершенно спокойно. На это спокойствие указывает очень простая глагольная рифма «нашел — ушел».
Так, деталями и эпитетами, создается подтекст.
Эпитеты — вообще огромная сила, поэтому я советую всем, кто пишет или изучает стихи, обращать на них большое внимание. Образ может быть эффектно выстроен исключительно эпитетами:
Вечер осенний был душен и ал
Эпитеты «осенний», «душен» — сразу же создают атмосферу, а краткое прилагательное «ал» (от слова «алый») — цветовой намек на тему крови, убийства, гибели, которая получит развитие далее.
Следующий пример — стихотворение современного поэта Бориса Рыжего.
В сырой наркологической тюрьме,
куда меня за глюки упекли,
мимо ребят, столпившихся во тьме,
дерюгу на каталке провезли
два ангела — Серега и Андрей, — не
оглянувшись, типа все в делах,
в задроченных, но белых оперениях
со штемпелями на крылах.
Из-под дерюги — пара белых ног,
и синим-синим надпись на одной
была: как мало пройдено дорог…
И только шрам кислотный на другой
ноге — все в непонятках, как всегда:
что на второй написано ноге?
В окне горела синяя звезда,
в печальном зарешеченном окне.
Стоял вопрос, как говорят, ребром
и заострялся пару-тройку раз.
Единственный-один на весь дурдом
я знал на память продолженья фраз,
но я молчал, скрывался и таил,
и осторожно на сердце берег —
чтó человек на небо уносил
и вообще — чтó значит человек.
Подтекст здесь создается за счет одной явной цитаты и одной скрытой. Борис Рыжий апеллирует к литературной культуре читателя. Чтобы понять смысл стихотворения, нужно знать, что написано на второй ноге человека, привезенного на каталке.
«Как мало пройдено дорог / как много сделано ошибок», — это строчки из стихотворения Сергея Есенина, поэта, канонизированного преступным миром. Теперь следует провести логическую операцию и состыковать их с финалом всего стихотворения. Что уносил человек на небо? Осознание, что много сделано ошибок. Что значит человек? Видимо, значит — ошибка.
Теперь попробуем разобраться в подтексте, переданном через аллегории. Возьмем стихотворение Дмитрия Лазуткина.
я коробок
а ты спичка —
чуть потёрлась об меня
и — зажглась
правда и погасла как-то быстро
у меня же до сих пор
с левой стороны след остался…
я — пустой коробок
Понятно, о чем написано, так ведь? О любви и любовном разрыве. Однако, слово «любовь» здесь не употреблено, оно подразумевается в подтексте. Что испытывает лирический герой, тоже понятно. Боль. Но этого слова тоже нет.
В стихотворении Кати Капович замысел раскрывается при помощи детали.
Мы долго искали в нахлынувших сумерках Джона,
никто до конца не врубался, кто был этот Джон,
фонарь наводили на лес, вылетала ворона,
и в церковь ввалились, когда уже пел Мендельсон.
Немного про Джона забыли, и в нос целовались,
и все было мило, легко, но я видела вбок,
как в левом притворе наматывал галстук на палец
какой-то не то, чтобы мрачный, но хмурый, как волк.
Он тоже глаза утирал, когда кольца надели
и не выделялся в парадной толпе пиджаком,
но словно его только что извлекли из постели,
он в видимом мире присутствовал не целиком.
Изрядно поддавший, потом протрезвевший от пива,
он, стало быть, все же нашелся. Помятый цветок,
помятый цветок из кармана нагрудного криво
свисал, и все падал и падал один лепесток.
Тот, кто попытается ответить на вопрос, о чем стихотворение, должен вспомнить детскую считалочку с отрыванием лепестков цветка: «любит — не любит». Рассказчик сосредотачивает внимание на строчках «все падал и падал один лепесток». Так становится возможным предположить , что герой Джон, потерявшийся во время общего праздника, испытывает проблемы с неразделенной любовью.

Вебинар Алексея Вдовина «Как НЕ писать скандальные биографии»
В марте 2019 Creative Writing School совместно с Ridero провели вебинар филолога, историка литературы Алексея Вдовина «Как НЕ писать скандальные биографии».
Спрос на скандальные, скабрезные, сенсационные биографии был всегда. Их проблема лишь в том, что они быстро устаревают и, как правило, никогда больше не переиздаются, а имя их автора становится нарицательным – как имя Герострата, ради славы спалившего храм Артемиды. О том, как не прослыть новым Геростратом и не подорваться на минах биографического жанра, мы и поговорили.
Вебинар продолжает цикл онлайн-встреч «CWS Будильник» с мастерами Creative Writing School — писателями, филологами, журналистами. Вебинары помогают слушателям разбудить в себе внутреннего автора и делают занятия творчеством регулярными.
CWS Будильник: не проспи вдохновение!

Вебинар Екатерины Ляминой «Как документ живет в литературном тексте?»
В сентябре 2018 года Creative Writing School совместно с Ridero провели вебинар филолога Екатерины Ляминой «Как документ живет в литературном тексте?».
Документы часто входят в состав литературных произведений. И художественных (фикшн), и, само собой, документальных (нон-фикшн). Вот письмо капитана Гранта, найденное в бутылке, которую извлекли из акульего брюха, — а вот письма, дневники, свидетельства, которыми наполнена «Лестница Якова» Людмилы Улицкой*.
Зачем тексту документ? Что происходит с документом (как вымышленным, так и реальным) в литературе разных типов? Как встроить документ в произведение, выбить им искру, которая подожжет бикфордов шнур сюжета?
На вебинаре мы разбирали примеры и попробовали сделать маленькое творческое задание.
*Признана иноагентом Минюстом РФ

Вебинар Екатерины Ляминой «Как писать о себе на грани нон-фикшн и фикшн?»
В сентябре 2019 года CWS совместно с Ridero провели вебинар Екатерины Ляминой, филолога и автора онлайн-курса Нон-фикшн, на тему: «Как писать о себе на грани нон-фикшн и фикшн?».
«Начни с себя» — совет банальный до оскомины. Но если направить его, как луч фонарика, на наши впечатления, воспоминания и желание писать, он может высветить очень много интересного. Это касается не только нас как свидетелей, очевидцев: течения времени, исторических событий, судеб наших родных, друзей и знакомых. Каждый из нас не менее важен как тот, кто оставляет след: ежесекундно выбирает одну из множества возможностей, совершает свой путь.
На вебинаре мы поговорили о том, как писать, выбрав точкой отсчета себя. Нужны ли для автобиографической прозы документы? Как с ними работать? Как копить впечатления? Как не сбиваться на мелочи? Как «размылить глаз» и в привычных, старых воспоминаниях отыскать пронзительный сюжет, историю?
Вебинар интересен всем, кто любит наблюдать и примечать, хочет рассказывать о себе и своей жизни — не так важно, в формате фейсбука, инстаграма или собирая записи для будущей повести, романа.
Вебинар продолжает цикл онлайн-встреч «CWS Будильник» с мастерами Creative Writing School — писателями, филологами, журналистами. Вебинары помогают слушателям разбудить в себе внутреннего автора и делают занятия творчеством регулярными.
CWS Будильник: не проспи вдохновение!

Words Unsaid
Все началось в Израиле, в душном минивэне с закрытыми окнами. Машина плелась сквозь толпу торгашей, они стучали по стеклам раскрытыми ладонями. Не косточками пальцев, как стучат по двери, а мокрыми бледными щупальцами, оставляя на окнах отпечатки — короткие линии жизни, любви и успеха.
От ужаса Артем забывал моргать. Его семья молча отказывалась от предлагаемых безделушек, продавцы злились и кричали проклятия. Артем хотел зажмуриться и заткнуть уши, но не мог пошевелиться и беспомощно впитывал чужеродные звуки. Но зарычал двигатель, и все пропало. Спереди раздалось жужжание, щелчки заевшего механизма стеклоподъемника, и в салон дунуло раскаленным городом. Желтые стены домов сливались с желтым песком и желтым солнцем. Артем вдохнул, и обжигающий воздух вошел в легкие, оттуда — в кровь, через которую во все клетки тела проникло отчаяние. Состояние требовало темноты и холода — козырька кепки, опущенного до носа, чтобы никто не заметил, как капли пота смешиваются на щеках Темы с каплями слез от попыток удержать рвоту внутри глотки. Соленые ручейки бежали вниз, распухшую кожу щипало, но он не протирал лицо — руки продолжали лежать неподвижно, как будто у него все было хорошо, как будто он просто уснул.
Нога до сих пор болела — он подвернул ее в пещере Рождества. Хотя Артем мало что знал о вере и человечестве, он почувствовал, что находится в месте невероятной исторической важности — в точке отправления. И люди вокруг вели себя так, словно зашли в вагон метро: не смотрели друг на друга и молчали. Огромный пласт тысячелетней культуры в виде нависшей тишины качнул их вагон, Артема покосило, и он неправильно шагнул на ступеньку. Боль резко ударила по его лодыжке, и захотелось взвыть, но он не издал ни звука. Отец заткнул ему рот.
Слезы, пот и сопли смешивались и скатывались по его сжатым бледным губам внутрь, под язык. Артему нужно было попросить воды или, может, остановить машину, сказать, что его укачало, но он не мог. Нет, в его семье плохое остается несказанным. Машина влетела на кочку, водитель вскрикнул что-то на иврите, но Артем уже этого не слышал: первые несказанные слова не прижились внутри ребенка, подхватили взлет автомобиля, ринулись вверх, и Тему вырвало на только что купленную икону из Вифлеема. Это было самое начало 2000-х, и Артем еще даже не пошел в школу.
Икону поставили на комод в столовой к другим сувенирам: деревянный Будда, мини-Эйфелева башня, монеты разных стран, вязаный член из Исландии (он долго не простоял), разные игрушки и японская кукла Дарума. Она исполняет желания: загадываешь, закрашиваешь один глаз, а когда сбывается, закрашиваешь второй. Артему ее подарили, рассчитывая на то, что он загадает хорошие оценки или мобильный телефон — что-то понятное и выполнимое. А Артем загадал, чтобы все люди были счастливы.
Потом мама узурпировала икону — поставила на прикроватную тумбочку. Она начала ходить в церковь и заодно решила создать филиал в спальне. Никто не возражал. То есть никто и не заметил: учитывая обстоятельства, до Богоматери с младенцем Иисусом никому не было дела.
Папа изменил жене с инопланетянкой: в телефоне любовница была записана как «УФО». Сколько Артем не ломал себе голову, он не мог вспомнить знакомых теть с такими инициалами. И он не понимал, как отец мог променять маму, которую звали Любовь, на какую-то Фаину или Фёклу. Когда между отцом и сыном состоялся первый и последний мужской разговор о женщинах, папа сказал, что восточные женщины очень привлекательны в молодости, но в старости ужасно угловатые. Артем тогда испугался, что ее могли звать Фарида.
Они с сестрой никогда не обсуждали произошедшее. Нельзя назвать полноценным обсуждением единственную реплику сестры: «Понимаешь, они ведь разведутся!» и «Как это? Этого не может быть! А как же мы?», написанное на лице маленького Темы. Тем не менее он знал наверняка, на чьей Моника стороне. Она всегда была папиной дочкой. Хотя ей тоже было непросто, она не плакала.
Хладнокровность и прагматичность — она переняла эти качества у отца и развила их, как иные школьники до максимума прокачивают в компьютерных играх первое оружие. Для отношений с людьми оно было губительным, но для работы лошадей, с которыми она проводила большую часть дня — самое то. Моника представлялась Артему неуязвимой, как Ахиллес, то есть настолько же уязвимой: с одним лишь слабым местом — холодной головой, которая не дала ей утонуть во время развода родителей.
Они остались вместе. Это не соответствовало правде даже территориально: мама осталась в родительской спальне, а папа навсегда переехал в гостиную. Постельное белье сняли с дивана, только когда к ним приехала журналистка с местной газеты. В городе проходил конкурс «Лучшая семья года».
— Скажите, вы счастливы? — спросила журналистка у Моники.
— Ой, конечно! У нас прекрасная семья! Мы много путешествуем и… ездим по разным странам!..
— Чудесно-чудесно… У вас необычное имя. Назвали в честь Моники Беллуччи? — подмигнула журналистка родителям.
— Да, — ответил отец.
— А вы, Артем, как живется вам?
— Очень хорошо… — ответил он, обдумывая, как бы ему незаметно удалить свою последнюю запись ВКонтакте: «Пистолет к виску и все проблемы решены…»
— А что это за необычная куколка?.. Китайская, да? А почему только один глаз закрашен?
Артем тогда подрабатывал на заводе, собирая открытки. Огромный цех с воздухом, переполненным мелкими частицами блесток. Оказалось, что у Артема на них аллергия: он начал кашлять и чихать. Работники жаловались на то, что «производственные условия могут привести к заболеваниям дыхательных путей». Но другого пути у Артема не было: он хотел накопить на гитару. Вокруг него сидели женщины и слушали «РетроFM». Артем подсматривал за ними. Хотя его самого выворачивало от попсы, он видел, что людям нравится. И не просто нравится — эти грубо склеенные слова, пафосные и пошлые, типа: «Я… люблю-ю-ю тебя до слё-ё-ёз… та-та-та-та-та-та-та… каждый вздох как в первый раз-з-з» заставляли работниц о чем-то задумываться, вспоминать, и их лица преображались скорбью, становились теплее и счастливее. И тогда Артем понял, как все исправить. Посыпал одну открытку двойной порцией блесток, и пока все отвлеклись на «На-деж-да — мо-ой компас земной…», сунул настоящую надежду себе за пазуху. Она грела по пути домой, Артем не мог дождаться подарить открытку родителям. На ней были нарисованы два лебедя, розы, сердечки, и написано:
Сегодня с годовщиной свадьбы
Спешим поздравить вас, друзья.
Пусть будет крепкой и счастливой
Большая дружная семья.
Годовщина была не скоро, и Артем сразу вручил подарок. Родители улыбнулись, поблагодарили, положили открытку на комод к сертификату победителя «Лучшая семья года» и разошлись спать в разные комнаты.
Несчастье оказалось их фамильным проклятием. Такая успешная, чудесная, несчастная семья. Директор завода. Директор школы. Директор конюшни. Переводчик порно. Как иных кровных родственников объединяет нос картошкой, их объединяла только общая судьба.
— Послушай, ну, я могу ошибаться, но, в общем-то, так оно и есть, — рассуждал Артем в душевой, — у мамы может начаться рецидив, сестра развелась со вторым мужем. Они вообще читали значение имени, когда ее называли? Одинокая. Как корабль назовешь… Черт! — Он повернул ручку душа в другую сторону. — Вот почему смывают наверху, а ошпаривает меня?! Ладно… Папино счастье в том, чтобы все были счастливы — ха! А я — что? А я хожу в душ с открытой дверью потому, что моя жена в любой момент может взять на кухне нож.
Все тихо. Хотя, может, ее просто не слышно из-за потока воды. You never know, подумал Артем.
Поначалу он тайно лелеял надежду на свою исключительность. Да, он свято верил в то, что идиотская порча обойдет его стороной, если он сбежит от семьи и будет жить по-другому. Словно несчастье — это не судьба, а заразная болезнь, от которой можно уберечься, если не контактировать с зараженными.
Поэтому на первом курсе он ушел из дома, жил в машине в полях с гитаркой, парой книжек, горелкой и купленной на последние деньги сковородкой. Однажды они случайно встретились с сестрой у магазина, и Артем еле сдержал смех: Моника в новом пальто, только из парикмахерской, в руке — эко-пакет с эко-продуктами. Она оцепенела и разучилась говорить, когда увидела брата-бомжа и беспорядок в салоне. С хаосом они боролись по-разному: Моника структурировала карандаши и тетради на рабочем столе, а Артем бил о стену бутылки. Или садился на крышу автомобиля и кричал вдаль все, что раньше не мог произнести вслух. Я смотрю «Ранеток»! Вы лицемеры! Тушеные овощи — это невкусно! Долбаный мир! Я хочу родиться заново!
— Эй, парень, ты больной?! — раздался сзади голос.
— Нет-нет, я здоровый, спасибо, — ответил Артем, повернувшись вполоборота к мужчине в полицейской форме. На дороге стояла машина ДПС.
— А ты чего тут делаешь? Травку куришь?
— Никак нет. В поле кричу.
— Зачем это? — спросил офицер, чувствуя, что его пытаются как-то надуть.
— Черт его знает! Нравится!
Артем достал сигарету и закурил. Одумавшись, предложил полицейскому, тот, хоть и уверенный, что его обманывают, плюнул и взял. «Мальборо» красный, как-никак.
— Товарищ офицер, разрешите спросить? — Тот от неожиданности поперхнулся дымом, раскашлялся и заплакал. — Вы вот все всегда честно говорите?
— Кхе-кхе. Ну, не вру, ясен пень, но и чистосердечные не даю. Я ж не преступник. Хе-хе-кхе-кхе-кхе.
— В Библии вот сказано: «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется». А мы вот разве не врем, когда говорим, что кого-то любим? Хотя только и делаем, что хотим побыстрее сбежать. Или ладно, другой пример, когда недоговариваем. Это тоже лукавство, хитрость, тоже неправда выходит, когда говоришь только половину правды. Типа говорим: «Я тебя люблю», а на самом деле думаем: «Я тебя люблю, но иногда хочу, чтобы ты сдох».
Полицейский улыбнулся — чуйка не подвела: парень псих и хочет кого-то убить.
— Да, да, да… — забормотал он, обдумывая план действий.
Артем повернулся к нему.
— Да что вы мне да-да-да?! Нет-нет-нет! Уж сделайте милость, скажите, что я неправ.
Прав, прав, думал офицер, я прав: чокнулся.
И все принимали Тему за сумасшедшего, когда он решался сказать правду. Нет, конечно, есть этикет (он еще есть?), нормы морали и прочее — но ведь этот молодой человек и не говорил ничего аморального. А если и говорил, то ответственность едва ли лежала на нем, ведь аморальность была в самой правде. И в конце-то концов, как же «лучше горькая правда, чем сладкая ложь»?
— Милая? — окликнул жену Артем, выключив воду в душе.
Она не отвечала.
— Солнце? Даша?
Доносился шум — видео американского блогера, жена смотрела их в свободное время. Артем не понаслышке знал, что значит «сердце чуть не выпрыгнуло» и «сердце в пятки ушло». Оно и прыгало, и уходило, и разрывалось, и обливалось кровью, когда Артем представлял, как сейчас найдет на кровати телефон с включенным Ютубом и окровавленную жену. Облажался, облажался, повторял про себя Артем, не надо было ходить в душ, от меня еще даже не воняло!..
— Даша, ты где? — спросил он судорожно.
Шум шел из спальной. Ноги подводили Тему, ступали кривовато пятками, выворачивая колени, и он чуть не упал. Дверь была приоткрыта — дурной знак: именно через приоткрытую дверь он видел папу с другой женщиной; маму на коленях, сложившую руки для молитвы, зажженные худощавые свечи на прикроватной тумбочке и через секунду рыдающую несчастную женщину.
— Даша? — пробормотал Артем.
— Чего? — ответила она весело. Очередной выпуск был смешным.
— Эй, ты чего это?
Только сейчас Артем осознал, что стоит голый и сырой.
— Я… прости, я забыл взять свежие трусы.
— Так а чего не позвал, кош? — Она достала пару с его полки и вложила ему в руку.
— Спасибо, — пробормотал он и пошел обратно.
Ой, наследил-то! Тут прямо лужа! Полотенцем бы хоть вытерся! — раздавалось у него за спиной. Неважно. Сердце вернулось на место, и он снова начал дышать. Все хорошо. И нет, Артем не почувствовал себя счастливым. Апокалипсис просто перенесся на попозже. Он так и подумал: not today.
Конец света проваливался у них чаще, чем у Свидетелей Иегова, но последние его жаждут, потому что после смерти их ждет счастье, а Артем — нет. Его единственный шанс быть счастливым — это не Иисус, а Даша. Но жена сказала Артему, что ее в этом мире не держит ничего.
— Как же ничего? А я?
Она покачала головой. Что-то внутри него тогда треснуло и так никогда и не восстановилось. Следующие раз восемь Артем перенес не легче, но потом, как старый волк, научился на собственных ранах и перестал совершать главную ошибку — надеяться.
На что он только не надеялся: взаимная любовь, секс два-три раза каждый день, психологическая незрелость жены (потому что тогда можно было надеяться, что однажды она таки созреет), вкусный горячий ужин — он просто надеялся на хорошую жизнь. Говорят, надежда умирает последней, но жене с суицидальными наклонностями удалось ее пережить.
Без надежды жить стало проще. Пару недель он даже испытывал радость невротиков — безразличие ко всему. Но оно оказалось затишьем перед страшной бурей. Он стал ипохондриком.
— Что? Что опять не так?! — спрашивала жена во время перекура у куртки с опущенным капюшоном.
— Ничего, кош, все нормально, — отвечала куртка, а человеческая нога продолжала отбивать ритм хауса по стенке. — Мне утром трудно живется.
Утром его подводило и тело, и дух, и сам бог. Артем вставал с комком мокроты в горле и напрочь забитым носом, отчего, едва проснувшись, сразу чихал и, спотыкаясь, бежал в ванную с горстью соплей в ладошке. Жена старалась прожить еще один день, а он мешал, сильно мешал.
Однажды Артем высморкался в раковину и ужаснулся: из него вышли не сопли, а комки невысказанных слов. Он проглатывал их, когда молчал с родителями, сестрой и женой. И ведь слова-то не самые большие и тяжёлые, русские как-никак, не немецкие, но тут одно, там одно — и набралось столько, что его грудь пронзило страшной болью, и легкие начали свистеть. Этот свист только убедил Тему в теории. Как говорил Чехов, если человек свистит, ему есть что сказать.
Ему всегда было что сказать. Артем стал насвистывающим Дартом Вейдером. Жена, конечно, заметила новую особенность мужа: засыпать стало трудно. Она взяла подушку и легла валетом.
— Что такое, солнце? Зачем перелегла?
— Ты свистишь.
— Нет.
— Свистишь! Я что, не слышу, что ли.
— Не свищу я. Дышу просто.
Но Артем замолчал, потому что «да», «свищу» слизко спустились вниз к остальным товарищам, и на грудь словно положили кирпич. Такой короткий разговор, подумал Артем, а я уже еле дышу… надо освободить немного места, чтобы уснуть.
— Да, я свищу.
— Спи уже.
Как и любой ипохондрик, он всегда думал, что чем-то болен. Болезни представлялись ему воплощением аспектов духовных, поэтому и лечить их нужно было не лекарствами, а, например, молитвами, как мама. Именно с их помощью мама и поборола рак, хотя врачи отводили две недели и не советовали начинать курс химиотерапии, чтобы не мучить человека в последние дни.
Месяцами мама молчала о том, что ей трудно подняться на пятый этаж. Потом на четвертый. На третий. Второй. И только когда она уже не могла встать с кровати, мама решилась сказать, что ей нездоровится. 10% — врачи обычно говорят процент надежды на жизнь, но в ее случае они сказали: «90% на этой стадии умирают». И ведь справилась, думал Артем, с помощью слов. Высказанных слов. Как когда он кричал в поле, задыхался и чувствовал, как в груди бьется сердце — пульсирует жизнь, которая, как ему казалось, не может быть трагичной и бессмысленной.
Внутри него накопилось слишком много слов. У него заканчивались силы. Работать, ходить, даже вставать — все ему теперь давалось трудно. Поэтому новость о том, что вечером состоится семейный ужин в ресторане в десяти станциях метро от его квартиры, не могла его обрадовать.
Это был редкий случай: вся семья в сборе. Съехались из разных городов, чтобы увидеться — только поэтому. Никаких причин типа: «по работе», «отдохнуть», «на выставку» и прочих. Нет, увидеться и поговорить. О чем же нам говорить, думал Артем.
— Как вы здесь поживаете? — спросила мама, как только они сели в ресторанчик за Казанским.
— Мам, ты сначала выбери, что поесть.
— Да я… — Она замолчала. — Я… мне… что ты сказал?
— Говорю, надо заказать сначала. Нас ждут, — и Артем показал на улыбающегося официанта.
— Да, конечно… мне вот это, пожалуйста. — Мама показала на первый попавшийся салат.
— Мне тоже, — сказала Моника, поправляя вилки, — я ведь йогой начала заниматься. Стараюсь не есть жирное.
— И мне! — добавила Даша.
— Принесите мне кровавый стейк, — сказал отец.
— А мне «Молчание ягнят», — сказал Артем и отдал меню официанту.
— Даша, ты ведь начала учиться на психолога?
— Да! Я вдруг поняла, что самое важное в жизни — люди. Я хочу им помогать. Знаю, звучит тривиально, но я правда…
Артем случайно кашлянул, и Даша ущипнула его под столом.
— Как замечательно!..
— А расскажи, как у вас проходит…
— О!
— Ничего себе! Вот это здорово!
— А потом мы, представляете…
— А-ха-ха-ха-ха-ха…
— Бывает же, да!..
Артем слушал жену и пытался представить себе ту счастливую жизнь, которую она описывала. Никаких попыток себя убить, угроз развода, напоминаний о том, что он переводчик порно — депрессивный лох, никаких обвинений в том, что он отравляет ей жизнь. Спокойствие.
По-настоящему Артем испытывал его давным-давно, перед пещерой Рождества. Он лежал на родительской кровати в отеле. Еще не было ни начала, ни слова. Артем дремал на груди отца так долго, что щека нагрелась и приклеилась. Он засыпал и просыпался под глухие удары бьющегося сердца папы и морские переливы его внутренних жидкостей. Артем мог видеть, слышать и ощущать, но не думать. Не облекать мир в слова. Почему мы не могли остаться там, думал теперь Артем. Отец сказал сыну, что пора на экскурсию. Они вышли на улицу, и тот номер в гостинице, как и все, что с ним было связано, навсегда осталось позади.
— …В общем, нам с Артемом очень хорошо. Ходим гулять в парк, а когда сидим дома, смотрим смешные видео на Ютубе…
— Нет! — вырвалось у него. — То есть да, мы это делаем, но есть еще столько всего… черт побери, плохого! Каждый день, каждую…
— Артем… — попытался остановить его отец.
Но было поздно. Все слова, залежавшиеся внутри, поперли вверх: он припоминал все на свете, не стал фильтровать неудобные факты — словам не терпелось вылететь наружу, они спотыкались, сцеплялись и выпрыгивали комками. Артем раскашлялся, хлынули слезы, и мир поплыл. Когда Артем протер рукавом глаза, то увидел, что оплевал всю семью малиновыми сгустками крови.
Мама странно на него смотрела. Как на «Девятый вал», когда они ходили в Русский музей. В ее взгляде было интимное понимание, сопричастность. Артем повернулся к картине и увидел нарисованные волны, оторванную мачту, людей. Страдания и прочее. Ничего необычного. Кроме одного — это была не трагедия людей, а торжество моря. На кресте — на вере — побежденные; люди, борющиеся за свою жизнь, хотя нет никаких шансов выжить в такой шторм. Aren’t they us, mum? — подумал тогда Артем.
Все сидели тихо. Голос разума нашептывал ему, что и он должен, но, задыхаясь, Артем продолжил говорить. Еще и еще, пытаясь выговорить опухоль, выплюнуть ее на тарелку и разделаться с ней, наконец, всем вместе. Это уже была не речь, а бормотание, полифонический свист. Он почувствовал необычное — пустоту внутри, ветерок вдоха, свободно пролетающий вглубь. Артем боялся упустить это ощущение. Боялся, что, если замолкнет — перестанет бороться — все прекратится. Он прекратится.
Моника всхлипнула, моргнула, и на щеке заблестела тонкая полоска пробежавшей слезы. Артем замолчал. Эта капля словно упала в него, и внутри все вспыхнуло. Голос отца закружился эхом в голове. Слова распались на звуки, Артем попытался собрать их обратно, но забыл формы. В полудреме Артем вспомнил странное чувство. Словно сердце — магнит. И пока он тонул все глубже и глубже, грудь раздирало зудом.
Его тянуло наверх.

Цирк приехал
— Мам, а у клоунов ботинки большие будут? Красные такие?
Цирк стоял во внутреннем дворике Музея современного искусства на Гоголевском, который и сам по себе — с гигантским цветочным шаром и разномастными скульптурами по периметру — выглядит как уголок сюрреализма во взрослом городе. В этот странный пейзаж влился и бело-желтый шатёр, причём настолько, что он казался частью экспозиции, а не посторонней конструкцией, местом проведения спектакля. Самый маленький в мире бродячий цирк (где «самый» — наиболее гордое слово, потому что мало кто в мире о нём знает) приезжал в Россию не первый год и сегодня давал предпоследний спектакль. Мы с дочерью пришли довольно рано, но во дворике уже были люди. Я как-то заволновалась, всем ли хватит места под шатром. Было жарко.
Много лет назад я увидела на выставке картину Любарова «Цирк приехал». На переднем плане изображён полупьяный клоун в расстёгнутой рубашке, погруженный в мир серо-грязно-зелёного цвета. Справа курица, из шатра выглядывают работники, а главный герой с безразмерным улыбающимся ртом курит малюсенькую сигаретку. Чуть приглядевшись, понимаешь, что внутри гигантской улыбки спрятан пропорциональный кривому окурку рот с опущенными кончиками. В этой картине я вижу сразу две ключевые особенности цирка как искусства: с одной стороны, клоун и человек — это две разные сущности, которые живут в теле одновременно, а магия клоунады состоит как раз в этом постоянном мерцании хрупкого, уязвимого человеческого сквозь гипертрофированно смешной образ Ваньки-встаньки. Однако в обычной жизни постоянно подавляемое человеческое даёт о себе знать, отсюда и классический образ пьющего, грустного или злого клоуна. Другая же особенность заключается в том, что куда бы цирк ни приехал, он создаёт внутри обычного мира маленькое пространство, в котором реальность преображается. На серо-зелёный мир вдруг падает свет, и внутри него появляется разноцветное яркое нечто. Поэтому даже клоун с окурком в зубах посреди нигде — это обещание, что вот хотя бы на сегодня мир будет немножко другой, как-то ты да развлечешься.
Пока волонтеры расставляли лавочки в полукруг возле сцены, мы пошли посмотреть открытки и обменять брони на маленькие билетики. Раздавали их двое, сами артисты — они же сценаристы, режиссеры, костюмеры и бутафоры. Был он — пожилой мужчина, говоривший по-английски с итальянским акцентом: грустноглазый, уставший и как будто раздражённый. Попробовала угодить ему улыбкой и «grazie», но вышло как-то неловко. Он не смотрел прямо в глаза, говорил с определенным усилием на вдохе, как делают люди, подавляющие желание выругаться или уйти. Смешной старомодный костюм с подтяжками почему-то выглядел вполне буднично — видимо, я смотрела слишком много немого кино, так что этот образ не казался мне шутовским. И была она — женщина вне времени. В платье, похожем на одежду «европейской» крестьянки восемнадцатого века — прямом, без изысков, с фартуком, из прочной, но приятной выцветшей ткани (серой, зелёной, голубой?), с негустыми и маслянистыми волосами, немножко растрепанная, но собранная — и она просто не помещалась в июль 2018-го. То есть она продавала билеты, улыбалась ожидающим представления зрителям, но как будто находилась одновременно в другой реальности: в том измерении, где электричество все еще связано с грозой. Только перечитав заметки о цирке два года спустя я узнала, что звали их Ленка и Альберто — она из Чехии, он — из итальянской Швейцарии, муж и жена.
Ленка абсолютно меня покорила: лицо со множеством мимических морщин (словно складки одежды у статуи), натруженные руки и взгляд у нее были такие, как будто мир ее не испортил. Научил трудиться, дал много горя, но ребенка в ней не тронул; как будто вообще не исчезло переживание жизни как чуда.
— Мам, а тут все никак не начинается и не начинается!
Альберто неприкаянно слонялся между шатром и постом с билетами, а люди продолжали прибывать, делали круг-другой по двору и возвращались к исходной точке. Казалось, что тут должно пахнуть сахарной ватой, но почему-то не пахло.
Когда мы уже решили добежать до соседнего заведения за какао, объявили, что сейчас все начнётся; «уважаемые зрители, проходите к шатру». Артисты стали рассаживать всех по росту так, чтобы самым маленьким детям и самым высоким взрослым было одинаково видно. Но случилось непредвиденное: беременная женщина активно стала пропихивать троих детей разного возраста вперед к арене.
Альберто жестами показал, что так не пойдет, на что женщина проговорила что-то резкое, а затем громко скомандовала мальчикам сесть на стулья первого ряда. Клоун гневно зашипел, грянул гром:
— Да ты не мужик, чо ты делаешь вообще, пидорас!
Альберто не говорил по-русски, но ругательства, очевидно, понял. Он стал буквально выталкивать ее из шатра.
Итало-русский обмен репликами перешёл в склоку, из которой я выхватила одну фразу: «Это не твой дом, это мой дом!»
Я уже не помню, сказал ли он это по-итальянски или по-английски, но слова были именно эти, я записала их в дневнике. А женщина их, очевидно, не понимала. Для неё все происходящее было просто плохим сервисом.
Я люблю цирк с детства. И с детства же его боюсь; особенно помню, как на какой-то ёлке в темном актовом зале ко мне подбегает клоун с гигантским микрофоном, тычет им в лицо и требует рассказать новогодний стишок, а я в ужасе пытаюсь понять, как заползти под кресло, ведь выбраться из центра зала невозможно. Мне стыдно и страшно, и хочется только одного: чтобы это закончилось.
Но это большой цирк, городской, а мечтала я в детстве о маленьком фургончике, в котором артисты потрясываются вместе по дороге из города в город, из страны в страну, «и живут одной семьёю, как хорошие соседи, люди, кони и медведи» 1.
Такой цирк казался мне настоящим. Циркачи и цыгане (не рома, люди со своей культурой и историей, а именно колониальный миф) были перемешаны в одной экзотической фантазии, а уж про то, как оно там живётся львам, обезьянкам и другим животным, я вообще мало задумывалась. Зато я мечтала о луне за окном трясущегося фургончика, о полуволшебных людях, о единстве с природой, о свободе. А не думала еще и о том, что бродячий цирк для артистов — это работа и дом одновременно, мир улитки.
В статье Википедии «Улитка (жизненная форма)» читаем: Улитки передвигаются на нижней поверхности ноги (подошве), прогоняя по её длине волны мышечных сокращений. С одной стороны, улитке гигантских усилий стоит передвижение, вот эта «волна мышечных сокращений» — это как усилия человека по переходу Альп, только так вся жизнь. С другой, часть моллюска находится в ракушке. То есть улиткин дом — это часть ее самой.
Вот у двоих циркачей есть дом, в который они приглашают зрителей, своя ракушка: под шатром можно увидеть и почувствовать то, что в реальности распылено и незаметно, а в цирке концентрированно и высвечено. В том числе насилие. Когда ты идёшь в цирк, ты знаешь, что это в программе. И когда ведёшь туда детей, тоже знаешь: будут жонглировать, ходить по канату под куполом, а ещё давать друг другу тумаки, наступать на ноги, мазаться тортом, вот это всё. Таков язык цирка. Но если целостность ракушки нарушить, то насилие выливается вовне.
Женщина продолжила орать матом и начала звонить в полицию, мужчина перешел на крик на смеси европейских языков и стал рваться в драку. Ленка цеплялась за его руки, иногда тихо лепетала что-то успокаивающее, но в основном молча смотрела на него гигантскими глазами. Наблюдать это было больно. Внутренний дворик, сад, билеты, разбитый шатёр, приготовленный реквизит — вся работа по созданию волшебного мира рушилась. Я не знала, уйти или остаться, но услышав, что к нам едет наряд, решила ждать: вдруг будет нужен свидетель и переводчик.
Тут я снова окунулась в детство, но в другое, — в ощущение обиды и незащищенности, которое бывает, когда не можешь остановить что-то абсурдно несправедливое, что делают взрослые. Как когда ссорятся родители. Я стояла и как ребенок ненавидела Альберто, и ненавидела беременную женщину — потому что они сделали все, чтобы испортить своим и чужим детям праздник, но даже больше потому, что они подвели Ленку. Альберто отстаивал свою территорию только что не с ружьем, а ведь это был и ее дом. Мне было стыдно, что я нахожусь в этом странном месте, стыдно, что я не могу ничего сделать, и отдельно стыдно за то, что хотелось защитить, заслонить от мерзкой сцены в первую очередь не собственную дочь, а циркачку, которую я видела впервые в жизни. Я смотрела на онемевшую женщину, которая цепляется за руки мужа и дрожит мелкой дрожью, и как будто на несколько секунд стала ею, почувствовала и унижение, и страх, и обиду. И еще, где-то в глубине, огромную злость и усталость ото всей этой гребаной кочевой жизни с человеком, который тебя видит как инструмент искусства, а не как партнёра, который не может ради тебя переступить через свой мужской стыд хоть один гребаный раз. Ленка почему-то была обязана выбирать, с кем она, — ей было дико стыдно за мужа перед женщиной и дико обидно за него же. А ведь им, кроме прочего, еще играть спектакль прямо сейчас. Представить, что он в гневе свалится с сердечным приступом, было легче, чем что он успокоится и извинится. И еще эта долбаная жара.
В не полюбившемся мне в целом фильме «Мидсоммар» есть, однако, одна сцена, которая идеально иллюстрирует то состояние, в которое я иногда впадаю при виде чужого горя. Когда главная героиня, приехавшая с бойфрендом и его друзьями в религиозную общину в Швеции, понимает, что возлюбленный ее прямо сейчас совокупляется с местной девушкой, она начинает полурыдать-полукричать-полумычать от боли. В этот момент к ней присоединяется хор местных девушек: они переживают горе все вместе, как единое целое. Ее горе как будто расходится на множество отражений в зеркальной комнате. Я тоже на несколько секунд стала таким зеркалом, и ничего не могла делать, кроме как со-чувствовать, отражать, быть вместе с Ленкой. Обо всем остальном я просто забыла.
— Мама, мама, что же, цирка не будет, да? Почему все такие злые?
Потупившись, трое взъерошенных детей встали с мест и вышли из-под шатра: семья отправилась ждать полицию. Не могу перестать думать о том, как они будут помнить этот день. Часто ли у них бывают такие дни?
Они ушли, а мы оказались внутри шатра. И за это тоже было немного стыдно.
Занавес закрылся, занавес открылся: уже с другой историей внутри.
Вот выходит Ленка-лебедь, Ленка-солдатик, ребенок, старушка, женщина. Перевоплощается она по-настоящему, за доли секунды, и каждый раз как будто насовсем. Они с Альберто весело мутузят друг друга, как будто ничего и не случилось, а еще жонглируют зонтами, кувыркаются, бегают друг за другом и разыгрывают сцены на троих с куклой из старой одежды. Вот Ленка запела песню рома так, что на три минуты замолчали даже малыши. В ней и свобода, и луна, и цугум-цугум повозки на дороге. И та боль, которую Ленка, похоже, чувствует нередко: вчера, сегодня, завтра. Спектакль назывался «Дурак» — и был о смешном незадачливом герое, который вроде бы всем мешает, но без которого ничего не получается, и главное, который привносит в любое действие самое важное — свою душу и свою песню.
Спектакль закончился под аплодисменты и хохот детей. С полицией всё как-то обошлось, а следов скандала в интернете я не нашла. Как будто ничего и не было; считай, два шоу по цене одного. Возможно, клоун со взрывным характером — тоже такой дурак, искренний и ранимый. Или всё-таки нет, и был бы он настоящим дураком, умел бы быть смешным не только на сцене, и тогда всем было бы чуть менее душно.
В интервью Ленка говорит (по-русски, у нее русский папа): «Самое главное — и было бы хорошо, если бы вы это написали, — чтобы человек научился уважать человека». Говорит она это про русскую культуру диалога, напоминая о том, что не надо смотреть в телефон во время представления и не надо сносить старые здания. А кажется, что слова эти обращены и к Альберто. Но слышит ли он их, сказать трудно, так как интервью ее муж не дает.
— Мама, цирк смешной! Давай еще пойдём! А ботинки у них обычные.
Мы вышли на бульвар. Пошёл дождь.
- Новелла Матвеева, «Цыганка»[↑]

Что немцу хорошо, то русскому — не всегда
В моей жизни было несколько эпизодов, которые я считаю совершенно самостоятельными законченными историями, жизнью внутри жизни, игрушкой в киндер-сюрпризе. Вроде бы желтая пластиковая коробулька находится в яйце, вроде бы она — его часть, но всё-таки мыльно-молочный шоколад — это одно, а микроскопический пингвин или, там, бегемотик — совсем другое. Вот и моя годичная работа в Германии на четвёртом курсе оказалась отдельной микрожизнью, имевшей свое сложное начало, неоднородную пеструю сердцевину и тихий смиренный конец.
А началось всё с яркого, но, к сожалению, проигнорированного знамения.
Я сидела на кухне у Светки, моей подруги и «однокорытницы» по кафедре немецкого языка и, захлебываясь восторгом и чаем, рассказывала, что узнала о чумовой программе. Едешь, значит, в Германию, живешь в семье, сидишь там с дитем, то-сё, мелкая помощь по хозяйству, а за это — комната, еда, проездной и курс немецкого за счёт принимающей стороны, да ещё зарплата. В евро!
Тут надо обязательно уточнить, что в начале нулевых для студентки иняза провинциального педагогического института из крайне бедной семьи, которая до того, кроме родного города, была только под Пензой в доме-музее Лермонтова, такая поездка казалась полетом на Альфа Центавру. А как можно язык шлифануть! До по Европе поездить! Да собственные деньги! Да не в рублях — в валюте!
Сейчас это смешно читать. И может показаться, что уж в начале-то нулевых подобные возможности появлялись тут и там. Всё так. Но Светкина кухня располагалась в центре не очень крупного, плохо поспевающего за столичным прогрессом города на Нижней Волге. До нас всё доходило с большим опозданием.
— Свет, ты понимаешь?! Это ж такой шанс! А вдруг там остаться можно будет? В Германии! Ты представляешь вообще?
— Ага, ага, допустим. Как программа-то хоть называется? — Светка, уже давно привыкшая к эмоциональной нестабильности своей гостьи, спокойно продолжала пить чай.
— А! Я даже записала. «Opfer».
Тут стабильность потеряла сама Светка, начавшая так хохотать, что весь чай вышел носом.
Выяснилось, что программа называется по-французски: «Au-pair», читается как «о-пер» и означает «на равных». Измученное же языком Гёте и Шиллера ухо конвертировало «Au-pair» в немецкое «Opfer» — «жертва».
Тут бы мне, конечно, увидеть и услышать Вселенную, отчаянно машущую руками, шипящую «Псс!» и изо всех сил посылающую недвусмысленные сигналы. Но я уже неслась на гребне своих фантазий и не оглядывалась назад. Разумеется, зря. Договор был подписан под словом «Au-pair», а через пару месяцев я стала самой настоящей Opfer.
Носи программа двойное название, честнее бы вышло, ведь везло в ней участникам как раз 50/50. Кто-то после этой работы оставался в близком контакте с принимающей семьей, дружил с подопечными детьми «через годы, через расстоянья» и обменивался открытками под Рождество, а кто-то долго не мог прийти в себя.
Короткий договор, предлагавшийся агентством, освещал далеко не все нюансы и изобиловал туманными формулировками типа «небольшая помощь по дому». Но вот загвоздка: «небольшая» — весьма растяжимое понятие. Для моей подруги Ирки из Ростова-на-Дону эти слова означали один раз в неделю нажать на стиральной машине кнопку «пуск», а для Наташки из Кемерова они обернулись стиркой и глажкой на всю семью, влажной уборкой трехэтажного дома два раза в неделю и ежевечерним выгулом овчарки. Пункт «комната, питание и достаточное свободное время» тоже открывал широчайший простор для интерпретаций: от предоставления собственного автомобиля и мансарды с террасой до того, как договор поняла семья Майнштернов, в которую я отправилась.
Во-первых, Майнштерны не посчитали нужным сообщить о неврологических проблемах своего семилетнего сына. Они искренне надеялись, что студентка педагогического института может справиться с бесконечными приступами ярости, во время которых Марвин бросался на стены и мебель. Но я не могла. Как не могла разобрать лепет его сестрёнки Матильды. В любой стране трехлетки разговаривают на своём особом варианте национального языка, так что вести с ними диалог очень трудно, даже если он у вас общий. Изо дня в день Матильда пыталась что-то мне сообщить, я не понимала, девочка ударялась в слезы, отчего у Марвина начинался очередной припадок.
Во-вторых, «небольшую помощь по дому» Майнштерны компенсировали приличной помощью в саду. Так я узнала, что содержание немецкого сада даст фору любой русской даче с грядками и теплицами.
Сил хватило на три месяца. Потом я позвонила в агентство господину Бёллю (он руководил им на пару с женой) и сообщила, что сама близка к приступу. Бёлль предложил поменять семью, один раз за год это можно было сделать. Так и сказал: «приезжайте к нам, подберем вам новый дом, или возвращайтесь в Россию». После телефонного разговора мне хватило пятнадцати минут, чтобы собрать рюкзак. Оставаться у Майнштернов не хотелось ни дня, возвращение в Россию казалось позором.
Бедные Бёлли. Они явно не ожидали, что ненормальная русская девочка поймёт всё буквально, сбежит от работодателей в тот же вечер, доберется на перекладных через полстраны в маленький городок Хамм и позвонит им в дверь в час ночи. Но про свой приступ я не шутила, поэтому пришлось открывать. Бёлли жили в том же доме, в котором располагалось агентство, на втором этаже и, в общем, имели пару свободных комнат, но становиться ещё и отелем не планировали. Поэтому новая семья нашлась на следующий день к обеду, а за ужином мы уже обсуждали детали.
Итак. Никаких тайных диагнозов. Никаких подводных камней. Минимальная помощь по хозяйству, в основном — отвести-привести девочку из школы, занять чем-нибудь после уроков. Отпускать меня в короткие и длинные поездки по стране. С пониманием относиться к уровню владения языком. И ещё много пунктов, на каждый из которых папа, мама и их тринадцатилетняя Лара закатывали глаза и восклицали: «Ах, mein Gott, разумеется, разве можно по-другому?»
Оказалось, можно.
На сей раз ртуть опускалась в градуснике постепенно: сначала чуть больше посидеть с Ларой, потом ещё чуть больше, потом встать пораньше и накрыть стол к завтраку, потом накрывать его три раза в день и убирать кухню после еды, потом гладить на всю семью, et cetera. И вот через полгода я уже в респираторе, стою на коленях и пытаюсь вернуть затирке между напольными плитками первозданную белизну какой-то откровенно радиоактивной смесью.
Самым же главным испытанием стала даже не эта эксплуатация, а моя комната. На вечере знакомства о ней упомянули вскользь как о просторной и занимающей почти весь цокольный этаж. Ха! Немецкий (как и простейшую архитектурную терминологию) я знала не настолько плохо. Цоколь хотя бы частично возвышается над землёй. А то помещение, куда меня привезли, было самым настоящим подполом, слегка облагороженным и меблированным. Свет должен был поступать из тонкой полоски фрамуги под самым потолком, но он не поступал. Со стороны двора стекло полностью загораживали две широкие полосы. Снизу — зелёная. Это была трава. Над ней — коричневая. И да, чёрт возьми, это были дрова.
В этом во всех смыслах андеграундном подвале можно было дотянуться до потолка, встав на цыпочки. До сих пор удивляюсь, как я не впала в депрессию и не наложила на себя руки. Хотя как бы я это провернула? Ни повеситься там, ни в окно выйти.
Долгими и очень темными вечерами Марвин и его семейка теперь вспоминались чуть ли не с ностальгией. В конце рабочего дня от них хотя бы можно было закрыться в полноценной комнате и грустно смотреть в настоящее окно на поле и лес. Теперь же в течение восьми месяцев мне предстояло от исходящей ядовитым пубертатом Лары и её предельно склочной мамаши спускаться в погреб.
Когда этот срок истек, от радужных планов «остаться там», которые я так смело строила на Светкиной кухне, не осталось и следа. Домой! В деревню, в глушь! Зато на свет Божий.
Кажется, именно с тех пор я настороженно отношусь к призывам «изменить свою жизнь», «рискнуть», «сделать шаг». Слишком наглядно этот год показал, что, садясь в социальный, карьерный или любой другой лифт, вполне можно жать на пятый, а приехать, увы, на минус первый.

