Февраль 2023
Игры домового
Роман Тимура Валитова «Угловая комната»
Мастерская «Young Adult: готовим роман»
Мастерская «ДетлитРулит: пишем для детей и подростков»
Мастерская «Память, говори!»
Мастерская Александры Борисенко и Виктора Сонькина «Художественный перевод с английского для начинающих»
Мастерская Дарьи Варламовой «Нон-фикшн»
Мастерская Дениса Банникова и Анны Линской «Литмастерство: основы»
Мастерская Натальи Калинниковой и Арины Бойко «Автофикшн: как писать о себе»
Мастерская Ольги Славниковой «Проза для начинающих»
Романная мастерская Елены Чижовой
Автобус
Белые салюты
Бодика
Верховный Смотритель
Волны
Гадюка
Груз
Далёко-далёко
Доверие
Дом, которого не было
Дыни пахнут солнцем
Защемление души
Зона любви
Катя и Ханс
Каша
Кредитные обязательства
Митинг
Мишка, Мишка, где твоя улыбка?
Мой друг Боб
Новая дача. Новелла
Новая надежда
Однажды на Невском
Оранжевый на белом
Порода такая
Постковидное марево
Потеря
Пробуждение
Прорвись на другую сторону
Расставание
Романтик
Сад Бенджамина
Своё
Святой Бенедикт покидает Рим
Сердечный суп
Сосед с верхней полки
Февральская пурга

8 принципов продуктивной (само)редактуры
В издательстве «Манн, Иванов и Фербер» вышла книга Екатерины Звонцовой «Причеши меня. Твой текст», посвященная редактуре и саморедактуре художественной прозы. Книга рассматривает разные составляющие текста — от стиля до сюжета, разбирает законы русского языка и помогает довести книгу до конца.
Представляем фрагмент из книги об основных принципах редактуры.
Если вы не возненавидели свою книгу, пока писали ее, то наверняка дойдете до этого, пока будете редактировать.
Шутка, шутка. Но доля правды в ней немного пугает.
Пройдя круги писательского ада, мы закономерно устаем. Мало кто, завершив историю, даже самую обожаемую, многообещающую, в перспективе открывающую путь к «Букеру» и все в таком духе, находит силы тут же начать ее редактировать. Обычно к моменту, когда поставлена финальная точка, уже хочется чего-нибудь другого, напри- мер награды за труды, и побыстрее. И вот текст, как в слу- чае выше, сразу улетает к издателям или на площадку для публикации, где автору хорошо и уютно. Это здоровый инстинкт: когда мы голодны, мы ищем еду. Ресурс нужно восполнить.
Все это было бы хорошо, если бы не напоминало печальную гонку белки в колесе незакрытых гештальтов. Отдачи хочется скорее, и все же разумнее послушать другое желание: просто перезагрузиться (и съесть чего-нибудь еще, например кексик, а лохматую книжку дать почитать только паре друзей). Отложить завершенный текст на месяц-два, не думая о его публичной судьбе. Уехать в отпуск, активно начать работать работу, встретиться со всеми друзьями, которые из-за вашего творческого урагана подзабыли, как вы выглядите… За это время замыленный глаз и раскаленный мозг успевают немного прийти в себя. Вот теперь-то и можно браться за работу. Можно — осторожно.
Саморедактура способна здорово вымотать, особенно если книга большая или ОЧЕНЬ большая. С такой проблемой столкнулась я сама, работая над предпоследним романом. Его объем получился около сорока пяти авторских листов, и не преувеличу, если скажу: причесывание чуть меня не убило. Оно заняло полгода — треть от времени написания. Зато, именно завершив эту работу, я и вывела восемь принципов, которыми не стоит пренебрегать, садясь за правку текста. Они помогут вам встать из-за нее живыми и довольными, не дадут перегореть и, надеюсь, прогонят естественную сердитую мысль: «Книжка, книжка, хорошая ты, но когда же уже закончишься?»
1. Принцип горячего железа. Дорогие авторы (особенно те, кто еще в процессе), помните: какие бы пособия, включая это, вы ни читали как подспорье, важно сначала написать текст. Полностью. Не в темпе той несчастной белки, но и без топтаний Жозефа Грана, которого мы здесь еще вспомним. Единственная правка, полезная на этом витке, — перед работой над новой частью чуть-чуть причесать фрагмент, законченный накануне. Это поможет и на историю настроиться, и совсем уж смешных блох выловить. Ключевое слово здесь — «чуть-чуть», без перекраивания, например, всех диалогов и описаний. Что-то вызывает сомнения? Сделайте пометку на будущее. Контекст, которым она обрастет по мере развития сюжета, все равно поможет лучше справиться с проблемой.
2. Принцип переменного тока. Полезен и при написании истории, и уже при редактуре. Текст, абсолютно любой, — черная дыра, поглощающая наше внимание без остатка. Старайтесь вовремя отвлекаться: на интересный флешмоб в соцсети, общение, чтение чужих книг, суп или просто на другую свою историю. Так проще, хотя звучит приблизительно как «Разорвись-ка!». И все же это факт: мозгу сложно раз за разом нырять в одно дело. В какой-то момент, как бы вы ни любили свою историю, подсознание начнет видеть в ней орудие пыток. А дальше — буксование, выгорание и прочие радости. Так что здоровый прыжок веры в стог сериального сена не грех! Но помните, как влечет нас Темная сторона Силы и как соблазнителен путь ситха прокрастинатора! Длительные, многодневные перерывы делать все-таки не стоит, чтобы не потерять с текстом и персонажами эмоциональной связи. Книжка не сможет прийти и подергать вас за рукав с вопросом: «Ну ты заканчивать-то будешь или нет?» Помните, цель вашего перерыва — эмоциональная, а порой и физическая подпитка, чтобы дальше работать еще энергичнее. Отложив текст слишком надолго, вы потом сами же будете сердиться на себя за непродуктивность и неспособность включиться.
3. Принцип благородного сыр-р-ра. Повторим и это: перед редактурой тексту лучше полежать. Но не перележать — отсюда идет перегорание. Подождите, пока свеженаписанные диалоги и сцены перестанут мельтешить в голове. Заполните ее каким-нибудь другим шумом, поживите в тишине, а потом книга сама вас позовет. Мне обычно хватает месяца такого отдыха: и голова успевает проясниться, и какой- нибудь новый сюжет еще не утягивает в свои дали.
4. Принцип денег и стульев. Утром — одно, вечером — другое. Собственную книгу трудно вычитать сразу на сюжет и стиль даже самому большому эксперту. Да, это делают наемные литературные редакторы, но их ориентир — «чтобы было качественно», а ориентир автора обычно — то абстрактное «чтобы было ух!», которого не добиться в один присест. Тут я возвращаюсь к тому, на что уже намекнула во введении. Хорошо бы редактур у вас было две: первая пройдется по сюжету, вторая — по стилю. Анализ персонажей, конфликтов и атмосферы действительно может кончиться тем, что вам захочется что-то дописать, переписать или удалить. Стиль оптимально править, когда все сцены, мотивы и образы приобретут удовлетворяющий вас вид. Иными словами, сначала стул нужно сколотить, а уже потом зашить в его сиденье бриллианты. Только без фанатизма, пожалуйста. Если сюжет или стиль, на ваш взгляд, правок особо не требуют, можно ограничиться и одной читкой.
5. Принцип горы Фудзи, вершина которой окутана туманом. Частично этот пункт повторяет первый, но больше касается глобальных элементов, чем шлифовки. Так вот, я не советую лихорадочно кромсать, видоизменять и особенно удалять какие-либо сцены и диалоги, пока текст не готов полностью. Бывает, что «неудачный» или «водянистый» фрагмент оказывается отличной подводкой к чему-то важному, играет роль затишья перед бурей или содержит ключевые детали и скрытые метафоры. Исключение одно: если из-за него дальше вообще не пишется, но так бывает редко. И даже в этом случае я рекомендую сохранить такую сцену в отдельном файле до конца работы с книгой.
6. Принцип всплывающих лягушек. Если вам кажется, что какой-то из ваших героев недораскрыт, прежде чем давать ему новые сцены, раздувающие объем книги и способные нарушить ее внутреннюю логику, приглядитесь к имеющимся! Чаще всего именно из этих темных омутов выныривают отличные лягушки: диалоги, которые можно расширить, внутренние монологи, которые нужно добавить, стороннее восприятие, привносящее в образ свежих красок, и метафоры. Ква!
7. Принцип забывчивых гостей. Чем больше народу вы позовете на вечеринку и чем дольше народ у вас пробудет, тем выше вероятность, что всю следующую неделю вам предстоит находить в квартире чужие вещи, доедать провиант и краснеть при вспоминании неловких моментов. Так же и со «вставными» сценами. Если лягушек все же было недостаточно и вам пришлось что-то дописать, внимательно проследите за тем, как эта сцена или глава будет отражаться на уже написанном тексте. Возможно, кто-то будет ее вспоминать. Возможно, героям придется о ней поговорить в какой-то из уже существующих сцен. А возможно, не дай бог, она вывернет вам все так, что дальнейшее развитие событий перестанет казаться логичным или отношение к тому или иному герою в корне изменится. Осторожнее с дописками. И с чужими трусами, забытыми в вашем шкафу, конечно же.
8. Принцип хорошего песика! Мой любимый. Награждайте себя за каждый сложный рубеж: когда закон- чите кусок, с которым воевали пару суток, обнаружите и заткнете сюжетную дырку, раскроете недораскрытого героя и тем более завершите работу над книгой. В этом мире все должно быть по любви. А не по «в следующий раз постараешься лучше, ничтожество».

Марина Вишневецкая: «Тексты пишутся неподцензурно — такова уж природа творчества»
Марина Вишневецкая — как сейчас принято говорить, универсальный автор. Иными словами, писатель разносторонний, но одинаково талантливо проявляющий себя в разных сферах. Она автор повестей и рассказов, детских стихов и телепередач, сценарист мультипликационных и документальных фильмов, член жюри литературных премий. А кроме того, Марина Вишневецкая много лет следит за развитием русского языка, и результатом этого исследования стали уже несколько томов «Словаря перемен». Издание собирает лексические новации: социально-политические мемы, заимствования из иностранных языков, слова, попавшие в разговорную речь из молодежного сленга. О языке, запретах в литературе, поиске вдохновения и молодых авторах мы и поговорили.
Вы много лет занимаетесь «Словарем перемен», в 2022-м вышел новый том, посвященный 2017-2018 годам. Идет ли работа над следующими изданиями? Когда их ждать?
— Чем больше лаг между датами на обложке словаря и годом издания (первая книжка «Словарь перемен 2014» вышла в 2015 г., «Словарь перемен 2015-2016» — в 2018, дату выхода третьего словаря вы назвали) — тем качественнее получается текст: есть время проверить, какие неологизмы удержались в языке, пусть только на несколько лет, а какие оказались однодневками, есть больший выбор примеров употребления. Поэтому в ближайший год-два нового словаря ждать точно не стоит. Но работа по его составлению как шла, так и идет. Без этого мне уже трудно представить себя и свою каждодневную жизнь.
За прошедший год о языке начали говорить все чаще. И у нас, в «Пашне», выходило интервью Александры Архиповой об эзоповом языке и новоязе. Какие лингвистические перемены и явления-2022 кажутся вам наиболее интересными и важными?
— По силе воздействия не только на язык, но на всю нашу жизнь, как и на жизнь будущих поколений, 2022 год можно будет сравнить разве только с 1917 и 1941-м. Можно БУДЕТ (второе слово капслоком), потому что сравнивать будем не мы. Мы оказались в ситуации тектонических сдвигов и катастрофических перемен. У нас нет инструментария, нет языка, нет той точки, из которой мы можем проживаемое и переживаемое нами увидеть и описать. Сегодня можно сказать лишь то, что под давлением запретов усиливается самоцензура, обедняющая язык СМИ и социальных сетей. А в языке тем временем копятся военные и околовоенные жаргонизмы (за ленточкой, мобики, задвухсотить, птурить), клише превращаются в мемы (где вы были восемь лет? нам не оставили другого выхода), появляются остроумные перевертыши вроде «философского самоката», понятия, которыми мы пытаемся описать новую реальность (релокация, релоканты, параллельный импорт), новые для большинства из нас аббревиатуры (вроде ИПсО 1 и ЦПР2) — но это все то, что видно невооруженным глазом. А вот короткий комментарий, промелькнувший недавно в одном телеграм-канале, возможно, говорит о перестройке, ломке, вероятностном составе нашего языка куда больше: «Прокурор в процессе Ильи Яшина 3 сказал об одном из документов в материалах дела: СМИ недружественных государств тут почему-то названы мировыми». Сегодня эта ремарка вызывает скорее улыбку. Но кто может знать, как эти самые СМИ будут называть через год, три, пять лет? «СМИ вражеских государств»? Сегодня этого не знает никто.
Марина Вишневецкая: «У нас нет инструментария, нет языка, нет той точки, из которой мы можем проживаемое увидеть и описать»
В современном литературоведении иногда встречается идея о том, что классическая русская литература выросла на культуре запрета и цензуры. Согласны ли вы с таким утверждением? И как, по-вашему, могут повлиять новые законы на будущие тексты?
— Мне ближе позиция Набокова, утверждавшего, что до советской власти в России, хотя и существовали ограничения, художниками никто не командовал, тогда как советское правительство провозгласило литературу орудием в руках государства.
Можно сравнивать причины, по которым Салтыков (тогда еще не Щедрин) был посажен на гауптвахту, а затем отправлен в Вятку (за «вредный образ мыслей», явленный в повести «Запутанное дело»), и что инкриминировалось девять лет спустя представшему перед судом Флоберу («оскорбление нравственности», нанесенное обществу романом «Госпожа Бовари»). Но всё это мелочи, не сопоставимые с тем, что принесла литераторам череда запретительных законов, принятых советской властью, начиная с Декрета о печати, одного из первых, принятых в ноябре 1917 года.
Что же касается будущих текстов… Они пишутся и будут писаться неподцензурно — такова уж природа творчества. «Каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить». А «новые законы» могут повлиять только на их публикацию. И не вообще публикацию, а публикацию в нашей стране. Где однажды они тоже обязательно будут изданы. Мы ведь всё это уже не раз проходили. Ну а тексты, которые авторы постараются уложить в прокрустово ложе позволенного, увидят свет сразу — и забудутся на другой день.
Что сейчас происходит с русскоязычной литературой? Если ли молодые авторы, за которыми вам интересно наблюдать?
Замечено, кажется, уже всеми: в русской литературе поэтический бум. Радуюсь ему и читаю всё, до чего могу дотянуться. Что касается молодых, наблюдаю прежде всего за своими студийцами. Всё, во что ты сам вложил душу, волнует и вдохновляет. Надеюсь, что в серьезного детского писателя вырастет Настя Хачатурова, несколько месяцев назад у нее вышла первая и, по-моему, очень удачная книга «Как воспитать пингвина». Что-то интересное и тоже детское (читала незаконченный вариант) затевает согруппница Насти по Creative Writing School, пишущая под псевдонимом Анка Хашин. Давно жду книжки от «моего же» Андрея Павличенкова, путешественника и блогера, глубокого, талантливого, но непоседливого.
Из условно молодых, они ведь уже и сами преподают, читаю Оксану Васякину и Евгению Некрасову. Не наблюдаю, пока только читаю. А еще — Аллу Горбунову, Сергея Лебеденко, Тимура Валитова. С ними мне интересно!
Издатели в последнее время говорят, что для успеха автор должен отвечать вкусам аудитории: популярны сейчас детективы — пишем детектив. Как по-вашему, может ли настоящий писатель вот так подстроиться под запрос рынка?
— Сначала надо договориться о том, кого мы относим к мерцающей категории «настоящие писатели». Сделать это, если мы говорим о современниках, очень сложно. Акунин хороший писатель? Хороший. Настоящий? Это решат те, кто откроет его книги пару десятилетий спустя. Если мы условимся считать настоящими писателями тех, чьи книги читает следующее поколение, а хорошими тех, кого жадно читают современники — всё встанет на свои места. Хороший писатель — именно в силу своей настроенности на читателя — отвечает на его запрос вполне органично. Скажем, роман «Ненастье» хорошего писателя Алексея Иванова поразил меня своей сценарной структурой и уж совсем голливудским финалом. Финалом точно разочаровал. Но читатели Иванова, думаю, именно такой структуры и такого финала от него и ждали.
Стоит ли винить себя, если «не пишется»? И откуда брать вдохновение?
— Не пишется, когда текст уже начат? Или не пишется, когда старый текст завершен и не пишется новый? Это разные ситуации. Если не пишется начатый текст, значит, вы что-то о нем еще не поняли: смутно представляете героев, не чувствуете мотивов их поведения, еще не ответили себе на вопрос: чем они живы, что ведет их вперед? Или не придумали конфликт, который поможет им проявить себя. И тут надо начать разминать эту глину — воображая своего героя то в одной, то в другой, то в третьей ситуации; пытаясь услышать его разговор с самим собой, с другими героями или даже затевая собственный с ним диалог. И лучше всего делать это во время пеших прогулок. «Я не раз находил, что, как только я начинаю передвигать ногами, в голове начинают кружиться мысли», — писал в дневнике Генри Дэвид Торо. И Ницше, и много кто еще.
Если не пишется «вообще», то есть никак не затевается новый текст, здесь у всех всё по-разному. Кому-то нужны новые впечатления: Юрий Казаков отправлялся в путешествие, возвращался, садился и писал. Диккенс захаживал в морг — по одной из версий, тоже в поисках вдохновения. Кому-то могут помочь сильные эстетические «нагрузки»… Кому-то поможет встреча с неожиданным собеседником. А иногда достаточно сказать себе: я ничего никому не должен, не пишется — и не буду. И отправиться на прогулку. Одну, вторую, третью — тут предчувствие персонажа и выглянет из-за угла. Винить себя за неписание, конечно, не стоит. Но что-то записывать каждый день нужно: случайные впечатления, услышанный диалог, пришедшие мысли… И они, словно крошки — птиц, обязательно приманят рассказ, эссе, повесть.
Фото на обложке Наталии Деминой
- информационно-психологическая операция[↑]
- центр принятия решений[↑]
- признан Минюстом иностранным агентом[↑]

Почему писатели пишут
Мередит Маран в своей книге «Зачем мы пишем? Известные писатели о своей профессии» рассказывает о жизни 20 авторов-современников. Каждый из них размышляет о трудностях творческого процесса, делится секретами письма и дает советы начинающим авторам. Значительную часть своей работы Маран посвятила проблеме «Почему писатели пишут и что заставляет их продолжать?». Статью на эту тему опубликовало издание Farnam Street, а мы перевели для читателей «Пашни».
Почему писатели пишут и что заставляет их продолжать? На этот вопрос нет ответа, каждый раз мы заново исследуем его в контексте культуры, времени и общества. В начале своей книги Мередит Маран обращается к писателям прошлого, чтобы выяснить, что они об этом думали. В эссе «Почему я пишу» (1946 г.) Джордж Оруэлл сказал так:
«С самого раннего возраста, примерно лет с пяти или шести, я знал, что когда вырасту, мне стоит стать писателем. В возрасте от семнадцати до двадцати четырех я пытался отказаться от этой идеи. Но я осознавал, что тем самым я отрекаюсь от своей истинной природы, и что рано или поздно мне придется остепениться и сесть за написание книг».
Для большинства авторов писательство — не просто ремесло. Это неотъемлемая часть жизни, они не представляют себя кем-то другим. Дэвид Балдаччи, автор романа «Абсолютная сила» («Absolute Power»), утверждает: «Если бы сочинение книг было запрещено законом, я бы сидел в тюрьме. Я не могу не писать. Это настоящая одержимость».
Можете ли вы сказать то же самое о своей работе?
До того, как полностью посвятить себя написанию книг, Балдаччи приходилось сочинять истории по долгу службы:
«Свои лучшие сюжеты я выдумывал, когда работал юристом. Знаете, кто выигрывает в суде? Клиент, чей адвокат рассказывает истории лучше, чем адвокат противника. Когда вы ведете судебное дело, вы не можете изменить факты. Вы можете только перекроить сюжет, чтобы показать вашего клиента в выгодном свете; подчеркнуть определенные детали и затемнить другие. Вы должны быть уверены, что факты, которые вы выдаете за правду, убедительны. Факты, которые могут навредить вашему клиенту, нужно либо объяснить, либо скрыть. Текст судебной защиты — это настоящая история».
Как писателя, Балдаччи мучают страхи, с которыми часто сталкиваются люди литературной среды. Главный из них — это страх чистого листа:
«Каждый раз, когда я сажусь за новую книгу, я до смерти боюсь, что не смогу поймать вдохновение, привнести в текст магию. Вряд ли вам захочется оказаться на операционном столе и услышать слова хирурга-правши: “Сегодня я буду оперировать левой рукой”. Но в написании книг все происходит именно так. Чтобы стать лучше, ты каждый раз заставляешь себя делать всё по-другому. Как писатель, ты не ограничен оборудованием, технологиями или чем-то еще. Это как в игре, где у тебя есть бесконечные варианты хода. И это ужасает».
Удивительно, но многие успешные писатели боялись, что больше никогда не смогут написать ничего стоящего. Ведь успех не только вселяет уверенность, но и формирует вокруг личности определенные ожидания. Для музыканта нет ничего страшнее, чем необходимость записать новый альбом. Так и для писателя самое ужасное — начало следующей книги.
Даже невероятно плодовитые авторы, которые пишут много и быстро (как, например, Айзек Азимов) испытывают тревогу по этому поводу. Сью Графтон, автор мистической серии книг «“А” значит Алиби» («A is for Alibi»), написала роман на каждую букву алфавита, и вот что она говорит:
«Работая над новой книгой, большую часть времени я просто сижу за компьютером и трясусь от страха. Я всегда была убеждена, что каждая моя законченная книга будет последней; моя карьера подошла к концу, и я больше никогда не смогу написать ничего нового; мой успех был мимолетной иллюзией, и мои надежды на будущее мертвы. Черт! Еще нет и 9-ти утра, а я уже в драме».
Большинство писателей воспринимают страх чистого листа как нечто неизбежное; как тень, которая сопровождает творческий процесс. Об этом пишет Исабель Альенде, автор романа «Дом духов» (« The House of Spirits»):
«Писать новую книгу я всегда начинаю восьмого января. Представьте себе седьмое января! Это ад. Каждый год в этот день я подготавливаю для себя рабочее пространство. Убираю все другие книги. Оставляю только словари, мою первую изданную работу и исследовательские материалы для новой рукописи. Затем, восьмого января, я прохожу семнадцать шагов от кухни до домика у бассейна, где у меня располагается офис. Это как путешествие в другой мир. Зимой в это время обычно всегда дождливо. Я иду под зонтом, моя собака бежит следом. Пройдя этот путь в семнадцати шагов, я оказываюсь в другом мире и становлюсь другим человеком.
Я иду туда в страхе. С волнением. И с разочарованием — потому что у меня была идея, которая на самом деле оказалась не новой. Первые две, три, четыре недели потрачены впустую. Тогда я просто сажусь за компьютер и начинаю писать. Каждый день, снова и снова, и через некоторое время приходит муза. Она не всегда является по приглашению, но рано или поздно все равно приходит».
Опытные писатели знают, что этот страх нужно принять: если вдохновения нет сейчас, оно все равно придет потом, потому что так происходит всегда. Это время ожидания между «сейчас» и «потом» — опыт, который закаляет.
Так зачем писать? Зачем наказывать себя таким изощренным способом? На этот вопрос Мэри Карр, автор романа «Клуб лжецов» («The Liar’s Club») , ответила почти поэтично:
«Я пишу, чтобы мечтать, общаться с другими людьми; записывать, уточнять, навещать умерших. У меня есть своего рода примитивная потребность оставить в мире след. Кроме того, мне нужны деньги. Я почти всегда нервничаю, когда пишу. Бывают такие моменты, когда ты забываешь, где находишься, когда у тебя в руках оказываются ключи от волшебной двери; и ты ничего не чувствуешь, потому что ты где-то в другом месте. Но это случается очень редко. В основном я просто пытаюсь оживить мертвеца».
Все, что было сказано выше, лучше всего резюмировал Джордж Оруэлл. В своем эссе он перечислил четыре главных, по его мнению, мотива для писательства:
«Чистый эгоизм. Стать тем, о ком говорят, о ком вспоминают после смерти; иметь возможность вернуться в детство будучи взрослым и т.д.
Энтузиазм эстета. Получать удовольствие от звучания речи, от того, как один звук влияет на другой; от плотности хорошей прозы или ритма хорошей поэзии.
Исторический порыв. Желание видеть вещи такими, какие они есть; найти реальные факты и сохранить их для потомков.
Политические цели. Мнение, что искусство не должно иметь ничего общего с политикой, само по себе является политической позицией».
У каждого автора своя причина, чтобы писать. Но все они пришли в литературу для того, чтобы рассказывать истории; сгорая от желания поделиться с миром и получить что-то взамен. Джоан Дидион, автор романа «Год магического мышления» («The year of magical thinking»), однажды сказала: «Я пишу для того, чтобы понять, о чем я думаю…»
Некоторые вещи мы можем осознать, только когда напишем об этом. Порой нам сложно разобраться в своих чувствах, пока мы не поговорим о них. Для писателей этот разговор происходит в их книгах.
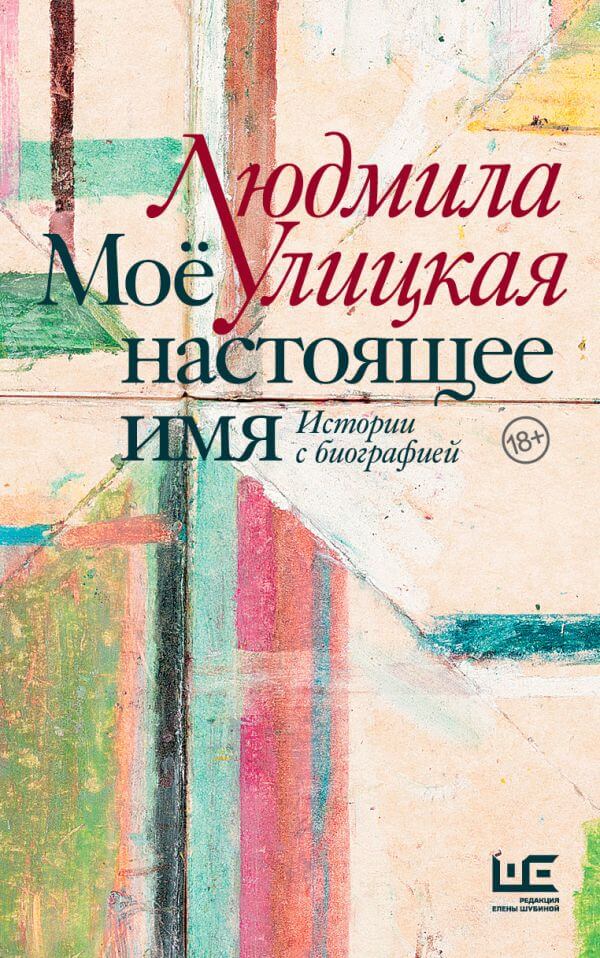
Игры домового
В издательстве «Редакция Елены Шубиной» вышла новая книга Людмилы Улицкой*. В сборнике «Мое настоящее имя» автобиографическая проза тесно смыкается с художественной, в книгу вошли рассказы, мемуарные очерки и биографические зарисовки, дневниковые размышления.
Представляем один из рассказов.
Странная история: открыла нижнюю дверцу буфета, там стоит мясорубка и к ней насадка, которая сверху накручивается. Давно мясорубкой не пользуюсь, потому что мы мяса почти не едим. Старая, почти старинная вещь, не выбрасывать же… Смотрю — сам корпус есть, а насадки нет. Куда-то подевалась. Это у меня бывает. Через некоторое время снова лезу в буфет: насадка от мясорубки стоит, а мясорубки нет. Что за фигня? Игры домового?
Дальше — больше: было шесть бокалов. Стало семь. Потом все оказались разбитыми. Ковер утром лежит почему-то наизнанку. Потерялись ключи от дома. Дверь оказалась открытой. Хотела выйти на балкон — дверь намертво заделана, как будто никогда и не открывалась. Тонкие частые шажки вдруг послышались, как будто кто-то пробежал. На кровати на подушке сидит кот. Спрыгнул с подушки и исчез. Сроду я в доме котов не держала! Отреставрированный столик снова оказался неотреставрированным. Откуда-то возникла люстра из бабушкиной квартиры вместо геометрической современной палки с шестью светильниками. Фотографии покойных родственников оказались все перевешенными, а фотография прадеда пропала. Обнаружилась через два дня в книжном шкафу, за стеклом. Западная стена квартиры, на которой была балконная дверь и два окна, стала вся стеклянной, и квартира как будто выбежала на улицу и стояла голая на всеобщем обозрении. В столовой обнаружился диванчик, который когда-то стоял в бабушкиной квартире, и на нем бабушкин вязаный паутинкой платок.
Вечером раздался звонок в дверь, звонок прерывистый, из детства, пять последовательных всхлипов. Тогда снаружи под звонком висела табличка: один звонок общий, два Алимовым, три Шлеиным, четыре Каретниковым, пять Гинзбургам. Я по длин- ному коридору побежала открывать. За дверью стояла высокая худая женщина с сумкой, попросила поесть. Прошла мама с алюминиевой миской — в ней дымился суп. Женщина взяла миску и присела на поленницу, сложенную у дверей в комнату Алимовых. Прогрохотал сапогами Сашка-милиционер, сосед, подозрительно посмотрел на хлебавшую суп, зыркнул в сторону мамы: вы чего здесь харчевню разводите? Женщина отложила ложку, вылила себе в рот остатки супа через край и по- пятилась к двери. Выскочила, и коридор опустел, исчезли сундуки и шкафы, стоявшие вдоль стен, заблестел паркет, которого давно уже не было, запахло мастикой. Из кухни медленно выплыла пожилая дама с кружевцем на голове и с большим подносом в руках. Она осторожно несла поднос, на котором вплотную тесно стояли большая медная кастрюля, глубокая сковорода и сотейник. Нет, это не дама, а прислуга, от давности проживания в доме уже почти ставшая дамой. Из самой дальней комнаты выбежали большой мальчик в штанах до колена и маленькая девочка в клетчатом платье и белом переднике. За ними худая женщина с повязанной щекой. Они вошли в первую от входа большую комнату, которая давным-давно была переделена на три, а тут чудесным образом как будто срослась, и посередине стоял огромный стол под белой скатертью, во главе стола сидела женщина с большой головой в седых завитках, подобранных на макушке. Это была бабушка, но не совсем бабушка, скорее бабушкина мама или даже бабушкина бабушка. Рядом с ней справа лысый розовый пожилой человек, а с другой стороны, слева, маленький старичок с бородой в шелковой шапочке, а рядом та самая девочка в клетчатом плате и в белом переднике. Я присмотрелась — кажется, это была я.
А потом замелькало так быстро, не только с кинематографической скоростью, но даже с некоторой кинематографической прозрачностью… Электричка, набитая стоящими людьми с сумками, маленький стадион, на который мы с подружкой Женькой бегаем кругами и делаем длинную разминку, а тренер Николай Васильевич на нас посматривает презрительно. У него лицо американского киногероя, которых мы тогда еще и не видели, один Кадочников у нас был. Да еще только что запущенный по нашей улице трамвай, на который мы глазели с восторгом, дровяные сараи во дворе, инвалиды за грубо сбитым столом играют в карты на фоне палисадников с золотыми шарами… Потом, через паузу, химическая лаборатория, палатка, экспедиция на дальнее озеро, которое сегодня чуть ли не посредине Москвы, и все это на фоне постоянной учебы чему угодно: химии, математике, научному атеизму, эмбриологии, буддизму и философии, теории музыки и истории крестовых походов… И все мои семь квартир, которые перетекали одна в другую, а буфет, медная лампа и старое пианино путешествовали и расставлялись в тех же взаимоотношениях что всегда: у длинной стены пианино, у короткой против окна буфет, посредине стол, в углу тахта… Меняется вид из окна, меняются паспорта и прочие документы, девочка становится девицей, молодой женщиной, потом меняются мужья, рождаются дети, приходит старость…
Вхожу в последнюю квартиру — в ней следы поспешных сборов и уборки чужой рукой: все стоит не совсем так, чуть смещено. Дверь открыта настежь. Отсюда только что вышли люди… смотрю в окно вниз: возле подъезда толпа, два автобуса и катафалк.
И вот я тоже внизу, в толпе. Много цветов. Шестеро молодых мужчин выносят из подъезда гроб. В гробу стриженая седая старуха с плотно сжатыми губами и довольно неприятным выражением лица. Что-то знакомое. Да это же я! А толпа-то какая большая! Друзья самые любимые, и просто знакомые, и незнакомые люди. Лица у всех постные и снулые. Но меня никто не замечает. Всех интересует только гроб, в котором тоже я. Бывшая я. Как же все интересно! Дико интересно! Интереснее, чем химия и физика, чем эмбриология и генетика! Но здешнее знание закончилось, и уже началось другое, следующее, которое совершенно не исключает ни бинома Ньютона, ни правила левой руки, ни грамматики санскрита, ни приемов вышивания крестиком… Но люди, сгрудившиеся во дворе возле гроба, собирающиеся ехать в церковь, где отец Александр прочитает прекрасные молитвы про “со святыми упокой”, а потом на кладбище, не догадываются, что я с нежностью за ними наблюдаю, но никак не могу сказать: не горюйте, ребята, я с вами до тех пор, пока вам этого хочется…
Да, важное: не думайте, пожалуйста, что здесь все другое и новое. Кое-что сохраняется из области приобретенных знаний, кое-что проясняется из метафизических прозрений о природе душ, а кое- что остается загадочным, например: куда девалась насадка от мясорубки и куда потом исчезла сама мясорубка? Есть в жизни тайны…
*Признана иноагентом Минюстом РФ

Роман Тимура Валитова «Угловая комната»
«Угловая комната» — дебютный роман Тимура Валитова, молодого прозаика, выпускника Creative Writing School, дважды финалиста премии «Лицей» и лауреат премии журнала «Знамя». Роман вышел в издательстве «Редакция Елены Шубиной». Герой этой истории приезжает из Москвы в родной город хоронить отца, постепенно в поступках и размышлениях раскрываясь перед читателем как человек, бредущий по жизни без цели, никого не любящий, лишенный точки опоры.
«Свежий, острый, современный текст, внутри которого спрятан ещё один — неторопливый, классический во всех смыслах этого слова», — так сказала о книге писатель и мастер Creative Writing School, Марина Степнова. Мы поговорили с Тимуром Валитовым о его книге, а также предлагаем прочитать фрагмент романа.
Ваш дебютный роман называют «романом поколения». Как вам такое определение?
— Я считаю, что каждый роман — это роман поколения. Даже если тридцатилетний автор пишет сегодня о Второй мировой, это все равно что-то говорит о поколении тридцатилетних.
Более того, какого-то универсального романа поколения быть просто не может. Любое поколение — это множество не похожих друг на друга людей. Значит, и авторы этого поколения не похожи друг на друга. И их романы не похожи. Понять мое поколение, прочитав одну «Угловую комнату», невозможно.
Расскажите про героя «Угловой комнаты». Кто он, как появился? Безысходность, бессмысленность жизни, одиночество, душевная пустота — кажется, это самое главное о нем?

— Герой романа — в каком-то смысле я: мы похоже думаем, боимся одних и тех же вещей, оба одиноки. В общем-то, я многое рассказал о себе на страницах романа — но не только о себе: некоторые истории я подсмотрел у друзей, подслушал в барах, прочитал в соцсетях. Видимо, таков я (и таково мое окружение), раз главная строительная материя романа — тоска и безысходность. Надеюсь, моя следующая книга будет соткана из восторгов — но пока обстоятельства к этому не располагают.
Основная линия романа довольна провокативна. Не боялись ли вы, что вас начнут ассоциировать с героем?
— Пока я писал роман, я не думал, кто будет его читателем, как этот читатель отреагирует на написанное и что подумает обо мне. А когда роман сложился и вышел на бумаге, уже глупо было бояться и сожалеть.
Я вообще редко задумываюсь о читателе, если честно. Пока текст не закончен, я пишу как бы «в стол». А когда закончен — что получилось, то получилось.
Как думаете, может ли роман попасть под новые цензурные ограничения? Если такое происходит, стоит ли писателю переписывать свой текст?
— Я уверен, что издательство не будет печатать дополнительный тираж романа в текущих условиях. Само собой, переписывать роман я не хочу. А если б и захотел — все равно бы не смог: для меня эта история навсегда завершилась, в эту воду я уже не войду.
А вообще любая цензура — зло. Особенно та, что создает неравенство между людьми, ущемляя их в правах и свободах.
Критики сравнивают ваш роман с «Раной» Оксаны Васякиной. Вы сами видите общие линии?
— Уже не раз говорил, что «Рана» Васякиной — роман, который я пытался написать, но не смог.
Здесь нужно чуть больше рассказать о том, как писалась «Угловая комната». Четыре года назад у меня умер отец — и я почувствовал, что мне нужно записать все свои мысли и переживания по этому поводу. Я хотел быть максимально искренним в тексте, хотел создать документ, в котором не будет ни одной выдуманной детали, — но очень скоро понял, что мне это не интересно: ни как писателю, ни как читателю. Тогда я решил превратить документальный роман в художественный.
Как мне кажется, Васякиной эта предельная искренность удалась. Когда я читал «Рану», то первые сто страниц завидовал и кусал локти. А к концу книги понял, что все к лучшему.
Травма и память стали чуть ли не важнейшими темами в современной литературе. Как думаете, почему так происходит?
— Думаю, травма и память всегда были важными темами в литературе. Сейчас о них стали больше говорить, сформировались отдельные направления литературоведения, которые рассматривают тексты через эту оптику. Однако тренд задала не литература. Просто стало окончательно ясно, что мы — производное от нашего прошлого. Появились специальные понятия, подходы, классификации — сначала в науке, потом в литературе.
Вы дважды финалист премии «Лицей», лауреат премии журнала «Знамя». Зачем писателю премии?
— Сейчас на русском пишут сотни талантливых молодых авторов. А издательства, которым интересны тексты этих авторов, можно перечесть по пальцам. Любая премия, любой длинный или короткий список — это шанс для автора. Издатели обращают на это внимание.
Над чем вы сейчас работаете?
— После февраля я сумел написать всего несколько страниц текста. Они мне очень не нравятся.
Традиционный последний вопрос: что вы пожелаете тем, кто только работает над своим первым большим текстом.
— Нет ни рецептов, ни секретов — садись и пиши. Могу пожелать только честности: когда работаешь над текстом, не думай ни о чем, кроме текста, — ни о повестке, ни о провокативности, ни о цензуре. У текста своя правда — только она и важна.
Угловая комната. Фрагмент
Отца не стало в девяносто седьмом.
Дня эдак за три до моего дня рождения.
(Это я подсчитал сейчас: тогда я считал неважно — и на отца мне было посрать.)
Перед этим, в конце ноября, бабушка была у гадалки: не знаю, как так получилось — на бабушку это не похоже. Но таки была — факт! — и гадалка нагадала, что бабушка проживет до девяноста трех, переедет за границу и встретит там последнюю, ту самую любовь. Бабушка не спорила — предложенный расклад ее полностью устраивал; но углядеть за ним какой-нибудь божественный промысел не получалось. Тогда гадалка сказала про двух внуков, неоконченный институт и болячки по женской части — и бабушка поверила, хотя таланта в этих болячках, по-моему, немногим больше.
— У меня, что ли, на лице написано про неоконченный институт? — спорит обычно бабушка.
— Да ну. Пришла бы на полгода раньше — просекла бы ее на стандартном заходе с двумя внуками.
— Вот еще. Неужто она внуков не сосчитает? Она сказала, дети и внуки желтыми полями в ауре прописаны.
Желтыми. Полями. В ауре. Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?
Не помню, чего еще наговорила гадалка; кажется, предсказала дефолт и оползень на Зеленском съезде. Бабушка пошла было на выход, привыкая умом к тому, что Зеленский под запретом, что к мосту теперь через Похвалинский, как вдруг:
— Ах вот еще — только разглядела. Сыну твоему от ментов достанется. Пусть дома сидит.
— Ну да, — ответила бабушка, — я его дома последний раз в августе видела, — и вернулась мыслями к болячкам и съездам. Вечером, конечно, позвонила Нине, но отца не застала; стала рассказывать про гадалку — Нина слушала плохо, отвлекалась на плачущего Мишу, била ложкой об эмалированную кружку, пыхтела, пытаясь удержать трубку плечом. Теперь, через столько лет, я будто бы слышу это пыхтение, этот эмалированный стук; я будто различаю в них след, еще живой, еще теплящийся, слышу отзвук существования отца — и тут же чувствую телеграмму в кармане: все же умереть — значит умереть. Что ушло, того не вернешь. Понемногу, день за днем я примиряюсь с мыслью, что никогда не увижу его, — с мыслью, пришедшей гораздо позже: спустя месяц, год; я начинаю понимать, что отец уже никак не повлияет на мою жизнь — не помешает и не поможет; что отец ничего не значит, не может значить для меня — как и я для него ничего окончательно не значу. Я вспоминаю, как он сказал — между рюмками, между анекдотами — что не боится смерти, что только хочет узнать, как оно устроено после. А потом прошло столько лет, и все это время отец боролся со смертью — так долго, что почти перестал хотеть чего-либо, и память ушла, оставила одни бессвязные фразы, и вырос его сын и начал вести по соседству собственную борьбу — (боли в груди, одышка, непроходящая усталость) — надеясь на лучшее для обоих, ибо мы заслуживаем и того, чего не заслужили, — не это ли следует из Писания? Кто-то сказал: мертвые всемогущи; пожалуй, нет большей правды; пожалуй, все мы, живущие, хотим достичь одного — абсолютного покоя, который по-настоящему случается только там, который приносит единственно смерть. Я по-прежнему хочу и боюсь этого покоя; я по-прежнему звоню Сереже, слушаю, как он плачет о своей скорой смерти, и плачу вместе с ним, но все чаще смотрю в статьи in memory of — Битов, Аннинский, Лимонов — и глубоко в душе завидую каждому, кто уже умер. Смерть — решение стольких проблем; смерть — идеал; мы по-настоящему начинаем жить лишь пройдя через опыт смерти — чьей-нибудь, неважно чьей. Тогда почему, стоит лишь вспомнить о ней, мы всякий раз так беспомощны, почему теряем способность дышать, почему жизнь на секунду кажется непривлекательной и напрасной? Всему нужно учиться, — писал Флобер; но никто не научит нас умирать, никто не подскажет и не поможет. Много ли знал о смерти отец — тогда, в наш последний раз? Думал ли о том, чем все закончится, выходя из лифта в январский мороз, меняя мой полтинник на чекушку, топыря мизинец — между рюмками, между анекдотами — мне на прощание? Я до сих пор держу в уме его лицо — без тени прошлого в глазах, без всякой мысли о том, что будет впереди, — в общем-то, беспечное, беззаботное.
— Мне, прости господи, в чем-то легче стало, — призналась однажды бабушка. — Пока он тут шлялся, я, бывало, ночью ни минуты не спала. А как посадили — хотя бы знала, где он.
И повторила, глядя сквозь меня:
— Прости господи.
Как его посадили — история нескладная, никак не способная выстроиться в моей голове, совсем лишенная логики. Денег у отца не было; их не было никогда, но в этот раз не было особенно: они с бабушкой арендовали угол на рынке, возили замороженную рыбу — но как-то не срослось. То у них все таяло и текло, и бабушка в белом сарафане мыла вонючий пол в павильоне; то отец спускал выручку на автоматы, на выпивку, на Нинины причуды. В общем, от угла отказались, холодильники продали, рассчитались с водителем, с продавщицей — остались долги. Бабушка еле выкарабкалась, нашла какую-то девочку — учить уроки после школы; отец опять запил, стал редко появляться дома, еще реже — у Нины (там пеленки, эмалированный стук). Появились из ниоткуда друзья — бабушка потом силилась вспомнить, кто такие, знала ли кого-нибудь раньше; появились ночные звонки, затем полуботинки и пиджак с чьего-то плеча. Появилась, в конце концов, странная-странная просьба: нужно разыграть ограбление — не сошлось с годовым ли отчетом, квартальным — некогда объяснять, лезем в окно, вот чулок на голову. И подумать некогда: ну что за бухгалтерия — кабинет на первом этаже, три больших окна (два на запад, одно на юг), ни решеток, ни хотя бы шпингалетов нормальных. А впрочем, зачем шпингалеты, ведь и ограбление-то ненастоящее, так уж, помочь кому-то, не уловил кому (Васин шурин, нет, тесть) — и все быстро-быстро: быстро влезли, быстро оказались лицами в пол, быстро форменные туфли — туда-сюда. Вечером в новостях: раскрыли банду, майор такой-то, в семь двадцать вечера; бабушка не признала отца в чулке — а позвонили лишь на третий день, чуть ли не из суда. Опять долги — и судорожный чес по телефонной книжке; чудом нашли адвоката — единственного, кто хоть сколько-нибудь верил, что вину не докажут, что дадут условный, что судья все-таки услышит: про тестя, чулки, про странную-странную просьбу.
— Как же ты не сказала отцу про гадалку? — спросил я потом, много лет спустя, когда обо всем узнал.
— Ну не вышло — да я особо и не старалась. Знаешь, время было такое: у каждого первого проблемы с ментами.
— Но не каждому первому — восемь лет.
(Бабушка вздыхает.)
Что же, время вправду было такое: щи из детсада, чай без сахара, неожиданные, почти невозможные четыреста грамм сыра; сыр — труп молока. Кто-то сказал, дескать, всех в девяностые волновала философия прокорма — так и было. Вот забавная история: бабушка однажды увидела во сне Горбачева. Он стоял за колбасным прилавком в гастрономе и грустно говорил: приходи, я нынче тут. Глупо всерьез рассуждать о том, почему приснилось то, что приснилось, но колбасный прилавок в те годы был чем-то сродни кремлевскому кабинету: кажется, ядерный чемоданчик легко было променять на ливерную или кровяную. Колбаса была будто бы священной: помню, мама говорила с бабушкой об однокласснике, получившем зарплату ветчинно-рубленой, — говорила сбивчиво, почти задыхаясь, словно ненавидя его и одновременно боясь представить, что такое принести домой восемь кило колбасы. Другому маминому однокласснику повезло меньше: вместо зарплаты дали денатурат, которым он обпился и умер. Бабушке как-то заплатили в детсаде двумя канистрами хлопкового масла. Одну отдали соседке, тете Ире: та взялась жарить на масле лепешки для собаки (из вонючей муки, которую, само собой, принесла с работы). Потом на эти лепешки перешла вся семья, но тетя Ира, обещая домашним непременно лучшее будущее, продолжала называть их «Тузиковыми». В общем, всякое было; может, потому, каждый раз видя в углу над рассказом свое имя, я радуюсь, точно наконец нашел доказательство того, что мы выжили, что умирали так много раз — в восемьдесят первом, в девяносто четвертом, в две тысячи двенадцатом — умирали и не умерли. Теперь-то мы знаем, что всему виной Ельцин, что всему виной ваучеры, что виноваты жиды и американские спецслужбы; знаем, что это было худшее из времен, что это было лучшее из времен, что было — и бог с ним. Теперь-то, теперь — а когда мне было восемь, мы с подружкой от нечего делать перешли по льду Гребной канал. То был март — месяц леопарда, как назвал его Кортасар — неверный и коварный месяц, и лед был похож на шершавую змеиную кожу, и провалиться, уйти в холодную воду было проще простого, на раз-два. И вот мы — с головы до пят в снегу и несказанно оттого счастливые — с порога объявляем моей маме, что с полчаса назад одолели Волгу — от берега до берега, туда и обратно. Не канал — откуда нам знать про канал; мы мыслим себя покорителями великой русской реки, и даже через столько лет, стоит вспомнить тот случай, мне видится не полтораста несчастных метров Гребного — мне видится стрелка двух рек, большая вода с вокзалом и теплоходами, песчаные отмели. Ты не ослышалась, мама, Волга сдалась, и будут новые свершения — а дальше крики и корвалол, и домашнее заточение, и хвала Всевышнему за то, что эти безумные-безумные дети не кормят стерлядь в местах ее зимовки на плесе. Мы же плачем, оттого что подвиг остался неоцененным, оттого что победителей судят побежденные, оттого что у страны нет будущего — искренне соболезнуем, вот уж точно. Я навеки привяжу себя к сегодняшнему дню, буду здесь, буду с тобой — и все же дух дышит, где хочет, и наше поколение забудут так же быстро, как предыдущее, отбросят, как жмых, как отработанный материал.
Фотография Кирилла Симакова

Мастерская «Young Adult: готовим роман»
Зимой 2022 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую Александры Степановой, Ольга Птицевой и Марины Козинаки. «Young Adult: готовим роман».
Конкурсное задание
Прислать синопсис романа, описание идеи и фрагмент вашего текста.
Екатерина Мищенко
Синопсис
Подвечные острова — это повесть о дружбе и о внутреннем мире каждого человека, в прямом и переносном смысле. Место действия: региональный центр, похожий на Калугу (но в тексте этого не говорится). Время — примерно 2007 год.
В повести переплетены три сюжетные линии центральных персонажей:
1). Шестиклассница Наташа, поле зрения которой сужается из-за пигментного ретинита. Девочка выпала из общества своих сверстников и друзей и чувствует, что скоро весь ее мир — книги, красота, фантазии, — сожмется и исчезнет совсем. Случайно она знакомится с мальчиком из Ферганы, новичком в их классе, над которым все смеются. Два одиноких подростка становятся друзьями и откроют друг для друга новые миры — причем не только в переносном смысле.
2). Теякапан (Тея) — девочка из фэнтезийного мира, напоминающего культуры народов Мезоамерики. Она пытается защитить свой народ от тьмы, не зная, что их мир сотворён в воображении Наташи. Вместе со спасённым пленником Тея путешествует по трём островам Подвечного мира, пытаясь объединить свой народ и избежать опасности. Тея остается наедине с главной тайной — она лишь притворяется избранной, чтобы остановить вражду между племенами. Ей предстоит понять, стоит ли приносить в жертву себя, чтобы достучаться до божества (и что будет, если оно ответит).
3). Темир — новичок на параллели Наташи, который любит рисовать. Сталкивается с травлей в школе и тоскует по Фергане и хлопковым полям. У него появляются странные видения. Мальчик знакомится с Наташей, с ее помощью находит свое место в школе и благодаря таланту к рисованию помогает визуализировать и спасти ее выдуманный мир. Тем временем отец Темира, устав от притеснений, примыкает к радикалам и оказывается в центре борьбы группировок националистов и антинационалистов (ко вторым относится старший брат Наташи). Он готов пойти на любые преступления, чтобы жена, уходя от него, не забрала с собой сына. В борьбе за дружбу и выдуманный мир Темиру и Наташе придется преодолеть испытания реального мира, который порой кажется безумнее любых фантазий.
Подвечные острова
Каждый подросток — необитаемый остров. Пора бы наводить мосты, строить корабль. Но в этом возрасте истины слишком просты, чтобы быть правдой.
<0>
— Я слышу голос, — бросила в толпу Теякапан. — Погасите огонь.
Теякапан шёл тринадцатый год. Будь она мальчиком, готовилась бы впервые надеть маштлаль, назваться юношей и говорить на совете, как взрослые. Вместо этого она носила длинную юбку с узором малиновых сердец — в память о герое, который вырвал сердце из груди, чтобы осветить путь своему народу. На худеньких плечах — кечкемитль с бахромой, крашеный кошенилью: голову в прорезь, угол спереди, угол сзади. Теякапан была девочкой. Когда родители пропали на акациевой войне, она осталась старшей в семье, которую не могла ни прокормить, ни защитить от тьмы.
А тьма надвигалась. Ночь за ночью она поглощала мир, словно откусывала от краюхи убывающей луны. Наступала на шерстяные ковры бело-малиновых трав — неоткуда скоро будет высекать грозовые искры. Съедала одно за другим вековые деревья — некому скоро будет шептать детям вечерние сказки. Высасывала соки из плодов восковой спелости, бросала на юные лепестки сеточку морщин, точила диковинных зверей неведомой хворью, топила в болоте небытия лесные шорохи и запахи. Душила звонкие песни в горле.
Когда умолкали песни, на Подвечных островах выбирали Луноликого — только человек с самым чутким сердцем мог услышать новые. Из причудливых и редких, как перья райских птиц, слов, из переливчатых и звонких, как вода в свистульке, мотивов, плела их солнечная Нунатууль, создательница мира. Пока журчали подвечные песни, надежда была жива.
Но на сей раз Нунатууль не спешила явить свою волю. Напрасно стояло племя, запрокинув к небу головы, зажмурив вопрошающие глаза. Каждый звук отдавался в черепах, как в гулком тимпане. Вдох — ритмичный топот огнепоклонников. Выдох — стоны связанного пленника. Вдох — треск жертвенного костра и запах дыма. Выдох — немая мольба о помощи. Вдох — тонкий плач обмелевшего водопада. Выдох — всхлипы ветра в пальмовых листьях.
— Я слышу голос, — громче повторила Теякапан, вскинув ласточкины крылья-брови. — Освободите этого человека. Сегодня Нунатууль неугодны жертвы.
Соплеменники зароптали, зарокотали волнами недоверия по прибрежной гальке. Бородатый жрец Шиутекутли — бога огня — зашипел, как облитая водой головешка, но сбросил со спины пленника и жестом остановил ритуальную пляску. Встрепенулись ламы, укутанные сахарной ватой розовой шерсти. Даже ездовые муравьи недоверчиво склонили на бок треугольные головы: по плечу ли девочке судьба подвечного народа — ноша куда тяжелее кечкемитля?
В хижине Луноликую облепила мелюзга с вопросами. Тея будет самая главная? И солнце взойдёт без крови? А бабочек, бабочек выпустят живьём? Вернутся запахи цветов, плоды зарумянятся в роще? Пугливые звери выйдут из сумрачной чащи и будут ласкаться к людям, как прежде? Теякапан кивала. Будет. Взойдёт. И тьма рассеется.
Её била крупная дрожь.

Мастерская «ДетлитРулит: пишем для детей и подростков»
Зимой 2022 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую Ирины Лукьяновой и Ксении Молдавской «ДетлитРулит: пишем для детей и подростков».
Конкурсное задание
Два варианта задания:
1. Перечитайте сказку «Пузырь, соломинка и лапоть». Напишите диалог героев (на любую тему, не обязательно в русле этого сказочного сюжета) так, чтобы по их репликам была видна индивидуальность каждого из них. Ситуацию для диалога можно брать любую, не обязательно из сказки.
2. Напишите диалог Льва, Дровосека и Страшилы. Ситуацию для диалога можно также брать любую.
Алла Оз
Пузырь, Соломинка и Лапоть
— Река, — громко сообщил Лапоть.
— Широкая, — уточнила Соломинка.
— Oго-го! — изумился Пузырь.
— Надо перебраться на тот берег. Какие будут идеи? — Лапоть обернулся к Соломинке.
— А зачем нам на тот берег? — задумалась Соломинка. — Можем пойти назад.
— Назад вот можно… — повторил Пузырь.
— Стоп! Мы там уже были, — отрезал Лапоть. — «Были» — это прошедшее время. Значит, надо туда, где «будем». — Лапоть указал за реку.
Соломинка задумалась.
— Ну, можно сделать подкоп…
— Подкоп! — восхитился Пузырь.
— Или найти, где река заканчивается, и её обойти…
— Обойти! — Пузырь раздулся в восторге.
— Или, — продолжила Соломинка, — поскольку Земля круглая, можно обогнуть ее вокруг и выйти с той стороны реки.
—Земля круглая! — Пузырь подпрыгивал и раздувался от восхищения.
Неожиданный ветерок подхватил Пузыря.
— Мамочки! — завопил Пузырь.
Он отчаянно замахал ручками и, не успев опомниться, уже стоял на другом берегу.
— Я здесь один боюсь! Заберите меня отсюда скорей! А-а-а-а! Ик-ох-ик…
Он пытался еще что-то прокричать сквозь рыдания, но сильная икота дробила слова на буквы.
— Успокойся! — крикнул ему Лапоть. — Сейчас мы что-нибудь придумаем.
Он посмотрел на Соломинку.
— Если допустить, что сила ветра будет достаточной, то при определенной высоте прыжка можно будет добиться…
— Пузырь, тебе надо опять попрыгать, — не дал договорить Соломинке Лапоть. — Прыгни повыше, глядишь, тебя ветер сюда перенесет.
— Я не могу прыгать! Я только качусь! — Отяжелевший от слез Пузырь подкатился к самой кромке воды.
Он еще раз неуклюже подскочил, но промахнулся и плюхнулся прямо в реку.
— Помогите! Спасите! — заорал он.
— Держись! — Лапоть без малейших раздумий прыгнул в реку. — Руку давай, руку!
Пузырь изо всех сил вытянул свои ручки к Лаптю, но круглое тело переворачивалось во все стороны. Течение подхватило Пузыря, и расстояние между ними увеличилось.
— Эх! Была не была! — Соломинка, которая до этого наблюдала с берега, разбежалась и прыгнула точно на спину Лаптя.
Она воткнула свои ноги в плетение, хорошенько укрепилась в нем и вытянулась во всю длину в сторону Пузыря.
— Хоп! — И Соломинка в последний момент поймала Пузыря за его короткие ножки.
— Ура! Спасен! Ура! — закричали все разом. А Пузырь от счастья раздулся и начал подниматься над водой.
— Ой! Я, кажется, лечу! — изумился Пузырь.
— А я тебя держу! — крикнула Соломинка.
— А я всех вас везу! — пробасил Лапоть. — Мы теперь корабль!
Это был самый странный в мире корабль: Лапоть был корпусом, Соломинка — мачтой, а парусом служил Пузырь.
— Все на борт! Сушить якоря! Лево руля! — приказал Лапоть.
— Есть лево руля! — Соломинка чуть-чуть отклонила Пузыря в сторону так, чтобы попутный ветер выровнял курс и они плыли точно посередине реки.
Солнце уже клонилось к горизонту. А кораблик плыл все дальше и дальше по розовой воде. Если прислушаться, то можно было услышать тихую песенку, которую обычно поют Очень Счастливые Кораблики:
Пых-пых-пых,
Ух-ты, ух,
Три и два и раз.
Иллюстрация: кадр из мультипликационного фильма

Мастерская «Память, говори!»
Зимой 2022 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую Александры Степановой, Марины Степновой и Аси Володиной «Память, говори!».
Конкурсное задание
Написать небольшой этюд «Что под елкой?». По желанию можно расширить тематику до любых подарков, реальных и метафорических.
Анастасия Кальян
Ритуал
Елка двухметровая, складная, пушистая. Собирать ее долго, еще дольше расправлять ветки на проволоках. Умучаешься и сидишь чай пьешь. А вот наряжать — наслаждение. Что на нее ни кинь — произведение искусства. Такова мощь ее лапищ, тебе с ней не тягаться.
Но прежде чем наряжать, даже прежде, чем пить чай, надо открыть дверь в комнату. Ведь в нее уже около часа скребутся.
Открываешь — и в комнату влетает существо. Слепящий рыжий мех, гибкое тело, быстрые лапы. Оно наверняка было змеей в прошлой жизни. Завораживающее, но опасное.
Существо поражено елкой. Оно застывает, смотрит снизу вверх, быстро дышит. Нос его краснеет — знак грядущего баловства, когда вожжа уже в мозгу, но еще не под хвостом.
— Только сегодня, — говоришь ты. Врешь в первую очередь себе. Это существо решает, а не ты.
И начинается ритуал. Оно танцует вокруг елки, колдует. Небось от желания залезть чешутся лапы. Тыкается мордой и фыркает. Потом, наконец, находит удобный угол, влезает-втекает против всех законов физики наверх. И вьется ввысь между пушистыми зелеными ветками. Доползает до самого верху, поднимает голову, озирает свои земли. Ушастая голова вместо звезды.
Елка нервно качается, хорошо, что шаров на ней пока нет. Еще лучше, что все шары пластиковые.
Существу нравится. Существо урнкает, мявкает, вертится. Почему-то мир преподнес ему эту колючую шаткую штуку. Это даже лучше пальто на вешалке в коридоре.
Елка раскачивается. Выключи свет — и увидишь, как на высоте двух метров вихляют два хищных глаза. Ты допиваешь чай, тебе зрелище надоедает. Существу — нет. Ты хватаешь существо, тащишь, но тащится оно только вместе с елкой. Вы боретесь, и хоть итог известен, ты искренне стремишься победить. Но побеждает притяжение. Елка повержена, существо поражено. Оно вздыбливается и боком отходит. Натыкается на коробку с игрушками. И вновь глубоко переживает находку. У тебя появляется шанс нарядить ель.
Когда она приобретает максимально праздничный вид, с твоей точки зрения, и максимально жертвенный, с точки зрения существа, ты оставляешь ее в покое. Существо ее в покое не оставляет больше ни на минуту. Оно теперь под ней спит, поет, играет и грызет дождик. Дождик из существа потом лезет, это доставляет уйму впечатлений вам обоим.
Ближайшие десять, а то и двадцать дней елка стоит. Ну, почти всегда стоит. Иногда лежит, иногда теряет часть шаров, иногда некто перегрызает гирлянду. И даже если огоньки больше не горят, под ней всегда светятся два глаза.
В новогоднюю ночь под елкой лежат подарки. Чтобы их достать, каждый сначала должен быть укушен за палец. Без ритуальных дырокольных ран никуда. Без них и праздник не праздник.
Но проходит Новый год.
Проходит пять лет с тех пор, как существо уходит. А ты все еще зовешь его именем всех проходящих мимо котов. А ты все еще делаешь паузу между сборкой елки и ее облачением в праздничное. Открываешь дверь. Пьешь чай. И елка будто качается. И это тоже ритуал.

Мастерская Александры Борисенко и Виктора Сонькина «Художественный перевод с английского для начинающих»
Зимой 2022 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую Александры Борисенко и Виктора Сонькина «Художественный перевод с английского для начинающих». Представляем работы победителей.
Конкурсное задание
Перевести текст:
Sarah Hardy THE WALLED GARDEN
SOME SECRETS are too terrible to tell and in 1946 Britain was a country where most kept silent. What you had seen during the war, what you had sanctioned, what you were still afraid of, was left unsaid. For those bitter years of conflict and separation you buoyed yourself up on sentiment as you crooned ‘We’ll meet again’. And we did meet again, thought Alice Rayne, as the wind hammering in from the North Sea slapped her face. Only to discover we have nothing to say to one another.
Pushing the hair from her eyes, she glanced back over the salt marshes. The tide was up, the creek angry and swollen, and she wished she might follow it to the sea. Anything rather than return home. But she’d been gone for more than three hours. She couldn’t delay much longer. So she struck out along the dyked path, then on to the lane that took her back to Oakbourne Hall.
‘Just having a quick walk,’ she’d said to her husband as she’d left. ‘Will you join me?’ He hadn’t answered. She hadn’t expected him to.
<…>
She headed on round the concrete pill-box being usurped by rhododendrons, wincing at the sting of her chilblains. She’d be thirty next month and already her feet were ugly, crooked things, her hands even worse. Veins stood up in her reddened, roughened skin and her engagement ring – a band of stony diamonds that had been in Stephen’s family for two centuries – twisted loosely on her finger.
She thrust her hands in her pockets and kept her head down as the local doctor’s blue Rover pulled up outside the cottage where Mrs Martin was expecting her third child. A victory baby, thought Alice. There were two more due in the village.
She heard the doctor grunting and cursing as he heaved himself out of the car. He’d lost his leg after being taken prisoner at Dunkirk and a stab of self-reproach – don’t whinge about chilblains – spurred her on to the Gate Lodge where Oakbourne Hall, occupying the one sheltered spot for acres around, lay before her.
At dusk, for a few fleeting moments, she could almost persuade herself there had been no war. The gathering darkness hid the empty oil drums dumped under the shrubbery and the sandbags, split and soggy, spilling out all over the terraces. The outlines of the Nissen huts looked almost bucolic, barns for sheltering sheep.
Then a light came on in her husband’s study.
During all those nights of black-out and appalling anxiety she had longed for this, to come home to a house joyously lit-up with her husband, safe at his desk, waiting for her. Yet still she delayed, leaning back against the crumbling gate pillar, bashed to bits by the army trucks that for five years had rolled in and out of the requisitioned estate.
Lights too were on in the Gate Lodge and she could see into the kitchen where Mrs. Harris was standing by the sink, her husband by her side helping with the drying up. Their only son, Ross, had returned after three years on the Arctic convoys. But he was ‘in bits’, Alice’s housekeeper, Mrs. Green, had told her. ‘Just sits by the fire, saying he can’t get warm.’
Three years, thought Alice. Three years of desperation and worry for his parents, missing the youth growing into a man, aching for his loving presence and now… She stopped herself.
Юлия Цветянская
Сара Харди. Огороженный сад
Есть на свете страшные тайны, о которых лучше молчать. Великобритания 1946 года была страной, где молчали все. Молчали об увиденном во время войны, о том, как они всё это допустили, о том, чего боялись. В те горькие годы противостояния и разлук оставалось лишь утешаться сентиментальным рефреном: «Мы встретимся снова».
И вот мы снова встретились, подумала Алиса Рейн, когда ветер с Северного моря наотмашь ударил её по лицу. Мы встретились, только чтобы осознать, что нам нечего сказать друг другу.
Она отбросила прядь со лба и оглянулась на солончаки. Начинался прилив, ручей сердито вздулся, и ей захотелось утечь вслед за ним в море. Всё лучше, чем возвращаться домой. Однако пора было идти обратно — её и так не было дома уже более трёх часов. Она двинулась вперёд по неверной тропинке и вышла в переулок, ведущий к Окборн-холлу.
— Я пройдусь, пожалуй, — сказала она мужу, когда уходила, — присоединишься?
Он не отозвался — но она и не ждала ответа.
<…>
Она обогнула бетонный дот, сдавшийся под натиском зарослей рододендронов, вздрагивающих от прикосновений её обмороженных пальцев. Через месяц ей исполнится тридцать — всего лишь тридцать, а стопы её уже были искривлены, как у старухи, руки и того хуже: кожа на них покраснела и огрубела, вены вздулись, а кольцо — обручальное кольцо с рядом бриллиантовых камешков, принадлежавшее семье Стивена вот уже два столетия, — свободно болталось на пальце.
Она спрятала руки в карманы и опустила голову, завидев синий «Ровер» местного доктора. Машина подъехала к дому, где жила миссис Мартин — она ждала третьего ребёнка. Дитя победы, подумала Алиса. В деревне таких было ещё двое.
Она услышала, как доктор ворчит и чертыхается, выбираясь из машины: в Дюнкерке он попал в плен и потерял ногу. Устыдившись своего нытья из-за обмороженных пальцев, она поспешила к Гейт-Лодж, где и расположился Окборн-холл — на единственном защищённом во всей округе месте.
В надвигающемся сумраке на несколько мгновений она вдруг почти смогла убедить себя, что войны не было. Сгущающаяся тьма скрыла пустые бочки из-под топлива, разбросанные по кустам, разорванные мешки с сырым песком, рассыпавшимся по террасам, а очертания хижин Ниссена (1) выглядели сейчас почти пасторально — загоны для овец, не иначе.
В кабинете её мужа загорелся свет.
В те наполненные тревогой ночи, когда отключали электричество, как же страстно она желала вернуться в залитый светом дом, где муж, живой и невредимый, ждал бы её за столом! Но сейчас она почему-то медлила, прислонившись к крошащемуся воротному столбу, разбитому военными грузовиками, что в течение пяти лет курсировали туда-сюда по реквизированному имению.
В Гейт-Лодж тоже горел свет, и она видела отсюда, как на кухне миссис Харрис хлопочет у раковины, а мистер Харрис помогает ей вытирать посуду. Их единственный сын, Росс, вернулся после трёх лет арктических конвоев (2). Но он был «вдребезги», как выразилась миссис Грин, экономка Алисы. «Всё сидит у огня и твердит, что не может согреться».
Три года, подумала Алиса. Три года родители провели в отчаянии и тревоге, не видя взросление сына, его превращение в мужчину, тоскуя по нему, а теперь… Хватит об этом, одёрнула она себя.
1. Хижина Ниссена — тип сборного полукруглого строения с каркасом из гофрированной стали, который использовался в различном качестве в период Первой и Второй мировых войн.
2. Арктические конвои — конвои, доставлявшие в СССР грузы по ленд-лизу во время Второй мировой войны. Отправлялись из портов Англии и Шотландии через бассейн Атлантического и моря бассейна Северного Ледовитого океанов в Архангельск и Мурманск. Проход конвоев сопровождался группой прикрытия с упорными боями британского и немецкого флотов.
Евгения Бербушенко
Некоторые вещи слишком страшны, чтобы о них говорить, и в 1946 году в Британии многие хранили молчание. Что ты видел во время войны, кого поддерживал, чего до сих пор боишься — все оставалось невысказанным. Все эти горькие годы вражды и разлуки ты подбадривал себя, повторяя, как припев из песни: «Мы снова будем вместе». «И вот мы снова вместе», — думала Элис Райн, ветер порывами налетал с Северного моря, бил в лицо. Мы встретились снова только для того, чтобы понять: мы ничего не можем сказать друг другу.
Она откинула волосы с глаз и посмотрела назад, на лежавшее за болотистым берегом море. Был прилив, ручей разлился и сердито шумел. Хотелось идти вдоль ручья, к морю, куда угодно, только не домой. Но ее не было уже больше трех часов, медлить больше было нельзя. Она выбралась на дамбу и пошла по проулку, который вел к Окборн Холлу.
«Просто прогуляюсь, — сказала она мужу, уходя. — Присоединишься?» Он не ответил, а она и не ждала ответа.
Она обошла бетонный ДОТ, заросший рододендроном, поморщилась от боли: жгло обмороженную кожу. Ей будет тридцать в следующем месяце, а ее ступни уже изуродованы, как у старухи. Руки еще хуже. Вены проступают сквозь огрубевшую, покрасневшую кожу, обручальное кольцо теперь болтается на пальце. Это кольцо — полоска металла с крупными бриллиантами — передавалось двести лет в семье Стефана из поколения в поколение.
Элис засунула руки в карманы и, не поднимая головы, прошла мимо синего ровера. Местный доктор приехал к миссис Мартин, она ждала третьего ребенка. «Дитя победы», — подумала Элис. В деревне вскоре должны были появиться на свет еще двое.
Она слышала, как доктор кряхтит и ругается, выбираясь из машины. Он потерял ногу во время операции под Дюнкерком. А она еще ноет из-за обморожений — укор совести заставил Элис прибавить шагу, и она вышла к Гейт Лодж. Отсюда уже было видно Окборн Холл, единственное защищенное место на акры вокруг.
На закате на несколько кратких мгновений ей почти удавалось убедить себя, что никакой войны не было. Сгущающаяся мгла скрывала разбросанные под кустами бочки из-под топлива и мешки с песком, рваные и промокшие, лежавшие повсюду на террасах. Даже в очертаниях временных армейских бараков было что-то буколическое — загоны для овец, и только.
Потом зажегся свет в кабинете мужа. Все эти ночи, наполненные бесконечной тревогой и тьмой из-за светомаскировки, она ждала именно этого: вернуться домой, увидеть радостно светящиеся окна, мужа, ожидающего ее в безопасности за своим столом. И все же она медлила, прислонившись к полуразрушенной стойке ворот, разбитой армейскими грузовиками, которые пять лет ездили туда-сюда через ворота реквизированного имения.
В Гейт Лодж тоже горел свет. Сквозь окно было видно миссис Харрис, она стояла у мойки, а муж помогал ей вытирать посуду. Их единственный сын Росс вернулся после трех лет на арктических конвоях. Он был «совершенно разбит», как сказала Элис ее экономка миссис Грин. «Просто сидит у огня и говорит, что никак не может согреться».
Три года, подумала Элис. Три года его родители ждали в отчаянии и страхе, не видели, как их сын превратился из юноши в мужчину, тосковали по нему, а теперь… Элис оборвала себя.
Ольга Токарева
Сара Харди. Закрытый сад
Есть тайны столь тяжкие, что ими не поделиться, и в 1946 году почти каждому британцу было о чем молчать. Об увиденном и дозволенном на войне, о непроходящем страхе не говорили. Из пучины тех мрачных лет борьбы и разлуки выныривали благодаря чувствам, повторяя рефреном слова «мы еще встретимся». И мы в самом деле встретились, подумала Элис Рейн, стоя лицом к порывистому ветру, дующему с Северного моря. Вот только оказалось, что нам нечего друг другу сказать.
Смахнув волосы с глаз, она оглянулась на береговую полосу. Прилив заполнил протоку бурлящими водами, и Элис потянуло спуститься по ней в море. Все что угодно, лишь бы не возвращаться домой. Но уже прошло больше трех часов. Ей нельзя было сильно задерживаться. Она зашагала по тропе вдоль плотины, а затем по дороге, ведущей обратно к поместью Оукборн-Холл.
— Я немного прогуляюсь. Пойдешь со мной? — спросила она мужа перед выходом.
Как она и ожидала, он не ответил.
<…>
Она обогнула поросший рододендроном бетонный дот, морщась от покалывания в обмороженных стопах. Через месяц ей исполнится тридцать, а ее пальцы ног уже безобразно искривились. Руки выглядели еще хуже: на красноватой шершавой коже вздувались вены; усыпанное крупными бриллиантами обручальное кольцо, принадлежащее семье Стивена уже два столетия, едва не сваливалось с пальца.
Она спрятала руки в карманы и опустила голову, когда к дому миссис Мартин подъехал на своем синем «Ровере» местный доктор. Хозяйка дома ждала третьего ребенка. Дитя победы, подумала Элис. В деревне таких было еще два.
Она услышала, как доктор, ругаясь и пыхтя, с трудом вылез из машины. Он попал в плен под Дюнкерком и остался без ноги. Не ной из-за обморожения, услышала она голос совести и поспешила к дому привратника, за которым на несколько акров раскинулось скрытое оградой поместье Оукборн-Холл.
В сумерках ей почти удавалось на мгновение убедить себя в том, что не было никакой войны. Сгущающаяся темнота заслоняла собой брошенные под кустами бочки из-под нефти и рваные, отсыревшие мешки с песком, содержимое которых усыпало террасы. Силуэты хижин Ниссена становились похожими на загоны для овец и практически сливались с деревенским пейзажем.
В кабинете ее мужа загорелся свет.
Все те ночи без света, наполненные мучительной тревогой, она мечтала, чтобы по возвращении домой ее встретили радостные огни в окнах и муж, находящийся в безопасности за своим рабочим столом. Однако сейчас она медлила, прислонившись спиной к осыпающейся колонне ворот, разбитой военными грузовиками, которые на протяжении пяти лет проезжали по конфискованной территории поместья.
Свет горел и в доме привратника. Элис видела в окне кухни, как миссис Харрис моет посуду, а ее супруг помогает вытирать тарелки. Их единственный сын, Росс, вернулся домой после трех лет службы в арктических конвоях. По словам миссис Грин, экономки, он был «сам не свой».
— Сидит целыми днями у камина и говорит, что не может согреться.
Три года, подумала Элис. Три года отчаяния и тревоги за его родителей, не увидевших, как юноша превратился в мужчину, тоскующих по его теплу, а теперь… Она одернула себя.
Евгений Королёв
Сара Харди. Сад, обнесённый стеной
Есть тайны, слишком страшные, чтобы о них говорить. В 1946 году Британия была страной, где большинство людей молчало. Что ты видел во время войны, что принимал, чего по-прежнему боялся, оставалось невысказанным. В те горькие годы войны и разлуки ты поддерживал свой дух, напевая «Мы снова встретимся». И мы действительно снова встретились, думала Алиса Рейн, пока ветер, налетавший с Северного моря, хлестал её по лицу. И обнаружили, что нам нечего сказать друг другу.
Отбросив волосы с лица, она поглядела назад, за солёные топи. Было время прилива, вода в бухте поднялась и яростно кипела. Ей захотелось дойти вдоль бухты до моря. Всё лучше, чем возвращаться домой. Но её и так не было уже три часа; она не могла больше тянуть с возвращением. И она двинулась по насыпи, а потом по тропинке, которая привела её обратно в Окборн Холл.
«Пойду немного прогуляюсь», — сказала она, уходя, мужу. — Пойдёшь со мной?» Он не ответил, да она и не ждала ответа.
<…>
Она обогнула бетонный дот, оккупированный рододендронами, морщась от боли в своих обмороженных ногах. В следующем месяце ей должно было исполниться тридцать, а на её ноги страшно было смотреть. А руки были ещё хуже. Красная загрубелая кожа, вздувшиеся вены, а обручальное кольцо, покрытое крупными бриллиантами — семья Стивена владела им лет двести — свободно болтается на пальце.
Она сунула руки в карманы и опустила лицо, увидев, что синий «Ровер» местного доктора остановился у дома миссис Мартин, ожидавшей третьего ребёнка. Дитя победы, подумала Алиса. В деревне на подходе были ещё двое.
Она услышала, как доктор кряхтит и чертыхается, извлекая себя из машины. Он потерял ногу, когда попал в плен в Дюнкерке. Укол стыда — а ты хнычешь, что ноги обморозила, — погнал её к воротам, откуда перед ней открылся Окборн Холл. Он занимал единственное укрытое место в округе.
В сумерках на несколько мгновений ей почти удалось поверить, что не было никакой войны. Сгущавшаяся темнота скрывала пустые бочки из-под горючего, сваленные в кустарнике, и мешки с песком, рваные и пропитанные водой, рассыпанные везде по склонам. Силуэты армейских ангаров из профлиста выглядели почти пасторально: убежища для овец.
Зажёгся свет в кабинете мужа.
Как она жаждала, всеми этими ночами, с затемнением и снедающей тревогой, — просто прийти домой, в дом, где горит приветливый свет, зажжённый её мужем, а он сам, целый и невредимый, ждёт её. Она ещё помедлила, прислонившись к столбу ворот, осыпавшемуся каменной крошкой: пять лет армейские грузовики въезжали и выезжали через ворота реквизированного имения.
В домике привратника тоже горел свет, и она увидела через окно кухни миссис Харрис у раковины и рядом её мужа, помогавшего ей вытирать посуду. Их единственный сын, Росс, вернулся после трёх лет, проведённых в арктических конвоях. Но от него мало что осталось, сказала Алисе её экономка миссис Грин. «Всё сидит у огня и говорит, что не может согреться».
Три года, подумала Алиса. Три года его родители провели в тревоге и отчаянии, в тоске по его любви, по нему — юноше, становящемуся мужчиной, а теперь… Она оборвала эту мысль.

Мастерская Дарьи Варламовой «Нон-фикшн»
Зимой 2022 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую Дарьи Варламовой «Нон-фикшн: как писать посты, статьи и свою книгу».
Конкурсное задание
Напишите текст на тему «Стресс». Например, о том, как работает кортизол, или о чем-то еще любопытном и важном. В любом нон-фикшн ключе, в виде поста, небольшой статьи и т.п.
Анна Кубагушева
А вы умеете отдыхать? Вы уверены, что отдыхаете правильно? Если да, то вы — молодцы! А если нет? Тогда я покажу вам, как отдыхать, как самая «кайфующая» мышь на свете.
Я хочу вам рассказать об интересном эксперименте, поставленном над мышами Майклом Леманном и Робертом Шлоссером, учеными из Национального института здоровья в США. Они отобрали очень много любителей сыра и посадили их в обыкновенные лабораторные условия: клетка с поилкой и кормом. Через две недели они стали брать мышек из одиночных клеток и пересаживали их для дальнейших наблюдений в групповые с ранее установленной иерархической системой, где есть альфа-самцы и подчиняющиеся им грызуны послабее и поменьше. В итоге через две недели мышь-хозяин стала нападать на новопришедшего Джерри, которому пришлось смириться со своим положением ради выживания: он начал слушаться главного мыша и впал в мышиную апатию. Таким образом, слабая мышка чувствовала себя изгоем, переживала постоянный стресс и приобрела «синдром жертвы». По истечении двух недель эту мышку отсадили обратно на две недели в свою клетку, а после снова к мышке-доминанту, где она опять подчинялась — показывала выученную беспомощность, приобретенную за две недели тирании.
Майкл и Роберт пошли дальше и стали исследовать, что будет, если взять мышку после двухнедельного истязания самцом и пересадить не обратно в свою, а в клетку с «обогащенной мышиной средой»: здесь и травка, и колесики, и игрушки — настоящий мышиный Эдем! Горе-мышка живет в этом раю две недели, после которых ее вновь переселяют к мышиному королю, но вместо того, чтобы подчиниться ему, эта мышь устраивает революцию — вся выученная беспомощность исчезает.
Благодаря такому эксперименту Майклу Леманну и Роберту Шлоссеру удалось выяснить влияние нейрогенеза — способности мозга создавать новые нейроны — на улучшение эмоционального состояния, и то, насколько хорошо при этом человек может преодолевать стресс. Ученым удалось понять, что благодаря нейрогенезу испытуемым мышкам удалось стереть из памяти «синдром жертвы», и они получили новые силы для борьбы.
Поэтому спорт, путешествия, новое хобби, новый опыт, смена картинки и так далее — все это так необходимо для перезагрузки, чтобы не проживать состояние выученной беспомощности.

Мастерская Дениса Банникова и Анны Линской «Литмастерство: основы»
Зимой 2022 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую Дениса Банникова и Анны Линской «Литмастерство: основы».
Конкурсное задание
Считается, что три самых сложных задачи, с которыми может столкнуться писатель: постельная сцена, спортивный эпизод и прием пищи. Напишите небольшой этюд, в котором решите одну из этих задач.
Виталий Придатко
Оттирая липкие ладошки о бёдра, Таньчик перегнулась через меня, цапнула кисть винограда и снова откинулась на горку подушек.
— М-м-м, — выдохнула сквозь крупную зелёную ягодку, стиснутую губами. — У-у-у.
Кому что. Дотянувшись до отбивной кончиками пальцев, я поколебался, а потом схватил остывший, заскорузлый немножко кляр, перехватил поудобнее, позволяя ладони вслушаться в зыбкое тающее тепло. Впился зубами, зажмурившись до синевы, до искр под веками. Рот утонул в слюне, ликующе напомнив, как играли на языке перец и травки буквально с час назад — в прошлом году.
Куснув, принялся жевать, кивая и сопя, размалывая плотные волокна: отбивные у Таньчика получаются такими же скоропостижными, нетерпеливыми, как и много чего ещё; и точно так же, едва добравшись до её стряпни, прямо чувствуешь жадный жар, страсть и влечение, с которыми она набрасывается на пищевую плёнку с кухонным молотком.
— Картошечки? — стонет Таньчик расслабленно и упоённо.
Можно бы, разумеется, и картошечки, думаю я, проглатывая отбивную, можно бы — но ждать некогда, некуда, незачем.
Неразумно.
Ставлю между нами салатницу с «шубой», взглядом припрашиваю, а сам уже продавливаю ложкой лоснящийся свекольно-красный бок, набираю полную, продавив до кусочков селёдки. Доношу до рта, чувствуя грубый, вещный, настоящий букет: траченный уксусом лучок, солоновастенькая селёдка, картошка, чуть переваренная и недосоленная, морковка, кисловатая яблочная стружка… Праздник, мычу довольным тоном, он — в голове, э! В моей так точно; а конкретно — в роте. Или во рту?
— Не было такого в монголиях твоих, — говорит Таньчик, и я киваю — вроде бы ломтю ржаного, кисловатого, уже плотного, без мягкой зазывности свежей краюхи, а вроде бы и полным, чуточку обвисающим от основательности грудям. Ни того ни другого; ни много чего ещё. Не было.
Елена Билчинская
От Японии до Англии и далее
В прогалинах сверкающей крупой лежит снег. В костре дотлевают угли. Папа выкатывает из золы картофелину, разламывает, протягивает половинки нам с мамой. Разлом — желтые кристаллики: такую картошку называют рассыпчатой. Солю, блеск соли перекликается с блеском снеговых крупинок. Кладу на дымящийся срез кусочек масла, масло медленно тает, и расплав кажется янтарным. Откусываю прямо с зольной шкуркой. Вкусно!
— Котик, вытри ротик. — Мама протягивает мне чистый надушенный платочек. — У тебя усы черные.
Сама она всегда ест аккуратно, как кошка, и чихает тоже как кошка. Глазки у нее, как у котенка, который только что родился, смотрит и ничего не понимает. А духи у неё — все та же «Красная Москва» моего детства.
Папа протягивает мне картофелину.
— А ты?
— Я не хочу.
— Неправда, возьми себе!
— Мне больше нравится смотреть, как ты ешь.
Он печален. Думает, что сегодня видит меня в последний раз и что едим мы с ним нашу последнюю картошку.
— Ведь им ничего не стоит закрыть границы, — повторяет он.
Откуда ему знать, что промелькнет всего лишь миг и исчезнут и «они», и страна, границы сместятся и распахнутся, и чужая земля подарит им с мамой десять лет дополнительной жизни. И однажды вечером будет он сидеть в инвалидном кресле у меня на кухне, жевать запеченную в электродуховке местную аморфную картошку с пряной селедкой, купленной в пока еще единственном русском магазине, и я спрошу:
— Папа, а помнишь, ты еще школьником во время войны писал патриотические стихи? Их даже в «Пионерской Правде» печатали. А представь: явился бы тебе тогда прозорливец и предсказал, что страна, которая сейчас воюет против твоей родины, станет тебе платить пособие по инвалидности и лечить тебя на старости лет? Ты бы удивился?
— В те времена? Не удивился бы, — пожмет он плечами.
— Почему?
— А нас в школе учили, что пролетарская революция непременно победит во всем мире, говорили: сейчас наша страна занимает одиннадцать часовых поясов, но скоро займет все двадцать четыре.

Мастерская Натальи Калинниковой и Арины Бойко «Автофикшн: как писать о себе»
Зимой 2022 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую Натальи Калинниковой и Арины Бойко «Автофикшн: как писать о себе».
Конкурсное задание
Подумайте, какие воспоминания вызывают у вас ностальгию. Корпус университета, в котором вы учились на первом курсе? Поездка за город прошлой осенью? Мамино печенье? Напишите об этом! Постарайтесь не просто поделиться воспоминанием, но и вызвать у читателя чувство ностальгии, задействуя органы чувств, используя описания, метафоры и другие писательские трюки.
Валерия Фролова
Саша заплетает мне косы. Мы едем в школу. Такси, холодно. Развлекаются, мигая, фонари.
Я помню, как говорю с ней. Когда это было просто. Когда это было неважно.
Я прошу её.
Проговори моё имя, хочу его слышать.
Сними с меня куртку, ушанку.
Я переобулась в туфельки. Отставь валенки.
Смотри, я ухожу.
Пока до обеда.
Треснет зима, маленький снежный шарик, потряси меня, я рожу тебе вечное счастье ностальгии и памяти.
В обед приедет он и будет за рулем материться, ему на работу, приехал за мной и тобой. На елку ходили смотреть только вечером, большая площадь, можно кататься с горок, я боюсь ледышек и высоты, держи меня, видишь, я падаю.
Нет, я лечу.
Если рай существует, я знаю, что там зима. Я держу тебя на ладошке, в снежных кристаллах — твое отражение.
Я могу тянуть время так долго, как захочу. Из времени можно слепить цветок или домик, зеленый или коричневый, красный. Временем можно нарисовать картину, пальцы будут болеть, а картина пойдет жирными пятнами, но все такую делали в детстве.
Марина Крапивина
Сладкая палочка
Мне шесть лет. Мы с мамой в зоопарке. Пахнет как в деревне. У клеток много людей. У столба женщина в белом халате продает вкусное. Мать покупает мне сладкую палочку. Бело-зеленую. Я начинаю ее сосать, с интересом наблюдаю за своими зелеными слюнями. Мать тянет меня к клеткам.
Зверей не видно, я вижу только спины. Под ногами грязь, жарко в пальто и шапке.
Взрослые подталкивают детей к клеткам и заставляют их кормить зверей.
Дети кричат, а звери молча поглядывают на людей. Я облизываю свою палочку, уже не такую красивую. Мать тоже пытается протолкнуть меня к вольеру с зебрами. Я спотыкаюсь и упираюсь липкой рукой в драповую спину. Палочка остается висеть на пальто.
Мне очень страшно: я испортила пальто чужой тети.
— Смотри, жираф! Он уходит!
Жираф не ушел. Прошло сорок лет, а рыжие орангутаны, грустные слоны, упрямые носороги, а также львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы продолжают совершать свой печальный круг бытия в клетках Московского зоопарка.
Иллюстрация: Московский зоопарк

Мастерская Ольги Славниковой «Проза для начинающих»
Зимой 2022 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую Ольги Славниковой «Проза для начинающих».
Конкурсное задание
Написать рассказ на тему «Телефон разблокирован».
Анна Парра-Майя
Знойным летним днем из подъезда московского дома номер четыре вышел толстый человечек в сером костюме.
Человечек в сером очень спешил: он широко размахивал руками из стороны в сторону, отдувался на ходу, сосредоточенно двигался вперед.
Так может шагать человек, который способен ставить перед собой конкретные цели, который бережет каждую минуту своего времени. Наш серый человечек был именно из таких людей, цель у него была поставлена.
Звали человечка Анатолий Павлович Макушин, это был директор крупной компании О. по производству холодильных шкафов.
Он был небольшого роста, чуть лысоват, на сердитом лице его переливался жирный румянец. Было заметно, что серый человечек очень раздражен.
— Бездельники! Как долго они собираются меня мурыжить своими заказами?! — бормотал себе под нос Анатолий Павлович, быстро передвигая ножками. — Есть определенные сроки, не можешь — не берись.
Свернув на буковую аллею, Макушин зашагал бодрее, продолжая возмущенно бормотать что-то себе под нос.
Дело в том, что день у Макушина не задался с самого утра: мало того, что на работе творился бардак (работают в его компании исключительно одни бездельники и ослы), так еще дозвониться весь день невозможно никому: новый телефон, купленный только вчера, вдруг неожиданно отказался функционировать.
Анатолий спешил в салон связи, где вчера отвратительного вида юнец с наглым лицом и козьей бородкой продал ему новый смартфон. А сегодня уже телефон не включался.
Стоит отметить, что Макушин очень не любил непредсказуемые ситуации, он полагал, что с порядочными людьми, как он, подобных случаев происходить не должно. Оттого он был ужасно раздражен.
Он шел и предвкушал, какой скандал сейчас закатит всем этим в их паршивом салоне. От подобных мыслей его упитанное лицо на мгновение просияло. Затем он снова нахмурился и прибавил шагу.
Дважды каркнула ворона, где-то вдалеке заревел ребенок. Но вот какая была странность: ему по дороге еще не попался ни один прохожий, а на залитом солнцем бульваре стояла такая торжественная тишина, словно это была грандиозная пауза перед цирковым номером. Казалось, что вот сейчас из кустов, из-под лавочек, из-за киоска вылезут, поползут артисты, затем грохнут аплодисменты, и все зазвенит, закружится, затрещит. Но ничего подобного не произошло.
«Гм… немноголюдно, — приметил Анатолий Павлович, — верно, все порядочные люди на работе, а пенсионеры в такую жару сидят по домам», — сделал правильные выводы Анатолий.
Он свернул на мостовую, солнце, казалось, выжгло каждый сантиметр асфальта.
Тут произошло еще странное — Анатолий вдруг резко ощутил смутное беспокойство, такое неприятное чувство, словно кто-то ему за шиворот плеснул стакан студеной воды.
«Сегодня особенно жарко, — подумал он, — надо быть осторожнее, как бы не получить солнечный удар». Анатолий сунул руку в карман серых брюк, ища носовой платок.
«Тихо, очень тихо…» — произнес про себя человечек. На мгновенье ему даже сделалось жутко.
Но он очень быстро успокоился, вытер пот со лба большим клетчатым платком (Нина, как примерная жена, каждый день оставляет ему свежий носовой платок) и пошел дальше. Мимо кофейни с желтой вывеской, мимо розовой кондитерской, мимо старого театра, уверенно, продолжая неуклюже размахивать руками.
Но где салон связи? Вчера он был здесь, рядом с обувным магазином. Впрочем, обувной не работал.
— Чушь какая-то, — рассердился Анатолий. — Только вчера здесь был. Только вчера. И навигатора нет…
Он стал озираться по сторонам в надежде, что обнаружит нужную вывеску, вспомнит, найдет, на худой конец спросит у кого-нибудь…
У кого? Вокруг — ни души.
Неожиданно на него обрушилась музыка. Джаз! Музыка доносилась из ресторана слева. Макушин, сам не понимая зачем, зашагал к ресторану, дверь оказалась распахнута настежь. А дальше, в ресторане с большим зеркалом на входе, не оказалось ни одного человека. Ни бармена, ни официантов, — никого. Только гремел джаз из-под барной стойки да бледная растерянная физиономия Анатолия маячила в зеркале.
— Господи, да что же это такое?! — воскликнул бедный человечек Анатолий. Он очень испугался.
В эту секунду он заметил мужчину, стоявшего рядом с рестораном, долговязого, в бежевом летнем плаще.
Анатолий почувствовал невероятное облегчение, обрадовался как ребенок и шагнул ему навстречу.
Но в следующую секунду произошло то, чего Анатолий никак не мог предположить: человек в бежевом плаще круто повернулся и быстро зашагал прочь. Макушин сперва очень растерялся, но потом, спохватившись, чуть ли не вприпрыжку бросился за ним.
— Молодой человек, молодой человек, извините! — окликнул его Макушин.
Но тот даже не повернулся, только ускорил шаг. Анатолий окликнул его второй раз. Никакой реакции.Тогда Анатолий ощутил злость.
«Что за чертовщина? Поганец! Игнорирует меня!»
Он продолжал преследовать незнакомца. Незнакомец нырнул во двор жилого дома и пропал из виду. Анатолий свернул следом и оказался во дворе серых панельных домов.
Двор, куда так молниеносно свернул долговязый, оказался совершенно пустым.
Никого. Куда мог подеваться незнакомец всего за одно мгновение, Анатолий Павлович предположить не мог. Страх окутывал его, словно облако, сердце отдавалось глухим маршем в висках. Он стоял в незапертом дворе и тупо смотрел себе под ноги.
Губы его жалобно задрожали, казалось, он вот-вот разревется, как тогда, в детстве, когда пошел искать книжный магазин и потерялся в собственном районе. Как было жутко и неуютно тогда! То же самое он ощущал теперь. Анатолий крепко прижал пухлые руки к лицу. Прижал как можно сильнее, чтобы стало больно. Его мутило. Перед глазами поплыли цветные пятна, пестрая карусель искр. Затем темнота, слышались какие-то звуки. Или это только померещилось?
Из темноты его выдернул звонок. Звонил телефон в кармане. Телефон, который еще утром отказывался работать. Дрожащими руками Анатолий нажал на зеленый кружочек.
— А… Алло?
— Толик! — завопил в трубку бабий голос. — Толик, ну наконец-то телефон разблокирован! Я уже шестой раз пытаюсь до тебя дозвониться, а у тебя абонент не абонент!
«Дура,» — произнес про себя Анатолий, а затем строго отчеканил:
— Нинка, я был на совещании, поем в ресторане, жди вечером. Отбой!
Он положил трубку и осторожно стал озираться по сторонам. На лавочке рядом сидела женщина в выцветшем синем платье и с кислым лицом, рядом с ней возился с игрушками толстый ребенок. Где-то неподалеку сигналила машина.
Анатолий задрал голову и заметил, что на балконе панельного дома стоят молодые парень и девушка. Они курят сигареты, строят друг другу рожи и хохочут, хохочут…
«Бездельники!» — произнес про себя Анатолий и зашагал прочь.

Романная мастерская Елены Чижовой
Зимой 2022 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в Романная мастерскую Елены Чижовой.
Конкурсное задание
Пришлите образец вашего текста: фрагмент будущего романа или отрывок из рассказа, который вы хотите разрабатывать дальше.
Елена Ахматова
Стёртые лики
I
Из записной книжки Сергея Макарова.
Конфеты монпансье появились в России ещё в 19 веке, стараниями петербургского купца первой гильдии Георга Матвеевича Ландрина. У нас в семье коробочка сохранилась благодаря крепости жестяных боков и радости рисунка на крышке. Прадед хранил в ней гвозди. Я же насыпал туда леденцы, и, кажется, — жестянка обрадовалась. Она встречает мою руку теплом и счастливым перестуком. А что поделать, если у мамы от дыма начинается кашель, а тётя Тома сразу хватается за сердце и закатывает глаза? Ну, что ж — здравствуй, кариес, и прощай, ранняя погибель от курения!
Зовут меня Сергей Макаров. Живу я в деревне Большие Мурашки в доме у сестры матери, тёти Томы. Дом этот построил мой прадед Иван Макаров. Почему со временем деревянный сруб стал принадлежать именно младшей сестре, для меня до сих пор загадка. Но факт остаётся фактом: тётя Тома приютила нас у себя. Имя моего отца затерялось в списках героических полярников и космонавтов, что бороздят мировые просторы, напрочь забыв о семье. Спрашивать у матери подробности их встречи и искать фотографию родителя в семейном альбоме я перестал классе в шестом. Так удачно сложилось, что на уроке зоологии нам рассказали о незадачливых богомолах, умирающих в момент размножения, а от мамы одноклассника я услышал вслед жалостливое: «Безотцовщина!» И если мужской руки в моём воспитании явно не хватало, то женские руки были повсюду: ласковые и слабые — мамы, уверенные и сильные — тёти Томы. Поэтому ничего удивительного в том, что поступать учиться на режиссёра в Москву мне позволили лишь дважды. На третий год тётя Тома стукнула кулаком по столу, а мама схватилась за сердце и боком осела на стул. Я собрал документы и поехал поступать в Нижний на исторический факультет. Проучиться на очном отделении удалось лишь два года. Из дома бесконечно летели письма о поломанных полках, вышедшем в тираж газовом котле и маминой общей тоске о сыночке. Я перевёлся на заочный и вернулся в Мурашки, имея в багаже опыт игры в студенческом театре и смутную тоску по сцене. И тут неожиданно получил два подарка: тётя Тома разрешила мне вести при музее театральный кружок и самое главное — я вступил в должность музейного сторожа.
II
Из записной книжки Сергея Макарова.
Наконец-то я нашёл место, где могу пить настоящий крепкий кофе, а не полезный напиток из цикория, и курить тайком. Прощай, леденцовая приторность! А ещё я позволил себе завести кота. Вернее, кот сам пришёл ко мне. Я обнаружил его утром на крыльце с разорванным ухом, покалеченного в какой-то драке. Фельдшер Михалыч сделал ему укол и возвестил, что если тот не подохнет в первые сутки, то жить будет. Кот выжил. Я назвал его Че, потому что он был черняв и независим. Теперь мы сидим по ночам на продавленном диване и вместе смотрим фильмы артхауса.
Наши Мурашки особенно хороши в ноябре: промозглый ветер толкает в спину, в бугристый асфальт центральной улицы уткнулись два старых купеческих дома. Гипсовые львы на крыльце сиротливо поджимают хвосты и медленно тают в лиловых сумерках.
Каждый день, приходя на работу в музей, я касаюсь львиного носа, и мне кажется, что сквозь трещины в гипсе я чувствую тепло. Это не суеверие, а скорее — ритуал. Лев слева более покладист, он придерживает лапой шар и ухмыляется в усы. Зовут его Арнольд. По правую руку — Бенедикт, он серьёзен и даже хмур. Сегодня пятница — день Бенедикта. Я протягиваю руку, чтобы привычно потереть львиный нос.
— Сергей, к приезду группы из Москвы всё готово? — Тётя хоть и небольшого росточка, но голос имеет командирский.
Вот какое отношение я имею к приезду странных людей, которым не сидится дома?! К слову сказать, к нам только москвичи и ездят. Что-то разглядывают в фасадной отделке, фотографируют в комнатах. Мама водит экскурсии и каждый раз волнуется, как школьница, вздыхает и путает даты. И хотя я только освободился после дежурства, спорить с тёткой не стал и потащился к Спиридонихе, чтобы помочь ей донести самовар и пряники. Мы всегда потчуем гостей чаем. Именно так — потчуем, с низким поклоном в пояс.
Но группа не приехала ни к двенадцати часам, ни к обеду. Мало того, погода начала портиться по-мурашкински, с оттяжкой в туман с морозной сыпучей взвесью. Я потихоньку улизнул к себе в сторожку, даже успел выпить чашку кофе и вздремнуть на диване. Че был в минорном настроении, он уткнулся мне в шею и что-то тарахтел на кошачьем, а это усыпляет. Поэтому приезд группы я пропустил.
Наталья Литвякова
Отрывок из будущего романа «Я вам пишу»
Глава 2. Митя. Октябрь1953 г.
— Граждане пассажире, подъезжаем к славному городу Ростову-на-Дону. Бережыть котомки, кошёлки, портмоне. — Проводник, разбитной мужичок неопределённого возраста, — ему могло быть как тридцать, так все пятьдесят лет, — прошёлся по вагону.
— А чего так? — поинтересовался кто-то из граждан.
— Дак Ростов-папа, — ухмыльнулся в ответ проводник, и в глазах его разного цвета, в сером левом и зелёном правом (отчего выражение лица приобретало жуликоватый оттенок), промелькнуло не то восхищение, не то осуждение. — Лопатничек срежут как за здрасте. Не поморщутся. И за польтами, за польтами приглядуйте, гражданочки. — Он прищёлкнул языком и подмигнул Митьке. Тот сердито отвернулся.
Больно надо приглядывать: дел, что ли, больше у него нет? Хотя и нет. Вот уж дней десять как нет. Сначала до Москвы тряслись, через сутки удалось до Ростова билеты взять, и снова в дорогу. А какие в поезде могут быть дела? За кипятком бегать да следить, чтоб поезд без тебя не учухал в неизвестные дали? Да чтоб мамка в рёв на людях не бросилась: всё чаще губы у неё дрожат, брови нахмурены, в глазах тоска.
Митька сердился: отпустила отца одного на Урал, а тот неведомо какими судьбами очутился на юге. Зачем отпустила? Митя злился: он вообще уезжать не хотел, он бы век в Артёме жил. Ни Урал ему, родительская родина, ни неизвестный юг и даром не нужны! Уж как просился у мамки оставить его в семье брата Валика. Она вздыхала только: куда старшему сыну лишний рот?
Митька вздохнул. С раздражением поглядел на опостылевших попутчиков. Мужиков в телогрейках с баулами, вещмешками и просто мешками. Они падали на голову, чемоданы лязгали, углами бились. Бабы лаялись, дети визжали. Пахло потом, редькой, маслом подсолнечным, махоркой, портянками. Где-то цыкали, где-то гармонь играла, где-то сивуха лилась.
Митька чувствовал: задыхается. Задыхается, как Ихтиандр. Читал о нём в книжке, девчонка одна подарила. Сидит сейчас в вагоне, как в бочке с тухлой водой. Он и сам-то не из барских покоев вышел, ароматы все знакомы до единого. Да только там, откуда они ехали — подует ветерок с моря, свежий, мазнёт по губам солеными каплями, втянешь ноздрями воздух, насквозь пропитанный йодом от водорослей, так и задышишь полной грудью, словно воды родниковой хлебнул. А здесь что? В корыто с помоями будто головой макнули. Грудь сводит, в горле сохнет. Ветер же не спасение вовсе, наоборот, только хуже делает: вонь да духоту размазывает вокруг, как масло по хлебу мамка на Новый год.
Перестук по рельсам колёсный — до зевоты уже, от разговоров скулы сводит, особенно как Воронеж проехали и подсели дядьки, охочие до рыбалки. И давай хвостами белужьими мериться да где сом больше водится, в Волге иль в Дону. У одного рыбина до двух метров вымахала, трактором тянули, у другого — парочку с лодки утянула, притопила да заглотила, потом только колечки нашлись в брюхе; и ребятенка, гутарили, шо на ветке сидел, над речкой ногами болтал, тоже; а в прошлом годе лещи ловились по пуду, а чехонь и за рыбу считать перестали, печки ей топят; а в первый год после войны осетров ловили — тонну, а раков развелось — корзину за раз набрать можно. Мертвяков в Дону, знаешь, скока? В 43-м по трупам шли, город освобождали, вот и развелось. У Митьки не только скулы свело, но и живот, рот наполнился вязкой слюной, так бы и плюнул в них. Раки, раки. Караси. Горе-рыбаки, что они знают о рыбе? О живности? А в океан они ходили? Может, китов видели? Или следы тигриные поутру за посёлком? То-то же. Подумаешь, сом-людоед, испугали.
Мальчишка отвернулся к мутному окошку, тоска снова вцепилась в тело холодными пальцами. Остался в прошлом и посёлок Артём, и дом с козами, и рассвет над заливом, и синие, в закатных лучах, сопки. Мальчишеские войнушки и пиратские заплывы на Песчанке. И девчонка с русыми косами — Нинка с соседней улицы, что прихлопнула Митьку ресницами прошлым летом, да так и остался он оглушённым и растерянным. Не о чем больше мечтать. Не ведал паренёк, что время, как волны, смывает песок-чувства, наносит новое: людей, события, случайности; и вот уж на пустынном берегу — человеческой памяти — ничего нет прежнего. Не знал ещё Митька, что тоска по краю, в котором родился, притупится, что на смену первой симпатии придёт другая, более глубокая. Любовь придёт. И не вспомнит он уже ни как лагуны выглядят, ни как это — за лиану шершавую в тайге зацепиться и до смерти испугаться, ни лица девочки не вспомнит. А только запах морского побережья, только имя — Ниночка — пронесёт сквозь годы.
— Ро-о-с-с-тов, Ро-о-с-стов, граждане! — опять зычно закричал проводник. — Не спим, не зеваем, портки собираем! Зяву-то не ловим, любезные!
Город приближался. Въехали на перрон, загремел состав вагонами, как Кощей из сказки суставами, и Митька вдруг почувствовал, что злость, въевшаяся в душу, как угольная пыль в кожу шахтёра, вдруг испарилась, растаяла перед любопытством, перед неизвестным будущим: как оно сложится на новом месте…

Автобус
Дачный дом отчего-то был не заперт. Анна Никитична пошатала ключ в замке, перепугалась и неловко, тревожась, дернула ручку. Внутри пахло старой мебелью, пылью, обувью. В кухоньке Дмитрий Дмитриевич пил чай, спокойно положив руки в брезентовых рукавах на древнюю, как этот мир, клеёнку.
Анна Никитична и ее муж разъехались месяц тому назад. Анна — к сестре на Покровку. Дмитрий Дмитриевич остался в Марьино. Весь минувший месяц они не видели друг друга, не разговаривали. Анна забыла уже эту его неуютную манеру прижимать к груди подбородок, перебирая непроизнесенные слова.
Анна Никитична повесила сумку на вешалку, которую Дмитрий Дмитриевич мастерил сам ещё в прошлой жизни, провела рукой по гладким волосам и ощутила чистую досаду.
Ну что ж за день? И надо ведь было собраться, приехать сюда на автобусе. Теперь все представлялось каким-то неловким, и, собственно, ничего и не хотелось: ни убирать зимний мусор на улице, ни гулять до леса, прозрачного, с трепетом горькой коры. Дмитрий Дмитриевич осторожно, словно пробуя воздух на плотность, повел плечами, которые умел красиво вписать в любое пространство. Потом — посмотрел на Анну, будто бы узнавая, отодвигаясь, отодвигая, источая какую-то дурную недоговорку, лжинку.
Анна Никитична сжала и разжала ладонь. Надо, наверное, поворачивать домой. Как по-глупому вышло все, подумала она.
— Аня, ты зачем приехала? — спросил Дмитрий Дмитриевич, и голос его был незнакомым, холодным, обтекаемым, как медный шар.
— Убирать. — Анна повернулась лицом к свету, и муж заметил, как блеснула капелька сережки в мочке ее уха. Опустил глаза. — А ты зачем?
— Инструменты нужно забрать, я без них как без рук, ни за что приняться не могу, знаешь…
— Забрал? — спросила Анна Никитична. Стала переодевать садовую обувь. — Поедешь скоро?
— Попозже поеду, — произнес Дмитрий Дмитриевич, встал со стула, тут же прорыдавшего скрип, и заполонил всю кухоньку своим шестидесятипятилетним бытием, шумным и неприятным Анне: крепкой фигурой, медным голосом, брезентовым запахом.
Анна Никитична перестала возиться с задником стоптанной галоши и сделала удивленный лоб. Но, впрочем, ничего она вслух не сказала, а только подумала, что это чудно. Что ему делать здесь?
— Аня, будешь чай пить? — спросил жену Дмитрий Дмитриевич.
Он резал хлеб и доставал сыр. Анна взглянула на ледяной затылок этого странного человека и молча вышла на улицу из отчаянной духоты.
Весенний воздух еле слышно пел, дрожал, отзывался. Анна Никитична подышала, взяла грабли и провела ими по черным листьям, обнажая пахучую землю. Провела снова и снова, бередя кровь и мышцы.
Позвонком на шее она ощущала взгляд из окна, но в этом взгляде не было ни любопытства, ни тепла. Ничего такого, сказала себе Анна, ничего такого.
Жёлтая бабочка, как искра, стукнулась об ее рукав, заметалась вокруг, радуясь свежим крыльям, исчертила всю воздушную дымку. Она летала, летала рядом, утверждая весну, возводя бытие в высшую степень, оживляя камень. И от этих всполохов было тревожно, было неясно.
Анна Никитична проработала два часа, напевая себе, говоря себе, удивляясь себе. Как это можно, размышляла она, обманывать одному человеку другого? Могут ли люди вообще не хотеть для себя правды, нарочито прикрыв душу? И как уживаться с собой, если душа — без фильтра, без прикрытия?
Пока Дмитрий Дмитриевич гремел вещами в сарайке, ей-богу, как Зевс молниями, Анна Никитична поела за столом, водя тонким светлым запястьем по клеенчатым иероглифам.
И к автобусной остановке, чтобы поехать обратно, почему-то было решено идти вместе. Анна Никитична махнула про себя рукой, мол, чего здесь сторониться теперь, можно же гулять спокойно, интеллигентно, разговаривая о новостях, птицах, детях.
Она навела порядок, спокойно и увлеченно расставив все на места, уравняв мир Снаружи, предъявив его зыбкому Внутри.
Дмитрий Дмитриевич выкурил сигарету, подрагивая левой половиной лица, беспокойно, словно бы неназванная физическая боль проплывала под черной водой, волнуя ее.
По дороге на остановку Дмитрий Дмитриевич и Анна Никитична разговаривали мало. Слова о новостях, птицах и детях в муках появлялись на свет и сразу угасали, тлели. Пыльная дорога была неровной и сырой. Прохлада, выползающая из оврага, неприятно трогала шею.
На остановке, пока наждак асфальта шумел и рвался от скорости автомобилей, Дмитрий Дмитриевич примостился на скамейку. Анна Никитична хотела сесть в автобус и молчать.
Автобус, набитый под завязку человеками, рюкзаками и одной микроскопической дрожащей собачкой, приехал через десять минут. Подперев поясницей поручень у окна, Анна Никитична поняла, что Дмитрий Дмитриевич, кажется, вошёл в другую дверь. За людьми его было не видно. И Анна не стала рассматривать — отвернулась к окну. За стеклом маленькая березовая роща походила на белые прорехи в полотне неба. Анна Никитична вдруг увидела эту рощу. Ездила на дачу двадцать пять лет и не замечала — помнила только о корзине, которую возила к обеду, да о ветровке мужа, которую нужно было забрать в город и постирать. Ветровка крепко пахла строганой доской и лаком. Муж мастерил со старательной одержимостью. Сделал всю мебель на дачу. Возвращался из проектного бюро, ужинал и возился на балконе с табуретками. С балкона на кухню щипками заползал осенний воздух, пахнущий свежими стружками. Анна мерзла, но ничего не говорила — куталась в халат.
Дмитрий хорошо видел картинку — ту сторону предмета, явления, с которой красота распахивалась честно и просто, чего бы это ни касалось — двигателей самолётов или фотографирования. Фотографировал он тщательно и неторопливо, порою томительно глядя в объектив на Мишу, их сына, когда тот стоял у окна, гулял, бросал мяч. Каштаноголовый, как и отец, Миша раздражался, хмурился, прятался, но Дмитрий поднимал ладонь с молчаливой мольбой потерпеть и не отрывал глаз от объектива, не двигал ни бровями, ни лбом. Миша вырос, женился, уехал. Где эти фото теперь? Анна Никитична попыталась вспомнить готовые фотографии, сделанные мужем, но не помнила. Не помнила фотографий. Автобус ухнул колесом в яму, и в груди что-то застонало, что-то такое, вроде голоса вины. Анна Никитична часто заморгала и увидела Дмитрия. Он смотрел спокойно, уверенно и устало. Анне стало не по себе. Нельзя, нельзя ни в коем случае разрушать себя, считая, что виновата.
В то самое время, когда жизнь накренилась и дала пробоину, муж не спешил залатать ее. Бывало, он исчезал на целый вечер и открывал дверь ключом, когда Анна Никитична уже спала. Да, она задавала вопросы, но на них были неясные ответы: хочу побыть собой, хочу выйти на свет. А все эти годы он не был собой? Ну разве бывает такое, чтобы притворяться целую вечность? Нет, не бывает.
На остановке вошли люди. Анну Никитичну потеснили ещё больше.
Любовь, — сказала она беззвучно, катая слово во рту языком, облокотившись на кого-то там плечом. Любовь, — пожевал дверями автобус. Куда она девается, любовь? Высшая, непостижимая, прекрасная сила, которая однажды запустила мир. Эта плотная, жаркая, созидающая энергия. Она и дарит, и поддерживает жизнь, и забирает ее. Почему же у человека не прекращает биться сердце, когда любовь заканчивается? И может ли любовь перестать?
Не может, подумала Анна. Из человека, из его помыслов и движений души любовь просто перетекает в мир, становится миром. Поэтому красота мира всегда несомненна. Если любовь оставляет тело, мысли, сознание, стало быть, она наполняет и раскрашивает то, в чем мы живем, то, чем мы дышим днем и ночью.
Дмитрий Дмитриевич с удовольствием следил за бегущим небом. Оно казалось прекрасным. Прекрасным и новым. Новым и значительным. Было хорошо. Хотелось идти куда-то вперёд, делать что-то неожиданное, сильное. Организовать выставку своих самых удачных фотографий, завести собаку, прочитать Кастанеду.
Вся прошлая жизнь представлялась длинным тесным лазом на пути к истинным чаяниям.
Дмитрий Дмитриевич перебирал какие-то короткие мысли о том, чем занимался так или иначе на протяжении сорока пяти лет, и видел, что полз, медленно и неловко, и плечам было тесно, и впереди — горел свет. Должно быть, теперь — время выйти на свет. Можно много фотографировать странных или смешных людей. Стариков вон. Вы когда-нибудь заглядывали в лица стариков? За будто бы потрёпанной занавесью на их глазах виден всполох детства.
У Ани никогда не было веры в меня. Не было щепок в мою печь, тоскливо проговорил про себя Дмитрий Дмитриевич.
Он не обманывал жену. Какие там измены. Он хотел быть целостно одиноким. Примерял на себя слово жестокий — слово сидело как-то криво. Не жестокий — слабый.
Провожать каждый день — и не оправдываться, чувствовать происходящее единственно важным и правильным, — повторял он, как заклинание. Ни другие какие-то женщины, как считает Аня, для этого не нужны, ни кто-либо со своим безликим мнением — никто. Только он сам. Недостаточно красивый, недостаточно здоровый, недостаточно предприимчивый — Недостаточно Он. Важно выйти на свет. Без оглядки на любовь и черные дыры внутри. Любовь висела в воздухе частицами пыли, вылетала в приоткрытое окно автобуса.
В левом глазу по сетчатке медленно и тошнотворно расползалась тень, уверенно стекала на левое плечо, нехорошо сжимая тисками. Подвигалась ниже — к руке, к груди.
Кто-то охнул. Кто-то отступил, не держась, и повалился на повороте. Спины людей тревожно задвигались. Анна Никитична перевела взгляд и, как в окошке иной реальности, увидела, что муж оседает куда-то вниз, похожий на большую мягкую куклу. Рукой он продолжал держаться за поручень. Мужчина рядом пытался подхватить — то ли поставить обратно, то ли положить на пол, но не смог ни того, ни другого. Анну настигло оцепенение. В эти первые секунды, пока пассажиры придерживали, галдели, кричали водителю и друг другу: скорую, она не двигалась. Ноги были из войлока. А через мгновение что-то со стороны, не она сама, бросило ее тело на войлочных ногах с места. Сумка, телефон упали на пол. Автобус затормозил резко, как перед обрывом.
— Митя, — сказала она. Имя выпало смятым бумажным шариком. — Митя.
Он не слышал ее. Синяя тень между его бровей бросилась Анне в глаза. Она заплакала, страшно кривя губы. Незнакомая женщина присела рядом, чтобы придержать голову Дмитрия Дмитриевича.
— Это сердце, — сказала она. — Нужно таблетку.
По толпе передали: таблетку, таблетку.
Анна Никитична, как в тумане, в мороке стала разжимать пальцы мужа, по инерции обхватывающие теплый поручень.
— Митя, — звала она сквозь наступающую по пятам темноту, — ты не оставляй меня, пожалуйста, ты не оставляй, не оставляй.
Женщина рядом заплакала. Водитель, испуганно тараща глаза, вышел из кабины, стоял, неуклюже расставив руки, не зная, куда их сейчас применить. Кто-то вызвал скорую. Кто-то передал Анне Никитичне таблетку. Она уронила ее себе на колени и не заметила этого.
Она звала и звала мужа по имени, крича в неузнанную пропасть, держа его за руки, приподнимая под мышки, пытаясь вытащить его над уровнем невозврата, до того момента, пока он не мотнул головой, болезненно морща лоб.
— Аня, — произнес он. — Куда я?
Ему сунули таблетку. Дали воды. Помогли встать Анне Никитичне. Анна Никитична сама подняла мужа, сама вывела его из автобуса. Вслед ей, ахая и жалея, протянули сумку.
Весенний ветер дышал с полей, переплетаясь с движением на трассе. Он обнял, проглотил, лизнул лица. Розовая сеточка капилляров обозначилась на виске Дмитрия Дмитриевича. Он вдохнул, заморгал, оступился. Пришлось сесть прямо на землю. Анна Никитична подложила под спину мужа рюкзак. Руки были неживыми, ватными, голова наполнена немотой. Ещё минуту все неподвижные, исчерканные страхом лица в автобусе были обращены к двум людям, сидящим на обочине. Потом автобус закрыл двери и тронулся прочь.
— Я нормально, Аня, нормально, — сказал Дмитрий Дмитриевич. — Может, и не надо было бы скорую. Ну сколько она сюда будет ехать, даль страшная.
— Ты совсем сумасшедший, — сломанным голосом простонала в ветер Анна. — Не надо скорую! Что случилось, Митя, а? Я думала, ты умер. — Она уронила лоб в брезентовое плечо. Плечо пахло автобусом.
— Не умер, Аня, но было темно и стремительно, будто бы несёт куда-то. Коридор длинный и тесный. Что удивительно — совсем не страшно.
Анна Никитична подняла глаза на мужа. Он смотрел перед собой, бледный и сосредоточенный.
— Митя, мы сейчас скорую дождемся, и я с тобой в больницу поеду, — уняв дыхание, уверенно сказала Анна Никитична. И кивнула, согласившись со сказанным.
Автомобили, несущиеся мимо, разрывали теплую дымку весеннего настоящего, обращали ее в пыль.
— Аня, поезжай домой, не нужно со мной. — Дмитрий Дмитриевич потёр лоб. Боль внутри ушла. Безымянная теплота наполнила грудь и ладони.
В молчании Анна слышала гул крови и еле уловимый звон струны, натянутой в солнечном сплетении.
— Митя. — Анна положила руку на землю. Земля доверчиво прижалась прохладой. — А где любовь? Вот как ты думаешь, куда она делась? Во что превратилась? Где она?
Дмитрий Дмитриевич поднял брови и взглянул на жену, не поняв ее вопроса.
— Уехала. В автобусе.
Через десять минут фельдшер скорой помощи вовсю возилась с тонометром и медицинским полисом. Измеряла, спрашивала, писала, пытливо просвечивая взглядом.
Небо над горизонтом, белое и дымчатое, словно бы стало ниже, дотрагивалось своим животом с желтоватым подпалом до земли, терлось об нее, взрывая грязные, нетронутые с прошлого года пласты, обдавало дыханием холодные ветви деревьев, прикасалось к стволам, не помнящим тепла, летело, двигалось, опускалось. Подтекало, истончалось той самой первозданной силой, которая больше не питала человеческую душу.
Любовь, намотанная на колеса, неслась в город, и ее по-прежнему нельзя было описать или измерить, как всякое вселенское чудо, как лучшую шутку Бога.
Рецензия писателя Екатерины Федорчук:
«У автора получился замечательный рассказ о том, что любовь не престает… Что любовь может воскреснуть!
Центр рассказа — это, конечно, внутренний монолог Анны Никитичны о том, что, умирая, любовь растворяется в красоте мира. Это потрясающая по силе и красоте лирическая зарисовка. И я думаю, что ее можно было бы переместить в финал текста. Просто после такой лирической высоты даже соединение бывших супругов смотрится не как развитие темы, а как ее понижение. Вот этот бы отрывок вместо финального абзаца! А финальный абзац, вообще весь образ целиком — любовь уехала в автобусе и т. д., кажется мне менее удачным повторением главной мысли.
То, что супруги опять вместе, мне кажется очень правильным и логичным завершением текста. И вполне достоверным.
Вся сила поэтического пера автора подводит нас к этому моменту: и неловкие паузы в разговоре, и внутренние монологи героев, и, конечно, описание природы.
У автора прекрасный образный язык, есть совершенно удивительные, сильные стилистические находки: «честная досада», «дурная недоговоренность, лжинка». Про наждак дороги очень хорошо звучит, гармонично.
Я бы еще поработала с образным рядом там, где происходит сердечный приступ с Дмитрием Дмитриевичем. Дело в том, что здесь автор начинаете работать с абстракцией. Темное пятно, туннель, в котором свет… А весь текст построен на контакте с конкретикой природного мира. Происходит едва заметная смена повествовательного ракурса, и это немного сбивает с толку. Пусть тень будет просто тенью от тучи, набежала, грянул гром и т. д.
А в целом прекрасный, тонкий, лирический рассказ о любви.»
Рецензия писателя Романа Сенчина:
«Рассказ мне понравился. Тонкий, грустный и одновременно светлый, тёплый. Любовь/нелюбовь пожилых супругов это очень важная тема, которую литераторы если и берут, то как-то грубо, топорно. У автора же иначе. Считаю рассказ удачным и надеюсь, что у него будет жизнь, будут читатели.
Теперь несколько замечаний. Герои пожилые, Дмитрию Дмитриевичу шестьдесят пять, героине примерно столько же. Месяц они живут порознь. Но когда случилась «пробоина»?
По стилю. Есть отличные штрихи: «пошатала ключ в замке» — хорошо, ново, и вот это: «словно пробуя воздух на плотность, повел плечами». Но встречаются и странные моменты: «ощутила честную досаду», например. Чувствуется влияние Андрея Платонова. Может, я ошибаюсь.
И главное, на мой взгляд. Автор очень произвольно меняет так называемого фокального персонажа. Вот мы видим происходящее глазами героини, и вдруг: «— Убирать, — Анна повернулась лицом к свету, и муж заметил, как блеснула капелька сережки в мочке ее уха. Опустил глаза. — А ты зачем?» Нужно или разделять таких персонажей интервалом, звездочками, главками, или делать это приемом, когда в одной строке мы читаем мысли разных персонажей, как это делал Лев Толстой на многих страницах «Войны и мира». Но это непросто. »

Белые салюты
Поговаривали, что послезавтра в парке будут давать салюты. Прямо над танцевальной площадкой, где всё лето собирались старички с района. Где в такт музыке шуршали юбки, благоухали одеколоны, и к пожилым возвращалась молодость.
Викторович сразу обратил внимание на Зину. Она оставалась стройной и моложавой, несмотря на преклонные годы. Когда они вдоволь наулыбались друг другу, Викторович пригласил Зину потанцевать. Они разговорились и уже на следующий день встретились в парке, чтобы поиграть в шахматы.
— Русская партия, — Викторович передвинул коня, — я этот дебют до двенадцатого хода знаю.
— Полно вам, Викторович, в нашем-то возрасте дай бог своё имя с утра не забыть.
— Я не шучу. Ты сюда походишь, я так отвечу, тут разменяемся, потом слона выведу и рокировка! — Палец Викторовича метался над шахматной доской, как указка.
— Какая чудесная память. А расскажите, где вы так танцевать научились?
— У меня однополчанин был, с которым нас в караул отправляли. Только караулить было нечего — перелесок да опушка. На той опушке он меня танцам и научил, а я его шахматам.
— Танцуете шикарно и в шахматы мастер. А я всегда на танцы хотела вместо гимнастики. Да как-то не стала говорить родителям, решила подождать.
— И чего же ждала?
— Знать бы. Гимнастика так на танцы похожа. Махнула тогда — одно и то же почти.
Наступило ленивое молчание, Викторович украдкой рассматривал лицо Зины. Глаза у неё голубые с желтыми склерами — как-то она обмолвилась про желчный пузырь, но Викторович пропустил мимо ушей, начал подшучивать, что солнце из глаз светится. Губы спелые, молодые, будто у этих губ впереди вся жизнь — от первых слов любви до поцелуев с мужем.
— Викторович, а дети у вас есть? Семья? — прервала молчание Зина.
— Сын в Москве живёт. Приезжал год назад на похороны матери. Нам и двадцати не было, когда женились. Не погуляли толком. Да и время другое было — свадьбу хотели.
— Так интересно на вас в молодости посмотреть. Должно быть, красавцем были. И жена наверняка очаровательная.
— А у меня фотография с собой. Показать? — оживился Викторович.
— Конечно!
Викторович начал копаться в карманах, хитро улыбнулся и сказал вполголоса:
— А вот обнимешь — покажу.
— Какие обнимания, Викторович? В наши-то годы! — Зина раскраснелась, как рубиновая брошка. — Я с вами дружить буду. Потанцуем, в шахматы поиграем, а эти шалости давайте оставим молодым.
— А я не хочу с тобой дружить! — Викторович переставил шахматную доску с фигурками на край скамьи. — Я жизни, чувств хочу!
Викторович резко придвинулся к Зине и крепко её обнял.
— Ой, куда вы полезли, Викторович! Подождите! — Зина жмурилась и прятала лицо, когда Викторович попытался поцеловать её. Затем собрала советскую гимнастику в руки, вырвалась и потопала в сторону дома:
— Нельзя так, Викторович! В наши годы таким уже не занимаются!
— Не могу я ждать, скоро помирать пора. На следующих танцах решайся — со мной ты или нет! — бросил вслед Викторович.
***
Зина возилась на кухне с букетом цветов и раздумывала, как быть дальше.
«Ах, Викторович, что же ты творишь, поросё ты эдакое, — щёки Зины залились румянцем, — ишь какой — статный, высокий. Возьму и поцелую!» — Мысль ударила в грудную клетку так сильно, что рука Зины невольно потянулась к аптечке, проверить, на месте ли прохладный пузырёк с корвалолом.
«Ой дура ты, Зина, ещё и на людях обжималась, как дитё какое-то. Соседи точно видели. Как я на них теперь смотреть буду. Ещё как девица расфуфырилась — сарафан этот в горошек нашла».
Зина понесла букет цветов в гостиную и чуть не вскрикнула, когда врезалась взглядом в мужа. Пётр, как обычно, сидел в кресле и что-то бубнил под нос.
«Куда ж я Петеньку дену — у нас через три года золотая свадьба. Бедная я — вначале пять лет ждала, что замуж позовёт, детей нарожаем, потом ещё тридцать лет ждала, когда из своих плаваний вернется. Состарились — думаю, наконец, вместе побудем. А тут на тебе, инсульт. Сидит мой бедный, кивается туда-сюда в этом кресле, бурчит о кораблях.
А чего ты боишься, Зина? Викторовича боишься? Или что Петя всё узнает? Или ты смерти своей ждёшь и боишься? Пиджак бархатный на похороны уже купила. Так это Петенька первый уйти должен, а ты подожди ещё. Тебе его проводить нужно».
Зина прислушалась, что Петя бормочет себе под нос.
— Подожди, подожди, не поднимай паруса, крениться начнём. — Пётр, по всей видимости, разговаривал с каким-то матросом.
— Ох, Петенька, — вымолвила Зина.
— Ты не спеши, обожди, обожди. Ветер крепчает!
— Бедный мой, бедный.
— Стой, куда спешишь, не спеши, не спеши, Зина! Зина, не спеши! Зина!
Зина подавилась воздухом. Она впервые услышала своё имя от мужа после инсульта. З, И, Н, А — каждый звук лупил по барабанным перепонкам, как боксёр по груше. В голове зажужжала муха. На секунду ей показалось, что к ней никто никогда и не обращался по имени.
«Боже мой, я же здесь, я же живу тут сейчас». — Зина ощутила, как смотрит на свою жизнь глазами с желтыми склерами, как дышит, как болит её поясница. Она почувствовала свою кожу. Будь помоложе, тут же отправилась бы сделать новую стрижку, но сейчас ей было достаточно тихонечко сказать мужу:
— Хватит с меня, Петя. Не хочу я больше ждать.
Через много лет Зина вспомнила, как расплакалась в тот момент.
***
В закатных лучах распластался август и наблюдал за танцами старичков. Викторович и Зина непринуждённо болтали в стороне. Зина впервые за много лет накрасила губы лёгкой помадой. Заканчивая макияж, она три раза приложила салфетку к губам, чтобы проверить, не оставляет ли помада следы, как обещали в рекламе. Всё было хорошо, не оставляла.
— Зина! — сказал Викторович, глядя в небо. — Сегодня салют дадут.
— Давно я салюты не видела!
— Угадайте, Зина, какого цвета они будут?
— Белые, они будут белые.
— Пускай будут белые, раз вам так хочется.
— А вы какие хотите?
— Любые, лишь бы были красивыми. Может, потанцуем?
Викторович подал Зине руку и повёл в такт музыке. Зина кружилась, опрокидывала голову и изящно сгибала ногу в колене. В танцах утекали минуты. В парке стемнело и, наконец, в небо ударил фейерверк. Все замерли, начали смотреть на разноцветные вспышки. Только Зина с Викторовичем продолжили медленный танец. Зина дышала тёплым воздухом в шею, затем подняла голову и посмотрела ему в глаза. Глубокий вдох, Зина зажмурилась и доверила себя и своё лицо Викторовичу.
Тепло его губ побежало по морщинкам на лбу и под глазами, затем по щекам. Наконец, он добрался до губ. Зина вздрогнула от прикосновения, но позволила поцелуям пожить ещё. В какой-то момент она перенеслась мыслями домой, где висел черный бархатный пиджак для похорон. Как эффектно он будет смотреться на танцах.
Викторович методично целовал Зину, а когда открыл глаза, словил взгляд молодой незнакомки. Она улыбнулась ему из-за спины Зины и тут же упорхнула в другой конец танцевальной площадки. Как же хороша была девушка, как красива в блестящем платье. Викторович подумал, что обязательно надо будет с ней потанцевать. Затем одёрнул себя, вернулся к Зине и поцеловал в губы. Помада Зины показалась ему не очень вкусной.
Салюты громко взрывались и озаряли парк зеленым, синим, красным и жёлтым цветом. Затем закончились. Этим вечером белых салютов не было.

Бодика
Бодика шел в храм поговорить с Буддой, потому что больше говорить ему было не с кем. Он давно был одинок, но сегодня, в его семьдесят третий день рождения, одиночество свивалось в знак бесконечность и опутывало его. Жизнь Бодики во многом сложилась не так, как он хотел, но он не грустил. Будда учил искать радости в мелочах, а мелочей вокруг было несчетное множество.
Бодика жил в хибаре на берегу океана. Со стен ее клочками свешивалась штукатурка. Из обстановки была лишь грязная циновка, газовая плитка и шкаф. Зато окна этой хибары смотрели на океан. Каждый день Бодика видел, как клубничное солнце всходит на Востоке и скатывается в воду на Западе.
Во дворе жили два товарища Бодики — варан, больше похожий на крокодила, и пес, чья шерсть была так изъедена лишаем, что тут и там зияла розовая воспаленная кожа. Каждые несколько минут пес вгрызался в свое измученное тело, но не мог вытащить наружу незваных сожителей. Дверь хибары выходила на дорогу, по которой день и ночь неслись тук-туки.
Последний раз Бодика был счастлив пятьдесят шесть лет назад, в июне 1965 года. Тогда в его родной деревне (других мест он сроду не видел) только начался сезон дождей. Вода забралась в дом родителей. Стулья и столы плавали. Младшие братик и сестренка радовались этому, прямо посреди комнаты запуская кораблики из кокосовой скорлупы. Мать Бодики напекла роти (индийские лепешки) и положила их каждому из своих четырех детей — рядом с нарезанным бананом и одной плиткой шоколада. Шоколад в доме считался роскошью. Поэтому Бодика долго катал плитку на языке, бояcь, что она провалится внутрь его желудка, который мать называла бездонным, и исчезнет, не оставив послевкусия. Мать Бодики Данушка зарабатывала на жизнь тем, что продавала листья бетеля. Все взрослые мужчины в деревне жевали их беспрестанно. Оттого зубы у них были желтыми, а глаза красными и вываливающимися из орбит. Отец Бодики с утра до позднего вечера трудился на рисовых плантациях.
Бодике было семнадцать, и он первый раз в жизни был влюблен. Ее звали Варанаге. Они познакомились на празднике слонов. Варанаге стояла в толпе. У нее была светлая кожа, какой не было ни у одной девочки в деревне. Она придерживала оранжевое сари, расшитое звездами, будто боясь его запачкать. И он видел крохотный кусочек ее стопы с щиколоткой, которую легко мог обхватить большим и указательным пальцем. Черные волосы Варанаге были заплетены в толстую косу, которую украшали цветы жасмина. Варанаге взглянула прямо на него и улыбнулась уголками глаз. Он был бэтсменом в дворовой команде по крикету и как никто умел держать удар. Но этого удара не выдержал, покраснел и отвернулся.
Еще долгие годы после этого он носил мимолетную улыбку Варанаге в потаенном кармашке своего сердца.
В тот же вечер во время танцев они познакомились и с тех пор все свободные вечера проводили вместе. Их у обоих было не больше, чем зубов у Данушки — самого старого жителя деревни. У Варанаге было четыре маленьких брата, и когда она не была в школе, то почти все время помогала матери по хозяйству.
Варанаге мечтала освоить искусство аюрведы, но для этого ей надо было уехать в самое сердце острова — город Канди, где жили люди, которые никогда не видели океана. Родители же не хотели отпускать дочь от себя до свадьбы. Поэтому Бодика и Варанаге решили пожениться, едва закончив школу. Их родители, узнав об этом, сразу же направились к астрологу. Все деревенские знали: если астролог говорит, что брак будет несчастливым, пиши пропало. Некоторые смельчаки уже ослушивались его и потом вынуждены были годами жить вместе, не перенося друг друга на дух. За развод полагалось заплатить так много денег, сколько большинство жителей никогда и в глаза не видели. Да и позорно было — провалиться в таком важном деле, как брак. Но астролог лишь покачал головой, сказав, что Бодике и Варанаге не суждено быть вместе. Они были молоды и влюблены и потому проигнорировали прогнозы.
До свадьбы оставалось два месяца, когда однажды утром Бодика проснулся и понял, что превращается в слона. Ноги его опухли, а кожа начала грубеть. Сначала Бодика думал, что его укусило какое-то насекомое, и это скоро пройдет. Но с каждым днем ноги становилась больше. Доктора сказали, что у Бодики врожденная болезнь, которая многие годы прогрызала себе дорогу в его внутренностях и теперь выбралась на поверхность. Но Бодика знал, что во всем виноваты звезды и Яка — демон, несущий с собой болезнь, который навестил его ночью. Отец Варанаге расторг помолвку и запер ее дома, не пожелав выдать замуж за инвалида, а еще спустя месяц отправил учиться в Канди.
К двадцати трем годам он уже с трудом передвигался и больше не играл в крикет. Он вообще больше не играл, предпочитая сидеть дома, в то время как его ровесники крутили романы с иностранками и устраивали в джунглях вечеринки, на которых пробовали галлюциногенные грибы. Он почти забыл о Варанаге, когда случилось невозможное.
У родителей Бодики был выходной. Поэтому вся семья отправилась на океан. Бодика стоял по колено в воде и разглядывал окраски рыбок, резвившихся вокруг его обезображенных ног. Вода была прозрачной, какая бывает в редкие дни. Гигантские черепахи высовывали головы из воды и трусливо пикировали вниз, когда люди пытались подплыть к ним ближе. Солнце прижигало лучи о кожу.
Вдруг трехлетний братишка Бодики — Шанти — указывая пальцем на горизонт, во всю мочь закричал: «Амма!!!». В тот же миг океан схлынул, оставив побережье голым, похожим на незаселенную планету. Сотни рыб оказались выброшены на сушу. Раздувая жабры, они тщетно хватались за угасающие жизни. Дети бросились собирать их голыми руками. Рыбаки побросали удочки и поспрыгивали с шестов. А еще через пять мину океан разинул огромную пасть и унес всех. Но этим не насытился. Выбрался на сушу, туда, где ему не было места, и стал пожирать все на своем пути: тук-туки, велосипеды, дома и прохожих.
Бодика понял, что болтается в воде в сотнях метров от берега, окруженный криками обезумевших от ужаса людей. Он зацепился за деревяшку, которая оказалась кусочком крыши чьего-то дома, и потерял сознание. В тот день вся семья Бодики исчезла бесследно. И начались его сорок пять лет одиночества.
Сегодня Бодика больше не сетовал карму. Он знал, что если бы в прошлой жизни был негодяем, то ни за что не спасся бы в тот страшный день, когда половина жителей его деревни погибла и почти каждой семье пришлось вывешивать на улицу белые ленты. Колесо Сансары делало очередной оборот.

Верховный Смотритель
— Смотри, какой он! Я каждый раз удивляюсь. Сроду не узнать Спартака! Мы точно не перепутали могилы? — Саша хмыкнул, но продолжил елозить кисточкой по кованой оградке, облезшие прутики и завитки покрывались плотной смолью.
— Это с военника, наверное. — Геворг посмотрел на фото. — Спартака молодым я вообще никогда не видел. Когда мы переехали, он уже был стариком. Ну, мне так казалось, что стариком. Сколько ему тогда было? — Он прочитал с креста: — Спартак Александрович Железняк. А ведь кто-то помнит нашего Спартака вот таким бравым солдатиком!
— Слушай, когда я умру лысым дедом, ты проконтролируй, чтоб Наташка тоже лучшую мою фотку налепила. — Саша выпрямился и оглядел натыканные вокруг кресты и надгробия. — А что, если на том свете мы все будем вот такими! Ну, как на последних своих портретах.
— Не-а, я думаю, что после смерти мы будем такими, какими нас будут помнить! — Геворг сел на траву и вытер взмокший лоб.
Он изо всех сил сражался с зарослями дремучего бурьяна и одолел его почти весь. Осталась мелкая щетинистая поросль в трещинках обветшалой плитки.
— Ну хорошо! — воскликнул Саша. — Сначала, возможно, да. Но! Живые тоже умрут. Рано или поздно все умрут! И что тогда? Поэтому и вешают эти этикетки! Чтоб люди видели, кто там!
— А если нет ни креста, ни могилы? Если прах развеяли и все! Или… — Геворг вспомнил берлинские кладбища, напоминающие, скорее, ухоженные скверы, там нет фотографий, вместо них — разнообразные архитектурные декорации: статуи, скульптуры, фрески, лепнина, ангелы, иногда бюсты усопших, но не портреты. — Вот в Германии, например, землю под могилу продают не насовсем, а на двадцать лет в аренду. Представь! А потом или еще плати или все — ауфидерзейн! Старый гроб вытаскивают и кладут нового арендодателя.
— Не понял! Куда вытаскивают? — Саша удивленно таращился на друга.
— Не знаю! Наверное, в утиль! — Геворг рассмеялся.
— Э-э-э! — Саша недоумевал. — Если ты умрешь первым, я привезу тебя сюда, понял? Аренда?! Не-ее! Нам нужен вечный покой! Вечный! И я позабочусь, чтоб с надгробия ты на всех смотрел с бодрым прищуром. Мы будем с тобой тусить и после. Куда б ни попали!
Геворг попытался сдержать подступающий к зубам смех и взглянул на соседний крест, с него улыбалась бабуля в платке и с веткой сирени.
— Выходит, наша баба Зина и в раю баб Зина! — Геворг помнил тот день, как ломал букет в школьном саду и как потом удирал во все лопатки от разгневанного трудовика. Это был бабзинин юбилей. Что-то кольнуло. Геворг снял обсыпанную репейником перчатку — из пальца высовывался едва заметный хвостик занозы.
Саша убрал кисти, тряпки, банки, склянки в пакет и что-то искал.
— Блин, спички забыл! У тебя есть?
Геворг расковырял палец до крови и выгрызал занозу зубами. Он что-то прокряхтел и кинул зажигалку.
Саша поставил лампадку и запалил фитилек. Когда огонь разгорелся и затрещал, Саша прикрыл красный стаканчик крышкой:
— Может, мы сегодня на маяк заедем? Не против?
Геворг кивнул. Они перекрестились и молчаливо побрели к калитке.
Саша с Геворгом дружили с детства. С того самого лета, когда дядя Самвел, папа Геворга, срочно погрузил всю семью и одинокую соседку Зину в новые жигули и помчал прочь из Сухуми. С пути они сбились, когда очутились на полуострове, крошечном, но очень живописном. Самвел не умел жить без моря, наверное, поэтому Ростов легко отменился, хоть там их ждали многочисленные родственники и растущая отовсюду армянская диаспора. После лета Геворг пошел в местную поселковую школу и сделался Сашкиным одноклассником и лучшим другом. Стали, как говорится, закадычными. Уроки прогуливали тоже вместе, чаще всего на высоком берегу, бегали туда под старую часовню. Там дед Спартак их и взял на карандаш.
Дед Спартак служил на полуострове маячником, но все местные звали его просто по имени, а за глаза давно повысили до Верховного Смотрителя, потому что в распоряжении у Спартака было сразу два маяка.
Старый маяк, весь потрепанный и видавший еще царя Николая, стоял на самом краю скалистого уступа. Он давно не работал и долгие годы был наглухо похоронен в железное полотно. В начале девяностых проржавелые шрамы распаяли, и маяк воскрес — часовней. Казаки быстро соорудили купол и водрузили небольшой восьмиконечный крест, а поселковые бабки на радостях понесли в часовню припрятанные святыньки. Скоро на стенах висели тяжелые рукописные иконы и простые бумажные, приклеенные на картон из-под виниловых пластинок, и даже похожие на иконы картины, аккуратно завернутые в целлофан. На деревянной тумбе около входа лежали книги и стопки переписанных от руки молитв, и еще несколько импортных брошюр из плотной глянцевой бумаги, сильно цветных и протестантских. В верхнем ящике всегда пахло медом и ладаном, там хранили свечи. Их ставили на подсвечник с песком в центре башенки.
Новый маяк из белого камня был автоматический. Его построили в середине семидесятых высоким и очень монументальным, с суровыми лицами советских солдат на барельефах. Внутри шестидесятиметровой башни вверх плелась крутая винтовая лестница, с двух сторон ее освещали окна, всего восемь ярусов. Железный серпантин вел в капитанскую рубку, так Спартак называл свою маячную комнату, а оттуда можно было попасть в святая святых — фонарный отсек. Он зажигался красным.
Между маяками торчали два обелиска: первый — белоснежный — молчаливым героям с барельефа, другой был выше, из черного мрамора, с именами погибших в авиакатастрофе. О столкновении двух самолетов в небе над морем в местных газетах писали мало, коротко и мелким шрифтом. Самолеты рухнули, их так и не подняли.
Спартак добросовестно заботился о вверенных ему памятниках: бережно очищал их от пыли и налипшего после дождя мусора, снимал тонкие гирлянды паутины и выстригал сорняки. Его дом находился там же, неподалеку от нового маяка. Одноэтажный флигелек с деревянным крыльцом в три ступеньки прятался за пышным забором лохматых кустов фундука.
Виднелся, как на ладони, весь полуостров с этой вершины: справа — разлинованные виноградными рядами склоны, широкие волнистые луга, исчерканные петлями извилистых тропинок, слева — вечнозеленые реликтовые леса, точно густой мох, покрывающие молодые горы Кавказа. А стаи чаек лениво парили в вышине над маяками, кружились над волнами и уносились куда-то, где бескрайние просторы Черного моря неуловимо сливались с небесными.
Никто точно не знал, как и когда Спартак сделался маячником и вообще появился в поселке. Говорили, он проектировал новый маяк и после строительства остался его смотрителем, другие пересказывали разносюжетные сплетни, в которых Спартак служил то в армии, то в морской академии, то на корабле, а потом уволился, в запас или со скандалом. А кто-то помнил его с совсем далеких времен, когда редкие виды растений и животных еще не были редкими, и на полуостров шумными плацкартными вагонами приезжали молодые аспиранты и ученые. Они организовывали исследовательские экспедиции и писали многотомные труды. Некоторые создавали семьи и оставались. Среди них был Сашкин дед, выпускник сельхозинститута, а впоследствии заслуженный винодел, его черно-белый портрет висел на всех районных досках почета. Деда Саша не запомнил, не успел. После развала совхоза почетный дед спился — быстро, некрасиво, вдребезги.
Саше с Геворгом хотелось, чтобы Спартак был их дедом. Но не сразу — поначалу друзья от Спартака шарахались. Все местные старики обычно набивались в маленькую беседку, кое-где увитую плющом и диким виноградом. Они курили, громко стучали в нарды и домино, ругали молодежь, правительство, реже Бога, а околачивающей рядом детворе давали деньги и отправляли в магазин. Со стариками Спартак не сидел и водку не пил. Высокий и бледный, будто иссохшее дерево, ему бы бороду подлиннее — вылитый старец Фура.
Все началось с пачки сигарет. Мальчишки ее зарывали у подножья горы и оставляли секретные пометки: складывали камушки, втыкали палки, считали шаги. Но пачка часто пропадала. В очередной раз, когда тайник оказался пустым, друзья поссорились и, возможно, даже подрались бы, но в тот момент с неба на них посыпались пачки, те, исчезнувшие. Сигареты шлепались на их головы и спины, били по рукам и ногам. Мальчишки тотчас прекратили ругань и посмотрели наверх — оттуда им махал Спартак.
— Эй, бездельники! Хотите что-то спрятать, кладите на самое видное место! Собирайте свои сокровища и поднимайтесь! — громко выкрикнул Спартак, захохотал и скрылся за маяком.
В тот день курить друзья не бросили, но познакомились со странным смотрителем. Со временем смотритель перестал быть странным. Саша с Геворгом быстро привыкли к Спартаку и его пожухлому лицу, к шершавым, как мочалка, рукам и к тому, как все его морщинки и складочки собирались вокруг глаз мятыми веточками укропа, когда Спартак смеялся.
Так и повелось. Пока родители пропадали на своих работах, Саша с Геворгом — на маяке. Дел всем хватало, и Спартак раздавал их щедро: протереть окна, подмести ступеньки, ободранное — покрасить, сломанное — починить, котов, а их уж сколько ютилось во дворе, накормить, ну а после и самим чай пить, с длинными бутербродами и долгими историями.
— А куда вся грязь делась?! Ничего себе, какой асфальт постелили! — Геворг внимательно всматривался в знакомые и совершенно неузнаваемые места.
После аспирантуры он получил грант и улетел в Германию. Берлин сначала шокировал, потом восхищал, затем Геворг свыкся.
— Да, асфальт постелили, — задумчиво повторил Саша.
— А помнишь, как мы в школу в галошах ходили и на ступеньках переобувались. Я тогда ужасно завидовал всем городским, они могли кататься на роликах, — с досадой произнес Геворг, — а мы даже не умели.
— Да! — Саша дернул подбородком. — Там, где НИИ раньше стоял, помнишь, сейчас там отели, вот они и заасфальтировали все, плитку прямо до моря положили. Здесь частного сектора почти уже и нет. Все выкупили! Собираются строить крупный жилой комплекс с апартаментами, бассейнами, парковкой, со всем таким короче. Наташка смотрела их ипотеку — дорого! Да застройщик мутный, вроде до сих пор судится с экологами.
После ординатуры Саша остался работать в Москве. Вернулся, когда заболела мама. Успел. Но после похорон в Москву не тянуло. «А зачем? — отвечал Саша бывшим коллегам, — врачей и клиник в Москве пруд пруди. А тут ни академиков, ни профессоров». Он устроился в скорую, спустя год встретил там Наташку.
Саша сбавил скорость и повернул, на дорожном указателе значилось: «поселок Б. Утес». Он взглянул на Геворга.
— Домой не тянет?
— Домой? — Геворг пожал плечами. — А куда? Родители переехали в Сочи, к сестре, ей через месяц рожать. Туда? Или на нашу съемную квартиру в Москву? Или сюда? Что там, на месте нашего дома? Отель?
— Магазин.
— Что?
— На месте вашего дома магазин, а на месте нашего — ресторан, вполне приличный. Мы там, кстати, свадьбу думали праздновать, но у них бронь на завтра. Потом как-нибудь заедем, их шашлык просто ммм! Почти как у дяди Самвела.
Геворг улыбнулся, и в животе заурчало.
Встать было негде, Саша искал парковку целую вечность. Пришлось Геворга довезти до набережной, а самому ехать на платную автостоянку со шлагбаумом и идеальной разметкой. Когда-то там пел хор кузнечиков, трещали цикады и пахло черешней.
Камни, едва их касалась вода, мерцали и переливались, словно драгоценные. Мелкую гальку и крупные булыжники, и только что отвалившиеся от скалы корявые обломки смывало и выбрасывало, волна за волной, удар за ударом. Геворг скинул кроссовки, скрутил штаны до колен и подошел к воде, но входить не торопился. Он слушал плеск и смотрел туда, где небо, казалось, касается моря. Поселок перестал быть похож на родной, с грунтовыми дорогами и выбеленными саманными домами, где всех котов и собак знали поименно, а в магазине продавалось два вида мороженого. Но море по-прежнему пахло морем, шумело и билось.
Солнце опускалось. Огромные медузы, будто прилипшие перламутровые пельмени, толпились в тени гигантского утеса. К нему Спартак пришвартовывал свою моторную лодку, пока шторм не разбросал ее щепками по берегу. В тот день Спартак погиб. Это был понедельник. Геворг закрасил его черной ручкой в школьном дневнике, а потом разорвал страницу.
— Эй, сюда! Скорее! — Саша кричал сверху.
— Ты где был? Я тебя потерял! — Геворг наскоро обулся и направился к склону.
— Давай быстрее!
— Что случилось? Ты чего орешь? — Геворг пыхтел и жадно глотал воздух после каждого вопроса.
Саша хватался руками за голову, его лицо пульсировало.
— Серьезно! Что случилось? Не пугай, брат!
— Я кое-что нашел! Смотри! — Саша обеими руками показывал на обелиск. — Читай! Под номером сорок два и сорок три.
Геворг подошел к торчащему черному обелиску, на нем прозрачно-белым были выгравированы дата авиакатастрофы, номера рейсов и списки пассажиров. Геворг тысячу раз здесь был и столько же раз видел эту надпись, но никогда не вчитывался в имена. Он уставился на строчки, те, что указал Саша.
№ 42. Железняк Светлана Федоровна.
Ниже:
№ 43. Железняк Елена Спартаковна.
Рецензия 1. В. Пустовая
«Получился интригующий и трогательный рассказ, особенно волнующий благодаря изображенному движению времени. В рассказе не просто сопоставляется настоящий момент и детское прошлое — в нем есть движение глубже назад, ко времени переезда семьи одного из героев, к истоку тайны смотрителя. Рассказ трогает тем, что открывает за настоящим эти пласты времени, памяти, создавая ощущение, что, с одной стороны, память увековечена: в могилах, в обелиске, — а с другой, теряется, потому что уходят предметные свидетельства прошлого, и даже родной поселок не узнать.
У рассказа живое начало и острый, резко обрывающийся на раскрытии тайны финал. Это удачно. Живое начало обеспечено репликой, которая играет с нашим восприятием: не сразу проступает понимание, о чем на самом деле речь. Разговор друзей о смерти завязывается сам собой и настраивает на элегический лад. Вполне естественно совершается и переход к истории Спартака, детству героев. Точная деталь — черной ручкой закрашенный образ погибшего Спартака. В рассказе хороши подробности. Например, описание, как обжили под церковь маяк. Яркое знакомство смотрителя с мальчишками — сыплющиеся пачки сигарет так и застревают в воображении читателя.
Поработать в рассказе предложила бы над местами ощутимым авторским давлением на чувства читателя. Проступает умиление прошлым, старым смотрителем. В принципе это не то чтобы страшно. И все же такой напор делает рассказ жестковатым, однозначным, лишает его легкости, а читателя — свободы чувств.
Также есть места, которые вызывают некоторое недоверие. И немного избыточные описания, на мой вкус. «Геворг попытался сдержать подступающий к зубам смех» — тут не понятно, почему он смеется. Образа Спартака еще нет. Но даже когда он проступит, смех остается непонятен. Тем более что дальше оба героя всерьез уходят в обсуждение посмертной памяти и поэтому не кажутся легкомысленными. «Пот стекал по вискам, с лица и шеи, футболка прилипала к спине большими мокрыми пятнами. Геворг изо всех сил сражался с зарослями дремучего бурьяна и одолел его почти весь. Осталась мелкая щетинистая поросль в трещинках обветшалой плитки». Тут мы слишком застреваем на образе вспотевшего героя и над описанием зарослей. На мой вкус, так смещается напряжение: с настроения героев — вовне, на поросль и пот. Я бы предложила оставить только второе предложение из трех. «Стали, как говорится, закадычными. Водой не разлить ни в школе, ни после.» — эти предложения мне тоже кажутся избыточными, и без них уже все ясно. «Их ставили на шатающийся подсвечник в центре башни, так что под его ножки приходилось то и дело что-то подкладывать», — тут вызывает сомнение слово «башня». Вы описываете мелкие детали внутри церкви — и вдруг башня. Трудно переключиться и сразу представить, что мы внутри маяка. И ножки далеко от подсвечника в этой фразе. Думаю, стоит «в центре башни» убрать. «О столкновении двух самолетов в небе над морем в местных газетах писали мало, коротко и мелким шрифтом. Самолеты рухнули, их так и не подняли. Хозпостройки и теплый флигелек Спартака прятались за пышной живой изгородью из лохматых кустов фундука. Виднелся, как на ладони, весь полуостров с этой вершины: справа — покрытые виноградниками склоны, нарядные сады и цветущие парки, причудливо разрисованные петлями тропинок, слева — вечнозеленые реликтовые леса и самое начало Кавказского хребта. И повсюду — бескрайние просторы Черного моря». В принципе удачно, что о самолетах говорится вскользь. Вы не напираете на этот факт, внимание читателя уводите дальше — чтобы резче оглушить финалом: окажется, что в самолетах-то все и дело. В то же время само соседство «самолеты рухнули» и «теплого фитилька» с «пышной изгородью», а ниже — «нарядных садов и цветущих парков» — выглядит не совсем ловко. Факт о самолетах настолько впечатляет, что после него следить за обобщенно описанными «нарядными» садами, «причудливыми» тропинками и «вечнозелеными» лесами не очень хочется. С другой стороны, вы совершенно точно уловили тут, что нужна отвлекающая пауза между фактом о самолетах и рассказом о прошлом Спартака — иначе возникает намек на связь между самолетами и Спартаком и риск слишком поспешного раскрытия интриги. Хотела бы предложить сделать эту паузу не такой, что ли, совсем отвлеченной и неопределенной. Насытить ее каким-то более детальным и значимым описанием. Сейчас остается ощущение, что нам что-то описали — а мы это не увидели. Слишком общие эти описания. И мало цепляющие. Может быть, стоит сюда переместить какой-то другой фрагмент или написать о пространстве вокруг маяка иначе, более определенно, выразительно. «как все морщинки и складочки собирались вокруг глаз мятыми лучиками, когда Спартак смеялся так беззаботно и искренне, как умеют смеяться только дети, когда пачкаются мороженым или сладкой ватой в парке аттракционов». Морщинки-лучики — штамп. И в целом чувствуется напор: Спартак подсвечен как образ умиляющий, добрый. Но у читателя нет возможности проникнуться этим умилением — оно навязано ему как нагрузка образа. Мне кажется, лучше убрать этот фрагмент. «Потом как-нибудь заедем, их шашлык просто ммм! Почти как у дяди Самвела» — в этом сопоставлении шашлыков тоже давление: идеализация прошлого через образ шашлыка из прошлого. Звучит, на мой вкус, нарочито. «Раньше здесь рождалась весна» — то же: слишком видно, как автор хочет внушить умиление прошлым — и отторгнуть настоящее. «яркими ослепляющими искорками» — чтобы снизить сентиментальный напор, предложила бы не использовать уменьшительную форму «искорки». «где всех котов и собак знали поименно, а в магазине продавалось два вида мороженого.» — тоже нарочито. «Вон бедных чаек распугал!» — реплика кажется искусственной, с чего бы он так ворчал и заботился о чайках. Хорошо бы передать его неохоту подниматься иначе.
Рецензия писателя Екатерины Федорчук
«В целом мне понравился текст. Он написан плотным письмом, с вниманием к художественным деталям, качественно, я бы сказала, добросовестно. Очень хороший язык, в котором чувствуется поэзия момента с одной стороны, а с другой, стиль повествования адекватен художественной задаче, которую ставит перед собой автор. Насколько я понимаю, она заключается в поэтизации определенного отрезка прошлого двух героев с нелегкой судьбой, времени, которое стало для чем-то наподобие «места силы». Времени силы…
Отмечу как самые удачные моменты: разговор друзей на кладбище, конечно, великолепный отрывок, связанный с судьбой маяков! Очень сильный потенциал в истории Геворга. Вообще при желании можно увидеть известную параллель между двумя маяками с разной судьбой и двумя друзьями с разным прошлым, но таким похожим будущим.
В тексте есть несколько центральных образов: кладбище, маяки, Спартак, Геворг и его трагическое прошлое. Их… как бы сказать… слишком много для небольшого текста, поэтому некоторые моменты, например, дружба мальчиков и Спартака, написаны бледнее, чем хотелось бы. Вот если бы весь рассказ был посвящен этой дружбе, тогда стало бы яснее, почему этот человек дорог мальчикам. Но рассказ не о Спартаке. Он о кладбище, маяках, и много еще о чем…
Впрочем, я думаю, что этот недочет текста является продолжением его достоинства — богатой задумки, обилия материала и жизненных впечатлений, которые требуют крупной формы. Открытый финал только усиливает это впечатление.»

Волны
1
Познакомились мы с Зоей несколько месяцев назад, когда я пришла к ней со своими кудрями. Вы не поверите, как мало парикмахеров умеют работать с волнистыми волосами: всё норовят их выпрямить или, еще хуже, сначала выпрямить, а потом накрутить на плойку. Но я люблю естественность. Как оказалось, Зоя тоже.
Зоя все делала медленно, как будто весила она в три раза больше, чем казалось, и тело просто не позволяло ей двигаться быстрее. Она редко смотрела мне в глаза, поэтому пока Зоя работала, я, не стесняясь, разглядывала ее в зеркало. Удивительно, но ее лицо никогда не меняло выражения: на нем застыла гримаса с чуть сдвинутыми бровями, как бывает у людей, которые мучаются мигренью. Может быть, поэтому в салоне никогда не играла музыка.
В отличие от других мастеров, которые пахнут перекисью и шампунем, от Зои пахло сандалом. На почве сандала мы и сошлись. Она немногословно, но охотно рассказала мне о своем увлечении травами и эфирными маслами.
— Это называется аюрведа, — пояснила Зоя.
— А я знаю. Я веду йогу и часто бываю в Индии. Ты когда-нибудь была в Индии?
Зоя замолчала и посмотрела мимо меня матовыми глазами. Я решила больше не докучать, поблагодарила за прием и пригласила ее на свое занятие. Бесплатно, просто чтобы снять напряжение и помочь телу восстановиться. Как-никак, а при такой профессии за телом нужен особый уход. Впрочем, я не верила, что Зоя придет.
Но Зоя пришла, с ковриком из пробки и в темно-лиловом комплекте с изображением лотоса на спине. Я молча сложила руки в намасте и слегка наклонилась. Она ответила тем же жестом, потом, как всегда медленно, пересекла зал и расположилась в самом дальнем углу. Людей было совсем немного: Лина, которая занимается со мной с самого начала, Вера — соседка по гаражу, и мой свекор, который со скуки начал помогать мне с маркетингом студии, да так и втянулся. Группа была слаженной, с хорошей энергетикой. Как раз то, что надо для Зои. Я представила ее как гуру кудрей и предложила ей подвинуться поближе, но, сидя в позе лотоса, Зоя улыбнулась кончиками губ, покачала головой и закрыла глаза.
Честно говоря, я обрадовалась тому, что она не новичок — с новичками никогда не знаешь, как пройдет пробный урок: некоторые начинают стонать, другие громко охать и жаловаться, а третьи так резко входят в асаны, что умудряются заработать растяжение или даже вывих. Несмотря на то что во время занятия я называла все асаны на санскрите, Зоя плавно следовала моим указаниям, не размыкая глаз. И равновесие, и гибкость у нее были хорошими, казалось даже, что все в ней расслабилось. Все, кроме складки на переносице.
Перед началом медитации я вспомнила, что музыка в салоне никогда не играет, и решила поставить звуки природы. Пусть будет океан, кто не любит шума набегающих волн? Я попросила учеников лечь в шавасану, сконцентрировать внимание на всех семи чакрах сразу и дышать глубоко. Потом я уселась поудобней и нажала плей. Комнату накрыл шум прибоя. Мне показалось, что тело Зои вздрогнуло. Должно быть, мышцы начали расслабляться. Но тут я увидела, как все лицо ее съежилось, а когда набежала новая волна, из самой глубины ее тела вырвался истошный вопль. Она распахнула глаза и, хватаясь руками за невидимые препятствия перед собой, в ужасе кричала. Решив, что у нее эпилептический припадок, я подбежала и постаралась зафиксировать ее голову. Осторожно приподняв ее затылок, я поняла, что никогда раньше не прикасалась к ней. Все-таки странные у нас отношения с парикмахерами: они нашу голову все время трогают, а мы их никогда. Завитки ее коротких волос оказались неожиданно мягкими, а голова под ними — совсем маленькой, точно как у ребенка.
Справа подскочил свекор и начал что-то быстро говорить мне прямо на ухо. Только когда он повторил фразу несколько раз, я поняла: «Колонка! Она показывает на колонку».
2
У меня вот-вот должно было начаться следующее занятие, поэтому пришлось оставить Зою на свекра. Аккуратно поддерживая ее за локти, он помог ей встать и, приобняв, вывел Зою в комнату для отдыха. К моему удивлению, она не сопротивлялась. Теперь она больше походила на подростка, который с обреченным взглядом покорно следовал за взрослым. Сквозь стеклянную стену я видела, как свекор усадил ее в кресло, спиной ко мне, а сам сел напротив. Я старалась делать как можно больше асан стоя, чтобы лучше разглядеть происходящее в соседней комнате. Голова Зои слегка покачивалась, а свекор смотрел на нее молча, с участием. Было совершенно непонятно, то ли она рассказывает ему что-то, то ли продолжает всхлипывать. Я нехотя согнулась в утаннасане, а когда снова, выпрямилась ни Зои, ни свекра уже не было. Недолго думая, я включила музыку для медитации и бесшумно вышла из зала. Свекра в студии не оказалось.
Пока ученики сворачивали коврики, я раскрыла окошко ватсапа и написала: «Вы еще с ней? Что случилось?» В ответ на меня смотрела одинокая галочка — свекор даже не получил мое сообщение. Они ушли вместе? Куда? Я зажгла сандаловую палочку, поводила ею по пространству комнаты и закрепила ее в подставке перед танцующим Натараджем. Потом я проверила расписание — следующее занятие только после обеда. Комната наполнилась древесно-сладким ароматом, я уселась в кресло и, поджав ноги, нырнула в бездну интернета.
Насколько я помнила, личного аккаунта в Инстаграме у Зои не было, только тот, который она вела для салона. Отыскав аккаунт «Курчавки», я внимательно просмотрела шапку профиля: мастер-Зоя, кудри, натуральные продукты, адрес и телефон салона. Фамилии нет. Я прокрутила ленту сообщений, все посты по делу: примеры стрижек и ароматических смесей, ну никакой личной информации. Как я ни вертела слова в строке поиска, Гугл и Яндекс сообща отсылали меня обратно в Инстаграм салона. Но я не сдавалась. В наше время людей без цифрового следа в интернете не существует. Нужно только подобрать правильные слова и платформу. Я оторвалась от телефона и посмотрела по сторонам. С полки на меня отстраненно смотрел Натарадж, его правая рука как будто показывала «успокойся, остановись и посмотри в себя». Весь мир вокруг него горел в огненном кольце, а он твердо стоял на одной ноге и крутил свой барабан. Откинувшись на спинку кресла, я закрыла глаза и представила атмосферу Зоиного салона: теплый янтарный свет, мягкий диванчик у входа и круглая стойка, за которой на стенде висели флаеры и рамочка с информацией о салоне. Мне казалось, что я даже видела строку с ее полным именем, но буквы сливались. Как жаль, что мысленно изображение нельзя зазумить.
Хлопнула дверь, и в студию зашел свекор с большой коробкой.
— И? — многозначительно протянула я.
— Забрал новые брошюры, по-моему, ничего получились. — Он раскрыл коробку и протянул мне рекламные проспекты собственного дизайна.
Я взяла пестрые брошюры и, не глядя на них, спросила его о Зое.
— Ленуся, некоторые вещи не обязательно знать. — Он отвернулся к коробке.
— Я просто хочу посопереживать, — возразила я.
— А что тебе мешает сопереживать ей просто так?
— Ну, может, я как-то лучше смогу ей помочь, если буду знать, что именно случилось…
— Откуда вдруг такой рационализм? Чему там йога учит?
Говорить со свекром было бесполезно, он переиначивал все мои доводы и уводил разговор в абстрактную философию. Обычно меня именно это в нем и притягивало, мы формировали с ним философский кружок во время семейных сборищ и закрывались им, как панцирем, от навязчивых советов родственников. Никак не ожидала, что он использует этот панцирь против меня, особенно в такой момент.
3
Прошла неделя интенсивного цифрового поиска, прежде чем я сдалась и решилась поговорить с Зоей напрямую. Мне было неловко, но в то же время случившееся сблизило нас, и теперь я чувствовала некоторую причастность или даже ответственность. На мое появление без записи Зоя никак не отреагировала и вела себя как всегда, как будто никакого занятия йогой и панической атаки не было. Она лишь слегка приподняла бровь, когда я показала на волосы и сказала, что нужно подравнять форму. В тот день мои волосы лежали предательски хорошо, поэтому она спросила:
— Может, просто чая?
Я согласилась, и мы уселись на диванчике у входа. Пока Зоя молча заваривала чай из туласи, я озиралась по сторонам. Вот она, стойка, не круглая, а самая обычная, прямоугольная, вот он стенд, но информации о салоне на нем нет.
Разлив чай, Зоя как-то слишком прямо и слишком официально извинилась за то, что произошло во время занятия. Такое извинение нельзя было ни развить, ни прокомментировать, только принять. Потом она взяла чашку обеими руками, глубоко вдохнула аромат чая и добавила:
— Надеюсь, я не всех клиентов тебе распугала.
Я покачала головой:
— Они у меня матерые, проверенные временем.
— Да уж.
Мы замолчали. Я знала, что настал тот самый момент, когда можно спросить, но почему-то медлила. Она отпила чая, посмотрела на мозаичный столик между нами, а затем перевела глаза прямо на меня. Ее взгляд был спокойным, но усталым. Поерзав на диване, я похвалила ее равновесие и сказала, что она хорошо владеет своим телом. Зоя посмотрела в окно и задумчиво проговорила:
— Твой свекор — огонь, это он мне чай из туласи дал. Кстати, знаешь историю о Туласи?
Я покачала головой, и она рассказала мне легенду о кустарнике, без листьев которого не обходится ни один ритуал в индуизме. Это был первый раз, когда я слышала от нее такой длинный и связный рассказ. Запинаясь вначале, как будто в поисках подходящей тональности, ее голос наполнялся интонациями, креп, и вот она уже жестикулировала и осуждающе качала головой. Брови двигались, следуя ритму повествования, и когда Зоя замолчала, я поняла, что хочу слушать ее дальше.
— Приходи на следующее занятие. И я, и свекор будем очень рады тебя видеть.
Зоя улыбнулась, огонек мифических страстей еще не погас в ее глазах. Свекор, конечно, был прав, совершенно необязательно все знать. Что только на меня нашло? Мне стало стыдно за свое упорство, потому что в его основе не лежало ничего, кроме любопытства. Я попрощалась, встала и, повернувшись, чтобы взять сумочку, увидела на стене за диваном распечатку с информацией о салоне. Мои глаза почти против воли выхватили строчку с именем владельца: Зоя Львовна Краснова.
4
Понимая, что поиски по такой фамилии будут долгими, я решила не гуглить на ходу. Кроме того, я боялась передумать да так и не узнать правду. Напротив салона была кофейня, туда я и пошла. Йога йогой, но ничто не обостряет внимание лучше эспрессо, особенно двойного.
Для Фейсбука отчество оказалось бесполезным, сочетание ее имени с названием салона — тоже. Скрестив ноги в падмасане, я прикрыла колени скатертью и принялась рассматривать Зою Краснову за Зоей Красновой. Блондинки и брюнетки, пожилые дамы и совсем девочки, из Ставрополя и из Мельбурна. Клик, скролл, клик назад. Где-то на третьем десятке я уже собиралась кликнуть назад, как сквозь лицо, обрамленное синими волосами, проступили знакомые черты.
Аккаунт Зои был заброшен: на главной странице чередующиеся год за годом поздравления с днем рождения от одних и тех же пользователей. В разделе с фотографиями несколько альбомов: «Воркшопы», «Свадьба» и «Индия». Вот оно! Я торжествующе оглянулась в поисках поощрительного взгляда, но официанты скучающе глядели в окно, а посетили так же, как и я, бороздили просторы интернета.
Открыв папку «Свадьба», я познакомилась с Зоиным мужем. Непонятно даже, русский или нет, настоящий Кришна: острый прямой нос, густые волнистые волосы и такие темные, полные магнетизма глаза. Молодожены позировали для стандартного фото, а я прямо слышала, как фотограф умолял Зою не мигая смотреть в объектив, расслабить губы и чуть склонить голову в сторону мужа. Все тщетно. Совсем другое дело следующая фотография: Зоя хохочет, разинув рот, и двумя руками взъерошивает кудри мужа. Он смотрит на нее так, как будто в его жизни уже все свершилось. Что же дальше? Дальше альбом «Индия». В нем оказалась всего одна фотография: вид пляжа Кудли на закате. Красиво, но непонятно.
Я вернулась в «Свадьбу» и поискала имя мужа. Фотографии помечены не были, но в одном из комментариев через сердечко от Зои Красновой упоминался Дмитрий Зуев. Кликнув на его имя, я попала на страницу мужа. Она тоже была заброшена с 2018 года. Поженились и забросили соцсети. Я нажала на значок лупы и ввела: Дмитрий Зуев. Передо мной выпрыгнула крупная черно-белая фотография Дмитрия. Он смотрел куда-то в сторону и загадочно улыбался. Под фотографией было сообщение о том, что Дмитрий трагически погиб на побережье Карнатаки, чуть южнее Гоа. В море было сильное подводное течение, и он не справился с волнами.
Я допила кофе, которого уже не было в чашке, и уставилась в окно. Голова была мутная. В ушах шумели волны. Изображение расплывалось. Сфокусировав взгляд, я увидела серую тень через дорогу. Она махала рукой. Мне махала. Это была Зоя. Я почувствовала, как у меня загорелись уши, и мне захотелось отвести глаза. Поняв, что я ее заметила, Зоя сложила руки в намасте, а ее губы по слогам проговорили «спасибо».
Комментарий писателя Романа Сенчина:
«И история — драматичная, жизненная, — есть, и описать ее получилось почти отлично. По сюжету всё хорошо, есть интрига, есть развязка, есть приметы времени — действительно, судьбу почти каждого человека можно найти в соцсетях.»
Рецензия критика Валерии Пустовой:
«Несмотря на трагическую развязку, рассказ подарил чувство уюта, умиротворения. Мне кажется это главным и редким его достоинством: фокус рассказа смещен с развязки, разоблачения, рассказ держит не интригой, а самой атмосферой. Автор показывает и людей, и обстановку в мелких точных деталях. Волнение героини выражено через действия ее как инструктора по йоге. Горе Зои — в ее странностях как парикмахера. Все можно наблюдать, пощупать, рассмотреть. Даже серч героини кажется предметным — очень живо представляется и поиск, и найденная страница из прошлого Зои. Удачно подогревает интригу образ свёкра — человека, постороннего Зое, но прикоснувшегося к ее тайне раньше героини. Этот образ как ещё один замок на тайне — и тем сильнее хочется тайну открыть. Очень естественно введены условия для паники Зои. Героиня хочет ей понравиться и включает то, что считает соответствующим вкусу Зои.
Есть и юмористическая подсветка в рассказе. И она добавляет обаяния и уюта. Как поступают с кудрями парикмахеры, как занимаются йогой новички, как героиня оглядывается в поисках одобрения, когда находит Зою в сети, как героиня лукавит насчёт прически, явившись к Зое поговорить, и Зоя это видит. У меня нет стилистических замечаний к рассказу. Автор пишет ясно и плотно, притом живо. Хочется следовать за этим лёгким, но внимательным к мелочам повествованием.
Единственный минус рассказа — та самая интрига. Пожалуй, она предсказуема и несколько поэтому банальна. Уже на реплике-вопросе, была ли Зоя в Индии, начинаешь что-то подозревать. Паника при звуках океана усиливает подозрения. Ну и едва появляются кольцо на цепочке и альбомы в сети, все становится ясно. Гибель молодого супруга — довольно распространенная «тайна» персонажей. Есть какие-то такие типичные, к сожалению, трагедии, которые авторы предпочитают использовать, чтобы придать персонажу таинственности и трагичности. И это не вызывает уже отклика в читателе. Я бы предложила подумать, как ещё развязать сюжет. Что, если не идти в сильные, предельные переживания? Не паника — а суета, растерянность, бегство. Не гибель мужа — а, скажем, его нелепый уход в практики, разлука из-за когда-то модной увлечённости Индией? Такая нота комизма в печали. Автору стоит поискать новое решение — мне кажется, рассказ этого стоит и от этого только выиграет.»

Гадюка
Пожалуй, мне повезло. Команда выплюнула меня за полтора года до того, как сама вывалилась из турнирных сеток. Пока девчонки голыми руками ловили осколки прежней жизни, я уже вовсю делала вид, что живу новую. Казалось, на тот стихийный девичник меня и позвали не столько по старой памяти, сколько в доказательство: за пределами зала тоже есть жизнь. А я согласилась. Потому что был уговор: без тренеров, ни одного мяча, никаких неудобных вопросов. Мама, сразу почуявшая мой настрой, до последнего отговаривала от поездки. Поводы были разной степени нелепости, от неудачного гороскопа до срочной помощи по даче, но больше всего меня раздражал бесконечный спам от неё со статьями об аномальном количестве клещей и гадюк в Подмосковье. Мол, изменения климата или что-то в этом духе, случаи змеиных укусов даже на дачных участках, сто рецептов из подорожника на любой чих. Я понимала: на самом деле она боится, что одни выходные сведут к нулю почти год тяжелой терапии, но ввязалась в её игру и вяло отбрыкивалась обещаниями не лезть в кусты, ссылками на Википедию (гадюки, оказывается, нападают только в крайнем случае) и воззваниями к здравому смыслу — ни один уважающий себя источник ни о чём подобном не писал. Но разве это когда-то работало?
Конечно, организатором и вдохновителем была Вика, теперешний капитан команды. Она нашла какой-то арендный загородный дом с небольшой территорией, беседкой и мангалом. На фотках дом был шикарный, а по факту оказался довольно потрёпанным и пропахшим сыростью, что, впрочем, никого не смутило. Из команды поехали семеро плюс я. Две машины, четыре спальни, один дом. Рядом пруд и лес. Позади тягучая ледяная весна, впереди — неизвестность новорождённого лета.
Выезжали в субботу днём. Сославшись на то, что Танька всё делает как в последний раз, а потому, конечно, бесценный игрок, но ужасный водитель, я забралась на заднее сиденье Викиной машины и всю дорогу пялилась на неё в прямоугольник зеркала заднего вида. Периодически мы встречались взглядами. Мчали по трассе и горланили все подряд песни на радио. Фантомное чувство принадлежности к большому, отлаженному до последней шестерёнки механизму накрывало меня сладкой, слегка болезненной эйфорией. Правда была в том, что полтора года назад механизм пересобрали, заменив изношенные и поломанные детали. Такой деталью была я. Слева сидела тихая и деликатная Оля, сменившая меня в зале и за его пределами. Они с Викой договорились жить вместе. Мне в пару досталась добродушная весёлая Катя, сидевшая впереди и потому отвечавшая за выбор музыки. Она же чаще всего навещала меня тогда, в больнице. Честно говоря, они все ко мне приезжали. И сразу после травмы, и потом, когда стало понятно, что в зал я не вернусь. Все, кроме моей лучшей подруги Вики. А она вела себя так, будто вчера виделись.
Мы только парковались у нужного дома, Танька уже выгружала из багажника ящик белого вина. К вечеру оказалось, что ящика два. Когда стемнело, уже не первый нелепый стаканчик размок и размяк в моей руке, а вино стало отчётливо отдавать картоном. После ужина мы расселись вокруг мангала и снова разожгли костёр. Где-то неподалёку горланил хор лягушек. Пахло дымом, влагой и свежей травой. Болтовня постепенно сошла на нет. Я перебирала взглядом обезличенные темнотой фигурки в одинаковых спортивных куртках, их огромные тени, синхронно подёргивающиеся от движения пламени. То ли ночь, то ли выпитое бумажное вино вперемешку с буйной фантазией, но на секунду мне померещилось, что все они сливаются в единое многоногое нечто. Это нечто уставилось на меня десятком бликующих глаз, затаилось и жадно впитывало остатки огненного тепла, выжидая момент для броска. Ещё немного, и я бы, наверное, заорала, но Оля встала и, сославшись на холод, пошла в сторону дома. Видение рассыпалось. Остатки вина я выплеснула в траву, а стакан отставила подальше.
— Са-а-аш. Вот скажи, Саш. Ты счастлива? — Танька всё-таки напилась, и её понесло.
— Щебетала весь день про свой универ, семинары, друзей — всё новое. Свободная жизнь без указки и жесткого режима. Скажи, признайся, это всё чушь собачья?
Пока я решала, стоит ли отвечать, Вика медленно повернула голову в сторону Таньки. Она тут же поникла. Остальные сразу зашевелились, засуетились и как по команде разошлись. Вышло странно. Одна я долго ещё сидела у мангала, закутавшись в свою старую куртку, такую же, как у них.
Утром Вика решила сагитировать всех на прогулку в лес. Тропинка к нему начиналась в нескольких метрах от участка и была явно хоженая. Энтузиастов, на удивление, не нашлось, и я решила, что лучшей возможности уже не будет. Пока искала в сумке носки и кепку (всё-таки дурацкие статьи про клещей впечатлили), Оля как будто поджидала меня на веранде.
— Саш, может, не пойдёшь? — Она говорила вкрадчиво, почти шепотом.
— Почему это? Погода отличная. И мы ненадолго, не парься.
— Дождь обещали. Останься. — Она дотянулась до меня кончиками пальцев. Я отдёрнула руку.
— Не верь всему, что обещали, — фыркнула, доставая из кармана солнечные очки. — Кстати, у тебя руки ледяные, тебе бы на солнышке погреться.
Оля пожала плечами и ушла на улицу, где все, кроме спавшей ещё Таньки, устроились загорать прямо на газоне. Украдкой я всё-таки открыла прогноз погоды. Про дождь там ничего не было.
Когда я вышла из дома полностью одетая, с рюкзаком и в кепке, Вика встала с газона, натянула футболку на черный спортивный топ и пропустила меня к калитке.
— Смотрите, сегодня с нами опытный лесник! После вас!
Девчонки заржали. Только Оля смотрела на меня в упор и даже не улыбнулась. Меня позабавила и слегка удивила её озабоченность. Что может изменить один запоздалый разговор?
Шли молча. Сначала я никак не решалась задать вопрос, который крутила в голове месяцами. Наверное, как всегда, ждала Викину подачу. Чем дальше мы уходили, тем проще было отвлечься. Забавно, что шли мы синхронно. Тугая Викина косичка раскачивалась из стороны в сторону в такт каждому шагу, задорно прихлопывая по спине. Моё банальное бунтарское каре уже порядком отросло, и волосы шуршали о ветровку, обманывая слух: это я или это кто-то в траве? В кустах? За деревом? Там и тут солнце высвечивало фрагменты ниточек паутины, будто подвешенные в воздухе. Ветер играл лапами ёлок и остриями кленовых листьев. Птичье многоголосье сопровождало нас, но я умела определять только пение соловья. План был простой: не сворачивать с основной тропы. Вика никогда не любила проторенные тропы и тривиальные планы, а я просто шла, наслаждаясь ролью беспечной ведомой. Спустя минут тридцать мы свернули сначала налево, потом, кажется, направо. Ещё несколько развилок, и я перестала понимать, где мы.
— Вик, мы заблудились.
— Не заблудились. Нашли альтернативный маршрут. — Она остановилась и повернулась ко мне лицом.
— Ты уверена, что помнишь дорогу обратно? Кажется, я вообще не ориентируюсь.
— Лесник из тебя так себе, Саня. Возвращаемся? — Улыбка обнажила мелкие жемчужинки её зубов. Не дожидаясь ответа, Вика пошла в обратном направлении. Я следовала уже не так бодро. Тупая боль просыпалась в травмированном колене — пока слабая, но это был вопрос времени. Мы скоро вернёмся в дом. С каждым шагом в голове стучало: больше тянуть нельзя. Больше. Тянуть. Нельзя. Но я тянула.
На очередной развилке Вика остановилась и задумалась.
— Не помнишь, куда здесь?
— Говорю же, мы потерялись. Вик, у меня колено опять. Надо домой. Может, позвонить девчонкам?
— Спокойно. Кажется, нам сюда. — Она махнула рукой в сторону одной из тропинок. — Хочешь, сгоняю посмотреть и вернусь? Садись пока.
Я уселась под ближайшее дерево, вытянув левую ногу и привалившись спиной к стволу. Вика ушла. Привычка везде таскать с собой воду и обезболивающее в очередной раз оправдалась. Блистер смачно хрустнул и выпустил мне на ладонь две таблетки. Осталось ждать и надеяться, что этого хватит. Решив, что пора заканчивать игру в следопытов, я достала смартфон и проверила, загрузятся ли Яндекс.Карты. Мобильного интернета не было, но связь была, позвонить можно. Какой идиоткой надо быть, чтобы опять ей довериться, даже в мелочи? Задрав штанину до бедра, я стала постукивать и массировать то ниже, то выше колена. Это никогда не помогало, но здорово отвлекало. Небо быстро затягивало густой серой ватой. Ветер порывами пробегал по верхушкам деревьев, приводя лес в гулкое движение. Птицы, наоборот, затихли. «Оля, блин, накаркала. Теперь точно ливанёт!» — Колено заныло сильнее, предчувствуя дождь, и мне хотелось назначить виновного. Вика не возвращалась.
— Давай, кинь меня ещё и здесь! — крикнула я в никуда. Это всё боль и злость. Это пройдёт. — Ну почему ты со мной так, почемууу? — Тот самый вопрос обрёл наконец свой голос. Поздно? Последнее «му» перебил шорох травы. Нет, это где-то правее. Теперь слева. Я вертела головой из стороны в сторону, но источник звука всё время ускользал. Догадалась, что это мои же волосы трутся о ветровку. Испуганная дура, надо просто замереть. И правда, стоило перестать дёргаться — стихло. Только пульс уже отстукивал где-то в ушах. Успокоить дыхание, позвонить Кате или Оле, пусть вытаскивают меня отсюда как хотят. Далеко мы уйти не успели, скорее всего, плутали где-то рядом с основной тропой. Шорох раздался опять, прямо за моей спиной. Я дёрнулась и вскочила, и в тот же момент острая боль обожгла левую щиколотку. Змея тонкой ленточкой быстро уползала в ближайшие кусты.
— Тварь! — заорала я и швырнула смартфон вдогонку. Похоже, даже попала: из кустов донеслось шипение, а потом наступила тишина. Лезть проверять было стрёмно, но теперь помощь нужна без вариантов. Что там писали в чёртовой Википедии? Я рухнула на землю и схватила рюкзак. Взвизгнула молния, рука шарила по дну: бутылка, пачка таблеток, салфетки, замызганная одноразовая маска. Кожа вокруг двух крошечных дырочек на ноге горела. Если завязать маску выше укуса, сойдёт? Затянула потуже, но резинки стали отрываться от мятой голубой полоски, пришлось отодрать их окончательно и связать между собой. За этим занятием меня и застала Вика.
— Эта гадина меня укусила! Где тебя носило?
— Думаешь, это поможет? — спросила она, растягивая слова и указывая пальцем на мою импровизированную повязку.
— Пофиг. Я швырнула в неё айфон, надо достать. Только не руками. Палкой, что ли, попробовать?
Вика медленно двинулась к тем самым кустам, наклонилась и подняла мой смартфон.
— Саша — меткость наша! — Старая кричалка прозвучала издевательски. — Вообще это больно. Но скоро отпустит. Местные гадюки не так опасны. Не ссы.
— Откуда ты знаешь? — Я затянула последний узел на ноге и уставилась на Вику. Казалось, что у меня поехала крыша. В голову лезла какая-то шизофреническая дичь. Вика не могла видеть мой бросок. Её здесь не было. По спине побежала струйка ледяного пота, сердце колотилось бешено.
— Пошли. Здесь совсем близко. Минут шестнадцать, не большше. — Вика встала надо мной, склонив голову набок. Её протянутая рука так и зависла в воздухе. Губы медленно растянулись в улыбке.
— А хочешь, мы будем ползти? — прошептала она и захихикала. Меня вырвало. Пошёл дождь.
***
Вколов антидот, врач рекомендовал пропить курс успокоительного и прекратить шариться по кустам, изображая из себя змеелова. По его версии, мой препарат в сочетании с ядом выдал усиленную реакцию. Галлюцинации и паника — бонусом. Вику эта версия вполне устроила: она не признала, что в лесу повела себя как-то не так. Впрочем, она также отказалась признать, что избегала меня больше года. С тех пор мы больше не встречались и вряд ли встретимся снова. Иногда я вижу её во сне, тихо смеющуюся, нависшую надо мной в оглохшем мокром лесу.
Пора признать: прежней жизни у меня уже никогда не будет. Я двигаюсь дальше, осталось не завалить ближайшую сессию. Иногда переписываемся с девчонками, но это больше похоже на проверку связи: «Вы всё ещё здесь?» — «Да, мы здесь. Мы не исчезли, мы разбрелись кто куда». Кто-то подался в тренерство, кто-то остался в команде, некоторые ушли не оглядываясь. Танька вообще решила открыть свою частную спортивную школу и продвигать женский баскетбол.
И всё-таки бывают дни, когда я представляю себе, что есть такой яд, который никогда не выйдет из организма. Он бродит по венам, смешивается с кровью, меняя твою сущность и отравляя мысли. Остаётся только сопротивляться его сладкому, парализующему волю действию. В такие дни я стараюсь избегать людей, иначе в каждом прохожем, в каждом знакомом я выглядываю признаки такой же заразы. Я вслушиваюсь в шипящие в чужой речи, собираю волосы в хвост и всё равно нет-нет, а услышу в тишине пустой комнаты, в шелесте листьев на дереве за окном, в шорохе книжных страниц, тянущее лесной сыростью и холодящее нутро, шёпотом зовущее:
— Саа-шаа.
Рецензия критика Валерии Пустовой:
«Рассказ получился замечательным. Ситуация в том, что с героиней вышел на контакт коллектив, ранее отвергнувший. Отвержение по объективным причинам: травма — и все же героиня обижена, чувствует себя уже за кругом бывших подруг по команде. Обиду обостряет размолвка с отдалившейся подругой.
Фантастическое преображение Вики списано на шок, и в то же время оно работает как простая, но эффектная метафора — девичник-змеюшник. Фантастика тут хороша именно как метафора, намек, подсветка психологического состояния героини: вот у костра ей кажется, что коллектив весь сплелся против нее, вот в лесу ей кажется, что Вика шипит на нее, и фраза «хочешь, поползем?» читается одновременно как очередная подколка бывшей подруги и как страшное преображение человека в змею. Сильно действует именно намек на такое преображение.
В рассказе очень хороша атмосфера ожидания чего-то ужасного. Пугалка от мамы, предупреждение Оли, тени у костра, затерянность в лесу, странная отлучка Вики, шуршание — которое то ли правда, то ли кажется. Это прямо отлично сделано, тонко! Автор именно намекает, что в рассказе может появиться ужас. И это пугает больше всего. Пугает ведь невидимое: шорох, а не змея. Страх перед змеей — это скорее инстинкт, животное чувство. А вот страх перед невидимой змеей — это очень человеческое, тут действует воображение, человек сам себя травит страхом, когда предчувствует опасность, но не видит ее.
Очень хороши в рассказе детали — психологические, бытовые. «Бумажное вино», куртка «как у них», внезапное молчание после запретного вопроса Таньки, «спам» от мамы, которая волнуется за душевное состояние дочери. Бодро начинается рассказ. Сразу захватывает, вводит в конфликт.»

Груз
Из служебного входа патологоанатомического отделения выехала тележка с открытым гробом. Врач подкатил ее к погрузочной платформе, шумно выдохнул и вытер рукавом пот со лба.
— Ну вот, проверяйте, — сказал он Марине. — Он?
— Ну а кто еще?
— Лучше проверить, знаете ли. Вдруг не того увезете, а обнаружите только у себя в Но… в Новороссийске?
— В Новосибирске.
Марина остановилась у гроба и смотрела в лицо мертвеца, не моргая. Ее руки безвольно повисли, но пальцы левой легонько постукивали по бедру, отмеряя секунды. Губы некрасиво дернулись — то ли от настоящей скорби, то ли от неловкой попытки ее изобразить. Она всегда была такой — сдержанной, непонятной.
— Че, грузим? — крикнул снизу водитель и неторопливо подошел к открытому кузову своей «Газели».
— Погодите, мы ему сейчас масочку из формалина наложим, чтобы не испор… чтоб сохранился в дороге.
Врач скрылся в здании, а Марина быстро оглянулась, достала из кармана маленькую иконку и сунула ее под окоченевшие ладони покойника. Только иконки в гробу не хватало для полного абсурда! Тело и так напоминало реквизит из плохого ужастика — с желтовато-синеватой кожей, туго натянутой на кости, лысой головой с неровным черепом и залитыми воском ноздрями. Да и костюмеры не особо старались: пиджак на пару размеров больше, белая футболка с мультяшным принтом — как будто сняли шмотки с хипстера-стажера прямо на съемочной площадке. Марина убрала с пиджака чужой светлый волос, неизвестно как попавший в гроб, прошептала молитву и три раза перекрестилась.
Патологоанатом вернулся с какими-то влажными тряпками и оттеснил Марину. Она спустилась с крыльца, подошла к водителю. Тот сочувственно приобнял ее за плечо, но Марина вздрогнула и резко шагнула в сторону — она никогда не позволяла чужим людям себя трогать. Водитель вздохнул, шмыгнул носом.
— Извините, — сказала Марина. — Я просто… Скоро уже поедем.
Он кивнул, спрятал руки в карманы.
— А я весной отца похоронил. В этой же машине вез — сначала в больницу, живого, — а потом, ну, в гробу уже.
Марина взглянула на него снизу вверх, уже теплее.
— Сочувствую.
Между тем патологоанатом закончил возиться с формалиновой маской, выбросил перчатки и закатил тележку с гробом на погрузочную платформу. Она медленно ехала вниз, пока не остановилась вровень с кузовом грузовика.
— Марина! — позвал врач. — Я тут один не справлюсь, кажется.
Марина спросила водителя:
— Александр, поможете?
— Да не вопрос! Давайте только без «Александра» — говорю же, просто Саня!
Вместе с патологоанатомом они быстро погрузили гроб, прикрутили крышку и увезли тележку. Пустая платформа, жужжа, поехала наверх.
Марина заплатила водителю, поблагодарила за помощь.
— Ну, счастливого пути! Увидимся в Новосибирске.
— И вам хорошей дорожки!
Хлопнула дверь, заурчал мотор, и машина тяжело тронулась с места. Мы с Саней остались одни.
***
Со смертью пришла ясность. Последние дни моей жизни размазались и перемешались, слиплись в склизский ком. Раздавленный опухолью мозг, писк оборудования в реанимации, волны морфина — оглушают, зато смывают боль. Чужая женщина со скучающим голосом — медсестра? Рука Марины на моей щеке. Я собрал эти образы уже после, вычислил логически, а в те дни просто пытался продраться сквозь муть, соорудить из ошметков сознания хоть какую-то мысль. Я отчаянно чего-то хотел, но не мог понять, чего именно. Хорошо, что это закончилось.
Со смертью ушла суета. Я лежал в морге, примороженный к своему телу, и ничего не чувствовал. Странно, но я не скучал. Без новостей, без соцсетей, без латте на миндальном молоке и болтовни с бариста, почти без мыслей — не знал, что я так умею. А потом патологоанатом вскрыл мне грудь, и я сбежал. Было больно. Нет, не больно, но я не знаю слова точнее. Холодно, остро, металлически. Отвратительно. Как будто я был сразу и телом, и скальпелем, и рукой врача в латексной перчатке.
В общем, я сбежал, но далеко уйти мне не дали. Я оторвался от выпотрошенного тела и свободной камерой перемещался по комнате. Интерактивное кино, компьютерная игра, VR-тур по квартире в новостройке — я сам делал такое на работе. И, как в нашем VR-туре, выйти за стены помещения я не мог.
На тело я старался не обращать внимания, хоть и оставался к нему привязанным, болтался на длинном крепком поводке. Мертвец выглядел мерзко и нелепо, но это меня не задевало — он не был мной. Я помнил себя симпатичным парнем с фоток в инстаграме: чуть за тридцать, не качок, но и не тощий, модная стрижка, борода. Тот зомби, которого я видел в зеркале последние полгода, тоже не был на меня похож — карикатурный раковый больной, костюм на Хэллоуин, который я собирался снять, как только выйду из больницы.
И вот я снял костюм и выбрался из больницы, хотя и не так, как рассчитывал. Мы с Саней ехали из Димитровграда, где врачи три месяца безуспешно облучали протонами мою голову, в родной Новосибирск. Саня пообещал Марине быть на месте послезавтра утром, как раз к похоронам.
Водителем он оказался вполне приятным: заговорить со мной не пытался, шансон не слушал — включал дорожное радио с обычной русской попсой, а когда связь пропадала, ехал в тишине или насвистывал себе под нос неожиданно знакомую навязчивую мелодию. Я никак не мог вспомнить, откуда ее знаю, пока не подслушал Санин телефонный разговор.
— Да ты что?! — преувеличенно восторгался он. — Кто у нас молодец? Милашка молодец, да? Да? Папка знал, знал, что Милашка всех там порвет!
В ответ из колонок раздался смущенный детский смех и какое-то неразборчивое лепетание.
— А? Чего? Песенку? Опять песенку?!
— Про тла… про тр-р-рактор!
— Да чтоб ее! В гроб ты папку сведешь своим трактором! Ладно, один куплет, ага? «По полям, по поля-ам синий трактор едет к нам!»
Не успел Саня допеть свой куплет, как девочку сменила в телефоне сердитая тетка и завела долгий разговор про алименты, Санино пьянство, блядство и безответственность. Он моментально завелся и, убедившись, что дочь не слышит, заорал на бывшую матом.
Я быстро потерял интерес к их беседе и смотрел на дорогу. Темнело, с неба плевками падал на асфальт мокрый снег, ветер сдувал с деревьев последние листья. Мы проехали мимо ветхой деревушки, проползли несколько километров по разбитой дороге и остановились на большой парковке у придорожного кафе. Пока Саня ел, я наблюдал за другими дальнобойщиками и редкими путешественниками на легковушках. Они курили у крыльца, болтали по телефону, смеялись, ругались, целовались. В окнах кафе мигала гирлянда, хотя до Нового года оставалось почти два месяца. Я хотел попасть внутрь, подглядеть, подслушать, но мертвое тело в гробу держало меня при себе.
Наконец, Саня вернулся и тут же завалился спать. В кабине прямо за сиденьями было устроено крошечное спальное место — полка, как в плацкарте, с потрепанным спальником и маленькой дорожной подушкой. Саня залез в спальник, поставил будильник на телефоне и захрапел.
Впереди меня ждала долгая пустая ночь. Я подобрался поближе к Сане и разглядывал его крупным планом: покрасневший нос с фиолетовой сеточкой капилляров, серая шапка в катышках, широкая загорелая рука с грязными ногтями, торчавшая из-под небритой щеки. Я почувствовал пальцами колючую щетину и мягкую подкладку спальника, услышал запах немытых волос, исходивший от подушки. Ужасно хотелось спать, тяжелая воронка где-то в затылке затягивала внутрь, я с трудом соображал. Что-то было не так. Изжога от жирной еды? Нет, не она. Завтра, все завтра, сейчас спать. Стоп! На мгновение я вспомнил, кто я такой, увидел Саню со стороны, а потом его тело снова меня поймало. Сон давил со всех сторон, я попытался пошевелиться, но это было слишком сложно. Наконец, я сосредоточился и с огромным трудом перевернулся на другой бок.
***
Проснулся от звона будильника. Саня нашарил телефон под подушкой, нажал на кнопку и со стоном открыл глаза. Я снова видел его со стороны. Попробовал оказаться близко-близко, как вчера, разглядывал поры на его коже и расширенные в сумерках зрачки, но стать им больше не мог.
Мы не торопясь ехали по трассе, светило солнце, по небу ползли пушистые облака, но мне было не до пейзажей. Что, если я правда могу поселиться в Санином теле? Снова почувствовать вкусы и запахи, напрягать мышцы, бежать, кричать, двигать предметы, прикоснуться к другому человеку. Что, если у меня будет время? Я допишу свою игру, которую так медленно обдумывал и слишком долго откладывал. Увижу северное сияние, прыгну с парашютом. Стану отцом и сам спою ребенку идиотскую песенку про синий трактор.
Я улетел мечтами в далекое будущее, но синий трактор вернул к реальности. У Сани уже была дочь, и он уже пел ей песни.
Тем временем Саня остановился на обочине и заварил доширак кипятком из термоса. Быстро съев его под какое-то тупое видео с ютуба, он откинулся в кресле и прикрыл глаза. Я не верил своей удаче. Прислушивался к его ровному дыханию, наблюдал, как движутся глазные яблоки под закрытыми веками, а потом усилием воли направил себя в его тело. Снова накатила сонливость, но на этот раз я смог ее перебороть. Пошевелил рукой. Ногой. Разлепил глаза.
У Сани — у меня! — побаливала спина, чесалась правая ступня, во рту пересохло и чувствовался привкус соли с говяжьим ароматизатором. Но, черт возьми, это было настоящее, живое, вполне здоровое тело! Оно не лежало в гробу, не умирало от рака — оно могло прослужить еще много-много лет!
Я долго сидел в кресле, направляя внимание в разные точки. Чувствовал, как стриженный под ноль затылок соприкасается с подголовником. Постукивал ногтем по пластику приборной панели. Втягивал воздух тонкой прохладной струйкой и медленно выпускал его обратно. Губы пересохли, я облизал их и почувствовал запах Саниной слюны. Сделал глоток воды, покатал во рту, проследил его путь по пищеводу.
Я снова был живым — и, как всякий живой, в итоге я заскучал. Пора было выйти на улицу, в холод и ветер, пробежаться, размяться, помахать руками и ногами — и неважно, как глупо я буду выглядеть. Я открыл дверь, спрыгнул на асфальт и чуть не упал. Ледяной ветер моментально вытянул все тепло, накрыла паника, и я не мог даже пошевелиться, а потом вдруг разозлился, заорал — и через мгновение опять видел Саню со стороны. Тяжело дыша, он тряхнул головой, пнул колесо машины и залез обратно в кабину.
Весь остаток дня Саня гнал раза в полтора быстрее, чем раньше, и постоянно присасывался к термосу с кофе. С каждым часом я тревожился все больше — казалось, он вообще передумал спать. Судя по навигатору, до Новосибирска оставалось четыре часа пути — он мог добраться туда глубокой ночью, снять номер в гостинице, а утром сдать меня Марине и уехать куда подальше. И тогда я останусь без тела. Мой труп закопают в землю, а я буду висеть над кладбищем и разглядывать ворон. А может быть, священник споет по мне панихиду, и я отправлюсь в ад или в рай. Наверняка Марина заказала мне отпевание: она верила в Бога еще когда мы были женаты, а в последние годы совсем ударилась в религию. Возможно, так будет лучше всего. У Сани хоть дочь, а меня вообще никто не ждет. Даже у Марины теперь своя жизнь — с мужем, сыном, ипотекой и дачей у озера.
Ну уж нет, нахер! Плевать мне на справедливость! Я. Хочу. Жить. Я боролся, прошел пять курсов химии и тридцать сеансов облучения, я мог тысячу раз сдаться, тупо лечь и сдохнуть, но я все вытерпел, чтобы жить. Гребаному Сане в страшном сне не приснится та боль, которую я испытал! Я использовал каждый чертов шанс, и этот уж точно не упущу, хрен тебе, Саня! Усни, закрой глаза хоть на секунду — и я заберу твое тело. Я буду жить, я! А тебя не будет.
Саня наконец остановился. Припарковался на широкой обочине, заглушил мотор и достал из бардачка бутылку дешевого коньяка. Выпил сразу с четверть, обернулся и с улыбкой погрозил пальцем кузову своей машины. Посидел в задумчивости, схватил телефон и набрал в поисковике: «молитва для изгнания духа». Тоже мне экзорцист! Он открыл первые три вкладки, попытался вызубрить текст, но потом махнул рукой и пошел в кузов прямо с телефоном. Я наблюдал, как Саня бормочет молитвы над моим гробом, и просто ждал, когда он ляжет спать.
Но спать Саня не торопился. Вернулся в кабину, еще раз хлебнул из бутылки и начал сочинять эсэмэски. Он промахивался мимо клавиш, исправлял опечатки, долго думал над каждой фразой. Я старался не вчитываться, но успел заметить, что его послания очень напоминали прощальные записки. Он писал дочери, как ее любит, обещал стать самым лучшим на свете папкой и устроить ей «опупительный» день рождения. Длинно и слезливо извинялся за все перед бывшей. Благодарил «Натусика» и «Юленьку» за удивительные ночи, большую любовь и все в таком духе. В конце концов, Саня отправил все сообщения, потер лоб, надавил ладонями на глаза, а когда убрал руки, я увидел, что он плачет. Так он и уснул — в водительском кресле, с мокрыми щеками и опухшими покрасневшими веками.
Я легко скользнул в его тело. Сон и коньячный дурман путали мысли и сковывали движения, но я мог их игнорировать — как мог жить с болью и тошнотой долгие месяцы перед смертью.
Вот и все. Я жив, а Сани больше нет. Мое (Санино? Нет, мое!) тело вдруг сжалось, дыхание перехватило, из горла вырвался задушенный вой, а из глаз потекли слезы. Воспоминания о смерти толкались в сознании, кричали все сразу, так, что сложно было отделить одно от другого. Умирает мама, я стою с каменным лицом на ее похоронах, а потом сжимаю зубами мокрую подушку. Держу палец над зажигалкой, пока могу терпеть. Врачи говорят, что мне не на что больше надеяться. Я нахожу в мышеловке мертвого мышонка и закапываю его во дворе. Теперь я убийца. Саня фальшиво поет песенку про трактор. Саня смотрит на меня из зеркала заднего вида. Сане очень страшно!
Мне нужно подышать. Я выхожу из машины в метель. Снег приятно покалывает щеки, воздух освежает. Становится легче. Но я убил человека, вашу ж мать, я убил человека! Я убил Саню! Стой, дыши, просто дыши. Не позволяй мыслям унести тебя — это всего лишь мысли, они не могут навредить. Психотерапевт учил меня техникам разделения. Первая: не «Я убил человека», а «У меня есть мысль, что я убил человека». Черт-черт-черт, какой бред! Вторая техника: пропеть свою мысль на какую-нибудь дурацкую мелодию. «По полям, по полям… Я убил, я убил. Я уби-ил Са-аню, ля-ля-ля-ля!». Боже мой, это ужасно, Саня, прости меня, пожалуйста, прости! Саня, Саня, забери меня отсюда!
Я стою на коленях в свежем снегу, рыдаю, щеки горят, слезы смешиваются с соплями. Постепенно я выдыхаюсь и замерзаю. С трудом доползаю до машины, лезу обратно в кабину, включаю печку и допиваю коньяк. В голове звенит, мыслей больше нет. Сижу в тишине, не знаю, как долго. Лобовое стекло запотевает от моего пьяного дыхания.
Я знаю, что смогу жить дальше. Будет нелегко, но я смогу — убийцы живут, это не смертельно. Есть психиатры, антидепрессанты, наркотики, экстремальный спорт — сотни способов отвлечься и не думать. Сотни способов ослабить боль, придавить и сдержать злокачественную опухоль внутри себя. Сдержать, но не избавиться.
Я устал, ужасно хочу спать. Если я усну, Саня вернется. Пусть так.
Давай, Саня, забирай! Это твое.
Рецензия писателя Екатерины Федорчук:
«В целом очень сильный текст получился. Живой текст о мертвом человеке. Но мне кажется, что некоторые части текста, сами по себе написанные просто прекрасно, не согласуются… нет, даже точнее — не гармонируют друг с другом.
Я условно выделяю в рассказе три части, каждая из которых имеет свои достоинства.
Первая часть — текст от лица Марины. Хотя формально получается, что повествователь и в первой части — это покойник, но по смыслу, по духу, по эмоциональному настрою это взгляд на ситуацию с точки зрения Марины.
Вторая часть — это условно до того момента, когда покойник попробовал войти в тело Сани. Она написана совсем в иной тональности, и идея, лежащая в основе этого текста, весьма интересна. Это взгляд на жизнь глазами того, кто ее утратил. Как ценна жизнь, как прекрасны любые ее проявления. Автор не произносит эти слова вслух, но само описания всех обыденных мелочей говорит само за себя: жизнь это ценнейшее сокровище!
А дальше несколько меняется жанровая природа текста. Первые две части были вполне реалистичны. Теперь же мы вдруг оказываемся внутри рассказа в стиле хоррор. Мертвец пытается уморить водителя! Только написан этот рассказ не от лица жертвы, а от лица нападающего. Очень необычно и очень интересно! Замечательны в этом рассказе момент эмоционального переключения. Мертвец не испытывает эмоций. Он испытывает жажду жизни. И сначала даже непонятно, что он совершает ужасные, страшные действия. И только когда Саня начинает прощаться с жизнью, становится понятно, что происходят ужасные вещи. Это очень интересное и сильное перезаключение, причем прекрасно написанное.
Очень сильный момент, когда эмоции тела Сани становятся эмоциями героя. Он рыдает слезами своей жертвы, тело оплакивает смену души. Жуткий момент, отличный.
А вот финал… С одной стороны, мне нравится, что история завершилась очень определенно. Так, как хочет мертвец, не будет. У автора получается, что они будут бесконечно делить между собой это сонное тело… В этом есть своя правда и правда весьма ироничная.
Но я бы сделала еще один шаг в сторону иронии: пока они будут делить тело, некому будет вести машину. Тело Сани, увы, тоже умрет… Замерзнет на дороге. Мне кажется, можно было бы об этом упомянуть прямым текстом, потому что этот исход недостаточно очевиден.
Итак, все три текста написаны отлично, но вмести они не гармонируют. Первые два отрывка как бы тянут одеяло на себя, и кажется, как будто это три разных текста просто соединили механически.
Не призываю сокращать первую и вторую часть кардинально, все-таки жалко. Хорошие тексты. Но советую автору подумать, можно ли сделать так, чтобы на них не падал сюжетный акцент, чтобы они не отвлекали нас от главного действия.»
Рецензия писателя Романа Сенчина:
«Рассказ очень сильный, оригинальный, с неожиданным финалом, тщательно выстроенным сюжетом. Рассказ и живописный, и психологически глубокий. Есть по-настоящему жуткие сцены, эпизоды. Мне стало не по себе от этого: «Марина убрала с пиджака чужой светлый волос». И то, что это, получается, покойник наблюдает за живыми в первой главке, тоже жутковато. Желание и попытки души покойника переселиться в тело живого очень хорошо придумано. Вот только души водителя практически не видно. Впечатление, что ее у водителя и нет. Стоило бы ее показать отчетливей, может, диалог душ написать. Дескать, я душа талантливого, рано умершего человека, а ты — простого водилы… Мысль в финале, что душа покойника, завоевав тело живого, возвращает его обратно, интересная, важная. Вообще, по-моему, у автора большое писательское будущее.»

Далёко-далёко
После похорон тети Лиды Кузьма маялась. Тетя Лида умерла молодой, хоть и от долгой болезни. Значит, любой может заболеть и умереть, даже сама Кузьма. Она садилась в угол дивана и мысленно обследовала внутренности — не болит ли где-нибудь. Все боли она делила на опасные и безопасные. Например, если болит ободранная коленка, то это безопасная боль, а к опасным Кузьма относила все необъяснимое внутри. Пока ничего необъяснимого не было. Кузьма находила пальцем на запястье точку пульса. Он стучал с приятной размеренностью, и Кузьма немного успокаивалась. Но во время игры, когда они с сестрой переставляли по дивану бумажных кукол, у Кузьмы внезапно потели ладони и сжимались пальцы, и кукла мялась и рвалась. Жуть обливала холодом и снова рассеивалась. Кузьма переставала играть и с завистью смотрела на довольную Анжелку. «У нее мама умерла, а ей даже неинтересно, куда она делась. Ангелы, говорит, небо… А как это проверить?» К бабе Нине Кузьма не шла со своими вопросами, потому что баба Нина все время куда-то бежала. На бегу она пылесосила, шуровала в печке кочергой, заплетала косы и раздавала поручения. Кузьма как-то поняла, что вопросы про смерть не задают на бегу или, например, по телефону. Анжелка говорит: «Чо ты пристала, позвонит дядь Сережа, спроси!» Кузьма съехидничала: «Ага, звонит такой Папсон из Москвы, а я такая — а куда деваются люди после смерти? А, туда, ну ладно, спасибо, пока. Ооооочень смешно». Анжелка закатила глаза и отмахнулась.
И тогда Кузьма стала ходить в дальнюю комнату. Там тихо жила ее прабабушка, баба Глáва. Весь день она смотрела в окно и вздыхала: «Ох, смерть нейдет».
Звали бабу Клавдия, а Папсон называл ее Главная Мама, и, конечно, именно главной мамой она и была еще совсем недавно. Высокая, прямая, с длинным носом и большими руками, а голос зычный, кааак крикнет — обедать! — все несутся, никто не опоздает. За ней уже шла ее дочь баба Нина, а потом дочь бабы Нины мама Лена по прозванию Мамуль, а уже следом Кузьма. В голове у Кузьмы Главная Мама Клава сложилось в единое — баба Глава.
Баба Глáва носила темные крепкие юбки, мужские ботинки и ридикюль с шариками-застежками. Она всю жизнь вела хозяйство в деревенском доме, и после переезда в город жила как-то по-своему, по-деревенски. Полы в ее квартире покрывали разноцветные половики и кружочки, связанные бабой Главой из обрывков ткани. В углу комнаты стояла прялка с колесом и сумка с шерстью. Подушки прикрыты кружевными накидками, а на комодах и столах — белые салфетки с вышитыми гладью цветами. Кузьма садилась на цветной коврик-кружок, раскладывала пуговицы, на веретена навязывала ленты и играла долгими часами. Накидку с подушки надевала на голову, как невеста. Баба Глава все разрешала.
Маленькую Кузьму часто сгружали бабе Главе. Особенно когда она придумала болеть животом, чтобы не ходить в ненавистный детский сад. Мамуль тревожно ощупывала хнычущую Кузьму:
— Сильно-пресильно болит?
Кузьма хорошо помнила, что если болит сильно, ведут в поликлинику, а если не очень, то к бабе Главе. Поэтому прислушивалась и отвечала:
— Не пресильно, а по-обыкновенному болит.
Бабе Главе Мамуль давала советы. Кормить Кузьму бульоном, овсянки можно, но на воде. И не надо молока, лучше простокваши. Жирное исключить. Жидкое добавить. Баба Глава никогда не спорила. А когда Мамуль убегала на работу, баба Глава усаживала Кузьму перед собой и спрашивала, окая по-вологодски:
— Вправду болеешь аль как обычно?
Кузьма никогда не обманывала бабу Главу, потому что Главная Мама насквозь видит. Покаянно вздыхала и разводила руками — ну что со мной такой делать. Тогда баба Глава наливала холодного молока в высокую кастрюлю, сеяла муку, брала одной рукой тяжеленную закопченную сковородку, и скоро перед Кузьмой вырастала стопка толстеньких блинов.
— Вот тебе диетические, с дырками.
— Расскажи еще про Ивана, — просила Кузьма.
— Проснулся как-то Иван в лесу, — сразу же подхватывала баба Глава.
Кузьма обожала бесконечную сказку про Ивана. Началась она когда-то как обычная сказка: «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил-был Иван. Пошел один раз этот Иван далёко-далёко…» — и продолжалась день за днем, год за годом. Иван шел по длинной дороге и встречал в пути то медведя, то Бабу-Ягу, а то председателя колхоза Пеструхина Василья Петровича. И никто не мог Ивана остановить, даже царевна.
— И был пир на весь мир, — ровным голосом вела баба Глава, — мед-пиво по усам текло.
— И в рот не попало?
— Почему не попало? Некоторым очень попало. Напился Василь Петрович пьяным да как начал посуду бить, все на него накинулись и давай поясами вязать, а без поясов у мужиков стали штаны падать, заголять кой-чего, а девки завизжали, собаки залаяли, такая суматоха поднялась. Вот Иван посмотрел на это да потихоньку и ушел из колхоза, полем, полем, а там уж и не догнать.
— А почему ушел?
— Да на пса они ему сдались, пьяницы.
На стене висел портрет Ивана, пропавшего много лет назад сына бабы Главы. Кузьма знала от Анжелки (а она от дяди Паши), что был такой сын и исчез, милиция искала, тетки говорили, что убили Ивана в пьяной драке на окраине, только неправда это все. С подкрашенной фотографии безмятежно смотрели голубые глаза, и щеки розовели, и светлые волосы аккуратно лежали над гладким лбом. Ушел Иван далёко-далёко и идет своей дорогой по лесам дремучим и рекам кипучим, уж такая у него жизнь!
Звал ровный голос Кузьму за Иваном. Баба Глава несла в большой ладони-гнезде три яйца, и сидела на них сова говорящая. Падало солнце за белые горы, и желтки падали в муку, поднимались белые пылинки. Вязала баба Глава варежки на шести тонких спицах, и бежал клубочек по пестрым дорожкам, и шла Кузьма далёко-далёко, в руке шанежка с творогом, в кармане блинок.
Позапрошлым летом Кузьму перестали возить к бабе Главе. Мамуль сказала, что баба Клавдия заболела. Потом приехала баба Нина и шептала на кухне, как всегда, очень громко, так что Кузьма все слышала:
— Бабка чудит и чудит. Опять до горшка не добежала, а потом смотрю — собралась, пальто надела. К Шурке, говорит, в Усть-Илимск поеду.
— В больницу ее надо, мам, — посоветовала Мамуль.
— Кто за ней там ходить будет? Это ж на смерть посылать.
Кузьма не знала, как чудит баба Глава. Закружилось в голове, замельтешило, заухало: темень, тени, скрипы и стоны, а на небе зарницы так и пыхают. Чудно вокруг, так баба Глава говорила в своих сказках. Куда-то туда на смерть и посылают, вероятно. Страшно. «Не надо бабу Главу туда посылать», — думала Кузьма. Но ничего не сказала, а только сжала кулачки и пошептала в них желание — пусть баба Глава поправится, пожалуйста.
Из больницы баба Глава приехала худая, как будто стала меньше ростом, и руки тонкие, только нос еще удлинился. Теперь не месила баба Глава теста, не стукала спицами, и даже из квартиры своей ее увезли и поселили в дальнюю комнату к бабе Нине. Глаза бабы Главы стали почти прозрачными, и смотрела она так, будто разглядывала скрытое в воздухе. Людей баба Глава помнила смутно, и они ее тревожили. Всё объясняли, кто такие, требовали, настаивали: «Я — твоя дочь, ты совсем, что ли, ничего не помнишь?» Она не то не помнила, не то не хотела помнить, но поняла, что им надо с ней разговаривать. Тогда она стала называть их понятными прозвищами. Полную Анжелку — большой посудиной, дядю Пашу — носатым парнем, Мамуль — лобастой девкой, а бабе Нине доставалось особенно — то бородавкой прилипчивой назовет, то еще похлеще. Грубости говорила баба Глава легко, не замечая. Встанет с кровати и скажет, окая: «Пойду поссу!» — звучно, на всю квартиру слышно. Баба Нина и кричала, и просила, и обижалась, да бабе Главе не втолкуешь. А дядя Паша смеялся: «Кто у нас тут еще носатый, куда мне до тебя, ба!» Только Кузьму баба Глава называла не обидно. Увидела после больницы, улыбнулась, прищурилась и сказала: «Ишь, махонькая».
Кузьма сначала все выпрашивала:
— Баба! Расскажи про Ивана.
— Кокого?
— Твоего!
— Моёго?
— Сына твоего! Помнишь, у тебя есть сын? — Кузьма показала на портрет.
— Не знаю, кокой сын. Когдаааа это было, — зевнула баба Глава. — Упомнишь разве.
Так Кузьма и поняла, что той, её, бабы Главы больше нет, и отстала. А потом у Кузьмы началась школа, уроки, дела, а баба Глава превратилась в часть комнаты. Вот уже два года сидит она тихонько, никому не мешает, зовет тихонько смерть. Кузьма заходила, теперь уже не такая и «махонькая», школьница — пальцы в чернилах, косы тугие, ногти аккуратные.
— Привет, ба!
— А, махонькая. — И улыбнется.
Вот и весь разговор. Но этим летом Кузьма начала приходить надолго. Прислушалась к тихой присказке бабы Главы. Заинтересовалась, зачем это она смерть зовет. Кузьма-то каждую ночь перед сном придумывала, как бы так сделать, чтобы вообще не умирать. Разве можно такого хотеть? Теперь Кузьма садилась на табурет, заглядывала в прозрачно-голубые глаза бабы Главы. Спрашивала:
— Зачем ты смерть зовешь?
— Возьмет меня.
— Да зачем?
— Ужо жизнь давит.
— А как она придет, твоя смерть? А как возьмет? А куда поведет?
Не отвечала баба Глава, только покачивала головой и вздыхала свое «ох, смерть нейдет». Кузьма хотела увидеть, как придет смерть за бабой Главой, напрягала глаза, присматривалась. С одной стороны, жутковато, но и хочется, тем более, она же за бабой Главой придет, а не за Кузьмой. «Смерть же не ошибается», — думает Кузьма и чувствует неуверенный холодок между лопаток.
В сумерках из-за ограды детского сада вышла высокая фигура в черном балахоне. Медленно двигалась она по двору. Тихо развевались полы. Кузьма вытаращилась, вглядываясь под опущенный капюшон. Там пустота! Из-под балахона торчит рукоятка. Коса?
— Смотри, баб Глава, смотри, смерть! — закричала Кузьма.
— Которая?
— Да вон же, вон, идет, и коса у нее!
Баба Глава привстала, оперлась на подоконник, Кузьма вскочила в нетерпении на табурет, и обе прилипли к стеклу носами. Тихо покачиваясь, приближалась черная фигура к дому. Прошла мимо песочницы. Миновала тонко пискнувшую приоткрытую калитку. У Кузьмы задрожала коленка.
— Баб Глава, прячься! Прячься!
— Что ты, махонькая?
— Смерть идет, уходи, баба! — Кузьма кричала, дергала бабу Главу за руку.
Смерть дошла до железного турника под окном и остановилась. Подняла руку, и Кузьма поднялась на цыпочках. Раз — сдернула смерть черное покрывало! И оказалась высоким мужиком в трениках с хлопушкой в руке. Покрывало повисло на перекладине, и эхом по двору зашлепали размеренные удары. Кузьма тонко всхлипнула. А баба Глава разулыбалась, обняла Кузьму и большими ладонями погладила по вздрагивающей спине.
— Не бойся, махонькая. Еще не зовет.
— Куда? — плачет Кузьма. — Куда смерть зовет?
— Далёоооко-далёко.
Смотрит Кузьма перед сном в потолок. На потолке скрещиваются полоски света от уличных фонарей, разбегаются тени. Тенью скользит Иван, а за ним тетя Лида, и филины. Сейчас не страшно Кузьме. Они там, далёко-далёко.
Рецензия критика Валерии Пустовой:
«Рассказ получился захватывающим и трогательным благодаря образу отношений между девочкой и бабушкой. Тут срабатывает традиционная близость старого и малого: обе героини далеки от мира взрослых, прозревают в жизни общую тайну, живут в одной сказке на двоих. Но главное достоинство образа в том, что он развивается. Автор не просто сополагает героинь — он позволяет читателю самому внедриться в эти отношения, постепенно наблюдая, как детство и глубокая старость срастаются, проникаются пониманием друг друга. В начале рассказа образ бабушки виден и описан словно со стороны. «Объективным» зрением. Здесь бабушка кажется понятной, вписанной в роль традиционной бабушки, владеющей уходящими навыками, живущей памятью об утрате. Постепенно, однако, память разрастается до пространства — общего для внучки и бабушки.
Автор эффектно открывает пространство, делая внучку словно героиней бабушкиной бесконечной сказки. Особенно же сильно проявляет себя это сказочное пространство, когда бабушка становится сама на себя не похожа. Она выпадает из понятной роли — и это приближает ее к сказочной границе. Реальность двоится: то ли мужик, то ли смерть, то ли в сказке Иван, то ли в загробном мире, то ли бабушка ничего не соображает, то ли, напротив, прозревает самую суть. И эту суть начинает видеть и девочка. Взрослый мир отодвигается, становится несущественным, суетным. Главное начинает происходить в сказке, общем пространстве на пороге смерти, куда, каждая по-своему, заглядывают бабушка и внучка. Это в рассказе завораживает: как сказка теснит реальность, как проступает сокрытая суть жизни, и взаимное понимание героинь углубляется, становится предельным, не бытовым — бытийным.
В рассказе удачно созданы образы. «Темные крепкие» юбки — фактурно, точно описано. Меткие прозвища: и Глава, и те, что она дала потом членам семьи. К месту внедрены диалоги — они выполняют ритмическую функцию и усиливают интригу, подстегивают читательский интерес. Завораживает образ Ивана — то ли реального сына, то ли сказочного героя-странника. Удалась кульминация — живое явление смерти: внучка хочет из-за бабушкиной спины поглядеть на смерть, но, когда та является, бросается спасать бабушку — сюжет получается трогательным и архетипичным, словно внучка и правда героиня сказки, выручающая бабушку в стране смерти. Чувствуется местами и ненавязчивый юмор: про диетические блины, про фамильный нос, прозвища.
Над чем все же предложила бы поработать в будущем — это над устранением местами чувствуемого авторского давления. Давление сказывается в оценочности и сентиментальности. По большому счету это не то чтобы обязательно недостаток. И все же может текст немного снижать, дешевить — как, к примеру, дешевит слишком бросающийся в глаза блеск. Давление в рассказе не очень значительное, и все же чувствуется. Хорошо было бы обойтись без выводов.
Сентиментальность сказывается в нарочитой наивности. Вы отображаете словно бы сознание ребенка, но читателю слишком видно, как вы спрямляете и упрощаете это сознание. Как бы подделываете текст под воображаемую логику ребенка. И то, что это сделано вот так логично, рассудочно — чувствуется и убавляет обаяние образа.»
Рецензия писателя Екатерины Федорчук:
«В целом мне очень понравился рассказ, особенно меня покорила история про Ивана, бесконечная сказка о вечной жизни. И вообще весь текст посвящен тому, как маленькая девочка пытается понять, что такое смерть, примириться с собственной смертностью, принять эту мысль через телесные ощущения, через созерцание старости, через миф.
Идея очень глубокая, но мне кажется, что пока эти три составляющие не выстраиваются в сюжетную линию. Так бывает: каждая из них сама по себе звучит очень мощно, а вместе они не дополняют, а заглушают друг друга. Но это пока. Для того, чтобы отдельный яркие мелодии текста зазвучали ансамблем, нужно выстроить их иерархию.
Итак, что важнее? Что является стержнем истории?
Смерть тети Лиды и страх девочки? — это история о том, что смерть есть.
Баба Глава, которая рассказывает сказку — это история о том, что смерти нет. Отлично написанная история, в которой автор органично соединил и быт, и миф, и мифологический, он же реальный герой.
Баба Глава, которая ждет смерти — это еще одна история, о том, что смерть есть, но пока она нас не достала. И пока эти две «бабы Главы» недостаточно крепко связаны друг с другом.
Два небольших соображения по именам. Непонятно, почему девочку зовут мужским именем. Надо бы объяснить. А вот баба Глава — это супер.»

Доверие
Эта история началась полгода назад, когда в нашем доме появился новый дворник Махмуд. Или нет, все-таки позже — три месяца назад. Стал бы я обращать на него такое внимание, если бы не реферат, который задала нам психичка Ольга Викторовна? Вот с этого все и началось. Кстати, вы ничего такого не подумайте, психичка она не потому, что нервная. Она как раз очень даже добрая и спокойная. Мы называем ее так, потому что Ольга Викторовна ведет в школе кружок по психологии «Зеркало души», где мы с Лизоном частенько пропадаем после уроков. Папа говорит, что психология — это полезные знания для жизни. Он знает про пользу все, потому что работает в министерстве финансов. Психология в нашей семье, вообще-то, общее увлечение — моя мама психотерапевт, и мы с папой стараемся соответствовать. А еще она профессор и преподает психологию в Высшей школе экономики. Про Лизона не рассказал. Лиза моя подруга с первого класса, живет рядом, у китайцев — так мы называем соседний жилой комплекс «Сады Пекина». Наш дом небольшой, и все друг друга знают. А у китайцев, как в Китае, народу много, хотя тоже довольно элитно — мы там часто зависаем.
Так вот, тема заданного реферата была «Доверие». Сформулировано широко, как хочешь, как и понимай. Лиза быстро определилась и застолбила взгляд на доверие через конфликт отцов и детей. Она утверждает, что материала на эту тему у нее накопилось не на одну будущую диссертацию. Это и понятно — у Лизона есть старший брат Никита и маленькая сестра Варя. Кому, как ни ей, про это писать. Я же пошел за советом к маме. Она, как обычно, сначала спросила, к изучению какой проблемы я сам склоняюсь. Я предложил «Психология делового общения и доверие». Мне всегда было интересно понять, как грамотно уболтать собеседника, чтобы он сделал так, как надо мне. И здесь я очень рассчитывал на помощь папы, о чем честно маме и сообщил. Она загадочно усмехнулась и сказала, что это получился бы отличный реферат, но уже на другую тему — «Манипуляции».
— Как ты думаешь, — спросила мама, — из чего складывается доверие?
— Ну там честность, открытость, — начал перечислять я, — умение произвести хорошее впечатление, коммуникабельность, наконец…
— Да, конечно, все так, — рассеянно кивнула она, — а можно ли завоевать доверие, не будучи талантливым коммуникатором?
— А разве так бывает? — изумился я.
— Да вот возьми хоть нашего дворника Махмуда, — предложила мама. — Сколько он у нас работает? Полгода? Как считаешь, жильцы ему доверяют?
Я задумался. Данные, конечно, нуждались в перепроверке, но тот факт, что Ирина Васильевна из 116 квартиры оставляла ему ключи для полива цветов, пока отдыхала в санатории, вынуждал согласиться, что дело здесь не в развитости коммуникативных навыков. Махмуд плохо говорил по-русски. А тут ключи от квартиры!
— Вот видишь, — потрепала меня мама по затылку. Я очень люблю эти ее проявления любви через тактильный контакт. Особенно когда она проявляет любовь на людях. Мама у меня не только умная, но и очень красивая, и мы с папой страшно гордимся ею. — Подумай, мне кажется, перспективная тема. Поговори с соседями, узнай, как за такой короткий срок Махмуду это удалось. В теории психологии доверие строится на последовательности, обязательности и способности. Проверь это на практике.
Я быстренько зафиксировал элементы доверия на планшете и благодарно чмокнул маму в щеку. Она всегда дает ценные советы, даже если поначалу они не совсем мне понятны. Будем разбираться с доверием на примере Махмуда.
Интервью, как нас учила Ольга Викторовна, один из главных инструментов исследователя человеческих душ. И я отправился прямиком в 116 квартиру, к Ирине Васильевне, чтобы понять, как удалось косноязычному дворнику втереться к ней в доверие. А заодно порасспрашивать про других жильцов. Пенсионеры — это кладезь информации. Во-первых, они все про всех знают, во-вторых, у них много свободного времени, и они всегда рады собеседнику. А еще у Ирины Васильевны всегда есть свежие зефирки к чаю. Я это точно знаю, потому что регулярно навещаю старушку. Разница в возрасте не мешает нам дружить. Ее, как и меня, интересует все на свете. Она просто идеальный источник данных. У нас дома мораторий на сладости. Мама говорит, что нельзя приносить врагов домой. Но мы с папой периодически контрабандой проносим вкусняшки и прячем за книгами в библиотеке. А Ирина Васильевна считает, что сладкое необходимо для продуктивной работы мозга, и плевать на повышенный сахар.
Так все и начиналось, как видите, мирно и, я бы даже сказал, невинно. Ничто не предвещало, что исследование перерастет в расследование, секреты дворника Махмуда выйдут далеко за рамки ингредиентов уникального рецепта доверия, а мы с Лизоном обнаружим и разгадаем затейливую головоломку.
Ирина Васильевна была в прекрасном расположении духа и за чаем поведала много интересного. Оказывается, Махмуд спас собственность Ковальчуков из 103 квартиры. Он пресек кражу электросамоката, буквально поймав за руку жуликоватого курьера.
— Но дело даже не в бдительности нашего дворника, хотя и это само по себе приятно и похвально, — доверительно склонилась ко мне Ирина Васильевна. — Сколько Ковальчуки ни предлагали Махмуду вознаграждение за сохраненное имущество, он отказывался наотрез. А это, скажу я тебе, многое говорит о человеке. Достоинство никакими дипломами о высшем образовании не приобрести. Оно либо есть, либо его нет.
В копилке добрых дел дворника оказалось еще много чего интересного, включая присмотр за детьми и животными.
— Ты же знаешь мою Жози, и как она боится прививок? А на руках Махмуда даже не пикнула. Как будто не заметила укола.
Он также отличался приятными манерами и доброжелательным отношением ко всем.
— Вот именно, что ко всем! Он нашей уборщице Зуле так же помогает с тяжелыми пакетами и так же перед ней придерживает дверь, как и перед прокуроршей Маргаритой Степановной с седьмого этажа.
Настроить интернет в компьютере или телевизионные каналы, повесить картину, да мало ли еще чего.
— Нашу управляющую компанию не допросишься. Пока заявку оформишь, пока время согласуешь. А тут быстро, удобно и бесплатно. Ни в какую не берет Махмуд денег за свои услуги. Чаем, говорит, угостите, и будет хорошо. Ну а руки у него золотые. Даже цветы от его полива преображаются.
Я с бесстрастностью исследователя фиксировал в планшете достоинства нашего дворника. С доверием начинало проясняться. Вот когда мамины советы пригодились и стали обретать смысл. Тут тебе и способности Махмуда, и его обязательность, и последовательность. Кстати, с последовательностью мне лично пока не до конца понятно. Но чувствую, она здесь есть. Тут интереснее другое. Откуда вообще берутся такие дворники, и как это нашему дому так несказанно повезло?! Папа говорит, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мой опыт, между прочим, доказывает папину правоту. Как-то Федька Гоголев из параллельного класса предложил диоровские джорданы за полцены. Кроссовки оказались фейком и быстро потеряли вид, хотя от оригинала было не отличить. В общем, без Лизона мне было не обойтись. Я чувствовал настоятельную потребность поделиться с ней своими сомнениями и результатами изысканий. Редкий случай — Лизон согласилась, что здесь что-то не стыкуется, и надо бы узнать, откуда такой Махмуд взялся, подозрительный какой-то дворник.
Окрыленный поддержкой подруги, я отправился в офис управляющей компании и завел разговор издалека. Я проделал несколько подходов к снаряду с разных сторон в попытке узнать историю нашего дворника и испытал, по выражению моей мамы, когнитивный диссонанс. С одной стороны, был страшно доволен собой, но, с другой стороны, сколь-нибудь существенного результата так и не добился. Между прочим, если мне очень надо, я могу быть чрезвычайно изобретательным и убедительным. Мама говорит, что в своей целеустремленности я дохожу до паранойи. В этот раз я превзошел себя, но единственное, что удалось разузнать — дворника рекомендовал лично Антон Николаевич — главный акционер компании, владеющей нашим домом. Вот это да!
Мое необузданное воображение уже рисовало загадочный образ Махмуда в маске, черном плаще и элегантной шляпе со шпагой на боку, когда появилась Лизон и сообщила, что ее младшая сестра Варя на прошлой неделе услышала, как какой-то хорошо одетый молодой человек с приятным иностранным акцентом спрашивал у охраны нашего дома, как найти дворника Малхаза Тиграновича.
— И в чем здесь интрига, — уставился я на Лизона в недоумении, — ошибся человек адресом. Что значит твой заговорщический тон?
— А что, если ваш Махмуд и не Махмуд вовсе? — невозмутимо парировала подруга.
— А кто? — не понял я
— Кто-кто, — передразнила Лиза. — Малхаз Тигранович в кожаном пальто! Я только сейчас поняла, что на таджика он совсем не похож, хоть и брюнет. Скорее, на кавказца.
— Ну, знаешь, они, таджики, тоже разными бывают. — И я полез в телефон спрашивать у Гугла про имя Малхаз, чтобы убедиться, что оно армянское.
Мы сидели в беседке у моего дома и ломали голову, как идентифицировать личность дворника. И вот, когда смелость предлагаемых методов совсем потеряла связь с реальностью и фантазии завели нас черт знает куда, в наше убежище ворвалась маленькая Варвара.
— Он опять пришёл, этот иностранец, и ищет вашего дворника.
Мы выскочили из беседки и рванули к воротам. Как раз вовремя — элегантный господин заворачивал за угол, направляясь в каптерку Махмуда.
— Быстро в хранилище, — скомандовала Лизон. И я в очередной раз, уже на бегу, восхитился подругой. Мозг у Лизона, как мощный компьютер, реагирует мгновенно. Даром что девчонка!
Мы давно, еще со времен предыдущего дворника Валеры, который использовал свою каптерку для интимных свиданий, выявили эмпирическим путем, что из крайней кладовки в подвале слышно все, что происходит в дворницкой. И мы успели как раз вовремя.
— Мартин? Как ты меня нашел? — спросил кто-то изумленно голосом Махмуда на чистейшем русском языке без акцента.
— Грэм рассказал мне, что вы отправили к нему своих мальчишек и приняли аскезу. Он-то и подсказал, где вас искать. Просил передать, что ваши устроились отлично, Армен и Карен подтягивают английский и готовятся к экзаменам в Гарвард. Малхаз Тигранович, а почему все вас Махмудом называют? — Гость мелодично рассмеялся.
— Сам догадайся. — Малхаз-Махмуд тоже, казалось, развеселился. — Стереотипы — лучшая маскировка. Дворники в Москве традиционно кто? Таджики. И потом, практикуя суфизм, захотелось быть ближе к народам ислама. Когда-нибудь в другой жизни напишу на своей визитке «захид». Ну давай, показывай свою диссертацию, Шерлок Холмс. Никуда от тебя не спрячешься. Когда у меня дедлайн по рецензии?
Чуть позже мы с Лизоном молча сидели в беседке, погруженные каждый в свои мысли. Мир для меня никогда не станет прежним. Больше нет вызывающих всеобщее доверие чудесных необразованных дворников с хорошими манерами.
— Суфизм — это такое аскетически-мистическое направление в исламе. Захид — это аскет, человек, отказавшийся от земных удовольствий. Вот кто ваш дворник, — задумчиво зачитала подруга с экрана телефона.
— Никакой он не дворник, — огрызнулся я. — Я погуглил — Саркисов Малхаз Тигранович, всемирно известный профессор-историк, специализируется на истории религий. И кстати, акционер компании, которая владеет нашим домом, его ученик. Он окончил…
— Что собираешься делать с этим знанием? — перебила Лизон, возвращая меня к реальности.
— Буду думать, как им распорядиться. А сейчас пора домой, меня домашка ждет.
Мама сидела в компьютере и готовилась к завтрашней лекции. Прошмыгнуть мимо незаметно мне не удалось.
— Как дела, дорогой? Как твое исследование?
— Это доверие не вызывает никакого доверия, — проворчал я и прошлепал мимо в свою комнату.
Мне предстояло определить, что делать с ценной информацией, полученной в результате нашего расследования. Итак, что мы имеем, как говорит мой папа, в сухом остатке? Малограмотный лжедворник таджик Махмуд оказался образованным профессором истории Малхазом. Профессор наверняка не захочет быть разоблаченным. А значит, мы могли бы заключить с ним сделку. Оказывается, и в достаточно солидном возрасте можно вести увлекательную жизнь, полную тайн и загадок. Надо будет папе рассказать, а то он все жалуется, что в своем министерстве сильно устает от рутины. Я вот подумал, что, может, с психологией я и погорячился. Может, я в историки пойду. Но выберу себе другую специализацию — аскетизм мне не близок. Вот гедонизм и эпикуреизм, тоже философские течения, кажутся мне куда более привлекательными для практического изучения. Надо будет с Малхазом Тиграновичем посоветоваться. С рефератом, кстати, он тоже мог бы помочь. Философ все-таки.
Рецензия писателя Екатерины Федорчук:
«Мне очень понравился текст. Автор нашел отличного рассказчика, голос его звучит очень определенно и придает рассказу обаяние искренности. Мне очень нравится этот мальчик, искренний и серьезный манипулятор, юноша, рожденный с «золотой ложкой во рту», ищущий ответ на вопрос, что есть добро и зло. И в итоге, видимо, он задаст вопрос: что есть истина? Мы знаем только то, что может знать он, и ни словом больше. Тем не менее, история получилась внятная, логичная, без недоговоренностей.
Честно скажу, Махмуд как персонаж меня не вдохновляет. А вот рассказчик вызывает мой живой интерес.
Объяснение про зефирки — отличное. И что еще очень хорошо, мы через эту деталь лучше узнали характер мамы и уклад семьи главного героя: ЗОЖ и «мама на диете». Объяснения пенсионерки на тему, почему она доверила Махмуду ключи — убедительны!
Но самое замечательное заключается в глубинном вопросе вашего текста, который слегка тревожит и мальчика, и читателя. А не является ли «хождение в народ» лже-Махмуда — фейком? Ложью? Манипуляцией? И можно ли ему подлинно доверять?
Мне кажется, что если автор напишет с главным героем — «богатым юношей» — повесть или несколько рассказов, объединенных этой ключевой идеей, получится очень интересная, глубокая вещь. Но и представленный текст — хорош. Он читается легко, вызывает интерес, в нем видна внутренняя художественная логика, и он ставит перед читателем интересные и важные проблемы экзистенциального характера. Все получилось!»
Рецензия писателя Романа Сенчина:
«Рассказ в целом интересный и перспективный. Над этим сюжетом стоит поработать, может получиться крепкая и полезная (не только развлекательная) вещь. Главное для меня здесь не манипуляция, не мотивы детективности, а вот эта подпольная жизнь Малхаза-Махмуда, армянина, который исповедует ислам. Упоминается, что он не один такой. Для армянина быть мусульманином это тяжелый крест (извините за смысловой каламбур), тем более для человека, который занимается наукой. Наверное, не просто так ваш герой замаскировался под дворника, живет в подсобке. Вот эта тема для меня основная и наиболее важная…
Интересен рассказчик, соблюдена заявленная в названии его позиция — он именно наблюдатель, не меняющий сюжет. Хотя есть намеки, что попытается изменить: «Профессор наверняка не захочет быть разоблаченным. А значит мы могли бы заключить с ним сделку». Хочется узнать, что за сделка. Малхаз-Махмуд ничего ведь плохого не делал, он не аферист, не мошенник… Хочется мысленно продолжать историю, а это показатель того, что рассказ читателя цепляет, увлекает. Это важное достоинство.»

Дом, которого не было
В тихом городском переулке, среди высоких лип и кленов, за забором из дикого винограда спрятался в кармашке у времени дом №24.
Вокруг него вырастали современные многоэтажки, расширялись проспекты, дороги. Менялись вывески и названия улиц. Заезжали, съезжали жильцы.
А он всё стоял, словно удивленный старик, потерявший счет времени.
Построенный ещё до войны, невысокий — три этажа, в форме маленькой буквы «п». Окна и балконы были так близко, что соседи слушали болтовню чужих телевизоров, измученное гаммами пианино, лай собак и звяканье посуды на кухнях. С этажа на этаж тянуло супчиками и котлетами, жареной рыбой, луком.
Но сами люди прятались за плотными шторами. Постепенно меняли окна на новые, ставили на них решетки, похожие на птичьи клетки. За парадными дверьми, внутри подъезда, появились вторые — железные, с домофоном. Люди выходили, входили, уткнувшись в телефоны. И старались не замечать друг друга.
Летним субботним утром, когда солнце едва поднялось над домом, из подъезда, кряхтя и шаркая, выбрался дед Афанасий. В обнимку с длинными грубыми досками и с крепко зажатым в кулаке молотком.
Дед бросил доски на землю, пригладил ладонью широкие, не по размеру, рубаху и брюки, почесал проплешину, вздохнул и взялся за дело. Приложил доску к дверям подъезда, достал из кармана гвоздь, приладил. И со всей дури залупил по нему молотком.
Стук молотка отражался от стекол.
На балкон на втором этаже, раскачиваясь, как груженая лодка, выплыла Софа Михална — главная по подъезду. Внушительный её силуэт распрямился и замер за стеной из выставленных на солнце кактусов. Она смерила взглядом орла происходящее:
— Афанасий!
Дед не реагировал.
— А-фа-на-сий!
— Чего? — прорычал дед сквозь зубы.
— Мне чего? Ты свихнулся? Ты зачем это делаешь?! — Софа Михална сдвинула кактусы и нависла над перилами.
— Не надо было бы, так не делал! — огрызнулся дед и примерил вторую доску, крест-накрест.
— Террориииист! — завопила Софа Михална, заглушая стук молотка.
Из окон стали свешиваться соседи.
— Что происходит?
— Дверь забивает!
— Что?
— Дед, ты вабще? — завизжала с третьего этажа девчушка с розовыми волосами.
Люди перегибались через подоконники, перила, в недоумении смотрели по сторонам. Полноватый парень в очках вцепился руками в решетку.
— Полицию вызвали? — и, обернувшись, бросил кому-то в квартире: — Полицию вызывай. Полицию, говорю!
— Психушку! — закричала из окна выше красотка с одним ярко накрашенным глазом.
На балкон вышел крепкий полуголый мужик в клетчатых шортах.
— Дед, хорош, а? Я ща выйду! — и, подтянув шорты, оценил расстояние до земли.
Люди кричали, ругались, спорили.
— Псих?
— Уголовник!
— А с виду такой приличный!
— Уважаемый! Немедленно отойдите от двери! — раздалось в репродуктор из-за забора.
К дому незаметно подъехал автомобиль полиции.
Люди замахали руками:
— Вот он! Вон!
— Чокнулся!
Полицейский осторожно приблизился к Афанасию. Тот оскалился и потряс молотком.
— Не пущу! Никого! Не выпущу!
И вдруг обессилел, опустил молоток и вытер лоб рукавом.
— Пока здороваться не начнут.
— Здо… роваться? — неуверенно переспросил полицейский.
— Это что?! — Голос деда дрогнул, на глаза навернулись слезы. — Уставятся в интаграмы эти, идут. Ни слова! Ну, что за люди?!
— Верно, — подперев кулаком щеку, закивала Софа Михална.
Полицейский, едва сдерживаясь от смеха, поднял вверх репродуктор.
— Никого не выпустит! Пока здороваться не начнете! Граждане! Вы почему с соседями не здороваетесь?
— Чего?
— Здороваться?
— Что? Что он сказал?
— С соседями…
Полицейский расправил плечи и протянул Афанасию руку.
— Лейтенант Игорь Паршин! Здравствуйте!
— Афанасий. Семенович. — Дед швырнул молоток на землю и вытер ладонь о рубашку.
Люди в окнах начинали улыбаться. Мужик в шортах заржал и перегнулся через перила.
— Дед! Меня Ваня зовут! Слышь? Ваня! Привет!
— Саша! Здравствуйте! — взвизгнула девчушка с розовыми волосами.
Парень в очках усмехнулся:
— Владимир.
Из-за плеча его выглянула рыжая, как солнышко, девушка, вся в веснушках. Он подмигнул ей:
— И Аня.
— Доброе утро!
Дед, вытирая слезы, смотрел на людей в окнах.
— Афанасий Семенович, — полицейский замялся, — но вы же понимаете…
— Вяжите! — Дед вздернул подбородок и заложил руки за спину.
На балконе колыхнулась Софа Михална.
— Оставьте. Мы разберемся.
Из окон одобрительно зашумели. Красотка фыркнула и скрылась за шторами.
— Как скажете! — Лейтенант козырнул деду, Софе Михалне и, уже не скрывая улыбки, быстро исчез за забором.
Но люди, кажется, этого не заметили.
— Вы с какой квартиры?
— Это у вас собака? Какой породы? У нас тоже…
— Какие шикарные кактусы!
Дед Афанасий, кряхтя, потянул на себя доску.
— Налечь надо! Ща! Помогу! — Подтягивая шорты, Ваня скрылся с балкона.
***
Было это в июне или августе, никто уже и не помнит. Но тем же летом во дворе дома № 24 появилась лавочка в виде большой буквы «П». Затем деревянный навес и дощатый стол, выкрашенный ярко-розовой краской. По ней аккуратно кто-то вырезал радостный смайлик и надпись: #нашдом24.
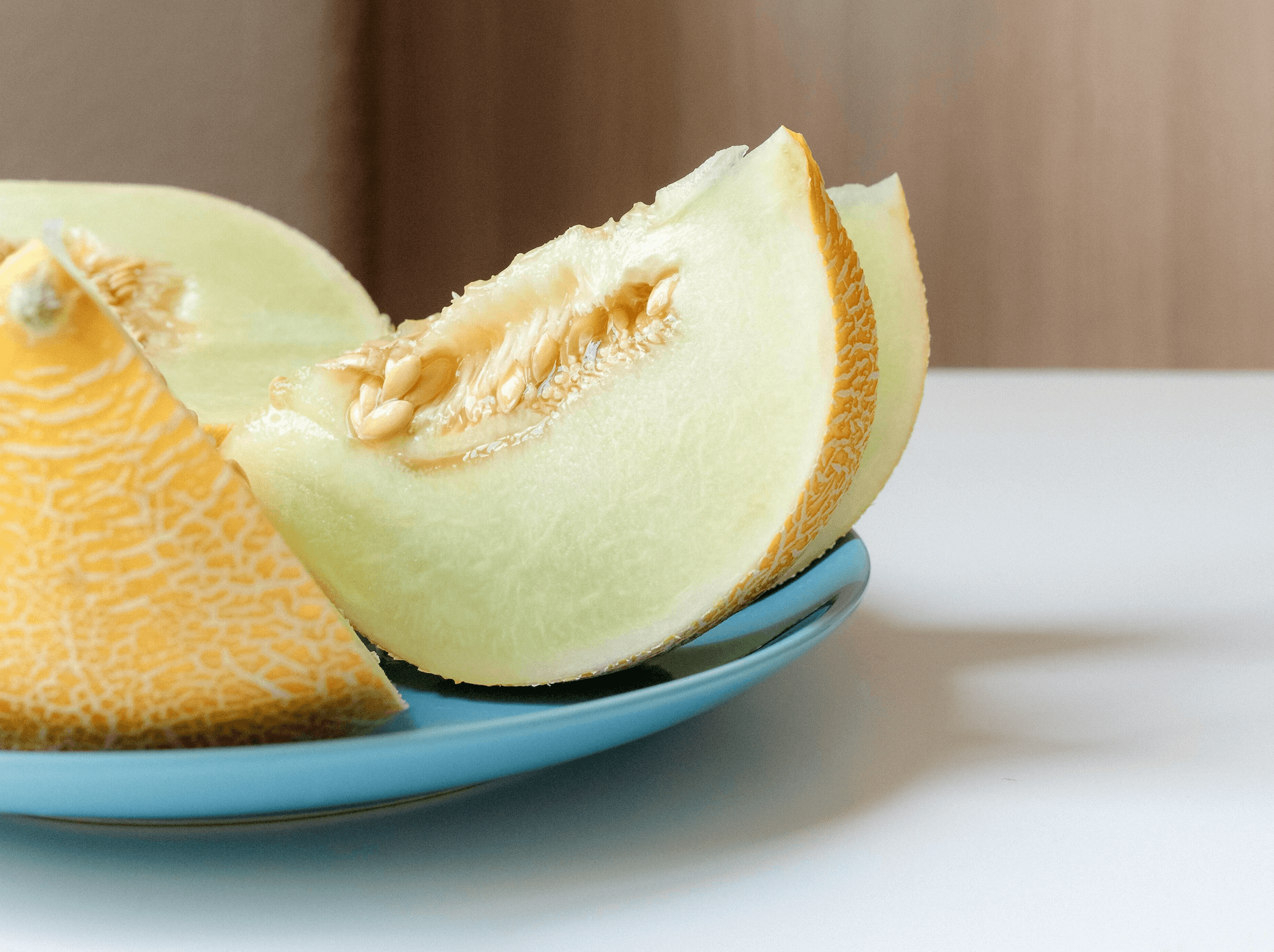
Дыни пахнут солнцем
— Да ладно ты врать, нет у тебя никакого отца.
— А вот и есть!
— Чего он тогда за тебя не заступится?
— Он не может, он далеко.
— Врешь ты всё. Выдумала.
Несправедливо! Несправедливо!
Бац. Из носа Вовки брызнула кровь.
— Дура ненормальная, — крикнул он и замахнулся, но опустив кулак перед самым моим носом, спрыгнул с дерева и исчез в кустах.
Я не хотела до крови. Я вообще не хотела. Просто несправедливо ведь!
Мы часто сидим с Вовкой у Веревочного пруда на старой развесистой липе. Здесь наше место. Иногда мы ловим рыбу или печем картошку в золе. А часто просто болтаем о чем-нибудь. Или молчим. С некоторыми людьми сложно молчать, неловко как-то становится. Только не с Вовкой.
Зря я сегодня так. Вовка — единственный мой друг. Но когда при мне говорят про папу, я точно зверею. Наверное, прав Вовка, я ненормальная.
Я не видела папу семь лет. Может, я и правда его придумала? Но есть же у меня письма. И фотографии. Папа раз в год присылает свою карточку. Он почти не меняется. Высокий. Кудрявый. И нос с горбинкой.
«А ты изменилась, — пишет папа. — Выросла, моя девочка».
***
На платформе было много народу. В последний вагон грузили чемоданы и тюки с вещами. Между пассажирами сновали пухлые женщины с пирогами и ягодами в руках. Как пахли пироги, я не помню. Зато дыни! На станции всегда продавали дыни, прямо в сетках. Я знала, круглые — это колхозницы. Сладкие и рассыпчатые. А длинные, в половину меня — торпеды. Они хрустящие и совсем прозрачные, если сквозь дольку на солнце смотреть. Хотя, может, и это я себе придумала. Все эти годы боюсь, что забуду, как пахнут дыни. В Сибири дыни не те. Их только сахаром посыпать. А еще я боюсь забыть, как пахнет папа. До сих пор достаю его платок (он мне в него яблоко завернул тогда) и вдыхаю запах затертого лоскутка.
Все суетились, а я радовалась. Я так любила поезда. Любила смотреть, как они приезжают из неведомых далей и в неведомые же дали уносятся, выбрасывая из-под колес пыль и сухие травинки. Мы с папой часто приходили на станцию встречать и провожать поезда.
В тот день папа был грустным. А я не понимала почему. Он будто хотел что-то сказать — приоткрывал рот, потом хмурился и вздыхал. Зато улыбнулся, когда я на плечи к нему забралась. Я смотрела вокруг и видела всю-всю станцию. Она небольшая. Совсем не такая, как в городе Н. Со станции видно горы. Они стоят вокруг городка, как стражники-великаны и берегут его.
Дали гудок. И мы с мамой зашли в вагон.
— Поехали с нами, па! — крикнула я, оглянувшись.
Но папа ничего не ответил. Тогда я впервые увидела, как папа плачет. Внутри что-то сжалось. Но мне было всего пять — разве поймешь, что такое разлука. Папа, мама, я. Я, мама и папа. Папа и я. Друзья навек. Так всегда говорил мне папа. Никуда он не мог деться. И я не могла. Сейчас у меня путешествие. А потом я столько всего расскажу папе. Столько всего!
Поезд стучал колесами, как метроном, с которым мама разучивает гаммы. Я забралась на полку и смотрела в окно. Сначала горы бежали за нами следом. Теперь-то я знаю — они, как и папа, понимали, что уезжаю я навсегда. Потом они стали появляться все реже. Наверное, устали догонять поезд. Он-то — скорый, а они — горы. Горы скорыми не бывают.
***
Пора было идти домой. Только совсем не хотелось. На пригорке снова будет поджидать Козырьков. Он немного того, а может, прикидывается. Два года сидит в восьмом классе, а мать его отказывается из школы забирать. Говорит: «Он нормальный». Ага, нормальный. Нормальные на людей не бросаются. Повезло же с таким соседом! Хотя раньше он меня не трогал. Над братьями Синициными издевался. А осенью они в город уехали. И я самой младшей во дворе оказалась.
Маме я об этом не говорю. Она все равно ничего не сделает. Я ей однажды рассказала, как меня мальчишки из класса в снег толкнули, у меня тогда цепочка серебряная порвалась. А она только отругала, что украшение в школу надела. И лишила конфет на неделю. Даже не пожалела, не то, чтобы заступиться. Нет уж, больше я ей ничего не рассказываю. Только Вовке.
Вот где он сейчас? Почему не возвращается? Солнце уже уселось на верхушку дальнего леса. Еще пара часов, и будет совсем темно.
Хотя какой прок от Вовки? Я его сама в наш двор не пускаю. Придется еще и его спасать. Вовка ведь хилый совсем, ниже всех в классе. А на носу очки. Наверное, потому, что читает много. Вообще-то, очки ему к лицу. Он умный, Вовка. Только чудаковатый порой. И волосы у него все время торчат в разные стороны, как сухая трава. Однажды он в люк на дороге провалился, потому что гнездо дрозда рассматривал на верхушке дуба. А на прошлой неделе пришел в школу весь в синей краске. Оказалось — чернила. Он в них рюкзак кипятил — перекрашивал. Но мне с ним нравится. Он настоящий какой-то. Изнутри.
Я спрыгнула с дерева и пошла по прямой дороге. Не хотелось через кусты петлять. Все равно, какой дорогой ни иди, во дворе будет поджидать Козырьков. Еще ни разу не удавалось незамеченной пройти.
Сандалии натерли ноги, я разулась и зашагала босиком. Трава щекотала пятки, а ветер все волосы растрепал. Теперь я настоящее пугало огородное. Может, и не узнает меня Козырьков. Точно! А маскировка на что? Я собрала в пучок волосы и убрала под кепку. Кепка самая невзрачная, черная без всяких надписей. Сережки я не ношу. Хоть мама и уговаривала дырки в прошлом году проколоть. Но я пока не совсем свихнулась, чтобы уши себе добровольно дырявить. Майку я вывернула другой стороной, она как раз оранжевая изнутри. Утром я в голубой уходила. Сандалии? Так… Их закину в рюкзак. А рюкзак спрячу прям здесь в дупле. Завтра заберу. Ключи только от квартиры надо достать. А вообще, это отличная мысль. Почему она раньше в голову не приходила? Буду теперь всегда брать с собой что-нибудь для маскировки. Вдруг сработает?!
Я осторожно зашла во двор, пытаясь шагать как мальчишка — будто это и не я вовсе. Но тут под ноги бросился Зефир — щенок теть Маши из пятой квартиры. Скачет вокруг, хвостом машет. И давай меня вылизывать. Ну все, думаю, пропала. Огляделась по сторонам — Козырькова нигде нет. Надо же, в первый раз такое. Я до самой квартиры оглядывалась. Даже в подъезде вдоль стены пробиралась. Может, уехал куда? Хорошо бы насовсем. Все-таки работает маскировка. Хоть и не так, как я ожидала.
***
Луна огромная сегодня. Еле в окно помещается. И как же на дыню похожа! Глаза прикрою и, кажется, чувствую запах. Интересно, попробую я еще когда-нибудь настоящие дыни, папины… А папу увижу?
— Луна, ты меня слышишь?
Дожились, конечно, с луной разговариваю.
— Ты ведь одна… то есть ты общая. Для всех людей. И для нас с папой.
Открытие сделала, сама гениальность.
— Передай, пожалуйста, папе, как я сильно его люблю… А еще… Скажи Вовке, пусть не сердится на меня. Я не нарочно.
***
Последнюю неделю мы толком не учились, скорее, отсиживались на уроках, пока учителя заполняли какие-то там отчетности. А географичка нас вообще отпустила. «Мне сейчас и с экзаменами мороки хватает», — сказала она и отправила всех домой. Вовка подошел ко мне, будто ничего не было.
— На наше место?
Я кивнула.
Когда мы уселись на дерево, Вовка достал из рюкзака потертую книжку и протянул мне. Он мне часто книги носил. У него мама в библиотеке работала, и Вовка, кажется, всё на свете прочитал. Я тоже читать люблю, но мне как-то не везет с книжками. Беру с полки наугад — читать невозможно. А Вовка приносит — оторваться не могу, читаю взахлеб.
— Два капитана, — прочла я. — Взахлеб?
— Взахлеб! — закивал Вовка.
— Спасибо.
Я открыла первую страницу и прочитала: «Помню просторный грязный двор и низкие домики, обнесённые забором…» Я всегда читаю первую строчку. Если книга хорошая, то и первая строка по-особенному звучит. Даже если совсем простая. Будто зовет тебя дальше, за собой. Я погладила пальцами переплет и провела рукой по растрепанному корешку.
— Откуда такое издание? Старое…
— А, это мама собирала. У нас полстеллажа таких книг. Она после института в Центральной библиотеке работала, а там как раз фонд обновляли. Ну книжный. Новые издания завозили, а старые списывали.
Я открыла семнадцатую страницу, и правда: синяя печать Центральной библиотеки, а сверху жирный штамп «списано».
— Разве можно книги списывать… — задумчиво проговорила я, — Чем книжка старее, тем интереснее. Она же в себе хранит все, руки запоминает. Это ж клад, Вовка!
Вовка спрыгнул с дерева и подошел к воде.
— А я что, спорю? Клад, конечно. — Он раздвинул руками камыши и потрогал зеленую лодку (это дядь Пети лодка, Вовкиного отчима). — Поедем на Безымянный остров, клад искать?
— Какой еще клад? — удивилась я.
— Не знаю, не придумал еще.
— А отчим не заругает, что лодку взяли?
— Он говорил — бери, если важное. А клад, что ж, неважное, что ли?
— Важное, — согласилась я, и мы принялись отвязывать лодку от ржавого штыря.
Вовка бросил под ноги рюкзак и протянул мне руку. Мне опять стало не по себе. Хороший все-таки Вовка. Добрый. Я не привыкла, когда со мной так.
Вовка вставил в пазы весла и принялся грести. В воде отражалось небо и кусты облепихи. И тишина стояла необыкновенная. Будто все звуки мира собрали в одну бутылку и пробкой закрыли горлышко.
Я опустила руки в воду. Вода такая прохладная, как газировка из холодильника. За палец мне зацепилась кувшинка, маленькая совсем, медового цвета. Ими весь пруд зарос. Я слегка прикрыла глаза, чтобы сквозь щелочки все немного размылось. И раз — вместо кувшинок вокруг появились дыни. Огромное поле, усыпанное круглыми дынями. Запах… Надо еще представить запах. Но я не успела. Лодка коснулась берега.
Мы спустились на островок и привязали лодку к плакучей иве.
— Я здесь раньше не была, — сказала я, оглядываясь по сторонам.
— Я тоже. Отчим был. Он каждую весну здесь березовый сок собирает.
И Вовка погладил широкую березу. Кора ее была замазана землей. Земля высохла и потрескалась.
В траве что-то сверкнуло, я присела и подняла перочинный ножик с красным значком на боку.
— Дядь Петин, — сказал Вовка. — А он мне всю плешь проел: «Говори, куда нож девал…»
Я понимающе кивнула и протянула ножик Вовке. Ему тоже несладко жилось. Отчим хоть и не бил его, но бранил постоянно. И во всем виноватым делал. А про настоящего отца Вовка никогда не рассказывал. Да и я не спрашивала.
— Знаешь, — вдруг сказал он, точно мысли мои прочел, — а ведь у меня отец есть. Родной.
Я молча смотрела на него.
— Он в городе живет, но… Не хочет, в общем, знаться. Своих, говорит, спиногрызов хватает. У него семья там, три дочки.
Он помолчал, разглядывая маленький нож, потом спрятал его в карман, тряхнул рукой и крикнул:
— А, ладно, пойдем клад искать!
И мы пошли. Перебрались через поваленную осину, потом сквозь заросли шиповника. Откуда его здесь столько? И вышли к ручью. Он петлял между кустарников, как маленький уж, забирался под камни и коряги и несся дальше — ничем не остановить.
— Шустрый, — сказала я.
Вовка кивнул.
— Перекусим здесь? — и он выложил из рюкзака яйца, хлеб и солонку.
А я достала зеленое яблоко. Вовка разрезал яблоко пополам — как раз перочинный ножик пригодился. И принялся очищать яйца от скорлупы.
— Как думаешь, Вовка, а мог бы мой папа приехать? Навсегда? Бросить свои экспедиции, горы… И приехать к нам, в Сибирь. Географию здесь вести, например. В школе. А? Мог бы?
— Мог бы, наверное. А может, не мог… — Вовка помолчал, ковыряя палкой землю. — Может, без экспедиций ему не прожить, они, может, всё для него…
«А без меня, выходит, прожить можно?» — подумала я, но вслух говорить не стала. Я поняла, о чем Вовка. Он был прав.
Никакой клад мы в тот день не нашли. Разве что первые ландыши под сосной увидели. Они с виду совсем хрустальные. Тронешь — кажется, разобьются. Но выросли же на острове, сами по себе. Никто их от непогоды не защищал. Хотя как же не защищал? А сосны, которые рядом? А сам лес? Выходит, под защитой они. Это хорошо.
***
Козырьков преградил мне дорогу. В этот раз даже не в нашем дворе. А в Вовкином. Я книжки Вовке хотела вернуть. А тут…
— Ну привет, Грушкина!
— Нужен мне твой привет, как сивой кобыле букет цветов…
— Чего? Это ты че, типа огрызаешься?
— Все равно бить будешь! — крикнула я и сжала кулаки.
Снова ходить с фингалом мне совсем не хотелось. А Козырьков бьет сильно и никогда не промахивается. Мне его, конечно, не одолеть. Он на две головы выше. Ну и пусть. Буду до последнего отбиваться.
И тут сзади кто-то как закричит: «А-а-а-а-а-а-а-а!»
Я обернулась. С палкой в руках несся Вовка. Вот только этого не хватало. Он же ростом не выше забора и тонкий, как жердь. Козырьков его одной рукой прихлопнет. Теперь еще и его спасай. Но Вовка, казалось, забыл обо всем, с дикими воплями бежал прямо на Козырькова и размахивал палкой. Козырьков рассмеялся, а я быстро присела и загребла горсть песка. И когда Козырьков замахнулся на Вовку, бросила этим песком прямо ему в лицо. Козырьков вцепился в глаза и застонал. А я схватила Вовку за руку, и мы бросились бежать. Хорошо, что за поворотом начинались гаражи, один из них был Вовкин. Мы забежали в гараж и закрыли засов. Вряд ли Козырьков знал о Вовкином гараже, он раньше в эти края не совался.
Внутри пахло резиной и маслом. Стены и потолок были обиты деревянными рейками, только пол был обыкновенным — земляным. С закрытой дверью здесь было темно, но из-под крыши, где листы металла прогнили от старости, пробивался тугой солнечный луч. Этого света хватало, чтобы не включать висевшую под потолком лампу.
Вовка плюхнулся на старый стул, у которого вместо сидушки была намотана бечевка, и принялся тяжело дышать, точь-в-точь как теть Машин Зефир.
— Не дыши ты как собака! — крикнула я. Я так сильно перепугалась за Вовку. И теперь на него злилась.
— Сама не дыши! — крикнул Вовка, и я поняла, что выгляжу сейчас не лучше. Я стояла, согнувшись пополам у обитой деревом стены, на которой висели веревки и инструменты, и тоже глотала ртом воздух. Стало неловко, что я опять нападаю.
— Спасибо, что пытался помочь, — тихо сказала я и поперхнулась. Мне тяжело давались такие слова. Проще колючей быть, как куст шиповника. Это помогает не плакать. А разреветься сейчас очень хотелось. Не знаю сама, отчего. Может, просто впервые в жизни за меня кто-то заступился.
***
Когда я была маленькой, мы часто ездили на автобусе в соседнюю деревню. К бабушке. Я всегда садилась у окна и долго смотрела вдаль. Там, где заканчивались поля, виднелся далекий-далекий лес. И мне казалось, если я пойду по полю, буду идти и идти, и днем, и ночью, а может, и несколько дней, то однажды непременно дойду до леса. А сразу за лесом будет вокзал. Где ходят пухлые женщины с пирогами в руках. Где суетливые пассажиры пакуют чемоданы. А продавцы раскладывают на сколоченном наспех прилавке самые вкусные в мире дыни. Те самые. Настоящие. И вот я спускаюсь оттуда, с холма. И папа берет меня на руки.
***
— Варька, ты что ревешь? — Вовка вскочил со стула и бросился ко мне.
— Да отстань ты, — сказала я и отвернулась.
Я не плакала при других сто лет. Вовка молча стоял рядом.
Вдруг я вытерла слезы и обернулась к нему:
— Вовка?
— Что?
— А ты знаешь, чем пахнут дыни?
— Дынями, — тихо ответил он.
Я покачала головой.
— Дынями пахнет твоя жвачка. А настоящие дыни, Вовка, они солнцем пахнут. И немножко горами.
Рецензия писателя Екатерины Федорчук:
«Текст получился замечательный, глубокий. Я бы сказала — зрелый, профессиональный. Как точно автор раскрыл трагедию ребят, которые столкнулись с опытом разлуки, насилия, нелюбви! Очень ценно то, что автор смог передать всю боль и горечь разлуки с отцом и все-таки показать, что ситуация не безнадежна. А еще очень ценно, что автор не дает ложной надежды. Я все ждала, что папа девочки приедет… Но он не приехал. И это жизненный поворот. Да, он не приехал, но она не перестала его любить, не утратила этого дара. Она смогла найти утешение в дружбе, нашла близкого человека.
По форме написано блестяще!
Луна, которая для всех и которая соединяет девочку и ее отца — очень тонко написано. Тут и пейзажная зарисовка, и своеобразная молитва, хотя обращенная не к Богу, а к природе, но в ней слышно зарождение религиозного чувства.
Прощание с горами — великолепный, пронзительный, лирический отрывок.
И… на самом деле весь текст хорош, можно долго перечислять.
Но я бы все-таки уточнила возраст ребят — 10, 11 лет? Может быть, чуть постарше?
Есть один из моментов, которые нужно бы поправить. «— Поехали с нами, па! — крикнула я, оглянувшись». По логике она не знает, что папа остается, поэтому фразу нужно бы заменить. Например, девочка удивилась тому, что папа не с ними и спросила: Пап… а ты?»
Рецензия писателя Романа Сенчина:
«Очень хороший рассказ. Крепко написано. Впрочем, рассыпать похвалы не буду — важнее в нашем деле замечания. Мы все учимся на ошибках. Итак. Название мне показалось не очень удачным. Это почти штамп, что дыни пахнут солнцем. Может быть, поищете нечто другое? Начало рассказа вызвало ощущение, что я подобное уже читал. Это не упрек, а мысль вслух. Не исключено, что это плюс — ощущение знакомства с произведением.
По тексту. «Все эти годы боюсь, что забуду, как пахнут дыни. В Сибири дыни не те». Так, а где раньше жила героиня? Да и Сибирь очень большая. Стоит назвать места или хотя бы намекнуть… «Вовка достал из рюкзака потертую книжку и протянул мне. … — Два капитана, — прочла я». Если это «Два капитана» Каверина, то какая ж это «книжка»? Это книжище. Подростку не так-то просто держать ее в руке, тем более на дереве. «Он же ростом не выше забора» — бывают заборы метра три высотой. «Хорошо, что за поворотом начинались гаражи, один из них был Вовкин. Мы забежали в гараж и закрыли засов». А что — гараж был открыт? Если так, то странно. А если у Вовки были ключи и он гараж отпер, то это тоже не очень достоверно — открыть гараж дело непростое и шумное, как правило… Надеюсь, автору помогут какие-нибудь из моих замечаний, чтобы сделать рассказ еще лучше.»

Защемление души
Щелкнул выключатель у двери, и Петра Михайловича ослепил внезапный беспощадно-яркий белый свет. В палату уверенным шагом вошел степенный профессор в белоснежном халате. Его сопровождали лечащие врачи, исключительно женщины, похожие на снежных королев, холодные и безучастные. Ординаторы в мятых грязно-белых халатах робко замыкали процессию. Движение прекратилось, дверь захлопнулась, все обступили Петра Михайловича и устремили на него взоры.
Пациента докладывал ординатор Семен. Он беспокойно мял в руках листок с анамнезом, все время заглядывая в него, потом в лицо профессора, ища поддержки. Седой профессор листал историю болезни, одобрительно кивал, не глядя на ординатора.
— П-п-п-ациент М. обратился с жалобами на появление слабости в ногах при ходьбе…
Петр Михайлович ощущал себя музейным экспонатом, вокруг которого столпилась экскурсионная группа, это смущало его, и он машинально натягивал одеяло все выше и выше.
— Голубчик, не волнуйтесь. Перед вами молодые врачи, опустите, пожалуйста, одеяло, — мягко сказал профессор.
Петр Михайлович послушно откинул одеяло, и все увидели его худые, похожие на бамбуковые палки ноги.
— Коллеги, прошу обратить внимание на мышцы бедер. — Ординаторы засуетились, сделали шаг вперед и начали рассматривать жилистые бедра. Под поверхностью кожи была видна едва заметная рябь, словно легкий ветер дул на воду, слегка волнуя ее. Профессор поднял указательный палец вверх и произнес:
— Это фасцикуляции или, образно говоря, лебединая песнь моторного нейрона.
«Как красиво, — подумал Петр Михайлович, — фасцикуляции, лебединая песнь». Он был простым, но не примитивным человеком. Его всегда привлекали необычные слова и красивые обороты речи. Заметив, что профессор участлив и словоохотлив, Петр Михайлович набрался смелости и спросил:
— Профессор, а что у меня за болезнь?
Профессор, слегка склонив голову набок и подняв брови, ответил с расстановкой:
— У вас болезнь двигательного нейрона.
Петр Михайлович смутился немного и снова спросил:
— А какая?
Профессор тем же тоном ответил:
— Нейродегенеративная.
Потом повернулся лицом к другому пациенту, в тот же миг волнующееся море голов отвернулось от Петра Михайловича, оставив его с этими ответами один на один.
После обхода он, шаркая тапочками, пошел курить в туалет. Там у окна стоял худощавый мужчина. Порывистыми движениями он подносил к губам сигарету, делал судорожную затяжку и щурил правый глаз, который бегал взад-вперед, заставляя и левый совершать эти бесцельные хаотичные движения. Мужчина резко повернул голову в сторону Петра Михайловича, метнул в него беспокойный взгляд и вопрос:
— С обхода?
Петр Михайлович кивнул.
— Чего сказали?
— Сказали, что у меня болезнь двигательного нейрона.
Нервный мужчина криво усмехнулся, сделал последнюю затяжку и раздавил сигарету о серый камень подоконника, свернув ей хребет.
— Дело дрянь. Сначала ноги откажут, потом руки, глотать не сможешь, ну а потом и дышать тоже. Год-два от силы и поминай как звали.
Петр Михайлович изменился в лице, губы его задрожали. В этом тесном и прокуренном закутке он получил неожиданный удар, от которого сбилось дыхание. Солнце оставляло тусклые тени на закрашенных серым цветом окнах, сесть было негде, Петр Михайлович прижался спиной к бледной кафельной плитке, гладкой и безжизненной. Он все хлопал себя по карманам спортивных штанов в поисках сигарет и никак не мог их найти. Собеседник подошел к Петру Михайловичу, достал из нагрудного кармана его олимпийки пачку и вложил в ладонь, напевая: «Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день…»
— Откуда ты знаешь? Ты ж не врач.
— Да я сюда уж десять лет как наведываюсь, все видал, все знаю. И твой диагноз слышал. Видел таких же, как ты. Смекаешь?
Петр Михайлович щелкнул зажигалкой, зажег сигарету и прерывисто затянулся.
— А сам-то ты чем болеешь?
— Неврастения. Нервы у меня расшатаны. Как весна приходит — выть хочется, в душе щемит что-то. Кому любовь, а кому обострение. Да. Меня Костя зовут, — сказал нервный мужчина и сунул руку в ладонь Петра Михайловича.
— Петя, — ответил тот, слегка сжимая влажную, скользкую Костину кисть. — Ну и треснул же ты меня, Костя.
— Да ты мне еще спасибо скажешь. Все они чистые, белые, говорят красиво, умно. А жизнь-то не такая. Раз пришла беда к человеку, так и скажи, мол, всё, баста, спектакль окончен. Зачем все эти миндальничанья, пустые надежды. В одном проценте случаев возможна спонтанная ремиссия — так профессор говорит. И вот ты крутишь днем и ночью этот один процент, а болезнь тебя точит и шансов не оставляет.
Петр Михайлович смотрел на тени деревьев, качающихся на ветру за окном, и не понимал, зачем Костя так жесток к нему, почему даже последнюю надежду отметает так бесповоротно. Еще полчаса назад он спокойно спал на больничной койке, приятно поскрипывающей, застеленной хрустящей свежей простыней, и видел во сне облака, одно не похожее на другое, как плыли они неизвестно откуда и как уплывали в никуда. Так хотелось ему вернуться в тот сон и остаться там. Он вышел из туалета, не попрощавшись с Костей, и побрел к своей палате. В груди щемило и саднило. Проще и понятнее было думать, что это болит сердце, но это щемило душу, зажатую между створками реальности, которая сузилась до маленькой щели между жизнью и смертью. Петр Михайлович лег на койку, закрыл глаза, и по внутренней поверхности его век поплыли облака, увлекая за собой. «Вот и души наши — белые облака, — думал он, — плывут они по неведомым человеку маршрутам, а нам все кажется, что можно ухватить их за мягкий бок и повернуть, куда захотим. И Костя все носится с сачком, хочет поймать свое счастье, и я все тащусь по этому серому миру, ища под ногами причины и смыслы, а нужно просто остановиться и смотреть, как плывут облака над нашими головами».
Петр Михайлович с головой накрылся одеялом, и стало вдруг так хорошо, в груди перестало щемить, створки, сжимавшие душу, открылись, и она облаком поднялась на небо, где затерялась меж других, белоснежных и чистых.

Зона любви
Жила бы себе Лена спокойно, если бы не Палсаныч, который одним махом вселил в её размеренную жизнь беспорядок.
Одним уютным скрипучим январским утром, затолкав своим крепким пузом сонных сотрудников в угол офисного лифта, вечно радостный и добродушный Палсаныч вдруг игриво посмотрел на Лену и прочитал забористый стишок:
— Елена, а Елена? Нашла ли джентельмена? Заберёт тебя пижон в последний свой вагон? — и сам затрясся от своей шутки.
И все сослуживцы затряслись: то ли и им было смешно, то ли за компанию с пузом Палсаныча.
Двадцать восемь лет Лена была свободна и счастлива. Безмятежно изгибалась на йоге, создавала акварельные шедевры на курсах по рисованию, вечерами читала Набокова, учила на женских форумах гармонии и порядку в голове.
И вдруг нарисовался «последний вагон». Детей нет, мужа нет. Все подруги замужем. Стало страшно.
Лена выскользнула из открывшейся в злорадном смехе пасти лифта и с пылающими щеками бросилась в дамскую комнату. Открыв дверь, ударилась левым плечом о косяк, развернулась, дотронулась до косяка правым плечом, спокойно закрыла дверь. Пропуская меж пальцев холодную воду, перебирала в голове знакомых парней.
Во всех, кого она пыталась рассматривать на роль будущего мужа, был какой-нибудь изъян. То кандидат встречался ей в неудачный для начала любовных отношений день, то он оказывался Стрельцом или Водолеем.
Лена посмотрела на свою копию в прямоугольнике зеркала. Та изучающе разглядывала её старательно причёсанные волосы, графичные стрелки и два нежданных, почти параллельных штриха меж бровями.
— Всё! Надо встроить в свою жизнь мужчину. До конца лета стану невестой. Тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить! — Копия повторила за ней, но через правое плечо.
— Дура, — сказала ей Лена и пошла сводить дебет с кредитом.
Вечером этого же дня она накидала план активного поиска подходящей кандидатуры.
Для начала нужно определиться, кого искать.
Солидная книга по астрологии, помнящая, наверное, ещё мезозойские времена, перелистнула страницы до загнутой уголочком сорок третьей и напомнила ключевые моменты для Девы: Телец, Рак и Козерог.
Далее нужно подать запрос во Вселенную.
Лена достала руководство по фэншуй с ярким названием «Жизнь, которую ты выбираешь». Пропустила наизусть выученные главы по притягиванию в жизнь богатства и уткнулась в раздел «Как привлечь любовь».
Юго-запад оказался в стороне совмещённого санузла.
— Ну понятно, — вздохнула будущая невеста. — Зона любви в туалете.
На следующий день были проведены мероприятия по нейтрализации влияния воды на любовную энергию. На трубах полотенцесушителя вспыхнули красные нитки. Лаконичная бежевая шторка в ванной отправилась в помойное ведро, и на её месте появилась травянисто-зелёная. На полке рядом с умывальником поселились две ароматические палочки. Лена теперь через день драила санузел, укутавшись в аромат пачули.
Третий пункт плана был практичным: Лена зарегистрировалась на сайте знакомств.
Через месяц жёсткого отбора асимметрично приподнятых бровей, уверенных маслянистых и спрятанных под пиджак торсов, было выбрано несколько обещающих интересную беседу привлекательных лиц за тридцать.
Ещё через месяц онлайн-переписки их осталось двое: Рак и Телец. Рак вскоре слился, а Телец пригласил на модную антикварную выставку.
За пару дней до свидания Лена перешла к последнему пункту плана: убедиться в правильности выбора.
Прошерстила соцсети и записалась на консультацию к тарологу, под страницей которой верёвочной лестницей раскрутились благодарности.
В назначенное время с экрана монитора улыбнулась Ленина ровесница. Пояснив основные моменты, она повернула камеру на стол, накрытый квадратом бордовой бархатной ткани.
— Итак, ваш вопрос?
— Завтра у меня важная встреча. Я хочу знать, как она пройдёт.
Таролог уверенно перемешала колоду и выложила на бархат три карты. Пурпурным ногтем прижала картинку со священником в красном одеянии.
— Иерофант. Этот человек близок вам по духу. Идёт на встречу с серьёзными намерениями.
Затем перевернула вторую карту. На ней супруги, обнимаясь, махали радуге из золотых кубков, рядом прыгали дети.
— Десятка кубков. От него вы получите взаимопонимание, удавшуюся любовь.
Последней картой выпали обнажённые мужчина и женщина.
— Влюблённые. Вижу глубокие переживания, выбор, отказ от прошлых убеждений. Подведём итог. Как пройдёт встреча, будет зависеть от вашего выбора. Сделав его, вы перестроите мир вокруг вас.
Утром, в истоме потянувшись в кровати, Лена улыбнулась парящим в невесомости весеннего луча пылинкам. Представила, как их, словно людей, засасывает прожектор-луч инопланетной тарелки. Рассмеялась.
Спустила ноги, и, о ужас, первым пола коснулся носок левой ноги. Пылинки замерли. Лена приподняла левую ногу и уверенно опустила на пол ступню правой.
— Всё нормально, — убедила она себя вслух.
До выхода три часа. Она пропылесосила, включила телевизор, выпила кофе. Повернула в ванной кран, зашипела плотная струя. Лена, накинув халат, мурлыкала под нос, глядя, как по воде растекается сахарная вата ванильной пены.
— Исключительно редкий слонёнок-альбинос был обнаружен туристами в Африке.
— Что? — переспросила Лена у телевизора. — Слонёнок-альбинос?
Она вышла из ванной, оставив дверь нараспашку. Канал о животных показывал стадо серых неповоротливых слонов. А потом крупным планом — маленький, заплетающийся в толстеньких ногах розовый слонёнок с большими, просвечивающими на свет ушами. «У-у-у», — протянула Лена, вытянув губы в трубочку.
И вдруг услышала шлепки. Вода переливалась через край. Лена ринулась в ванную и с размаху ударилась об открытую дверь.
— А-а-а-а-а! — заголосила она, схватившись за лицо. Перекрыла воду, посмотрела в зеркало, и полочки в голове накренились, мысли посыпались. Во всё лицо растекалась слива. Стало понятно, что свидание сорвалось.
В дверь позвонили. Лена, беззвучно рыдая, посмотрела в глазок. Болтливый, который снял соседнюю квартиру месяц назад и успел подружиться со всем подъездом, озабоченно прислушивался с той стороны двери.
Лена открыла.
— Что вам?
— Ой! — воскликнул сосед, потеснил её и направился на кухню.
Вернулся с чайной ложкой и замороженной курицей.
— Вы сломали нос. И вам повезло, что я медбрат. Сейчас я его вправлю.
Он прижал изумлённую Лену к стене, засунул ручку ложки в ноздрю и резким движением с хрустом дёрнул. Сразу приложил курицу.
Лена, выпучив глаза, считала мельтешащие искорки.
— Там слонёнок-альбинос, — сказала она и заплакала.
Сосед, собрав брови домиком, нежно погладил её по плечу:
— Сейчас я дам успокоительное. Есть валерьянка?
— Кто вы по гороскопу? — всхлипнула Лена.
Парень хихикнул:
— Ну Стрелец, а что?
Она посмотрела в переливающиеся смешливые глаза, махнула в пустоту рукой и улыбнулась из-под опухшего носа.
— Давайте лучше чай.

Катя и Ханс
— Катя, велосипед Герды — как раз для тебя, — сказал Мартин, выкатывая из гаража велосипеды.
Велосипед? Чтобы ехать в министерство здравоохранения Королевства Нидерланды? В недавно исчезнувшем СССР, откуда Катя приехала на стажировку в Голландию, в министерства ездили на черной отполированной «Чайке» или «Волге».
Седовласый поджарый Мартин — почти пенсионер — вскочил на велик и направился к калитке дома, в котором они с женой Гердой вели образ жизни скорее фермеров, чем чиновников.
Велосипед был из разряда «oma’s fiets» 1 с низкой рамой. Катя выдохнула — она сможет забраться на него в своей прямой узкой юбке. Светлый костюм из американской гуманитарной помощи был самой официальной одеждой в гардеробе девушки.
В начале восьмого улицы в пригородах Гааги были наполнены шуршанием шин и звонками спешащих велосипедистов. Катя сразу попала в плотный движущийся поток на fietspad 2. Первые метры дались ей тяжело — руль вилял из стороны в сторону, а педали отказывались крутиться. Приближающийся сзади смех и гхыкающая голландская речь звучали как надвигающееся цунами. Шумное облако студентов на мгновенье окутывало девушку. Пахло кофе и сэндвичами — молодежь на ходу доедала завтраки, управляя великами только ногами.
Дорога шла мимо полей с кукурузой. У фермерского дома с изгородью из самшита терпкий запах напомнил ей о юге, хотя Северное море было совсем рядом. Катя уже было настроилась на летнюю отпускную волну, как мимо нее со свистом пронеслись велогонщики в черных костюмах и красных шлемах, и она вцепилась в руль.
***
Две недели спустя Катя вновь гостила у Мартина с Гердой. Девушка познакомилась с супругами на конференции психиатров в России, и с тех пор голландцы были ее наставниками. Мартин сидел у телевизора в гостиной — было время Тур де Франс. Из кухни пахло жареным цыпленком, салат на столе был с грядки за окном.
— Катя, ты выглядишь усталой. Это от английского? Или homesick? — Муж с женой выглядели встревоженными.
Отчет Кати о том, как проходит ее стажировка, занял все время до десерта.
Катя закончила факультет психологии МГУ в разгар перестройки, когда гласность сделала очевидным, что в России психиатры лечат по старинке, и о психотерапии, бурно развивающейся на Западе, ничего не слышали. Университет стал первооткрывателем в этой области, и Кате повезло. Она сидела в первом ряду на лекциях мировых знаменитостей, приезжающих в Москву, и готова была продолжить дело Виктора Франкла, Вирджинии Сатир и Карла Роджерса, продвигая их идеи среди врачей. Попав на стажировку за границу, Катя понимала свою миссию — обо всем расспросить, все узнать и зафиксировать.
Поедая ванильное желтое фла 3 пополам с розовым йогуртом, Катя продолжала перечислять, что успела.
Она крутила педали велосипеда, чтобы встретиться с психотерапевтом, использующим ассертивный подход 4 в работе с больными. Потом ее отвезли к специалистам по «выгоранию». Детский психолог пригласил на сессию с подростками. Социальный работник позвал посетить пациентов на дому. В паллиативном отделении Катя завороженно наблюдала за работой медбратьев, которые умели на счет «раз-два-три» поднять человека весом в центнер и посадить на коляску, причем с улыбкой на лице.
Улыбки и юмор были везде и мешали ей сосредоточиться на конспектировании. Катя не могла понять, почему все эти люди с такой радостью ее встречают, целуют два раза в качестве приветствия, даже если видят впервые, и постоянно предлагают кофе.
— Ну, теперь ты точно заслужила право на отдых. Мы можем показать тебе Амстердам и Дельфт. — Герда наливала чай.
— Но я бы хотела еще сходить в библиотеку. И на занятия по трудотерапии. И…
— Тебе стоит познакомиться с Хансом, — вмешался Мартин. — Он живет в ziekenhuis 5 в Хоуг. В деревне сложно понять, где живут обычные жители, а где пациенты. Лечебные корпуса — такие же коттеджи, но на дверях есть эмблема минздрава. Большинство пациентов гуляют, ходят в местный магазин и на ферму самостоятельно.
***
В ziekenhuis Катя нашла Ханса в столярной мастерской среди деревянных заготовок, опилок и стамесок. В руках у него был рубанок, но, как и все вокруг, он был чуть меньше обычного и как будто недостаточно острый. Ханс плавными, скорее поглаживающими движениями выстругивал деталь. Сухощавый, по-голландски высокий, со впавшими щеками, он посмотрел на Катю голубыми глазами и медленно улыбнулся.
Его «гхуе дагх» прозвучало приглушенно.
Катя приступила к интервью — что да как здесь происходит и как Ханс тут живет. Протяжно, на хорошем английском, он отвечал на очередной вопрос, а Катя с нетерпением посматривала на часы, прикидывая, успеет ли она узнать все о методах лечения.
— Ханс, а кем ты работал, когда был… — Она запнулась, подбирая слово на английском. В ее стране здоровые люди назывались нормальными по сравнению с психиатрическими больными. Подумав, она решила использовать слово «normal» и сейчас.
— Нормальным? — переспросил Ханс. Его глаза погасли, и по лицу пробежала гримаса трагедии.
Много лет назад голландец был велосипедистом. Тренером. Молодым и успешным. В начале своей карьеры. Команда должна была занять призовое место на Тур де Франс. И сделала это. И стала готовиться к новым этапам. И пошла дальше. Но с другим тренером. Потому что Ханс слег с депрессией и пять лет не вставал с больничной койки. Лечение оказалось столь серьезным, что после выхода из депрессии он уже неспособен жить со своей семьей. Он навещает жену и двоих детей по выходным, а остальное время живет здесь и работает в мастерской.
Катя старательно вслушивалась. Ее знаний психиатрии не хватало, чтобы понять, почему умный, интересный человек со слегка заторможенной речью только иногда видит близких. Кто был виноват в таком исходе? Врачи перекачали препаратами? Больница не обеспечила уход? Привычная версия «загубили» вертелась у нее в голове.
Ханс помог ей выйти из ступора. «Take your time», — сказал он.
Катя, вдруг забыв простые английские слова, не поняла смысла сказанного. Она машинально повторила про себя три слова, упаковывая их в копилку знаний. Ей захотелось обнять Ханса на прощание, но роль стажера не позволяла.
Последующие дни девушка не успевала посмотреть в словарь и просто повторяла про себя «take your time». Она посетила школу, сходила в детский сад, съездила в летний лагерь, познакомилась с системой яслей. Параллельно собирала секонд хенд и копила книги для психиатров в России.
***
Книг по гуманистической психологии набралось 26 кг, и они не умещались в багаж. Распрощавшись в аэропорту перед паспортным контролем с голландскими друзьями, она вскинула ручной багаж с книгами на плечо. Постаралась не охнуть и держать спину ровно, чтобы не привлечь внимание к очевидному перевесу, и двинулась вдоль очереди. Пытаясь удержать равновесие, она чувствовала, что сумка задевает людей, и спотыкалась о какие-то колеса под ногами. Заметила возможность втиснуться в очередь и по старой советской привычке втерлась между людьми. Сбросила сумку на пол и оглянулась. Старушка на инвалидной коляске улыбалась ей. Женщина с детьми сочувственно кивала. И тут она вспомнила, что значат три слова «take your time» — «не спеши».
- бабушкин велосипед [↑]
- велосипедная дорожка[↑]
- фла — густой молочный пудинг[↑]
- ассертивный подход — одна из концепций когнитивно-поведенческой терапии, основанная на проявлении уверенности в себе[↑]
- ziekenhuis — больница[↑]

Каша
- 8 октября. Серов
Иногда я смотрю на себя в зеркало и думаю о чудовищной кухне времени, где безостановочно крутится мясорубка: на входе — красавчики, мечтающие о счастье человечества, на выходе — мясной фарш, безразличный, вялый, чуть теплый. Приправить укропом (он напоминает еловые ветки) — и аккуратно выложить на адскую сковородку. Перец и соль — по вкусу. Таймер можно выключить.
Вот и всё, механизм не меняется. Оглянись — на входе в мясорубку толпятся новые красавчики. Спорят о каком-то будущем, дерутся — кому первому идти под нож. Чего спорить? Сковородки всё равно не избежать.
— Серов! Каша стынет! — кричит жена из кухни. Я морщусь от звонкого голоса, потягиваюсь, хрустя суставами, продираю глаза, втыкаю ноги в тапки и шаркаю в туалет. Здравствуй, новый день! Когда-то я мечтал, что выйду на пенсию и буду дрыхнуть хоть до одиннадцати, просыпаясь довольным и отдохнувшим, но вот появилась пенсия, а вместе с ней бессонница и головная боль — сколько ни спи.
Я бреюсь, стараясь не глядеть на свою обрюзгшую рожу, седоватые клочья волос и нестареющие оттопыренные уши. Их очень любила трепать Дашка — первая жена. Первая из четырёх. Я всех своих женщин любил и помню, но Дашка — это особая история. Маленькая, рыжая, огонь в глазах. Может, оттого что маленькая, и не вышло ничего с ребенком — прожил лишь две недели. Тоже рыженький и крохотный совсем.
Мы тогда пытались дальше что-то строить, держаться — пока у Дашки не нашли опухоль. Огонь в глазах начал гаснуть. Серые больницы, унылая очередь на операцию, безденежье, закат застоя. О хосписе никто и не слыхивал — пришлось наугад устраивать его в нашей однушке. Вот тогда я и понял, что такое человек: мясо, кровь, боль невыносимая, отчаяние. И запах, запах! Не знаю, как она доковыляла до балкона, я вышел в магазин на полчаса, возвращаюсь — а внизу уже народ собрался, глазеют, пальцами тыкают. После этого я обнаружил, что организм мой алкоголь перестал принимать — пью, и тут же выворачивает. Типа, здоровый образ жизни тебе, Серов, обеспечен. Тогда я был ещё красавчиком, всё торопился куда-то — а куда?
Сейчас вот никуда не тороплюсь. Смыл пену, вытер лицо, намазался кремом, подтянул трусы и двинул на кухню. Одинокая тарелка с кашей, ложка, пара гренок. И жена, моющая банки в раковине.
— Чего! — здороваюсь я.
— Привет! — бодро отвечает она. Так бодро, что аж тошнит. Имеет право — всё-таки на семнадцать лет моложе. Симпатичная. Первое время я очень ею гордился, а потом как-то привык. А ещё потом стала она меня раздражать. Не понимаю даже — почему. Слишком уж позитивная, энергичная… Пытался рассказать ей про кухню времени, но ничего не поняла, — ясно, что из другого теста.
Вторая жена тоже была бодрая, даже повеселее этой. Кристина — редкое имя по тем временам. Зачем я ей понадобился — до сих пор не понимаю. Ну, не для того же, чтобы отобрать мою однушку — она девка была видная, могла бы кого-нибудь и поинтереснее найти. А может, как раз для этого. В общем, крутанулся любовный миксер раз — и стал я мужем красавицы, крутанулся второй — и очнулся снова холостым, на этот раз на койко-месте в какой-то общаге. Панцирная сетка гамаком, матрац вонючий, тараканы бегают, соседи в очко режутся. Человек — это звучит гордо. Жизнь прекрасна и удивительна.
Я сажусь на табурет, упираюсь локтями в стол и долго устраиваюсь, перекатывая ягодицы. Голова наполняется тугой болью. Каша, конечно, остыла. Это овсянка — слипшаяся в комок склизкая перламутровая медуза, плотно угнездившаяся в тарелке. Похожа на мою жизнь — такая же застывшая, пресная и холодная. И никаким маслом её не поправить.
Я засовываю кашу в микроволновку и смотрю на жену.
— Чего овсянка? Чего не гречка?
— Ты забыл, сегодня вторник. Гречка в среду. — Жена, улыбаясь, продолжает мыть банки. Откуда их столько? Даже трехлитровая одна.
Я наблюдаю, как таймер микроволновки ведёт обратный отсчет отпущенного мне времени. После второго развода, очнувшись на дне и порядком там повалявшись, я обнаружил, что не очень-то хочу жить. Всюду суета, лживость, подловатость. Не говоря про физиологию — дерьмо, гной, сперма, блевотина. И впереди — болезни, боль, распад. Стал думать. Если на кухне времени не лезть в мясорубку, есть шанс попасть в холодильник и сохраниться подольше, хоть и замороженным. Смысла это, правда, не добавляет, но его ведь и так ни в чем нет. И начал я подмораживать себя и понемногу всплывать со дна.
Звякнула микроволновка, и я, обжигаясь, перебрасываю тарелку на стол. На звук пикирует из гостиной Кеша — пепельный, с алым хвостом. Шлепается рядом и подходит к тарелке. С ним у меня полное понимание.
— Серров — дурак, — доверительно сообщает Кеша. Вот кто его этому научил? Догадаться несложно. Я с ним разучиваю только песни моей молодости, и он поёт их так же душевно и фальшиво, как я.
— Не давай ему кашу, она соленая, — говорит жена, оторвавшись от своих банок и ставя на стол блюдце с нарезанным яблоком. Кеша переключается на фрукт, а я — на кашу. Она почти не нагрелась. Я ковыряю бесформенную массу и вспоминаю, как любил овсянку в детстве — все удивлялись, что её можно есть, а я всегда просил добавки. Вкус был особенный, позже так умела готовить только Ирина, номер три в брачном реестре. Она влетела в мою жизнь, когда я уже поднимался в министерстве. Влетела так стремительно, что и у меня башню сорвало, даже в философии своей усомнился. Но не настолько, чтобы планы на детей строить — не стоит эта жизнь того, чтобы рождаться. Жаль, лишь после свадьбы прояснили этот вопрос — Ирина спорить не стала, разошлись по-тихому. Может, зря? Хорошо с ней было, тепло. Осталась лишь хрустальная ваза в гостиной с торчащим пучком сухоцветов.
— Серов, дай тридцать тысяч, — говорит жена, — Машка рожать хочет, нужно на обследование.
— Пусть у мужа просит, — отвечаю я, прекрасно зная, что мужа никакого нет. Начинается! Машка двадцати пяти лет — это дочь жены от прошлой жизни. Не тот ещё возраст, чтобы понимать всю глупость бытия. Я наливаюсь раздражением. В голову как будто вкручивают шурупы, и тут же начинает ныть печень.
— Ну что ты опять, не жмоться, что-то у неё не так идёт, боится, что ребёнок будет с особенностями, — нудит жена. Четвертая, и, надеюсь, последняя. С ней-то мы всё обсудили заранее: и про детей, и про секс, и про стратегические цели. Скучновато получилось, зато надежно, теперь уж до конца, тем более, она работящая, характер легкий — в общем, расчет оказался верным. Хотя порой все-таки бесит эта скука.
Я медленно жую кашу, пытаясь успокоиться. В голове тоже каша, пульсирует боль, мутными пузырями всплывают из глубины тёмные мысли. Жил-жил, и что? Хорошо сохранился в своём холодильнике, Серов?
Я не спеша поднимаюсь, беру тарелку с кашей обеими руками и с удовольствием шваркаю её о кафельный пол:
— Хрен ей! Пусть аборт делает!
Попугай подпрыгивает и машет крыльями. Сизые слизняки овсянки медленно сползают по моим бледным волосатым ногам. Мне вдруг становится хорошо, печень успокаивается, и даже голову отпускает. Жена начинает тихо плакать, кажется, в первый раз за десять лет супружества. Надо же.
- 9 октября. Иван
Я жму на звонок, но не врубаюсь, слышат его или нет. Жму еще. Тут
дверь распахивается, и на порог выползает мужик в олимпийке и трениках. Конкретный дед, толстый, седой, надутый. И лопоухий — ну и ржа!
— Чего? — спрашивает дед. Лицо — как будто сейчас блеванёт.
— Вы Аркадий Гаврилыч? — спешу я, пока он не смылся. Быстро отдать ему и свалить. Обещал, блин.
— Чего? — повторяет дед, вроде как соглашаясь. Ну и тормоз! Где мама могла такого найти?
— У меня для вас посылка, — говорю я и сую ему в руки свёрточек в серой бумаге, — от Ирины.
— От Ирины? — тупит дед, перебирая, видно, в башке всех своих Ирин.
— Ну да, от вашей бывшей жены и моей мамы, — говорю я. — Она просила, чтобы я после её смерти передал вам. — Эти слова мне удается сказать почти нормальным голосом.
— Она что, умерла?
— Да, месяц уже, — отвечаю я, — я пойду. — Но дед цепко хватает меня под руку и тащит в квартиру. Вот попал, блин!
Он суетится, наливает чай, ставит блюдце с баранками. Тут же откуда-то валится на стол здоровенный попугай, хватает баранку и начинает её мусолить. Ну и трэш! А клюв-то! Дед берёт нож и вскрывает свёрток. Я слежу. Ничего такого — тонкий альбом с фотками и пластиковый пакетик. В нем кольцо с мелким камушком. Дед таращится на меня, быстро пролистывает альбом и тащит его в гостиную. Сквозь открытую дверь вижу, как он возится у шкафа. Женат небось, походу прячет компромат. Но и мама альбом, кажись, скрывала от отца.
— Как тебя зовут-то? Расскажи, как она жила? — Дед возвращается за стол, берет кружку. Попугай взлетает и плюхается ему на плечо.
— Ну, Иван, — говорю я. — Хорошо жила, отец её очень любил, я тоже. Летом на море ездили, зимой в Красную Поляну.
Дед тупо пялится на мой старый свитер, джинсы с вытянутыми коленями.
— Сколько же тебе лет? — задаёт идиотский вопрос.
— Ну, типа пятнадцать. Какая разница? Я же не спрашиваю, сколько вам лет.
Он молчит, смотрит куда-то вверх, шевелит губами. Затем неприятно шарит по мне глазами.
— Что у тебя за прическа такая? Уши, что ли, прячешь?
Ну и дебил! Я сижу, пью чай, будто не слышу. Не говорить же, что меня в школе зовут «Вангог». Птица вдруг выпускает деду на олимпийку сизую струю, и я улыбаюсь. Дед косится на плечо, попугай громко орёт: «Сорри! Сорри!» — и улетает. Полный трындец!
— Ладно, спасибо, я спешу, извините! — говорю я и срываюсь в коридор.
— Может, тебе деньги нужны? — кричит дед, но я уже хлопаю дверью. Хотя деньги, конечно, не помешали бы, бабкиной пенсии не хватает. Отец, правда, переводит иногда, но он даже на похороны не приехал, сука.
- 10 октября. Кеша
Ну, наконец-то, сколько можно спать! Жена сдергивает с клетки чехол, я забираюсь на верхнюю жердочку и приветственно ору:
— Серров дурак!
Жена сегодня почему-то не улыбается на это, зато из своей комнаты вылезает Серов и кривится:
— Кеша, заткнись, а то в суп отправлю!
С утра у него проблемы с юмором. «Добррое утро!» — Я делаю вид, что исправляюсь, и Серов открывает клетку. Я совершаю облет гостиной и сажусь ему на плечо. Он подходит к зеркалу и внимательно изучает мое отражение. Перышки, хвост, когти — всё блестит и сияет! Я поворачиваюсь к оттопыренному серовскому уху и констатирую:
— Кеша хоррош! Хоррош!
— Ты-то всегда хорош, — бурчит Серов, приглаживая остатки волос и скаля зубы. Дальше он пойдет умываться, и это скучно. Я слетаю на пол и подхожу к низкому столику, накрытому скатертью. На ней стоит сияющая на солнце ваза. Я любуюсь этим блеском, но Жена кричит:
— Кеша, кыш! Иди ешь кашу! — Я немного путаюсь в этих словах, но про кашу понимаю. Сегодня, кажется, будет долгожданное пшено. Взмахиваю крыльями и легко, как горный орел, лечу на кухню, следя за своей стремительной тенью в темном стекле шкафа.
Так и есть, пшенка с кусочками банана! И немного клубники. Это всё мое любимое. А вот и Серов. Заходит, берёт свою кашу, ест, чавкая и всасывая. Класс! Я откладываю ягоду и тоже начинаю громко чавкать и всасывать. Заходит Жена и смотрит на нас с кривой усмешкой. Она катит большой красный чемодан.
— Все, Серов, до свидания, — говорит Жена, — достал ты меня до последней степени! Сволочь ты все же и жмот, как я тебя столько терпела… Было у тебя четыре жены, найдешь и пятую. — Она берется за чемодан и хочет выкатить его в коридор.
— Соня, ну ты что? — спрашивает Серов, вставая навстречу. — Да я уже перевел сегодня Машке полтинник. Садись, поговорим.
Что за Соня? Первый раз слышу. Я взлетаю на холодильник и оттуда подсказываю: «Жена! Жена!». Стараюсь, но никто не смеется. Дураки.
Жена оставляет чемодан и возмущенно что-то говорит Серову. Тот отвечает — сначала тихо, потом громче. Я стараюсь запомнить новые слова и звуки — такого я еще не слышал! Они долго кидаются фразами, а после Серов подходит к Жене и пытается обнять. Она отбивается и возмущенно кричит. Ну вот, совсем забыли про меня. Придется идти на крайние меры. Я расправляю крылья, слетаю на стол и громко начинаю свою любимую: «Сиреневый тума-ан ногами проплыва-ает, над табором гори-ит зелёная звезда…».
Они замирают и глядят на меня круглыми глазами. То-то же! Я начинаю танцевать между тарелками и снова проникновенно завожу: «Сиреневый тума-ан…». Надо было, конечно, дальше выучить, но ничего.
— Кеша, вали отсюда! — говорит сердито Серов и машет рукой. Что он понимает в музыке! Я не скрываю своей реакции и сообщаю:
— Серров дурак! — после чего, толком не поев, лечу в гостиную, на ходу слыша, как Серов примирительно говорит: «А ведь птиц прав». И они снова начинают орать друг на друга.
Я делаю круг по комнате и тут-то наконец понимаю, как же мне повезло! Сажусь на пол и не спеша прогуливаюсь туда-сюда, косясь на сияющую вазу с сухоцветами. Час пробил! Я важно подхожу к столику, хватаю клювом край скатерти и тихонечко тяну. Ваза подъезжает к самому краю и замирает. «Раз-два-взяли!» — говорю я фразу из мультика, красиво нагибаю голову, снова цепляю скатерть и победительно дергаю. Ваза падает рядом со мной и громко взрывается мелкими кусочками. Вот это да! Страшно, но я невредим. «Геррой!» — говорю я сам себе и клюю сухие цветы. Горькая дрянь.
Шум на кухне стихает, и мне это кажется подозрительным. Когда Серов заходит в гостиную, я уже сижу в клетке, спрятав голову под крыло — сплю себе, тихий такой, послушный попугайчик жако.
- 14 октября. Соня
Я сижу в коридоре, выкрашенном в веселенькие голубые тона, жду доктора и думаю о событиях последних дней.
Вспоминать это тяжело. Хорошо, что я не ушла тогда сразу, как хотела, когда он в разгар ссоры вдруг выбежал и исчез. Подождала пару минут, взяла чемодан, подкатила к входной двери — и всё же вернулась посмотреть. А Серов лежит возле столика, на осколках от вазы, и дергается, пытается приподняться, что-то крикнуть. Перетащила его на одеяло. Хорошо, скорая быстро приехала, доктор сказал, что каждая минута была решающей.
Вот так-то, Серов. Жалко. Человек без вредных привычек. Никакой, под стать фамилии. Не самый плохой вариант, если честно. Подруги завидовали. Предсказуемый, скучный, надежный. Но какая-то трещинка все же была, чуть заметная. Загадка, намёк на сложность. Думала, смогу разгадать — но нет. Может, я сама виновата, ему другая баба нужна? Посмотришь — вроде неплохой мужик, но без всякого вкуса к жизни, без азарта, без цели. Секс и каша — по графику. Теперь график придется менять. Да все придется менять, не хочу пока про это думать.
А вот пацан меня удивил. В смысле, Ваня. Серов десять лет молчал о своей жизни, как будто пришел ниоткуда. И вдруг Ваня — свалился вчера как снег на голову: подавай ему Серова. Узнал — разволновался. Говорит, бабка ему что-то там наплела, и теперь очень ему надо с ним увидеться. Ничего парнишка, хоть и странноватый.
Ну вот, наконец-то дверь открывается, и доктор приглашает зайти. Молодой, невысокий, бритый, и кулаки здоровенные. Внушает спокойствие.
— Повезло вам, — заявляет с ходу, — процессы дегенерации не успели развиться. Инсульт небольшой, скорее всего, будут проблемы с левой рукой. Речь пока нарушена, но должна восстановиться. Я вам позже расскажу, что надо будет делать.
— А увидеть-то его можно? — спрашиваю.
— Теперь уже можно.
Доктор ведет меня по каким-то коридорам, заводит в одиночную палату. Серов лежит с капельницей, укрытый одеялом, и смотрит в мою сторону. Я подхожу к нему и кладу руку на лоб. Холодный.
— Ничего, Аркаша, — говорю я, — доктор уверен, что скоро ты встанешь на ноги. Мы ещё поживём, верно?
Серов поворачивает голову и смотрит в глаза, взгляд его затуманивают неожиданные слёзы. Доктор поощрительно кивает, изображая оптимизм. Дверь в палату распахивается, и влетает взъерошенный Ваня. Он застывает возле меня, глядя на Серова, затем смущенно бормочет:
— Здравствуйте.
Серов переводит взгляд на Ваню и долго смотрит не мигая. Затем один глаз его прищуривается, как бы подмигивая нам, а уголок рта сползает куда-то вниз и вбок. Серов ещё не умеет улыбаться.

Кредитные обязательства
Лучше Пухова никто не умел писать контракты. Согласитесь, что контракт, по сути, описывает круговорот людей и вещей в обиходе — тут и предмет надо знать, и понимать, кто что делать должен, и какую ответственность понесёт. Это, пожалуй, не легче, чем рассказ написать: хитрость и честность здесь так же круто замешаны, только отвечать за всё придётся деньгами, а то и головой, и не только своей. Пухов, к его чести, в этом деле разобрался быстро, к тому же он один во всём КБ знал английский — в пределах кандидатского минимума. Как знатный специалист по групповым технологиям, ученик самого Митрофанова Сергея Петровича, он упростил работу и все контракты приблизил к изобретённому им типовому; каждый при этом отличался нюансами. И вот в последнюю неделю самый последний и самый дорогой стал привлекать к себе особое внимание.
Нюансы, Пухов догадывался, тут были — не нравились ему люди, которые этот контракт, так сказать, лоббировали. Быковатые рожи какие-то, но на бумаге вроде всё чисто. Пухов хранил оригиналы, и за эту неделю его трижды просили сделать дополнительные копии: для налоговой, для милиции, прокуратуры. Последнюю, третью, он снял в пятницу утром, и в копировальном аппарате закончился порошок. А под вечер на фирму нагрянули гости — два парня из Большого дома. Директор, за глаза все звали его Шефом, уже уехал; Гарика, главного инженера, по чью душу они приходили, тоже не было на месте, и секретарша отослала их к Пухову. Длинный, с оттопыренным левым ухом, предъявил удостоверение с гербом. Интересовала всё та же сделка. Очень вежливо они попросили показать оригинал и снять дубликат. Пухов отчего-то развязно ответил, что все копии уже раздал, а теперь и тонер закончился. У длинного с ухом прорезался стальной тон, и он отчеканил:
— Хорошо, берите оригинал, поедем с нами и отксерим у нас.
Пухова слегка заколотило. Ехать с Невской заставы на Литейный — на дачу с продуктами сегодня не успеть, и вообще… Тут уж он перестал выкамаривать и помчался в копировальный отдел завода упрашивать знакомых девочек, чтобы они заново раскочегарили аппарат «Эра» и сделали нужные ему синьки. Почему у Конторы такой интерес к этому контракту, было неясно; с его, Пухова, стороны там полный ажур. Мелькнула мысль: дать бы знать Гарику, но некогда, нельзя опоздать на электричку.
В воскресенье вернулись с дачи поздно, привезли тёще огурцов на засолку и смородинового листа. Надо было собираться в поездку, вылет в субботу, 24-го: неделя в Цюрихе, неделя в Вене. По такому случаю дети пропускали начало учебного года — как-никак первая поездка за границу. В понедельник 19-го Пухов проснулся по будильнику, почёсывая пузо, прошёл на кухню, тёща с тестем ещё не выходили, включил радио — и обомлел.
Железный голос вещал: «Обращение к советскому народу… Над великой Родиной нависла смертельная опасность… Воспользовавшись предоставленными свободами, попирая…»
Пухов машинально включил газ, налил воду в чайник, поставил на плиту, несколько раз прошелся из угла в угол, посмотрел в окно — во дворе возле школы уже возились маляры. По созвучию всплывало: шестьдесят восьмой, стройотряд, им на днях возвращаться в город, а тут комиссар из Обкома комсомола: «Политика “социализма с человеческим лицом” поставила Чехословакию на грань вооружённого захвата её силами НАТО, и поэтому мы вынужденно ввели войска первыми, всего на сутки опередив их».
Вышла в кухню жена.
Радио продолжало: «Никогда в истории страны не получали такого размаха пропаганда секса и насилия, ставящие под угрозу здоровье и жизнь будущих поколений. Миллионы людей требуют принятия мер против спрута преступности и вопиющей безнравственности…»
Жена бросилась в спальню, там под матрасом лежали два порнографических журнала, (Пухов недавно провёз их контрабандой из-за границы. В специальные магазины заходить неловко, но по вечерам уличные торговцы выкладывали нескучные журналы прямо на тротуаре, вот он и отважился), завернула их в плотную бумагу, засунула в пакет, схватила из кладовки тёщин блокадный ватник, повязала на голову платок, надвинула на глаза и побежала на помойку. На ближайшей, у мусорных баков, толклись два бомжа, и, петляя и запутывая следы, она рванула к дальней. Избавилась от свёртка и только отошла, как к контейнеру подползла тётка, подцепила пакет и стала разворачивать. Жена дала дёру, боясь даже оглянуться.
Пухов заторопился на работу. Сходу сунулся к главному инженеру, дверь в его кабинет была закрыта. Пошёл к Шефу, сели обсуждать. В десять утра заглянул заводской куратор из органов и объявил, что поступила команда забрать телетайп. Для Шефа персональный телетайп был главным атрибутом независимости КБ, но он молча кивнул, и куратор по-хозяйски отключил телетайп и сам же унёс.
Пухов побрёл в свой отдел. Народ не работал, ходили из комнаты в комнату, пересказывали нелепые слухи, кто-то слушал радио «Балтика», оно единственное давало хоть какую-то информацию, а кто-то решил двинуться на Дворцовую, на митинг. Пухов их отпустил, но сам не поехал, из приёмной позвонил жене, незнакомый голос ответил, что всех распустили по домам. Шеф нервничал и держал его у себя в кабинете. В пять часов снова пришёл куратор, извинился и вернул телетайп. Видимо, что-то у них пошло не так. Пухову полегчало, это немного оправдывало его нерешительность, если не сказать трусость, в Москве-то события продолжались, а в Питере возле Ленсовета народ собирался строить баррикады, говорили, что к городу идёт танковая колонна.
По радио передали, что в Москве арестованы руководители десяти крупнейших коммерческих фирм. Их предприятие по обороту номер один в городе, придут, значит, и за ними.
Уже выходили, когда Шефу позвонил Гарик.
— Я улетел. Не хочу лежать на Левашовской пустоши рядом с дедом, — донеслось до Пухова сквозь треск из трубки. — Только на днях получил на него бумагу о реабилитации.
Шеф изображал спокойствие, а Пухов обмяк и даже забыл спросить, что им делать дальше.
О себе Пухов знал, что он не дурак: зря, что ли, школа с медалью, институт с отличием, диссертация. Несколько лет назад Гарик, с которым они дружили с детства, позвал его к себе начальником ВЦ. Восьмидесятые, всё застыло, никаких перспектив, и Пухов без колебаний согласился. Он был Гарику благодарен, смущало только, что тот о себе много воображает, но Пухов все эти годы благородно-снисходительно прощал ему его слабости. Когда же Пухов увидел его в деле, пришлось признать, что Гарика он сильно недооценивал, тот оказался настоящим гением с феноменальной памятью и быстрым умом!
Вся промышленность рушилась, а их конструкторское бюро процветало, и ясно было, что это заслуга исключительно главного инженера, плюс связи Шефа — директора КБ. Когда страна пришла в движение, и Шефу удалось отделиться от тонущего завода, Гарик первым в городе выхлопотал лицензию на внешнеэкономическую деятельность и начал работать с валютой. Пухов всё же пугался, что Гарик так рискует, закупая персоналки контейнерами чёрт знает у кого и оплачивая вперёд, нагружая КБ безумными кредитными обязательствами, правда, осечек пока не было. Зато, если продавать компьютеры мелкими партиями, можно назначать большую цену, выходит огромная прибыль, зарплаты, премии. И каждый раз Пухов убеждался, что Гарик всё просчитывает и держит в уме. Сам находит поставщиков, сам договаривается о ценах, даёт команду конвертировать доллары, марки, фунты. Биржи ещё не было, биржа крутилась у него в голове: Гарик вёл несколько счетов в ВЭБе в разных валютах, перекидывал деньги с одного на другой, играл на курсах и почему-то никогда не проигрывал. Скорее всего, у Гарика был инсайд, но спрашивать было нельзя.
Скороговорку Гарика Пухов хватал на лету и, составляя спецификации, балдел, что такие фантастические компьютеры проходят через его руки: на этаких машинах можно одним махом перепрыгнуть через технологическую пропасть. Переоснастим заводы роботами, и по нашим колдобинам станут летать джипы, а вместо пепилацев — нормальные самолёты. Во всем цивилизованном мире клубника в пять утра, теперь и у нас будет в пять утра! Посредники, блин, бандитские рожи, часами сидят в кабинете главного инженера, пугают народ, но Шеф не беспокоится, так чего тогда Пухову переживать.
В последние годы он стал толмачом у Шефа, особенно за границей у них складывался замечательный дуэт. Играя его свиту и высказываясь от его имени, Пухов невольно перенимал от Шефа его артистизм и естественность в общении с людьми большого калибра.
Гарик тоже отчасти допускал его к своей кухне, обучал, можно сказать; и новый образ, который открывался Пухову, одновременно и притягивал, и отталкивал. Готовя, скажем, документы для командировок, Пухов размышлял: как, интересно, его друг соотносит свой вклад в дело с долей других людей.
— Нужна новая головка для швейцарского фотоплоттера, — докладывает Пухов, — у заказчика печатные платы не на чем проектировать.
— Я в Вену еду на встречу. Выписывай командировочные нам с Алёной. А ты дуй в Цюрих и возьми с собой Шефа прогулять, он там ещё не был.
— Командировочные?
— Вам, как обычно, по 70 баксов на день, нам по 300.
— И Шефу? — Гарик был ещё студентом, когда Шеф взял его стажёром, и они уже многие годы работали вместе.
— А что, всё равно на какую-нибудь хрень потратит.
— Так, с малого, наверное, и начинают акулы капитализма, — ухмыляется Пухов. — Мне же отчёты ему сдавать!
— Ерунда, он не смотрит, что подписывает, если что — скажешь, что ошибся.
Пухов понимает, что Гарик его подставляет, он думает, как Шефу будет в глаза смотреть, как всё сложно, смурно.
— Ты не против, если я тогда на недельку отпуск оформлю и жену прихвачу, она нигде не была? — после паузы пробует поторговаться Пухов.
— Сделаешь дело — заезжайте в Австрию на несколько дней, там всё намного дешевле, отоваритесь, — неожиданно легко соглашается Гарик.
***
Последнее советское правительство было назначено 14 января 1991 года, а вскоре Шеф расхвастался, что его вызывали в Москву, на самый верх:
— Импортёры херовы! Запад, видишь ли, кредитов им не даёт. Не верит госконторам больше никто, вот и всё. Разжирели на государственных харчах, нихера крутиться не хотят, саботируют только. На партийную мафию работают. Мне вице-премьер говорит, ты всё с иностранцами крутишься — вот и найди мне кредиты. Вишь, как повернулось — у частника сейчас больше возможностей. Тебе, говорит, могут дать, ты головой отвечаешь. И срочно, рысью! В Москве через полгода жрать будет нечего!
И только когда в конце апреля они с Шефом входили в зал заседаний Правительственной комиссии, Пухов окончательно поверил, что то было не обычное для Шефа преувеличение, и дело может выгореть. Правительством фактически управлял вице-премьер, назначенный из крепких министров, а когда-то в Ленинграде они с Шефом начинали вместе на одном заводе, пришли в один день.
Шеф ездил «открывать Европу», и Пухов с ним. До Израиля добрались, дипотношения ещё только начали восстанавливаться, Гарик злился: зря деньги тратит. И каждого, даже случайного собеседника Шеф расспрашивал о возможности поставок в кредит. Пухов переводил, стараясь интонацией не выдать своего скепсиса, но вот же, сработало: Шеф едет докладывать о результатах в правительство, при нём Пухов, Гарик этим заниматься не захотел.
Среди множества голов, стриженных под канадскую польку, две женские, по правую руку от председательствующего вице-премьера — голова с седой шевелюрой, знакомая по портретам и сосланная в отставку из Политбюро в правительство Москвы. Шеф с Пуховым — напротив вице-премьера с противоположного торца длинного стола, по иерархии.
Вопросы разные — проблема одна, дефицит: стали, вагонов, бензина, всего. Вице-премьер слушает, прерывает, тыкает; цифрами оперирует лучше, чем докладчики. Переходят к продовольствию. Правительство озабочено снабжением больших городов, особенно Москвы, и готово дать государственные гарантии под кредитные обязательства. Член правительства Москвы важно кивает, он теперь, как старый кот на крыше, перешёл на тренерскую работу: мол, мы теперь мышей не ловим, но приём и распределение гарантируем. Поднимают Шефа, он начинает докладывать: поставщики, условия кредита, сроки поставок; вице-премьер не даёт договорить: вопросы есть? — вопросов нет, решение принято, за работу, товарищи!
Тема вроде исчерпана, разве что Шефа переполняют эмоции, и он не унимается: а, может, закупить израильские инкубаторы, тогда через три месяца у нас будут свои цыплята. Вице-премьер досадливо обрывает:
— Ты с ума сошёл. За три месяца нас сметут!
И вдруг Пухов неожиданно для себя выкрикивает:
— Израильтяне предлагают отдать бесплатно яйца. У них перепроизводство. И выпустить багаж еврейских эмигрантов взамен. А то приходится выбрасывать в Средиземное море.
— Багаж? — удивляется экс-член.
— Яйца! — растолковывает Пухов.
— Вы разве не знаете? — с едва заметной иронией произносит вице-премьер, разворачиваясь и наклоняясь к советнику московского правительства. — Мы багаж не выпускаем, там за год не разгрести, всё Шереметьево забито.
Советник и отставной член оживляется:
— Так может, подключить военно-воздушные силы?
— И военно-морской флот, — эхом отзывается Пухов.
Они выходят с заседания, и Шеф благодушно комментирует:
— Широко мыслит уважаемый политик. Боевой авиацией да по Израилю, каково? А самолётами яйца возить? Золотыми станут. Вот мудак. Хорошо ты вставил: эсминцами да по яйцам!
И, уже садясь в машину, подводит итог:
— А у нас с тобой, похоже, есть шанс дожать это дело.
***
Всю неделю Пуховы волновались, не закроют ли границы, не покатится ли всё назад. 24 августа вылетели в Цюрих. Первым делом купили транзисторный приёмничек и постоянно держали его включённым. И дождались: путчистов арестовали, демократия вроде победила.
В Цюрихе бродили по улицам, удивлялись богатой жизни, рассматривали витрины магазинов, внутрь заходить боялись. Поднялись в пустой университет, подивились копировальным аппаратам на каждом этаже и обилию туалетной бумаги в туалетах. Набрели на закрытый музей — домик Томаса Манна, директор поразился диковинным гостям из СССР, открыл музей и провёл им экскурсию. Потом поехали в Люцерн и поднялись на гору Пилатус, где по легенде похоронен персонаж из «Мастера и Маргариты». Содержательная получилась поездка.
Добытые запчасти Шеф увёз в Ленинград, а Пуховы отправились в Вену, там их поджидал Гарик.
В китайском ресторане разместились за огромным круглым столом, Гарик подсел к Пухову и склонился к его уху.
— Оставайся!
Официантки расставляли мисочки, раскладывали палочки и подносили первую волну закусок.
— Я могу заработать и тебя не брошу. Не пропадёшь.
— Вот так, с бухты-барахты? Всё бросить? Мама, тесть с тёщей… Есть же шанс, что страна станет нормальной.
— Ну, ты даёшь! Нормальной? Тёщу жалко? Представляешь, если бы твоя бабушка не ударилась в революцию, а уехала со всей семьёй в Европу? Был бы сейчас британскоподданным.
— В том-то и дело, что другая культура. Смотри, всё, что было под замком, сейчас открывается, не надо полностью себя переделывать. И ездить можно, куда хочешь.
— Не валяй дурака. У вертухаев больше наследников, чем у зэков! Думаешь, эти ребята потеряют аппетит? Они за мной толпами ходили, запах денег, знаешь, как манит? Остаться — значит под них лечь.
Пухов вспомнил, что так и не успел рассказать Гарику про визит из органов, но сейчас это казалось уже несущественным.
— Аппетиты само собой, но ведь и дело можно сделать. Здесь кому я нужен, разве что тебе бухгалтером, а там, считай, целина.
— Пустыня, а не целина, а здесь мировой бизнес. И мы не старые. Учиться делу надо там, где оно есть. И детей поднимать в нормальной стране.
— Нет, знаешь, я пока не готов.
— Давай тогда так: ты будешь мне рассказывать, что у него происходит. Мне бы только у Шефа склады забрать, и на счетах много чего осталось.
Пухов подумал, что первый состав с салями и маргарином стоит под парами где-то в бывшей ГДР. Их с Шефом проект, а Шеф тоже не горел желанием делиться с Гариком.
И Пухов промолчал. Налетели официантки с горячим, больше они с Гариком к делам не возвращались.
Уже в Ленинграде выяснилось, что главный инженер уехал не просто так, а с деньгами и всеми связями, которые он держал в уме, а долги и обломки действующих контрактов повисли на Шефе. О разговоре с Гариком Пухов не доложил.
***
Пухов летит, опаздывает. Васильев уже был, Левашов был, Суровцев отметился, надо скорее, вдруг подумает, что забыл. Говорят, сорокалетие не отмечают, а тут такой шабаш. На столике в углу груда коробок с бантами, фуфыри, флаконы. Из-под веников портрет в раме выглядывает. Ба, да это икона в окладе.
— Какой идиот подарил это чудо в перьях?
— Пусть полежит. — Именинник доволен, развернувшись к углу, теребит бородку, усмехается в усы.
Икона поднимается, отряхивается, красные гвоздики брызгами в стороны, проплывает за креслом и сливается с Гариком. «Это нимб, — догадывается Пухов, — святое сияние». Тут борода у Гарика начинает съезжать, лицо растекается, и очки повисают на правом ухе.
— Предал! — пугается Пухов и просыпается.
***
Правительство смели, и страна развалилась, а поставки в Москву потом шли ещё три года. Международные обязательства частных компаний и корпораций, банков и страховщиков оказались сильнее, хотя новое руководство очень старалось отнять контракт. Но не вышло.
Где-то в сентябре Пухов с женой возвращались на электричке с дачи, нагруженные антоновкой. На станции «Девяткино» пересели в метро. Народу было немного, напротив уселся высокий парень, его лицо показалось Пухову знакомым, он на всякий случай изобразил улыбку, но тут увидел оттопыренное ухо и вспомнил. Парень подмигнул.
— Осторожно, двери закрываются. — Оттопыренный вскочил и в последний момент выпрыгнул из вагона.
— Как-нибудь проживём. Теперь свобода! — в эйфории подумал Пухов. — Гарик не прав.

Митинг
«Не сходится!». Петров лихорадочно подбивал в «экселе» выполненные за прошлый год задачи и потраченное на них время. «Аудиторы точно будут придираться. Скажут, что я слишком мало работаю!» — вот уже неделю шла внутренняя проверка. Понятно, что времена тяжелые. Кризис, опять же война на юге. А тут из кадров «десант высадился» и давай шерстить весь отдел. Ворох противоречащих друг другу запросов, сотрудники с выпученными глазами строчат отчеты. Пошли перешептывания про грядущую оптимизацию штата.
Зазвонил телефон. Сергей Павлович, просит зайти. Петров живо представил, как начальник объявляет, что компания разрывает с ним контракт. Да и что еще думать, если за предыдущие годы в его кабинете он был всего пару раз? Страх в кризис потерять работу сковывал. В новостной ленте корежащие сообщения о ходе военной операции сменялись заголовками о росте цен и дефиците товаров. Вдобавок Катя уже полгода сидела дома, чему рада была только их дочь. Петров же с тоской думал, что брюки начали вытираться — еще немного, и надо будет опять покупать костюм, чтобы не выглядеть совсем уж обтрепанным.
Он медлил, барабаня пальцами по столу. Потом заблокировал компьютер и пошел на заклание.
У Сергея Павловича было не продохнуть — весь отдел в сборе. Петров как можно бодрее поздоровался:
— Привет, коллеги! Ну что, вещи уже пора собирать?
Пара натянутых улыбок в ответ и напряженные взгляды.
— По этому вопросу нет ясности. Пока отбиваемся, но решение за кадрами. Сейчас я должен до вас донести важную информацию. — Сергей Павлович сверился с исписанной от руки бумажкой.
— Кхм, коллеги, завтра на стадионе будет некое «мероприятие». Нужны желающие его посетить.
По комнате прошел вздох облегчения.
— Митинг, что ли? — Петров изменился в лице. Накануне мелькало что-то в соцсетях, но он не придал этому значения.
— Назовем «мероприятием»! — Сергей Павлович деловито читал с листа. — Так. По времени. Приходите на работу к девяти, в десять можете отправиться домой, переодеться. Сбор у стадиона к двум. В пять всё закончится. Кто идет?
— Это обязательно? — без особой надежды спросил Петров.
— Крайне желательно, ты же понимаешь.
Конечно, он понимал. Стоило ждать чего-то подобного. Петров надеялся, что кто-нибудь начнет протестовать, спорить, но тщетно. Наоборот, все быстро поднимали руки и вносили себя в список. Петров беспокойно переминался с ноги на ногу. Вот сейчас дойдет очередь и до него, а он скажет «нет».
— Петров!
— А? — Петров очнулся и обнаружил, что все взгляды обращены на него.
— Так тебя записывать?
— Да, да, конечно. — Петров не узнал свой голос.
— Вот и отлично. — Сергей Павлович сделал последние пометки и убрал листок. — Само собой, лучше ни с кем ничего не обсуждать. И не забудьте сделать несколько фотографий со стадиона — вдруг кадры запросят.
До конца рабочего дня Петров не находил себе места, нервничал. Даже про обед забыл. Коллеги предложили скооперироваться и поехать вместе, он отказался. Он никак не мог понять, почему они ведут себя как ни в чем не бывало? Даже радуются, предвкушая отличную погоду и возможность прогулять работу. С другой стороны, а какие варианты? За примером далеко ходить не надо, его Катя прошлым летом пошла на принцип и уволилась с высоко поднятой головой, с тех пор — только собеседования. Петров понимал, что выбора особого нет, но все равно внутри ворочалось чувство, что происходит что-то неправильное. А теперь он должен был еще и Кате как-то все объяснить, но должна же она понять?
Петров сутулился. В мутном окне вагона пассажиры походили на вопросительные знаки, застывшие над свечками телефонов. Он посмотрел на себя — такой же крючок, уткнувшийся в смартфон. В рабочем чате обсуждали сокращения. Новостные заголовки мрачные, кричащие. В них, как в омуте, легко можно утонуть. Несколько раз его рука опускалась, и он оглядывал окружающих, но потом неизменно возвращался к новостному потоку. «Мир столкнулся с угрозой голода», «Введен новый пакет санкций», «Круговорот военнопленных», «Пожар в Брянске», «Червивая Луна сияет в ночном небе».
— Господи, Луну то за что? — простонал Петров. Как и следовало ожидать, Луне ничего не угрожало. Виноваты какие-то древние индейцы — накопав первых весенних червей, они решили, что в этом заслуга серебристого светила.
Петров прищурился, что-то вспоминая, а потом позвонил.
— Алло?!
— Бабуль, привет!
Бабушка воспитала Петрова, и он ее очень любил. Она всегда радовалась, когда он приезжал, и была в восторге от его увлечений. В прошлом году он помешался на астрономии и, отложив немного денег, купил с рук небольшой телескоп. И в первую очередь похвастался бабушке, пообещав непременно показать Луну. Петров забежал в квартиру и начал складывать в сумку телескоп, треногу, окуляры. Взглянув в окно, он увидел, что Луна уже выглянула из-за крыш домов и начала медленно карабкаться наверх.
— Куда это ты собрался? — Катя заглянула в комнату.
— К бабушке! На Луну смотреть, я ей давно обещал!
Петров подхватил вещи и выскочил из дома, пока Катя не начала возражать или того хуже — расспрашивать, как прошел день.
На Дмитрия Ульянова горели редкие окна сталинских высоток и уличные фонари. Петров вышел на бульвар и, дойдя до перекрестка, быстро настроив телескоп, позвонил бабушке. Через некоторое время она показалась из-за угла. Маленькая, хрупкая фигурка брела с палками в руках. Кажется, подуй ветер, и ее унесет. У Петрова сжалось сердце.
— Простите, это ваш телескоп? — Рядом стоял молодой парень с собакой на поводке.
— Да.
— Можно взглянуть?
— Конечно!
— Никогда так близко Луну не видел. Спасибо!
— Ой, а можно и нам тоже посмотреть? — послышалось сзади.
Пока бабушка шла, вокруг Петрова образовалась небольшая толпа из собачников, выгуливающих своих питомцев, и прохожих, так что ей даже пришлось протискиваться. Всем не терпелось посмотреть на ближайший спутник, а Петров не мог отказать.
— Привет!
— Здравствуй, дорогой! Смотрите?
— Ага! Давай с нами! — Петров поймал в окуляр убегающий диск и отошел, уступая бабушке место.
— Боже мой! Как здорово! — Бабушка радовалась как ребенок — Какая она огромная! И рельеф виден! А что это за белая точка внизу?
— Это кратер. «Тихо» называется.
— Тихо, как интересно! — Бабушка улыбалась. — Надо же, какое название «говорящее»!
— Это в честь одного астронома. — Петров тоже начал улыбаться.
Он посмотрел в телескоп. Огромная желтовато-белая Луна в окуляре была такой далекой и безмятежной. И тихой. Висит себе в вечной пустоте каменный шар вместе с мириадами звезд и планет. И нет ему до нас никакого дела.
— Пойдем, провожу тебя до дома.
Они сидели на знакомой с детства кухне. Петров рассказывал, а бабушка слушала. Поговорили о космосе и планетах, о дочке и ее успехах, о подготовке к школе и планах на лето. Только о работе Петров не проронил ни слова — не хотел расстраивать. Ему было хорошо, как будто время повернулось вспять. В какой-то момент он снова ощутил себя маленьким. Петрову казалось, что впереди каникулы и целое лето в деревне, где самый важный выбор будет — идти за грибами или на речку.
Дома все спали, когда Петров вернулся. Сначала он зашел в комнату к дочери и с минуту глядел, как она спит, подложив ладошку под щеку. Он дотронулся губами до ее мокрого лба и прикрыл дверь. Затем заглянул в спальню.
— Еда в холодильнике. Поешь и приходи спать, — пробурчала Катя, не открывая глаз.
На кухне Петров положил на хлеб холодную котлету и, налив себе чая, стал медленно жевать. Мясо казалось сухим и пресным. Глоталось с трудом. Катя всегда здорово готовила, но сейчас еда казалась безвкусной. Неумолимо наступал следующий день.
Мир не перевернулся. Наоборот, природа вокруг так и сияла счастьем. Петров шел от Парка Культуры по залитой солнечным светом улице. Становилось жарко, и он уже успел пожалеть, что надел пуховик. Несмотря на будний день, народу много. Все улыбаются, смеются. Петров смотрит под ноги. Воткнув наушники, включив музыку, он отгородил себя от шума, глубоко погрузившись в собственные мысли.
Совсем рядом, на соседней улице, была квартира его друга. Можно забежать, поздороваться — вообще не крюк. Но что он может ему сказать? А если тот спросит, почему Петров не на работе? Солгать? Петров с силой пнул банку из-под газировки, потом спохватился, поднял и выкинул ее в урну.
На сообщения Паша перестал отвечать месяц назад, через несколько дней после того, как всё началось. Петров не раз перечитывал переписку, пытаясь понять, в чем дело. Когда-то давно они спорили до хрипоты о политике и едва не разругались. Тогда Петров решил, что дружба важнее, и остановился. С тех пор общение он старался вести на далекие от новостной повестки темы. И хоть совместные встречи стали реже, а по телефону в основном обсуждали книги и кино, Петров дорожил тем, что удалось сохранить.
Сейчас Паша перестал брать трубку. Сообщения читал, но по какой-то причине оставлял без ответа, отчего становилось тревожно. Появилось чувство утраты, как будто друга не стало. По природе замкнутый, погруженный в себя, Паша еще в школе частенько ставил в тупик — никогда нельзя было догадаться, что у него на уме. Когда грохнуло, Петров писал чуть ли не каждый день. Настойчиво штамповал письма о погоде, о прочитанных книгах, о том, как урвал новые кроссовки, даже шутить пытался, но каждое сообщение как будто проваливалось в вязкую, глухую пустоту. Это молчание не могло не породить мнительные и болезненные мысли: вдруг Паша считает его врагом, презирает? «Да лучше бы на хер послал!» — жаловался Петров Кате. Под гнетом сомнений он прекратил писать — какой смысл? Несколько раз порывался позвонить с чужого номера и высказать всё. Но так и не решился, боясь окончательно всё испортить.
— И все-таки надо поговорить! — пробормотал он себе под нос, передернул плечами и только выкрутил громкость на максимум.
Чем ближе к Спортивной, тем больше становилось народу. Нескончаемые потоки подхватили Петрова и потянули вперед. Скоро уже и выбраться было некуда. Повсюду развевались флаги, играла музыка. Петров, зажатый со всех сторон, шел туда, куда двигалась людская масса. Наконец, толпа выплюнула его прямо к циклопическим стенам стадиона. Те, у кого были на руках билеты, протискивались внутрь, на трибуны, остальные закружились в гигантском хороводе, останавливаясь у больших экранов или полевой кухни. Петров всматривался в лица людей, словно пытаясь отыскать что-то. Пестрая толпа перешучивалась и улыбалась. Довольные возможностью провести день на свежем воздухе, люди ели кашу, пили чай и слушали приглашенных артистов. Кто-то даже умудрился пронести алкоголь. Петров выскочил из водоворота ближе к набережной. Здесь было тише, стояли лавочки. На одной из них сидел немолодой мужчина. Глаза его были закрыты, лицо подставлено весенним лучам. Петров присел рядом, некоторое время смотрел на него и затем тоже закрыл глаза. Шум толпы пропал. Цокали каблуки проходящих мимо людей, слышны были негромкие разговоры. Солнце приятно согревало. Дыхание стало размеренным, спокойным. Прошло несколько минут. Петров открыл глаза и встал — пора возвращаться обратно.
У стадиона народ начал скучать. Только когда на сцене появился глава государства, по толпе будто пробежала волна возбуждения и сразу угасла. Петров не слушал. Дождавшись окончания речи, он развернулся и поспешил прочь.
Не желая толкаться у метро, он перешел реку и углубился в парк. Здесь почти не было прохожих. Щебетали птицы. С каждым шагом ощущение нереальности происходящего усиливалось, как будто Петров погружался в какой-то морок. Вдруг его окликнули.
— Петров! Эй, Петров, давай к нам!
Он вздрогнул. На открытой летней веранде паркового кафе сидели коллеги. Петров смутился, будто его подловили на чем-то. Но деваться некуда — пришлось подойти. Возникшему рядом официанту он заказал лагер.
— Ну, как дела? Откуда идешь?
— Со стадиона. — Петров отвел глаза.
— И как там?
— Как будто сами не знаете. — Пиво оказалось теплым и выдохшимся, и он отставил бокал. — А вы давно здесь?
Коллеги как-то неловко переглянулись, ответил Владимир:
— С утра заседаем, уже половина по домам разъехалась.
Петров вытаращил глаза.
— А как же митинг? — Он переводил взгляд с одного коллеги на другого.
— А что туда ходить-то? Давка, куча народа. Не протолкнуться. Мы от метро сразу сюда. Ты вчера неразговорчивый был, а так бы и тебя позвали.
— Мы же обещали пойти! Что скажет Сергей Павлович? — Петров не верил своим ушам.
— Ну ты и наивный, капец! Сергей Павлович уехал от нас полчаса назад.
— А если кадры начнут проверять? — не унимался Петров.
— Если только тебя! С твоим-то везением не исключено! — под общий смех пошутила Оля.
Петров отказывался верить.
— И что, никто не пошел?
— Нет, ну кто хотел, наверное, был. Вот ты, например. Тут главное записаться — остальное неважно.
— Как говорили классики: «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения», — продекламировал Владимир, все снова засмеялись. Петров замотал головой. Он достал несколько смятых купюр и положил их на стол.
— Мне пора. — Петров выдавил улыбку, чувствуя, как усталость опустилась на плечи. Ему хотелось оказаться как можно дальше от этого кафе и своих коллег.
— Странный ты какой-то. Только пришел и сразу уходишь! — сказала Лена.
— Да оставьте его в покое! — вступилась Наташа. — Дайте ему переварить. Он же всё за чистую монету принял — сказали идти, он и пошел, по-честному. Никто же его не предупредил, как надо такие «мероприятия» посещать.
Петров кивнул ей и пошел в сторону выхода из парка.
— Надо было у старших, опытных товарищей спросить, а не молчать.
— И вообще, давайте выпьем! — донеслось в спину.
Петров до вечера играл с дочкой в куклы, наряжал их, кормил невидимой едой и пил из игрушечной посуды несуществующий чай. Взгляд его был отрешенный, задумчивый. Уже перед сном, лежа в кровати, Катя повернулась к нему:
— Слушай, а ты слышал, что сегодня митинг был?
— Да, было что-то. — Петров смотрел, как лунный свет из окна падает на Катино плечо, как блестят в полумраке ее глаза. Он подумал, что ей, наверное, тяжело его рассмотреть против света. Только размытый темный силуэт.
— Я в новостях читала. Опять бюджетников нагнали, представляешь? Тьму какую-то, тысяч сто человек или больше.
— Угу.
— А вас не заставляли?
Пауза была едва заметна.
— Нет, — неожиданно легко соврал Петров.
— Вот и хорошо! — сразу выдохнула Катя. — А то я бы тебе ни за что не простила! Лучше уж всей семьей без работы остаться, чем на митинги за власть ходить! — Катя поцеловала его. — Люблю тебя! — Перевернулась на другой бок и, прижавшись к нему спиной, почти сразу заснула.
Петров еще долго смотрел в потолок, слушая ее ровное глубокое дыхание.
Рецензия критика Валерии Пустовой:
«Рассказ очень интересно задуман. Особенно меня ошарашил финал. Я и сама хотела задать автору вопрос, мол, зачем Петров идет на стадион, раз в списках там, на месте, не отмечают. И вдруг рассказ выдал ответ. У меня было чувство, что я обманута вместе с Петровым. Очень удачно получилось. Удача тут в том, что автор действительно показал пропасть между Петровым и его коллегами, раскрыл многоликость компромисса: коллеги записываются на митинг запросто и не идут на него, то есть для них нет ничего, что было бы делом принципа или, пафосно выражаясь, чести.
Композиция рассказа сложная: автор тянет время до решительного выбора героя, для этого вводит образ бабушки, эпизод с луной, вводит образ друга, чтобы расширить контекст метаний героя, помогает этому и образ жены, разом принципиальной и простодушной. Есть очень удачные ходы. Например, бойкое начало, первая фраза захватывает и вносит в рассказ на скорости. «С тех пор — только собеседования» — тут кратко и метко автор показывает цену, которую Катя платит за выбор.
Про червивую луну в новостях — тоже крайне удачная вставка, резко переключающая внимание. Это важно, потому что без переключений рассказ давил бы на читателя злободневностью. Образ луны вносит некоторую иронию и раздвигает контекст восприятия. Психологически убедительно и то, что бегство к луне не переменило планов героя: да, он попытался отвлечься, опереться на то, что его обычно держит — родная бабушка, возвышенная луна, — но не помогло. Он слишком чувствует, как подступает реальность, и готовится пожертвовать принципами ради ее требований или того, что таковыми представляется. Удачно показано и его решение — когда он ест и не чувствует вкуса, и мы понимаем, что луна луной, но герой не ушел в мечты от действительности, он готовится к трудному выбору.»
Рецензия писателя Екатерины Федорчук:
«Очень непростая тема и непростая структура рассказа.
Сложность темы в ее злободневности, которая часто толкает авторов к публицистическому изложению своих мыслей. Автору удалось счастливо избежать этой ловушки, но ценой некоторой закрытости героя в те моменты, когда он мог бы открыть свое сердце читателю.
Зато очень выигрышно смотрится непосредственная и живая апелляция к недавнему прошлому — вот станция «Спортивная», вот стадион, толпа… Все это было так недавно, так еще живо в памяти, что эффект узнавания резко повышает степень вовлеченности читателя в события рассказа.
Текст четко делится на три составляющие. Первая — это этюд о Луне. Очень цельный, законченный, не требующий ни расшифровки, ни продолжения. И он мне очень нравится!
Бабушка получилась немного сказочная. Но можно сказать и иначе — символическая. В этом отрывке уже есть все об одиночестве героя, о трудностях морального выбора, о тревоге, которая разъедает наше сознание. И о том, что есть вечные ценности. Луна… любовь… старенькая бабушка, такая наивная… Они, эти ценности, эти люди могут удержать нас на плаву.
Но так как рассказ о Луне оказался вставленным в повествование иного характера, более жесткое, его символический, условный смысл стал восприниматься как недостаточно достоверный.
Отличный сюжет с другом, с которым они рассорились из-за политики, потенциально очень богатый. Мне кажется, его стоит развить в самостоятельный рассказ. Сейчас же этот сюжетный ход не раскрывает для нас характер главного героя, а тормозит действие и тормозит его довольно сильно.
Отдельная интересная находка: наблюдение за людьми на митинге. У автора на этот повествовательный ход просто не хватает пространства, а у читателя — сил. Ведь он, читатель, только что пережил два полноценных и очень насыщенных эпизода с главным героем — с другом и луной.
Вступление немного «провисло». В нем затрагивается тема, которая не находит своего развития. Петрова могут уволить и поэтому… А что «поэтому», не совсем понятно…. Ну, вроде бы, герой идет на компромисс с совестью, потому что боится увольнения, но прямой корреляции между увольнением и митингом я не вижу…
Финал мне очень понравился. Есть в нем лиризм, легкая ирония и правда жизни.»

Мишка, Мишка, где твоя улыбка?
- Дилемма
В начале нулевых Мишка был финансовым директором перспективного холдинга. Зарплата чудесная. Заслужил даже небольшую долю в бизнесе. Мишка как рыба в воде плавал в бурлящем финансовом рынке поднимающейся с колен России — бартер, взаимозачеты, акции, векселя. Звание КМС по шахматам просто так не дают, и Мишка с удовольствием применял свой натренированный мозг для хитроумных денежных комбинаций.
Но тут холдинг возглавил новый, крайне амбициозный генеральный. Мишка слабо еще разбирался в человеческих отношениях. И спустя всего пару месяцев эти два альфа-самца повздорили на ровном месте. Закончилась утренняя оперативка скандалом с увольнением «незаменимого» финансиста.
К обеду Мишка оказался на улице. В прямом и переносном смысле. Он шел, не разбирая дороги, с трудом перебарывая свой гнев, и загибал пальцы. Что ему делать?
- Родословная
Подзаработав деньжат на инвестировании в недвижимость, предприниматель Мишка Сырохватов скучал по своей малой родине на севере Прикамья, любимому с детства поселку Чашкино с сосновыми борами и уютными озерцами. Сейчас, перебравшись в краевой центр, Мишка обустроил в пригороде рядом с лесом и речкой большой коттедж, родовое гнездо, так сказать. После этого он решил, что стал главой своего клана, увлекся историей рода Сырохватовых и заказал исследование родословной.
Подрядчик добросовестно выполнил свою задачу, докопался до 1650 года. Все предки по мужской линии — русские крепостные крестьяне Строгановых из Усолья, ничего особенного. Родоначальник — Еремей Сырохватов.
Мишка заказал изобразить родословное древо на картине и важно повесил его в коттедже. Собрал гостей на очередном празднике, ну и попросил дочку Ирину показать гостям развесистое и изукрашенное древо.
Иринка послушно показывает, а гости спрашивают: «Ну и кто тут у вас родоначальник?» Дочь, ни секунды не задумываясь, отвечает: «Да какой-то еврей Сырохватов». Гости как захохочут, Мишка сначала насупился на дочь, а потом тоже как схватится за животик.
- Мишкин треугольник
Наталья поставила полную тарелку краснющего борща перед уставшим мужем и стала расспрашивать, как прошел день. Мишка с потухшими глазами сначала отвечал неохотно, уставившись в тарелку. Он часто и жадно прихлебывал холодное пиво, пытаясь скорее расслабить натруженный за день мозг.
Супруга, не особо вникая, слушала привычные ей новости о переговорах, кредитах и судах, фиксируя только эмоции в Мишкиной речи. А когда он начинал ерничать, его голубые глаза блестели от смеха и немного слезились.
Седоват уже стал Мишка, отметила Наташа. Но, зараза, до сих пор нравится женщинам. Конечно, харизма чувствуется… Уверенный громкий голос, вспыльчив по мелочам, спортивная короткая стрижка, рубашка плотно обтягивает крепкие плечи… Так и он пристально провожает глазами проходящих мимо девушек, этого от взгляда жены не скроешь.
Мишка все время за ужином нетерпеливо проверял телефон и клал его экраном вниз. Его вниманием Наталья завладела, только когда заговорила о дочках. Мишкины глаза сразу подобрели, он расстегнул верхние пуговицы на рубашке. Любит дочек, удовлетворенно отметила супруга. И она, добавив красок в свой рассказ, с удовольствием наблюдала, как Мишка, прикончив вторую бутылку пива, радостно смеялся школьным похождениям дочурок, при этом не забывая вспылить, если что было не по нему.
- Попутчик
— Я не пью, — сказал сосед по спальному купе, глядя прямо в глаза.
— Да, конечно, — ответил Мишка, отведя взгляд и слегка усмехнувшись.
В купе повисла нехорошая пауза.
— Да ты, если хочешь, наливай. Без проблем. Я бросил, когда меня в сан посвятили.
Мишка с облегчением стал раскупоривать коньяк и больше по инерции спросил:
— Какой сан?
— Я священник. Православная церковь.
— Ого… а говорил, что тоже, как и я, предприниматель.
— Да. С понедельника по пятницу я в костюмчике работаю в своем офисе. А в субботу утром я надеваю облачение и служу в храме.
— Ничего себе. А как ты… вы к этому пришли?
— У меня торговая сеть в Кирове. Прибыль есть. Решил немного поделиться. Внес деньги на храм. В следующий раз с друзьями уже свой фонд организовали. Собрали денег. Уже пять храмов стоят. Тут ко мне и подошли. Ты такой светлый человек, говорят, давай мы тебя в сан посвятим? Подучили меня, посвятили, вот служу.
— Здорово. Что это дает?
— Связи у меня сейчас такие, Михаил, каких никогда не было. Чиновники, строители, предприятия. Но я это больше из-за души. Вот ты в церковь ходишь?
— Ну, иногда хожу, — сказал Мишка, глядя в стакан.
— Веруешь?
— Ну, — Мишка пожал плечами, — верую.
— Так. Давай по-другому. У тебя баня на даче есть?
— Конечно. Как у каждого нормального пацана, — довольно усмехнулся Мишка. У него была шикарная баня недалеко от реки. Запах мяты, истома, треск дров в печке, откровенные разговоры с друзьями под холодное пиво. Священник разве поймет.
— Так вот, в церковь надо, Мишка, ходить как в баню. Ну хоть раз в месяц душу свою отдраить, как на полке тело дубовым веником. И будет тебе жить легко, как будто после парилки ведро на себя вылил.
Мишка не нашелся сразу, что сказать. Никакие книги, никакие увещевания близких о том, что надо верить, надо ходить в церковь, его абсолютно не трогали. А тут… И Мишка задумчиво пригубил коньяк.
- Испытание
Мишка лежал в крошечной больничной палате неотложной хирургии и лихорадочно соображал, как же так все быстро произошло. Еще несколько дней назад он лихо отплясывал на свадьбе дочери. Коньяк лился рекой, вокруг были сплошь близкие люди. В бизнесе море задач, одна другой неотложнее. В Москву еще надо ехать, оплачены уже участие в конгрессе и отель. И вдруг по всем фронтам: «Стоп!».
Большая черная вязкая масса обволокла и блокировала все Мишкино сознание. Опухоль. Явная онкология. Срочная операция. Все прогнозы только после нее. Страшно.
«Как так? Мне всего сорок девять. Внешне я мужчина в самом расцвете сил. Я же только жить начал по большому счету. Я же ещё столько всего не сделал. Почему я? В чем я дал промашку? Бред. Это не может происходить со мной. Но происходит.
А зачем я вообще явился на этот свет? Что я сделал хорошего? Да, что-то сделал. Дети, бизнес, построенные здания, но этого ведь мало. Это всё не то. А что я важного пропустил? О чем я мечтал в детстве? Так сразу и не вспомнишь… Но крайне важно в этом разобраться».
- Снег
Мишка с трудом доехал по заснеженной дороге до ворот дачи. Выпустил из джипа сонных детей и уже повизгивавшего от нетерпения пса Тимку. Достал из машины заранее приготовленную, как ложку, алюминиевую лопату. И, облизывая с губ вкусные обжигающие снежинки, начал раскидывать легкие, как пух, сугробы. Какое наслаждение черпать чистый свежий снег, который не успел слежаться! Усохшие после долгой болезни мышцы радуются посильной нагрузке. Впереди их ждет уютная баня с душистыми вениками и сочные нежные судачки на углях. На душе становится ясно и легко. И хочется веселиться, кидаться снежками, дурачиться, как в детстве. Падать в этот пух и ронять туда расшалившихся ребят. Тимка прыгает в сугроб, как в реку, выныривает, отфыркивает с усов белую пудру, слизывает ее с носа. Глаза у Мишки хитро заблестели, а на лице появилась задорная мальчишеская улыбка.

Мой друг Боб
Мой друг Боб всегда при девушке. Не знаю, откуда он их берет, но как только заканчивается одна любовь, другая уже на подходе. Вы бы ему позавидовали.
Но мы-то с ним друзья, ни-ни. Боже упаси. И я спрашиваю его:
— Боб, мне так одиноко, сердце мое разбито. Я хочу новой любви. Что мне делать?
— М-м-м… Даже не знаю… Может, помолиться? Бог, он тебе поможет.
— Боб, да ты козел. Что, у тебя нет друзей?
— Дай подумать.
Через неделю Боб звонит.
— Я кое-кого подметил. Это мой коллега. Приходи обедать, познакомлю.
Еду к нему на обед. Боб встречает меня, подмигивает.
— Он тебе понравится. Мы с ним иногда пересекаемся, толковый парень и надежный.
— Круто, — говорю я.
Он успевает наболтать о своем. У него новая любовь, ей двадцать, hot chick. Английского не знает.
— И как вы общаетесь?
— Через переводчика. Она сидит между нами. Это так интригующе. Мы ведем долгие беседы, но ждем не дождемся остаться одни.
— О господи, какая пошлость.
— Да ладно. Кстати… я забыл сказать. Этот мой коллега, он из мормонов.
— Каких еще мормонов?
— Ну, религия такая. Из них всегда хорошие семьянины. Им Богом предписано иметь по десять-пятнадцать детей. И можно иметь несколько жен. Он тебе расскажет, если интересно. Он очень праведный.
Времени, чтобы прибить Боба, у меня нет — появляется его мормон. Я стараюсь не смотреть в его сторону, хотя он хорош. Но я боюсь: боюсь, что стану мормонкой прям за этим столом. Что рожу десять-пятнадцать детей. На кой черт они мне?
Тот задает вопросы, я мямлю, смотрю в тарелку. Боб пинает меня под столом, я бросаю на него гневный взгляд.
Когда заканчивается наш мормонский обед, я вылетаю из кафе. Боб звонит мне вслед.
— А ты ему понравилась. Правда, оказалось, у него уже есть жена и дети. Прости, я не узнал. Но, как я говорил…
— Ты что, идиот, Боб? Зачем мне сектант?
— Я так и знал. Ну ладно, не сердись. Пока.
— Слушай, я вот что подумал, — звонит Боб на следующий день. — У меня же есть блог. Меня читает много людей. Давай я напишу о тебе. Ты всем понравишься.
— У тебя одна идея лучше другой. И что ты напишешь? «Молодая азиатка в поиске надежного спутника?..»
— Да нет, я все обставлю.
— Боб, ты же несерьезно. Я бы тебя убила.
Я ухожу в работу с головой. И в один день среди утренних писем натыкаюсь на письмо коллеги с темой:
«Это не ты?»
Открываю письмо, в нем ссылка на блог. Блог Боба. Тема его блога — строка из песни AND SHE WILL BE LOVED («И она будет любима»). Я съезжаю с рабочего кресла под стол. Оттуда читаю его долбаный блог. Он не раскрывает моего имени, но описывает меня: мое место работы, сферу деятельности, возраст и внешность. О внешности он говорит так — Пенелопа Крус местных степей (и я готова растаять, но это неправда). Потом он просит желающих написать ему в комментариях.
Я набираю его.
— Понравилось? Я же говорил, все обставлю. Получилось délicate.
— Значит, так. Удаляй свой блог, или я найму киллера, потому что с тобой надо что-то сделать. Ты что там понаписал, номер паспорта еще добавь. Весь офис уже знает!
— Ну что ты так. Люди начали комментировать. Все хотят с тобой познакомиться!
— Да ты дурак? Удали к чертовой матери!
Запись он удалил, и я сказала ему больше мне не звонить.
Но он позвонил как-то среди ночи.
— Привет, выручи. Переведи, пожалуйста — скажи ей, что если она уйдет, я выброшусь из окна. Скажи ей, я сделаю все, что она захочет.
Тут в трубке женский протяжный голос: « Ало-о-о».
— Здравствуйте… Боб просил вам передать… В общем, он просил, чтобы вы не уходили.
— Скажи ему, пусть отвалит. Он мне надоел. И пусть не ходит за мной, или я вызову парней.
— Боб, она говорит, что ей нужно идти. И чтобы… ты тоже шел домой.
Мы встретились с Бобом на следующий день. Выглядел он неважно. Погас — таким я его еще не видела.
— Я не знала, что ты так можешь убиваться.
— Она мне нравилась, я даже хотел на ней жениться, осесть. Уехать в Таиланд, я бы писал там книгу, а она бы загорала рядом.
— Мне жаль. Это пройдет. Ты встретишь новую! Может, даже еще моложе.
— Я ее полюбил. Она засела у меня в сердце. И я думал, это взаимно. А тут она поменялась, в одно мгновение — и так со мной, как с чужим… как с собакой в дождь.
Я слишком хорошо знала, каково это, чтобы найти слова утешения.
Мы выпили бутылку вина и распрощались.
Через месяц мы снова встретились. Конечно, он нашел новую. Еще моложе, худее и длинноногее.
— Боб, ты это зря. Ты никогда так не осядешь. Ты что, не можешь найти кого посмышленее?
— Ты не представляешь, они сами на меня кидаются. А мне что, отказываться? Но вот что, я тут вспомнил одного своего друга. Он твой коллега. Я вас познакомлю.
— О нет, Боб, спасибо, мне хватило.
— Но я ему уже рассказал о тебе, и он хочет тебя увидеть. Не подводи.
Я согласилась в последний раз. На встречу Боб не смог прийти — за полчаса написал, чтобы мы встретились сами. Его друг появился каким-то испуганным. Смотрел на меня, будто я вот-вот сделаю прыжок в его сторону. Разговор начали осторожно, коснулись работы. Беседа полилась. Он расслабился. Мы и не заметили, как пролетело три часа. Он довез меня домой.
— Было так интересно. Я и не ожидал, спасибо… что не постеснялась.
— Постеснялась? Чего?
— Ну… выйти на меня. Пригласить на свидание.
— Как это. Это тебе Боб сказал?
— Да, он сказал, что ты давно за мной наблюдаешь, и я тебе нравлюсь. Я не хотел соглашаться, но он настоял.
— Какой ужас. Это неправда!
— В самом деле? Ну и хорошо. Надеюсь… до встречи?
— До встречи!
Я хотела поехать к Бобу домой, чтобы убить его. Я бы разрезала его прямо в постели, на мелкие кусочки. Но он наверняка был с одной из своих длинноногих.
— Боб, это была последняя капля. Как ты мог так меня выставить?!
— Но ты же сама просила!
— Да лучше б я помолилась. У Бога мозгов побольше, чем у тебя!
— Ну не кипятись. Тебе он понравился? А знаешь такое — «победителей не судят». Будет все равно, кто кого пригласил, когда вы будете вместе играть свадьбу. А я хочу, чтобы с тобой это случилось. Я знаю, что ты станешь лучшей женой. И так же хорошо знаю, что никогда не стану хорошим мужем. Поэтому хоть ты.
Через несколько лет я вышла замуж. Боб не был к этому причастен. Я пригласила его на свадьбу, и он плясал там до утра, а к утру, в обнимку с одной из приглашенных танцовщиц, скрылся из виду.

Новая дача. Новелла
Выбирать было некогда. Взял, что первое подвернулось, не раздумывал особо. Заплатил, сколько попросили. Главное было — как можно дальше от этого всего свалить.
Потом как во сне. Что-то в сумку покидал, что-то по карманам рассовал. Когда торопишься, много с собой не утащишь. Главное взял, остальное как-нибудь потом. Адреналин по венам фигачит. Как из дому выскочил, как до места добрался — даже не помню толком. Все куда-то шел, ехал, бежал. Все казалось — следят, ищут, догонят. Выдохнул только тогда, когда ворота впереди заприметил. Мне так и объяснили: надо ворота найти, а дальше там уже сориентироваться можно. Ну, думаю, добрался.
Ворота — только название, а на деле довольно бессмысленное что-то, вроде калитки. Над ней доска прибита и масляной краской написано: Иоанновское. Видно сразу: давно тут никто не ходил, да и живет, наверное, не больно-то много народу. Захолустье, одно слово. То, что нужно. Можно немного успокоиться. Неясно только: а если бы я на машине приехал, как бы заезжал? И толку от таких ворот, если я их толкнул легонько, а они и открылись?
Вошел, хотел прикрыть их за собой, гляжу — створка на одной петле висит. Ну и плюнул. Смотрю, мужик какой-то неопрятный сидит на трехногом стуле. И вроде удобно ему, сидит, локти в колени упер, палочку какую-то стругает. Ватник на нем штопаный-перештопаный, штаны в сапоги заправлены, на лысинке шапочка невнятная болтается. Вроде вязаная, но точно и не скажешь, до того замаслена.
— Здоров, — говорю. — Ты сторожем тут? Меня Ильей звать. — Сумку поудобнее перехватил и руку ему протягиваю.
А он так зыркнул на меня из-под бровей:
— Иди, — говорит, — иди себе. Не до тебя теперь.
И руку не пожал. Чего ж ты, мужик, недобрый-то такой?
Ну, я постоял — да и пошел. Дорога как-то сразу распалась штук на семь дорожек разных. Не сказать чтоб широкие, но удобные. Хорошо, что на машине не рискнул. Точно не проехал бы.
Телефон, конечно, при себе нельзя было оставить, а вот карта — от руки нарисованная, по словесному описанию, — у меня была, конечно, иначе я бы нужный дом только через неделю нашел. Да и с картой часа полтора кружил.
Откровенно говоря, гулять даже понравилось. Вокруг тишина, цветы везде. Пока ходил, понял, как давно вообще на природе не был. Постепенно совсем успокоился. Кто меня тут найдет? Как вообще это место найти можно? Да и не попрутся же они за мной из Питера.
К дому вышел уже ближе к вечеру. Узнал его сразу, как будто видел раньше. Что-то такое кольнуло, родное. Калитка низкая. Забор скорее для красоты, чем реально огородиться. Огляделся — а ничего так домик, небольшой, но справный. Покрашен затейливо: стены — темно-зеленой краской, а ставни — светло-зеленой. За лесом солнце садится. На крыльце совсем темно уже. И такой покой меня охватил, такая радость — ушел! Заживу теперь!..
Постоял-постоял перед дверью, все зайти не решался. На крыльце посидел — даром что там две доски проломлены. Качал их рукой тихонько. Слушал, как скрипят. Чувствую — совсем отпустило. Ладно, думаю, с утра осмотрюсь. А сейчас надо на ночь устраиваться. Ключ достал, дверь отпер и вошел.
Внутри темно совсем. Вначале веранда крытая, холодная, за ней еще две двери — по уму строили — и дальше кухня и пара комнаток занавесками отгорожены. Промозгло, конечно, внутри, затхло. Такое вдруг чувство появилось, что до меня тут вообще никого никогда не было. Абсурд, да?
Выключатель на стенке нащупал, погонял туда-сюда — ноль реакции. Решил по темноте не шарахаться. Да еще вдруг усталость накатила, почти изнеможение. Кровать нашел, забрался и уснул — как провалился.
Поутру проснулся рано, как раньше не просыпался никогда. Видимо, здорово меня сморило вчера — отлежал себе все на свете. Или кровать больно неудобная. И холодно — аж окоченел к утру. Понял, что так просто и не встать будет. Решил еще поваляться. Одеяло шерстяное натянул до подбородка, чуть поворочался, угнездился поуютнее. Вдруг почудилось, что там, за занавеской, бабушка мне завтрак собирает. Клянусь, я даже шаги слышал. Выскочил на кухню — никого, конечно.
При свете дня огляделся вокруг — и тут думаю: батюшки, так вот что вчера меня так прошибло! Это ж один в один деда с бабушкой дом. Один в один! Даже рисунок на занавесках совпадает! До чего в Союзе у всех всё одинаковое было! Огляделся — глазам не поверил: даже трещины на беленом потолке знакомые, вот ей-богу. Если б сам не видел, как их дом сгорел, усомнился бы в собственном рассудке — решил бы, что к бабушке вернулся. Обрадовался дому, как старому знакомцу, по печке похлопал — поживем, брат, поживем!
Стал ходить по комнатам, смотреть, что и как. На кухне потолок раскрошился — штукатурка весь буфет засыпала, пакля висит. Непорядок. Нашел на веранде лестницу — ступеньки подгнившие, но еще ничего. Взобрался, расшатал заевшую дверку, вылез на чердак, прошелся по балкам. Крыша над кухней совсем прогнила. Я даже обрадовался — будет чем заняться, только инструменты надо найти. Залатаю, пока дожди не зарядили. Заодно и потолок на кухне зашпаклевать и забелить надо. Дело нехитрое.
Откинул половичок у печки. И строили всё один к одному: такой же люк с кольцом в крышке, такой же подпол. Без электричества плохо, конечно. Не видно ничего. Как-то даже не по себе стало. Руками по стенкам поводил — вроде, сухие, — да и вылез. Вначале с электричеством надо разобраться, а потом можно и в подпол.
Ходил-ходил по дому, все вверх дном перевернул — нет как нет инструментов. Вот же жлобы, могли бы хоть чего-нибудь оставить. Ну, думаю, ладно. Зато появился повод с соседями познакомиться.
На двор вышел — красота. Тихо, воздух свежий… Вернулся в дом, пооткрывал окна-двери все, чтобы проветрить как следует, да и пошел соседей искать. Заодно выясню, где тут магазин. А то трусы сменные захватить догадался, а макарон и картошки думал на месте купить. Из еды на дне сумки только какие-то занюханные конфетки нашел. Есть побрезговал. Найду, думаю, сейчас соседей каких-нибудь да и на чай к ним напрошусь.
Ходил-ходил по селу — глухо. Все дома заперты. Понятное дело — осень, дачники разъехались. Уж было совсем скис. Смотрю — дымок из дальней трубы тянется. Повеселел, быстрее зашагал. В ворота постучался — тишина. Покричал даже: «Хозяева! Есть кто дома?» Тихо. Ну, думаю, зайду по-соседски. Щеколду откинул да и вошел.
Только кулак занес в дверь постучать, как она сама открылась. На пороге возник хмурый, серый какой-то мужик. Махнул рукой — посторонись, дескать, выйду. Вышел, дверь за собой притворил.
— Ты тут новенький, что ли?
— Получается, новенький, — ответил я. Руку протягивать уже не стал. — Илья.
— А я Николай. — Мужик ткнул пальцем вверх — на косяке затейливо и не слишком-то понятно были вырезаны имя и фамилия. Не разобрать толком. Бе — а дальше? Вот же людям делать нечего.
— Коля, тут такое дело, — начал я, но он меня перебил.
— Пройдемся?
— Так это… Ну, давай, пройдемся. — Стало понятно, что чая мне здесь не обломится. — Я на самом-то деле на минутку зашел. Поздороваться да спросить, нет ли инструментов каких. Того и гляди, крыша провалится, а хозяева бывшие ни гвоздя не оставили. Да еще, может, магазин покажешь где тут у вас. Я вообще ничего тут не знаю. Только вчера заселился.
— Магазин? — Усмешка мужика утонула в пышной неухоженной бороде. — Магазин сюда сам приезжает, все привозит, что нужно. Вчера был, теперь дней через девять жди.
— Девять дней? А что я есть буду все это время?
— А ты по заброшенным домам вон пройдись, насобираешь. — Он отстранил меня, тяжело спустился с крыльца и присел на лавку у дома. Я уставился на его левую ногу — как на дрель жужжащую напоролся. Правая — нога как нога, а левая — натуральное копыто.
Видать, я слишком заметно пялился, потому что Николай ногу с копытом поджал под лавку и неожиданно жалобным тоном сказал:
— Ни в одни валенки не помещается. Сущий ад. Мужики сказали, бывает такое. Никто не знает почему. Сплошное мучение. Цепляется за все на свете. Подрезать пробовал — ножницы ломаются. Взял клещи специальные — толку ноль. Штук сто их затупил. Да так тупятся — только выбросить потом. Думаю, бог с ним, обращусь к специалистам. Они ж там, поди, всякого насмотрелись. Пришел, портянку размотал, смотрю — девице нехорошо стало. Побелела, видно, голова закружилась. Встала, уковыляла в подсобку, что-то там с грохотом уронила. В общем, не вернулась уже. Приходит другая, постарше. На грохот, видно. Пришла — и смотрит. И подмигивает мне. И рукой по сиськам этак — раз, со значением. Настолько отвратительно стало, — веришь, нет? — вышел оттуда, а больше не пробовал. Тут-то, на даче, как-то и обуваться незачем. Притерпелся постепенно. И ты не пялься, понял? — Он решительно встал и, припадая на копыто, поднялся на крыльцо. — Инструмента тебе не дам. Нет у меня того, что тебе нужно. Да и не торопись. Может, как-то само собой все образуется. А еду по домам поищи.
Он шустро вошел в дом и закрыл дверь прямо у меня перед носом. Совсем одичал, видно. Да и немудрено, с таким-то копытом. Бывает же…
Образуется — это он сказанул, конечно. Новый потолок у меня, что ли, образуется? Ну, что делать. Если только попробовать вчерашнего мужика поискать, который у ворот сидел. Может, он действительно сторож тут, так и подскажет, что с электричеством да где еды раздобыть.
Когда я, изрядно поплутав, вышел к воротам, мужик сидел точно там же и встретил меня так же неприветливо: быстро взглянул из-под лохматых бровей, насупился, газету замызганную развернул, притворился, что читает. Ну а на что я рассчитывал, что мне каравай на рушнике вынесут? В деревнях чужих не любят.
— Илья? — Он смотрел на меня безо всякого выражения. Я удивился, что вообще помнит.
— Илья. А тебя?..
— А меня дядь Мишей зови, — сообщил он и зевнул, обнажив розовый, совершенно кошачий какой-то язык.
— Дядь Миш, ты мне объясни, что тут к чему. Я пока мало что понимаю. С Питера только вчера. А ты, кстати, откуда?
— Я оттуда же, откуда и все. Чего тебе объяснить? — Он недовольно зашелестел газетой. Я б такую и в руки взять побрезговал — вся в разводах, бумага вот-вот расползется. Что там можно прочитать?
— Ну, где тут у вас еду берут. И вообще. Что с электричеством? У кого инструменты можно попросить? Ладно инструменты. Мне б хоть гвоздей. И кто тут старший по селу?
— Старшой, положим, я. Электричества сроду не водилось. Инструмент тут тебе никто не даст, привыкай обходиться тем, что есть. А еду… Осень на дворе. Перебейся яблоками, у соседей на огороде картоху подкопай. Магазин будет, — он вдруг придирчиво оглядел меня с ног до головы, — дней через девять.
Уф, без электричества, значит. Это плохо. Но, с другой стороны, девять дней — не так уж и долго. А при мысли о соседской картохе я совсем повеселел.
— Ладно, дядь Миш, я тогда… — Не успел я договорить «пойду», как он уже отвернулся и уткнулся в свою газету.
И все действительно как-то образовалось. Я пошарил по соседям, добыл яблок и картохи. Даже банку с помутнелыми солеными огурцами и шкалик водки нашел. Гладиолусов себе в соседнем саду наломал. Огурцы в первый же вечер стрескал, под водочку-то, а банка для цветов пригодилась. Подумать только, ровно с такими гладиолусами я полвека назад в первый класс шел…
С печью пришлось повоевать, но на второй день я одолел и ее. Дом прогрелся, просох. Отогрелся и я.
На третий день залез на чердак, заложил провалившуюся крышу куском рубероида, досками подпер. С потолком на кухне еще проще обошелся — вымел штукатурку, размочил ее дождевой водой да куском пакли потихоньку забелил бревна.
Магазин, как соседи и обещали, приехал через девять дней. Потом через сорок. А потом я о нем и думать забыл. Приспособился как-то.
И вот если вы меня сейчас спросите, как я себя чувствую, я вам отвечу — хорошо себя чувствую, спокойно. Тишина снаружи, пустота внутри. Впрочем, я и при жизни так себя чувствовал. Особенно ничего не изменилось.
Да и конфетки я в конце концов сгрыз. Не выбрасывать же.

Новая надежда
Сергей рано лишился отца. Родители его разошлись, когда третьекласснику Сереже исполнилось десять. До этого момента он пребывал в состоянии блаженного неведения, которое так свойственно детям из благополучных семей, когда кажется, что весь мир создан только для тебя одного: родители, дом, мальчишки-ровесники из соседнего подъезда, тенистые раскидистые тополя во дворе за окном. Уже повзрослев, Сергей сравнивал этот период своего детства со стеклянным шаром, заполненным кружащимися в хороводе разноцветными блестками. Такой точно шар привез из-за границы отец и подарил его Сереже на Новый год. Долгое время шар был предметом гордости Сережи и красовался на подоконнике на самом видном месте, переливаясь на солнце янтарным светом и даже будто бы излучая тепло. Внутри шара было три маленьких снеговика, а рядом с ними — маленький пряничный домик. Глядя на снеговиков, Сережа загадывал желания. Он верил: пока все три снеговика надежно спрятаны в шаре — с его семьей все будет хорошо. Не прошло и полгода, как шар рухнул на пол, случайно зацепившись за занавеску во время очередной уборки, и разлетелся в мелкую стеклянную крошку. Вместе с шаром по какому-то странному стечению обстоятельств треснул и разлетелся вдребезги мир беззаботного Сережиного детства, скорее даже лопнул, точно мыльный радужный пузырь, забрызгав все вокруг неопрятными мыльными хлопьями.
На время развода ребенка забрала к себе баба Марина, мать Сережиного отца, женщина немолодая, но с крепким здоровьем и очень набожная. Она научила Сережу читать наизусть «Отче наш», ставить свечки в храме за упокой и за здравие, поститься, поминать усопших в родительский день, печь куличи и христосоваться. Сережа воспринял эти новшества с энтузиазмом, как будто правила какой-то игры, где в конце, если будешь соблюдать все требования беспрекословно, будет ждать тебя исполнение всех самых заветных желаний. Сережа загадал вернуться домой, и чтобы мать с отцом опять были вместе и больше не ссорились.
Каждое воскресенье баба Марина отводила внука в Храм Всех Святых в десяти минутах ходьбы от их дома на Соколе, где Сережа упорно молился, осеняя себя как положено троекратным крестным знамением, и клал самые настоящие земные поклоны. Старушки-соседки, глядя на него, качали головами и громким шёпотом, так чтобы всем было слышно, говорили стоящей рядом бабе Марине: «Глянь, Маринка, внучок как твой молится. Знать, грехи родительские замаливает. Ты ведь недоглядела, а маяться малому». «Цыц, курвы, — обрубала их баба Марина, не утратившая и на восьмом десятке стальной, выкованный в советское время характер, — дитё мне испужаете». Баба Марина не стеснялась выражаться по-деревенски, хоть была человеком образованным, кандидатом медицинских наук, и прожила всю свою жизнь в Москве. Схватив цепкими пальцами Сережу за локоть, она выводила его на свежий воздух, подальше от злых старух, «порезвиться», как она всегда любила повторять. Сережа резвиться не хотел, замыкался в себе и долгими часами сидел, забравшись с ногами в большое бабушкино кресло, и читал. Читал он все подряд, без разбора, но больше всего в душу его западали рассказы про советских беспризорников, детей войны и революции. Чем-то были они ему близки и понятны, и он, бывало, воображал себя на их месте.
Вернувшись однажды из школы, Сережа застал бабу Марину лежащей неподвижно на полу на кухне. Только глаза ее оставались живыми. Сережа тогда упал на колени рядом и стал молиться еще неистовей, чем в Храме. Он обещал сделать все, что угодно: и учиться на отлично, и на контрольных больше не списывать, и перестать дразнить девчонок на переменах, лишь бы баба Марина сейчас встала и обняла его. Но баба Марина продолжала лежать, только слабое глухое мычание раздавалось из ее сухой впалой груди.
После похорон Сережу забрала домой мать. Она к тому времени успела обзавестись новой мебелью и мужем. Отчим Сереже не понравился. Был он весь какой-то фальшивый: и улыбка фальшивая, ненастоящая, и игрушки, которые он подарил, — грузовик с самолетом и пара солдатиков — сломались на следующий день. С отчимом мать стала ругаться так же, как с Сережиным отцом. Через какое-то время отчим исчез, а мать стала подолгу пропадать на работе. Сережа привык, что ее часто не было дома, и ему приходилось иногда засыпать, не доделав уроки, голодным.
Отца Сережа почти не видел. Тот изредка появлялся на пороге их квартиры, улыбался бледной улыбкой, крепко обнимал сына, целовал его в обе щеки липкими обветренными губами, обдавая Сережу густым, острым спиртным запахом. Иногда отец приносил с собой какую-нибудь безделицу, но чаще всего не приносил ничего. Про отца Сережа знал, что тот находился в запое с самого развода. Потом отец надолго пропал, не заходил в гости и даже не звонил. Сережа, привыкший быть наедине с собой и книгами, тревогу не бил и терпеливо ждал несколько месяцев, когда отец объявится сам. Он продолжал молить Бога, чтобы отец вернулся, как он просил об этом, пока баба Марина была жива. С самой ее смерти он больше не заходил в Храм. Молился молча про себя, пока никто не видит, встав на колени и закрыв глаза. Но Бог то ли был глух к неумелым молитвам маленького Сережи, то ли его занимали куда более важные дела. Отца Сережа так больше и не увидел.
Одним суровым февральским вечером мать вернулась домой раньше обычного и, проходя мимо Сережиной комнаты, обронила бесцветным сухим голосом: «Сирота ты теперь, Сережа. Помер, папка, твой. Упился до смерти да околел в сугробе. Не дошел до подъезда пять метров. Чтобы ему, окаянному, пусто было. Похоронили его в закрытом гробу. Хорошо, что все быстро закончилось, тебе там все равно делать было нечего», — и больше ничего не добавила. Так Сережа узнал о смерти своего отца. В этот самый миг прежняя жизнь его кончилась. Разбившийся стеклянный шар не собрать воедино, как не войти в одну воду дважды. Бог, которого так почитала и любила баба Марина, всевидящий и всепрощающий Бог, в которого до последнего продолжал верить маленький Сережа, умер для него в тот же час вместе с отцом. Сережа решил переступить через себя, перелистнуть эту неудачную страницу и начать новую жизнь, в которой он будет полагаться только на себя самого, а не на какого-то древнееврейского Бога.
Шли годы, Сережа взрослел. Он больше не был наивным, слезливым. Решившись раз и навсегда изменить себя, Сергей научился добиваться своего, используя любые средства для достижения цели. Если было нужно, то он непринужденно шел по головам, чихал на доброжелательные советы и прислушивался только к голосу внутреннего «Я». Сергей быстро стал пользоваться популярностью у дам, в особенности у тех, что были в возрасте и со связями. Они находили его утонченным и начитанным молодым человеком с изящными манерами и оригинальной внешностью — вовремя пригодились грузинско-еврейские корни отца, тоже славившегося в юные годы гордым орлиным профилем в сочетании с жгучим южным колоритом. Удача, казалось, улыбалась ему широкой золотозубой улыбкой, дела шли в гору. Необузданная жажда чтения и широкий кругозор пригодились ему в новой роли баловня судьбы, где он с легкой руки одной своей доброй знакомой почти без проблем заполучил место главного редактора популярного мужского журнала о красивой и бессмысленной, как горящий фейерверк, жизни. День незаметно пролетал за днем, заканчиваясь неизменно за барной стойкой после очередной шумной вечеринки. У него было все, о чем только можно было мечтать, но он будто и не замечал этого. Ему не хватало чего-то, чего он и сам не понимал. В своих безудержных кутежах он пытался найти то ли забвение, то ли ответ на незаданный вопрос.
Первое утро сорокалетия выдалось у Сергея особенно тяжелым. Он проснулся от тупой, пульсирующей боли в висках, в желудке мутило, мысли путались, ни на одной из них не удавалось остановиться и сосредоточиться. Вместо подушки под головой обнаружился скрученный валиком пиджак. Дорогой галстук с искрой был скомкан под правым ухом, а белоснежная рубашка — безвозвратно испорчена пятнами от вина. Сергей с трудом добрался до умывальника, цепляясь по дороге за стулья и стены. Внезапно на него накатил очередной приступ дурноты вперемешку со слабостью — он совершенно забыл об аукционе, который должен начаться уже через час.
Вот уже несколько лет он занимался анонимной помощью детским домам и хосписам. Он считал это своей барской забавой или индульгенцией, хотя давным-давно забыл и о Боге, и прочих райских кущах, оставив эти глупости в прошлом. Тем не менее он исправно, каждый месяц отправлял существенную сумму на счета в различные детские дома — на лекарства, игрушки и прочую реабилитацию. Мыслей выставить свою меценатскую деятельность на всеобщее обозрение у него не появлялось. Однако пару дней назад Сергею позвонила директриса Дома-интерната для детей-инвалидов с претенциозным названием — «Новая надежда». Она попросила Сергея непременно прийти на благотворительный аукцион, организуемый в стенах Дома, чтобы достать средства для нескольких неизлечимо больных ребятишек. Родители от них отказались, консилиум врачей разрешение на дорогостоящее лечение вот уж несколько лет выдать не может, а для детей это последний шанс получить билет в жизнь. Звали директрису Марьей Ивановной, Сергея она видела только на обложках журналов да в сводках новостей про богемную жизнь. Как она узнала о его увлечении благотворительностью, одному только Богу известно. Сергей после разговора опять хотел отделаться простым денежным переводом, но что-то не давало ему покоя. Может быть, тоненький дрожащий голос Марьи Ивановны, может быть, пронзительный взгляд ее больших оленьих глаз. Одним словом, всколыхнулись в нем какие-то припрятанные глубоко от сознания чувства, кольнуло что-то в груди, и пришлось Сергею дать обещание Марье Ивановне, что он обязательно придет. Дата благотворительного аукциона выпала аккурат к сорокалетию Сергея, и после праздника, на котором гуляла если не вся Москва, то добрая ее часть, была благополучно вытеснена из больной от похмелья головы юбиляра. Когда все же Сергей, проводивший у умывальника шумные водные процедуры, увидел на телефоне напоминание о встрече, времени оставалось в обрез, только на дорогу. Сергей впервые за долгое время ощутил противный липкий холодок, бегущий по позвоночнику. А что, если дети увидят его таким? У него оставался последний шанс: позвонить Марье Ивановне и сказаться больным. Большим усилием воли Сергей отогнал подступившую слабость и отправился прямиком к автомобилю. Он чуял нутром, что должен быть сегодня там, в детском доме, как обещал.
На месте он оказался через час. К его удивлению, пробок на дорогах не было, трасса была почти идеально пуста. Во дворе перед детским домом столпились серьезные люди в деловых костюмах. Кто-то из них приветственно махнул Сергею рукой, кто-то даже поздравил его с прошедшим юбилеем. Сергей молча и немного смущенно кивал, с трудом выдавливая на лице кривую улыбку, его все еще мутило. К собравшимся выпорхнула сияющая улыбкой Мария Ивановна, похожая на какого-то мягкого лесного зверя, подошла поздороваться к каждому. Сергей отступил за спины остальных, надеясь остаться незамеченным. Однако Марья Ивановна выросла перед ним, как волшебный куст, из-под земли. Она протянула маленькую пухлую ручку, Сергей неловко ее поцеловал. Марья Ивановна отвесила в ответ неловкий книксен. Так и пошли: Марья Ивановна летела, точно пушинка, впереди, весело щебеча тоненьким голоском, а позади процессии плелся, еле двигая ногами, Сергей.
В холле было светло и нарядно. На выкрашенных в яркие тона стенах были нарисованы персонажи советских мультиков. Все они улыбались. Один за другим из своих норок выползали дети. Кто-то мог передвигаться на своих ногах. Кто-то ехал на коляске, быстро перебирая руками по колесам, кто-то прыгал на костылях. Дети столпились в холле большим полукругом, обступив взрослых, и молча глазели.
К тому времени, когда начался благотворительный аукцион и последовавший за ним банкет, Сергея покинули последние силы. Он вышел в коридор, чтобы отдохнуть от шума и выкурить сигарету. Место для курения он не нашел, прислонился спиной к подоконнику, встав напротив стены с детскими рисунками, достал сигарету, да так и задремал, забыв ее зажечь. Он не знал, сколько времени пробыл в забытьи. Очнулся Сергей от какого-то еле заметного движения, какого-то шороха у своих колен. Когда он разлепил опухшие глаза и взглянул вниз под ноги, то, к своему изумлению, увидел маленькую девочку лет пяти. У нее было бледное личико, покрытое веснушками, и глубокие светлые глаза под густой белокурой челкой. Она стояла, прижавшись к ногам Сергея, зажмурив глаза и покачиваясь из стороны в сторону в каком-то своем внутреннем ритме. Сергей вздрогнул, попытался сделать шаг, но еле удержался на ногах — девочка вцепилась в него что было силы. Лицо ее просияло, она улыбнулась и закричала со всей мочи: «Папа, папа пришел!» У Сергея за шиворотом побежали мурашки. Именно этой фразой он всегда встречал отца, когда тот возвращался из длительных командировок, и также прижимался к отцу. Сергей хотел что-то сказать, но язык распух и не слушался. На крик из общей залы, где уже заканчивался аукцион, выбежала Марья Ивановна. Она всплеснула руками и принялась оттаскивать девочку. Та упорно сопротивлялась, цепляясь за руки и одежду Сергея, и громко ревела, требуя папу назад. Когда девочку наконец-то отвели в столовую, Марья Ивановна принялась извиняться перед Сергеем. Она рассказала, что Леночка попала в детский дом из неблагополучной многодетной семьи, которая не могла потянуть ребенка с ДЦП. Отец ее часто выпивал, и это только усугубляло ситуацию. «Может, я ей нечаянно напомнил отца?» — еле выдавил побледневший Сергей и поспешил выйти на улицу, сославшись на плохое самочувствие.
Начинало вечереть, густые сумерки обволокли крыши домов, в небе зажигались одна за другой яркие зимние звезды. Сергей в одиночестве дошел до машины и обернулся. Он медлил, вглядываясь в занавешенные окна Дома. Вдруг на мгновение ему показалось, что в одном из них мелькнула знакомая веснушчатая мордашка. Сергей улыбнулся, помахал рукой и сел в машину.
Недалеко от дома внимание Сергея привлек нарядно украшенный гирляндами ларек. На прилавке среди новогодних игрушек и сувениров он к огромному своему изумлению заметил знакомый стеклянный шар. Сергей, затаив дыхание, осторожно взял его в ладони, точно большую драгоценность. Сомнений быть не могло: шар оказался в точности как тот, что подарил ему в детстве отец. Те же три заснеженных снеговика перед маленьким расписным домиком. Сергей расплатился за игрушку и пошел к дому, насвистывая давно забытый мотив из детства. На ходу он переворачивал шар вверх и вниз, любуясь сверканием блесток в свете ночных фонарей. Сергей нашел то, что так долго искал. Теперь он точно знал, что подарит Леночке завтра.
Рецензия писателя Екатерины Федорчук:
«Замечательный рассказ, цельное повествование. Текст о детстве Сережи невероятно сильный, подлинный. Религиозная тема подана ярко, мощно и в то же время очень деликатно.
И он написан очень хорошо с точки зрения стиля: автор использует точные художественные средства, использует их экономно и тем самым добивается гораздо большего эффекта, чем если бы он очень подробно и обстоятельно описывал, как, мол, это ужасно, что ребенок без отца и т. д.
Я бы немного сбавила уровень трагедии. Папа, да, алкоголик, ушел из семьи. И этот момент потом отлично играет во второй части. Сережа как бы сам стал папой для девочки Лены и сам исправил его ошибку: папа не придет, но я — приду!
А вот маму не надо опускать: спилась или стала водить мужчин. Это слишком сильное давление на жалость. Просто: мама с головой ушла в работу, ей не до сына. От этого горе мальчика не станет менее острым.
Стоит убрать лишнюю сентиментальность. Она у автора спрятана именно в стиле. Стоит подумать, как приблизить вторую часть к первой, чтобы она звучала так же точно, так же сильно.
Встреча с Леной. Она приняла Сергея за отца именно потому, что он с похмелья. Она думает, что папы именно такими и должны быть. И Сергей в этот момент символически превращается в своего отца. Очень крутой момент! Автор подчеркнул его через деталь — предмет — стеклянный шарик. И использовал кодовую фразу, которую произнес Сережа и повторила Лена? Момент узнавания, символического перевоплощения становится ярче.»
Рецензия писателя Романа Сенчина:
«Рассказ получился крепкий. Именно тот нечастый случай, когда на небольшом пространстве органично уместилась большая история. Так писал, например, некоторые свои рассказы Паустовский…
Первая часть сильнее второй, и язык почти эпический, и Сережа выписан глубоко. Стоит поработать над второй частью в стилистическом плане.
Про стеклянный шар. Это яркий символ, но он уже многократно использован и в литературе, и особенно в кинематографе. Не утверждаю, что его непременно нужно убрать, но советую автору поискать замену, так как рассказ не ученический, не просто удачное упражнение.»

Однажды на Невском
Высокий худощавый юноша шел по Невскому проспекту, и был он оживлен и весел, как и все праздные гуляки в этот майский вечер. Да и о чем можно всерьез грустить в восемнадцать лет, когда ладится учеба, впереди поездка к морю, каникулы, да что там каникулы — впереди целая жизнь. И хотя он не совсем еще понимает, что такое жизнь, но все же чувствует, что это здорово, все же готов окунуться в нее с головой.
Дует с Невы первый по-настоящему теплый весенний ветер, треплет волосы, затекает за ворот рубахи, раздувает полы пиджака, приносит с собой запах воды и балтийского простора, и в этом ветре что-то чувствует он: силу и напор своей юности, ожидание нового и неизведанного, причастность какой-то тайне, а какой именно, он и сам еще не знает. Вся жизнь — как чистый лист бумаги, и долго-долго еще писать ему на этом листе; что-то перечеркнётся, что-то будет скомкано и брошено в печь, а что-то навсегда останется вписанным в книгу жизни.
Миновав Дом Актера, он остановился возле небольшого кафе. Три ступеньки вниз, сразу налево, прямо у окна небольшой столик с двумя стульями; здесь неделю назад он впервые увидел ее, сидящую за чашкой кофе с пирожным. Он подошел, попросил позволения сесть рядом, а она разрешила, хотя в зале было полно свободных мест. Он пил свой американо и украдкой разглядывал ее. На вид ей было немногим меньше тридцати. Было в ней что-то привлекательное: черные слегка вьющиеся волосы свободно падали на плечи, взгляд карих глаз был, казалось, насмешливым, под черной блузкой вырисовывались небольшие упругие груди. Он украдкой взглянул на стройные ноги в узких лодочках, прикрытые до колен клетчатой юбкой, и у него перехватило дыхание. Они нечаянно о чем-то заговорили, и он испытал сладостное, щемящее чувство, лишившее его с этого мгновения сна и покоя. Прощаясь, она оставила ему свой адрес и номер телефона, и он обещал позвонить и зайти в гости, а она улыбнулась и назвала его обманщиком. Он и правда думал, что все это лишь шутка, случайное знакомство. Он никогда бы не решился идти по этому адресу, если бы не зонтик, случайно оставленный ею на спинке стула. И сейчас он держал в одной руке цветастый желтый зонт, в другой — листок бумаги, исписанный красивым женским почерком, и казалось, что его мучают сомнения. Наконец, он опустил записку в карман и направился в сторону Литейного проспекта.
Двор-колодец, старинный подъезд, третий этаж, стальная коричневая дверь. Он нажал на кнопку звонка, короткое ожидание, и он снова увидел ее. Синие джинсы, обтягивающая яркая блузка, недорогие сережки, но все ей идет, все подчеркивает достоинства хорошей фигуры.
— Здравствуй, Михаил! Не думала, что ты придешь.
— Ты забыла. — Он, смущаясь, протянул ей зонт.
— Ах, это… Надеюсь, ты пришел не только из-за него! Проходи. Да ты стесняешься?! В кафе ты был смелее!
Она звонко рассмеялась, показав два ряда идеально ровных белых зубов, и Михаил подумал, что грусть и веселость как-то сочетаются в ней, неожиданно сменяя друг друга.
Большая комната с высоким потолком, давно требующая ремонта, небогатая мебель, но все очень чисто и опрятно. На туалетном столике, между флаконов с духами и статуэткой трехпалой жабы с монетой во рту — фотография в рамке. Он сразу узнал ее, хотя на снимке она была значительно моложе — совсем девочка. На небольшом овальном столике — бутылка полусладкого аргентинского, три мандарина и пара яблок в стеклянной вазе.
— Хочешь выпить? — спросила она, доставая посуду из старого дубового серванта.
Не дожидаясь ответа, сама наполнила бокалы, посмотрела на свет на рубиновое вино.
— Ну что же, за нас, за нашу встречу!
— За нас, — согласился он, и ему на мгновение стало страшно и захотелось удрать.
Во рту сладкое послевкусие от вина. Разломил мандарин — резкий аромат. На сердце тоже что-то сладкое и неверное. Она с интересом смотрела на него, и промелькнула в ее чертах жесткость и решительность, как у человека, привыкшего добиваться своей цели.
А через мгновение Михаил почувствовал, как ее шелковистые волосы щекочут его лицо, увидел ее жаркие губы совсем близко, почувствовал вкус мандарина на своих губах, а затем все закружилось и утонуло в каком-то тумане.
— Ну что, первый блин комом, — выдохнула она, откидываясь на высокую белою подушку.
Со двора доносились громкие голоса подгулявшей компании. Где-то поблизости забулькала вода в батареях. Комната погрузилась в вечерний сумрак, и она включила торшер. Они лежали рядом на тахте, и Михаил видел, что ее тело было таким же, как он себе и представлял — словно выточенным из слоновой кости. Своего тела он стеснялся и прятал худые голые ноги под пледом.
Ее звали Мариной. Она рассказала про своего бывшего мужа, бросившего ее, когда случилась внематочная беременность, оставившая безобразный шов по низу живота. Как шла по больничному скверу, тихая и опустошенная, когда врачи вынесли ей приговор, сказав, что детей иметь она уже не сможет. После этого муж и ушел. Она училась на биофаке, но ушла с четвертого курса после замужества. Теперь работала в большом зоомагазине, где пернатые и хвостатые подопечные заменяли ей общение с людьми, которых она не умела любить. Она была скупа на слова и все же была не прочь поговорить о жизни. «Молодой ты еще, жизни совсем не знаешь, — говорила она с горестной усмешкой, — смотри, обожжешься миллион раз». А он, счастливый и несчастный одновременно, не мог понять — обжегся он сейчас или нет.
Она ненавидела мужчин, считая, что все они сволочи, и все же жить не могла без случайных связей. А может, надеялась найти того, единственного? Кто знает? Михаилу вдруг стало ее бесконечно жаль: он увидел, насколько она одинока и несчастна в своей замкнутости.
Закончилась короткая майская ночь, в комнате стало совсем светло, со двора доносился шум отъезжающего автомобиля. Они прощались. В прихожей она прильнула к его губам, гладила непослушные волосы, смотрела в его глаза, словно пытаясь запомнить каждую черточку, затем неожиданно оттолкнула его:
— Ты больше не приходи ко мне.
— Никогда? — опешил он.
— Никогда! Не приходи, не нужно.
Михаил вышел на лестницу. Уже во дворе он бросил взгляд на ее окно, увидел, как она машет ему рукой, и с грустью подумал, что видит ее в последний раз.
Литейный проспект, остановка автобуса, дворник хлопочет на тротуаре, сметая следы вчерашнего праздника. На лавочке сидит старик, опираясь руками на трость, на остановке ждет автобуса женщина с девочкой-пятиклассницей. Дует с Невы тот же, что и вчера, весенний ветер, но что-то чуждое ощутил Михаил в этом ветре, как будто дует он не с Невы, а из неведомого пространства, лишенного жизни. И неуютно стало ему, что-то новое, необъяснимое почувствовал он в себе, исчезла вчерашняя радость и ощущение счастья. Ему казалось, что про него все всё знают: и старик с тросточкой, и женщина, и девочка, и даже дворник с метлой. Знают так, как будто он оказался вдруг без кожи — совсем голый.
— Что же за преступление я совершил? — спросил он сам себя
В ушах звучал ее голос, ее волосы как будто все еще касались его лица, а на губах не растаял еще солоноватый вкус поцелуя.
Подошел автобус, Михаил запрыгнул на ступеньку, закрылись двери-гармошки. Он стоял на задней площадке у самого окна, прижавшись лбом к мутному стеклу, смотрел, как оживает, очнувшись от сна, большой город.

Оранжевый на белом
Той зимой Алим молился о том, чтобы снег наконец закончился. Ладони горели от мозолей, в спине стреляло. Десять дней с утра до самого вечера он в две смены расчищал тротуары и разгребал сугробы. Начальство все время обещало технику, но из техники в распоряжении был только старенький трактор, за которым тоже постоянно приходилось подчищать.
За эти дни они сдружились с мальчиком. Мальчик жил в угловой квартире на первом этаже: каждое утро Алим краем глаза замечал, как ровно в семь в комнате раздвигаются шторы и над подоконником появляется чуть заметный хохолок. Мальчик был совсем не похож на Юсуфа, но Алим все равно видел в нем сына: те же темные глаза, с любопытством, смешанным с наглостью, впивающиеся в мир вокруг себя.
По будням мальчик вместе с мамой убегал в детский сад, сжимая в руках потрепанного плюшевого тигра. По выходным выходил гулять с большой красной лопатой наперевес. Задерживался на крыльце подъезда, по-хозяйски осматривал двор, щурился от снега, который летел прямо в лицо, взглядом находил Алима и лишь потом бросался «помогать», раскидывая снег на только что вычищенный тротуар.
— Когда вырасту, тоже стану дворником, — любил повторять мальчик, старательно работая лопатой. — Мама сказала, если быть настойчивым, всё обязательно получится.
Алим ничего не говорил в ответ. Сам он быть дворником никогда не мечтал. На родине всю подобную работу делали женщины: убирали, мели, ровняли кусты и траву, красили заборы. По правде говоря, он давно уже ни о чем не мечтал, ему просто была нужна работа — любая, только бы прокормить разросшуюся семью. В дворниках, может, и не очень денежно, но не нужно искать жилье и думать о документах. Да еще эта оранжевая жилетка — Булат, старший смены, называл ее плащом-невидимкой. Надел — и никто вокруг тебя больше не замечает.
Наталья приехала на участок в четверг. Алим давно усвоил: если начальство посещает вот так внезапно, в середине дня, без предупреждения, ничего хорошего ждать не стоит.
— Соли подсыпь, — крикнула она, грузно спускаясь по ступеням рабочего пазика. Алим набрал в лопатку реагентов и послушно рассыпал перед автобусом.
Наталья кинула взгляд на тротуары и двинулась в обход участка. Алим, воткнув лопату в сугроб, пошел следом. У боковой стены дома начальница остановилась, задержавшись взглядом на небольшой надписи, сделанной баллончиком.
— Замазать надо, — распорядилась она и кивнула головой в расшитом розами русском платке в сторону рабочего пазика. — Краска внутри, по одной банке в руки. Оставишь в подсобке. И фото не забудь.
Алим вгляделся: восемь букв чернели на фоне бежевой домовой стены. Два простых и понятных слова, безобидный призыв, наверняка оставленный кем-то из подростков — неужели Наталья специально приехала только ради этого?
В пятницу в шесть утра они, как обычно, вышли на смену. Старенький пазик устало пыхтел у дверей общежития. Водитель, словно не чувствуя холода, в одном свитере, курил в стороне. Алим натянул толстые рабочие рукавицы и занял место у прохода.
Сквозь запотевшие стекла дорогу было не различить. Но он и так знал ее как свои пять пальцев. Поворот на шоссе, два светофора, снова поворот, лежачий полицейский у здания школы, еще один, остановка. Их высаживают на третьей.
Он вдохнул морозный февральский воздух. Солнце еще не встало, желтые фонари пятнами освещали сонный двор. Снег наконец перестал — значит, сегодня есть шанс закончить работу до заката. Булат пересчитал людей и инвентарь. Разошлись по участкам.
Алим издалека бросил взгляд на знакомый дом. На боковой стене, на месте, старательно закрашенном им вчера серой краской, снова что-то чернело. Он подбежал ближе, закинув лопату на плечо, чтобы убедиться, что ему не мерещится. Что-то внутри оборвалось и рухнуло в самый низ живота. Заколотилось сердце. Алим закрыл глаза, тряхнул головой и посмотрел снова. Не показалось. Вчерашняя надпись была на месте — еще ярче, еще больше. Восемь букв — четких, блестящих в первых лучах рассветного солнца.
Он кинулся в подвал. Дрожащими руками повертел замок — чтобы открыть его, нужно было ввести код. Три-четыре-семь-восемь. Сработало. Внутри было темно. Алим зажег фонарик на телефоне и осмотрелся. Под завалами мусорных мешков, насадок от садовых граблей и лопат стояло ведро с тряпками.
Схватив одну, Алим выбежал на улицу. Ссохшаяся ткань колом стояла в руках. Он взял в ладонь горсть снега и подул, пытаясь растопить его горячим дыханием. Окунул тряпку в сугроб. Не помогло — на морозе та только еще больше деревенела. Он попробовал отскоблить надпись ножом, тер ее щеткой, но буквы лишь расползались в стороны.
Незаметно рассвело. Мимо прошел мужчина с маленькой, завернутой в комбинезон собакой на поводке. На остановку медленно тянулись люди. Алим обернулся, словно почувствовав на себе чей-то взгляд. За невесомым тюлем в окне первого этажа мелькнула и скрылась знакомая вихрастая голова. Только теперь он вспомнил про банку с краской, оставленную в подсобке.
Асель позвонила сразу после захода солнца. В узком прямоугольнике смартфона — три пары карих, как под копирку вырезанных глаз.
— Дада! — завизжала Джиля, прислонив пухлые губы прямо к экрану. — Салом, дада! Смотри, что!
Она разжала кулак, на котором лежал маленький пластиковый брелок-лягушонок. Джиля надавила ему на живот, и глаза лягушонка загорелись как маленькие фонарики.
— У Юсуфа такой же, только бегемот!
Алим восхищенно округлил глаза:
— Покажи еще раз!
Джиля засмеялась и направила фонарики прямо на камеру. Асель потрепала детей по головам и повернула экран к себе:
— Салом, азизам.
Во всем ее облике читалась тревога — Алим хорошо знал это выражение лица. Их с Асель семьи были одними из немногих, кто не уехал тогда, в девяносто втором, когда стало понятно, что столкновения в Душанбе переросли в полноценную войну. Их убежищем стала маленькая кухня тети Фатимы на первом этаже: здесь пели песни и варили варенье из абрикосов, здесь взрослые шепотом обсуждали, что еще можно продать, чтобы накопить на поезд до Москвы, а они с детьми по лепесткам делили становившийся всё более дефицитным хлеб. Здесь под половицей была их с Асель «сокровищница» — в нее складывали гильзы и найденные на дне арыка патроны. Отсюда же провожали в разведку отца с дядей Шерали, которые, вооружившись поварешками и «щитами», сделанными из тазов для варенья, уходили патрулировать квартал. Всё это казалось весельем, шуткой — пока однажды прямо в квартире над ними не выбило стёкла. Кажется, именно тогда в глазах Асель на много лет застыло знакомое испуганное выражение.
Она, конечно, была в курсе всех новостей — если не из телевизора, то от соседок или знакомых на рынке. Слухи в их квартале расходились быстро.
— Делай, что говорят, Алим. Делай, что говорят, — эхом звучали в голове ее слова еще долго после того, как погас экран. — Осталось шестьдесят семь дней.
В мае его должны были наконец отпустить домой — впервые за последние полтора года.
Утром надпись появилась снова. Рядом, на расстоянии около полуметра, — еще одна. Алим вдруг почувствовал, как задрожали руки, а к горлу подкатил неприятный комок, как было в детстве, когда разбил дорогие отцовские часы — единственную вещь, оставшуюся от деда. Алим схватил полупустую банку, подбежал к стене и, повинуясь неясному порыву, со злостью плеснул на нее краской. Маслянистые ручейки причудливым узором потекли вниз. Он зажал в руке валик и начал яростно размазывать серую жижу по стене. Справа внизу что-то мелькнуло. Алим присмотрелся: на потрескавшейся штукатурке медленно проявлялся силуэт серебристого голубя с веточкой в клюве.
На его сам собой вырвавшийся стон с соседнего участка прибежал Саид. Бросив взгляд на забрызганную краской стену, он нахмурил брови и потрепал Алима по плечу, словно возвращая к реальности.
— Саид, ты же видел, вчера ничего не было? Я всё убрал, Саид! Ты видел!
— Видел, брат, не твоя вина. Оставь это.
Саид нагнулся, чтобы поднять со снега лопату, и протянул Алиму деревянный черенок. Тот схватился за отполированную ежедневными движениями рукоять и до боли сжал пальцы. Саид прав, нужно возвращаться к работе.
По тротуару расходились запутанные линии больших и маленьких следов. Где-то на горизонте забрезжил рассвет. Алим подхватил лопатой пласт снега перед подъездом — на оголившемся асфальте четко проступили контуры слова «Мир».
Стены домов, тротуары, машины, заборы, мусорные баки, столбы, крыши остановок — всё вдруг закружилось в вихре, закричало, застонало. Восемь букв, полчаса назад закрашенных им самим, поднялись в воздух и алыми всполохами загорелись прямо перед лицом.
Алим зажмуривается и падает на колени. Где-то совсем рядом раздаётся выстрел. Теперь всё, что остается, — бежать. Он поднимается и осматривается.
— Скорее! — кричит мать, хватая его за локоть. Отец берет с асфальта два огромных баула и, закинув один из них на плечи, машет рукой. Кроме них, на улице ни души. Где-то вдалеке раздаются взрывы и следом — длинная автоматная очередь. Из-за поворота показывается скорая и останавливается рядом с ними.
— В аэропорт? — кричит через окно водитель и знаками показывает забираться в салон.
Алим садится на холодное потертое сиденье. До этого он никогда не видел машину скорой изнутри. Мать берет его ладонь и сжимает в своей. Отец молчит. Сестры, обнявшись, сидят, забившись в угол. Лица бабушки он не видит, но замечает, как нервно трясутся ее плечи.
Внезапно машина останавливается, водитель говорит, что дальше ехать нельзя. Под гул самолетов они выбираются на улицу. Выстрелов почти не слышно, а может, это они слились в тот самый гул. Мать с отцом срываются с места и снова бегут, кто-то незнакомый хватает и несет бабушку, Алим с сёстрами догоняют следом. По лицу катятся слезы, хочется плакать, но изо рта вырывается только жалкий всхлип. Вспышка — и они инстинктивно падают на асфальт, заслоняя головы руками. Кто-то закрывает ему ладонями глаза и прижимает к себе. Алим вздыхает и проваливается в забытье.
…Мальчик проснулся, как обычно, в семь утра. Сквозь не до конца сдвинутые шторы прорывался первый солнечный луч, разделяя комнату пополам. Папа сказал, в садик они сегодня не пойдут — выходной. В такие дни родители всегда спали допоздна, и он мог смотреть мультики сколько захочет.
Мальчик потянулся и прижал к себе плюшевого тигра. Шерсть у того давно скомкалась, плюшевый наполнитель сбился книзу, отчего казалось, будто тигр только что очень плотно поел. Мальчик сжал в кулачок полосатую лапу — она успокаивала и пахла мамой.
Он спрыгнул с кровати и приставил к окну свой маленький деревянный стульчик. Занырнул под штору и присмотрелся. Прямо посреди двора в сугробе торчала лопата. Когда он вырастет, тоже купит себе такую — большую, настоящую, с деревянным черенком и плоским железным ковшом. Однажды дядя Алим дал ему ее подержать — рукоятка была тяжелой, неудобной, но когда он вырастет, всё это будет уже не страшно. На лопате висела, покачиваясь от ветра, оранжевая жилетка с двумя светоотражающими полосами — как яркий флаг на фоне белоснежного снежного моря. Дяди Алима нигде не было видно.
Мальчик перевел глаза на стену дома напротив. Надпись была на своем месте, ее впервые не успели закрасить. Он радостно ахнул, подавив желание скорее рассказать родителям. Мама не зря говорила, что им нужно быть настойчивыми.
Он спустился со стульчика и побежал к телевизору. Ветер подхватил засаленную оранжевую жилетку и сбросил ее на снег.

Порода такая
Суббота, 10 октября 2015 года, около 8 вечера
Ворота двора распахнуты — это дедушка подготовился, чтобы я машину поставила под окнами, поближе к кирпичному боку дома. Открываю дверь — и сразу родные звуки и запахи. Тёть Ира Игнатова (давняя соседка и подружка бабы Веры) сгребает опавшие листья, дядь Коля палит костры, баня пыхтит ароматным дымом. Закрываю ворота круглой резинкой, стянувшей соседние дощечки. Достаю из багажника хрусткую клетчатую сумку с гостинцами от родителей. Ступаю на дорожку к дому. Это линия сложенных парочками досок. Весной и осенью они нужны для защиты от слякоти, но остаются круглый год, потому что они часть ландшафта, позвоночник двора: от калитки к дому, затем через огород к бане и, наконец, к загону для скотины и сараю. Каблуки стучат по доскам, доски дружелюбно дребезжат. Носки ботинок отбрасывают жёлтые листья-лапки клёнов.
У входа дедушка. Я так рада его видеть, улыбка сама разбегается по лицу. Я его обнимаю, целую в колючую, покрытую изморозью седины щёку. У него красное лицо — только из бани. Он прихрамывает на правую ногу. Его много лет беспокоит коленка из-за долгой работы на «Кировце». Дедушка около двух лет в очереди на замену коленного сустава. Я держу его под руку, рассказываю, как добралась. Заходим в веранду-летнюю кухню. Там душно, запотевшие окна — видно, бабушка мариновала помидоры или огурцы на зиму. Бабушка у круглого, покрытого цветастой клеёнкой стола режет хлеб.
От пахнущего баней объятия бабушки, которую я неожиданно переросла несколько лет назад, становится спокойно-сладко — хочется разрыдаться убаюкивающими слезами и потом уснуть у неё на плече. Я прикрываю глаза, чтобы спрятать слёзы. Я приехала искать ответы, я приехала бороться, да. Но дома, обнимая бабушку, мне так легко и тепло забыть об этом.
Дедушка достаёт из сумки какие-то инструменты, в которых я ничего не понимаю и — пара за парой — горку разноцветных пушистых тапочек из Икеи. Наверное, не меньше, чем дюжину пар!
— Вижу, вам понравился мой летний подарок.
— Да, запасаемся! — Дедушка берёт тапочки в охапку, несёт их в дом.
— На зиму хорошо. Ты же знаешь, какой у нас пол холодный.
Это уж точно. Не спасают и расстеленные по всему дому ковры.
— Тебе борщ разогреть?
Я очень люблю бабушкин борщ. Мы с мамой и папой тайно считаем, что баба Вера готовит гораздо более вкусный борщ, чем баба Света. Но сейчас кусок в горло не лезет.
— Не, спасибо, ба. А молоко парное есть?
— Да, для тебя оставила.
Она поднимает трёхлитровую банку с пола, ставит стакан.
Возвращается дедушка. Мы садимся за свои места — на те же стулья на тех же местах за столом, что всю мою жизнь. Перед дедушкой и бабушкой борщ в железных тарелках. Они обычно не ужинают после бани, но в этот раз, судя по всему, подгадали к моему приезду.
Пью парное молоко, намазываю смородиновое варенье на гигантский ломоть домашнего хлеба из печи. Всё как десять лет назад, когда я прибегала с игр в зарницу и лапту, и как пять лет назад, когда возвращалась с диких сельских дискотек. Дедушка с бабушкой всегда разрешали мне гулять допоздна, хотя родители отправляли спать в десять часов.
Я смотрю на дедушку и не могу поверить, что его могло не быть рядом со мной сейчас. Два года назад его так лечили в двух больницах, что чуть не убили. В третьей спасли. И врач оказался хороший — даже не стал брать денег после операции. Спустя полгода врач очень удивился, увидев дедушку на приёме. И в этот раз он взял деньги — оказывается, он такой порядочный, только когда считает, что его пациент скоро умрёт.
Прошло два года. Я смотрю, как дедушка низко наклоняется над столом, стучит железной ложкой по железной тарелке. У него хмурые морщины между бровями и уютные морщинки вокруг глаз. Он берёт большую синюю кружку с чаем — кружку, из которой пьёт только он и которой десятилетия. Я рассказываю о работе в университете, задаю вопросы о том, выкопали ли картошку, как помидоры в этом году. Но почти не слушаю ответы — мне спокойно и хорошо просто от того, что я слышу голоса бабушки и дедушки.
Тот врач просто не сталкивался с, как говорят в моей семье, породой нашей. Правда, чаще всего «наша порода» означает упёртый характер и страсть к тому, чтобы уехать за тридевять земель от дома, много работать и с любовью осуждать решения друг друга. Но она может означать что угодно, на самом деле. Мне кажется, на любое моё решение родные говорили «ну что вы хотите — порода такая».
— Игорь (это мой папа) сказал, что вы с Костей больше не встречаетесь. Как ты себя чувствуешь?
По нутру пробегает нехороший холодок. Я бесконечно растянувшуюся секунду смотрю на кусок хлеба в руке.
— Нормально.
Я не хочу ещё раз говорить обо всём этом, пониже опускаю голову.
— Вера, тебе будет лучше без него. — Бабушка сидит, откинувшись на спинку стула и сложив руки на животе. У нас в семье в ответ на многие проблемы говорят, что это к лучшему, что нужно собраться и жить дальше, работать больше, не жаловаться. Ещё любят повторять «Спасибо, боже, что взял деньгами». Но в этот как раз не деньгами.
— Вера, ты стала сама не своя от этого мальчика. — Дедушка разламывает остатки куска хлеба в тарелку с борщом, хлеб румянится, дедушка зачерпывает его ложкой.
— Он, конечно, хороший мальчик, умный, но с ним ты вела себя, как другой человек.
— Актёрствовала.
— Делала всё, чтобы ему нравиться, а не как тебе хочется.
Я перевожу взгляд с бабушки на дедушку и обратно. От тусклой лампочки всё в комнате кажется бледным, высушенным. За спинами бабушки и дедушки старый продавленный диван, над диваном висит ковёр — единственный в доме ковёр на стене. От них этим летом с боем избавлялись несколькими поколениями.
— Ты париться любишь, а в баню ни разу не ходила, когда с ним приезжала. — Дедушка тоже откинулся на спинку стула и сложил руки на животе. Его голос звучал почти обиженно.
— Я просто не хотела.
На кухню заходит чёрная кошка в рыжих пятнах. Её много лет назад притащила моя двоюродная сестра, пока гостила на каникулах. Лера назвала кошку Муркой, прижилось имя Мявкалка. Но какая разница, какое имя у кошки, если она ни на одно из них не откликается? Бабушка наливает в кошачью тарелку молока. Я не протестую, хотя знаю, что кошкам вредно пить молоко. Мне бабушка с дедушкой давно объяснили, что деревенские кошки — это другое дело. Если не поить её молоком, Мявкалка грызёт огурцы на грядках и в тарелках. Я не знаю, как это связано, но доверяюсь тысячелетней мудрости крестьян. Понимаете, это деревня. Здесь свои законы природы. Мой дедушка выжил, когда должен был умереть, кошка из вредности жрёт огурцы от тоски по молоку, а пол ледяной, сколько ни топи печь.
— Баня ещё тёплая, я положил дрова рядом с печью — подкинешь, если захочешь. Мы спать, а ты иди в баню. Утром расскажешь, зачем приехала.
Дедушка наливает в тазик из чайника горячую воду, чтобы помыть посуду, бабушка ведёт меня в комнату, даёт чистое полотенце, мочалку, пушистый халат.
— Ты большая девочка, пора понимать, где любовь, а где не любовь.
— Ба, я разберусь.
— Конечно, разберёшься. Вон, какая уже выросла.
Бабушка меня обнимает, теперь я не закрываю глаза, продолжая смотреть в столь жуткую в детстве темноту и глубину шкафа. Мне от разговора о Косте тревожно, непокойно.
В летней кухне я достаю из рюкзака нужные для бани вещи, вкладываю в пакет к полотенцу. Дедушка вытирает тарелки. Кошка свернулась в кресле клубочком и блестит глазом на шуршание моего пакета. За окном ярко горит костёр Игнатовых — что-то тёть Ира и дядь Коля разошлись, что это они там палят.
Ах, как пахнет костром на улице. Ах, как звонко он трещит. Ах, какие искры разбрасывает. Я замираю на крыльце, прижимая к груди пакет. В соседнем дворе по лицам тёти Иры и дяди Коли бегают шальные отблески костра.
Бабушка с дедушкой почти полностью убрали огород — всего несколько грядок осталось. Наверное, заморозков ещё не было. У бани я поднимаю руку, чтобы потрогать ветку дички. Да, точно, плоды ещё твёрдые — сильно ещё не примораживало.
Перед тем как зайти, глажу бок бани — брёвна, между ними колючая пакля. Я ведь правда давно не ходила в баню. Когда же был последний раз? Четыре года назад.
В предбаннике мягкий огненный свет из щелей печи и из окна, от костра Игнатовых. Рука привычным жестом ловит выключатель слева от двери, но я могу и не включать свет. Я знаю здесь всё на ощупь, отблески огня могут меня направлять.
Пахнет замоченными берёзовыми вениками, пахнет теплом. Такой у тепла запах — проникающий в каждую пору, укутывающий каждую мысль.
Я скучала даже по запотевшим при входе очкам. Я так давно не улыбалась сама себе, а сейчас улыбаюсь и глубоко дышу.
С трудом стягиваю джинсы, потому что в предбаннике душно, и тело сразу же покрывается потом. Очки кладу на подоконник крохотного окошка с мутным стеклом. Подхожу к двери в парилку и с опасением касаюсь ручки. Она горячая! Ох! Открываю дверь — и продираюсь сквозь стену жара. Ковшом набираю воду из синей бочки с холодной водой, плещу на лавку. Сажусь, прислоняясь спиной к шершавой, занозистой стене. Закрываю глаза.
Я проехала больше трёх тысяч километров, чтобы оказаться дома, в моей точке отсчёта. Бурчит печь, стучит сердце. Я чувствую, как что-то бурое, беспокойное, что замораживало моё тело всё это время, начинает меня отпускать.

Постковидное марево
Металл бряцает, лязгает, звенит. Не знаю, что происходит на кухне, только ту, что мешает спать, я сначала придушу, потом выставлю за дверь и удалю из контактов.
Зачем оставил её ночевать? Зачем, зачем… Кто ж знал, что она утром будет исполнять рок на пустых кастрюлях? У тебя одна кастрюля. Вот-вот. А судя по звуку — десять. Где столько посуды нашла? Спроси лучше, почему хозяйничает в твоём доме.
Вскакиваю, плетусь на кухню и не понимаю, куда попал. Впечатление, будто только въехал: одни шкафы и пустая столешница, на барной стойке нет ничего, даже кофеварки.
Даша улыбается, как олимпийский победитель.
— Привет! А я тут у тебя убралась!
Не убралась, а попрятала всё, что под руку подвернулось. Где мой бардак? Камня на камне от него не оставила. Как теперь узнать, куда она все нужные вещи запихнула?
— Чайник не видела?
— Над плитой, вот на этой полочке.
— И кофеварка тут же. Отлично… Супер… Спасибо…
Никогда! Ни одну девицу! На ночь! Не оставлю! Ухожу чистить зубы и бросаю за плечо:
— Ух ты, опаздываю.
— Подожди, я блинчики приготовлю! — кричит вслед злодейка.
Останавливаюсь в коридоре. Вообще-то, пока болел, голодал — эта хрень из китайской мыши окрашивала любую еду во вкус китайской мыши. А теперь живот постоянно требует компенсации. Не поддавайся! Если она тебя покормит, решит, что приручила.
— Нет времени, Даш, — отрезаю я. — Собирайся, я до метро тебя докину.
Стою в пробке перед светофором, щётки монотонно очищают стекло от снега. Мой внутренний голос нудит, он сегодня в ударе.
Обещал до метро, а подкинул до подъезда. Даша решит, что ты о ней заботишься. Но с другой стороны, у неё даже куртки не было, а на улице настоящая метель. А как будешь ставить точку? Как, как… В первый раз, что ли? Да просто не позвоню.
Машины впереди трогаются, пора решать, перестраиваться или нет. Навигатор предлагает свернуть направо во дворы, но, по-моему, и эта дорога выйдет на шоссе. Места знакомые. Точно, это же улица, где жила Нина… Не думай о ней! Думай о погоде. О погоде… Ну метёт, ну неожиданно, ну да, синоптики не соврали: сентябрь, а снег действительно повалил. Пешеходам не позавидуешь: одеты легко, перебегают дорогу прямо перед ползущими машинами, чтобы побыстрее укрыться. Вон подросток натянул капюшон, наклонил голову и чуть не забодал девушку. И девушка ничего не видит, прикрывается чёрным зонтом от снега, ветер сметает его с козырька остановки прямо на неё. Упрямая, встала бы под крышу.
Стоп! Нина!
И зонт не просто чёрный, а с витиеватым золотым узором Климта, тот самый, что я ей подарил.
Светофор переключился на зелёный, мне гудят, а я не трогаюсь с места. Не может быть. Откуда здесь — и вдруг она? Нина в Германии. Но фигура, цвет волос, то, как решительно она держит зонт, сопротивляясь ветру… И даже это упрямство так на неё похоже.
Зонт складывается, открывая лицо… Не Нина.
Сижу за компьютером с чашкой кофе и кошусь на дверь. Скорей бы пришла Ира. Во-первых, я зверски голодный, а у неё всегда есть чем перекусить, а во-вторых, моя болтливая соседка по кабинету умеет отвлекать. Сегодня это как раз то, что доктор прописал. Надоело размышлять, вышел бы я из машины или нет, если бы на остановке стояла Нина. Думал об этом, пока поднимался, скрипя и отдуваясь, на пятый этаж по лестнице, — хотелось одиночества, а не толкотни в лифте, — думаю и сейчас.
Нет, не вышел бы. Уехала… Ещё и вышла замуж. О чём с ней говорить?!
Слышал, так бывает: вдруг начинает тянуть к бывшей. А встретишься и через пять минут понимаешь, что ничего от неё не надо. Это как в пустыне: кажется, на горизонте вода, подойдёшь, а там потрескавшаяся земля. Нина изменилась, повзрослела, может, потолстела. А если увидишь и поймёшь, что такая она нравится тебе ещё больше? Ну, значит, по-любому, выходить из машины не стоило бы.
Ослаб я после ковида, размяк, железа, стали и силы воли в крови не хватает. Ещё и форму потерял, и запахи не чувствую…
Стучат каблуки. Ира распахивает дверь, толкая её бедром и одновременно расстёгивает молнию пальто.
— Привет! Так замёрзла! Кофе уже заварил? А почему хмуришься? Что?! Опоздала? Александр, мы маркетинговая фирма, а не военная организация! Я торопилась, но светофор…
Перестаю её слушать, только медленно тяну носом воздух. Обоняние вернулось или это тоже иллюзия? Сколько склянок в парфюмерном магазине? Тысячи. Вероятность, что Ира выберет духи Нины, — ничтожна. Но мне не показалось: запах апельсинов и шампанского влетел в кабинет и усиливается сейчас, когда Ирина энергично снимает пальто и встряхивает, обрызгивая весь кабинет. Даже не протестую — лёгкий душ мне на пользу.
— Да плевать на опоздание, — стираю капли с лица. — У тебя новые духи?
— Да. — Она называет знакомую марку. — Продавщица сказала, они пахнут, как феромоны…
Значит, феромоны в духах. А что, может, это и объясняет мою слабость к Нине. Сначала я на неё вообще внимания не обратил.
Помню иней на стекле финского коттеджа, смешной мольберт, сооружённый из книг. Самая непоседливая в компании, та, которая вечно теряется, заноза в длинных рыжих сапогах пишет пейзаж. «Хорошо, но скучно», — говорю я, отнимаю у неё тонкую кисть и вручаю самую толстую. Нина открывает рот и не знает что ответить, каждая веснушка смотрит на меня растерянно. Тогда я и почувствовал впервые этот запах от её волос.
А ведь рискнула, ворчала, что я ничего не понимаю в искусстве, но переписала моей кистью всё полотно.
Зачем я это вспомнил? Зачем, зачем… Вот тут даже поспорить с собой не могу. Не одобряю ностальгию, рефлексию, старые фильмы и даже в школе ненавидел работу над ошибками. Думать о прошлом непродуктивно, к тому же память его всегда приукрашает.
— … бутерброд полезнее. — Эти слова выводят меня из ступора.
Смотрю на Иру.
— Что? У тебя есть бутерброд?
— С колбасой, петрушкой, перчиком. — Она вручает мне пакет и садится напротив с чашкой кофе. — Разобралась с Пушкиным, теперь расследую дуэль Лермонтова. Там столько странностей. Во-первых…
Отодвигаю стул, чтобы хоть как-то увернуться от аромата. Но от диффузии молекул не спрячешься. Из-за этих духов меня затягивает в воронку устаревшей реальности, где Нина моя…
Тру глаза и вслушиваюсь в рассказ Иры.
— Он вёз письма и деньги Мартынову, а в Тамани их украли. Деньги Лермонтов возместил, но письма-то вернуть не мог. Так семья Мартынова решила, что ограбление он придумал, чтобы их письма вскрыть и прочитать.
— Ну что я могу сказать? Низкие людишки. Жаль парня.
— Вот знала, что ты поймёшь. Рассказала в бухгалтерии, а девчонки говорят: может, Лермонтов на самом деле схитрил? Мне так обидно за него стало! Поссорилась со всеми.
— Слушай, почему тебе нравится копаться в прошлом? Какая разница, что было сто лет назад?
— Не знаю. У меня такое ощущение, будто прошлое не прошло. Я как бы одновременно нахожусь и в прошлом, и в настоящем, и в будущем.
— Чушь.
— Нет!
Ира делает глоток из любимой чашки императорского завода, доставшейся в наследство от бабушки, я отхлёбываю из «умной» кружки с подогревом.
— Видела, каким иероглифом у китайцев обозначается человек? «Тот, кто шагает вперёд».
— Так чтобы шагнуть вперёд, нужно же от чего-то оттолкнуться. Было бы другое прошлое, мы бы в другой точке оказались. Мне вот всегда интересно найти ключевой момент. Когда всё пошло не так?
А когда у меня с Ниной всё пошло не так?.. Ну всё, хватит, надоело!
— Что у нас с праздником на острове? Киоски готовы?
— Они пока без названий, зато мы уже расставили их вдоль берега. Будем чередовать: один для мороженого, другой для горячего шоколада.
— А к гонкам всё готово? Лодки пришли?
— Да, но три придётся вернуть — для них гребцов не нашлось ни у мороженщиков, ни у кондитеров.
— Я займусь. А что билборды?
— Уже вешают. Я немного изменила дизайн. А знаешь, кто стоял рядом с Лермонтовым на последнем балу?
— Подожди ты со своим Лермонтовым. Что ещё нового?
— Ах да, владелец нового мясокомбината хочет с тобой встретиться.
Отлично, вот к Иван Иванычу я и поеду. Проветрюсь.
На улице тучи уходят. Снег тает, ручьи потекли — настоящая весна.
Сажусь в машину, включаю радио: Zaz поёт Je veux — и ощущение такое, будто Нина находится рядом. Смотрю на руль, чтобы не видеть, что кресло рядом пустое.
— А ты крепко за меня взялась. Ещё и твоя любимая песня звучит. Издеваешься, да? Зачем ты меня сегодня преследуешь?
И ведь знаю, что она ответит.
«Ой, привет! А я сейчас с подругами иду в институт мимо триумфальной арки», — потом начнёт рассказывать про архитектора, который её соорудил. То есть, по сути, скажет следующее: «Я тебя не преследую. Это ты думаешь обо мне. А у меня — учёба, работа, новые друзья, другой мужчина. Я вообще о тебе забыла».
Так я напомню.
— Помнишь, как ты, пригнув голову, чтобы я тебя не заметил, пыталась проскочить мимо, а я тебя поймал и притянул к себе. Пока говорил с Пашей, услышал, что ты бормочешь какие-то пятизначные числа.
Она взовьётся:
«Вот так хватать — это нарушение личных границ!»
Проигнорирую её протест.
— Спросил, что ты считаешь, а ты ответила, что составляешь числовой ряд, чтобы не думать о моей руке.
Нина попытается сменить тему:
«Почему ты разговариваешь со мной в пустой машине? Это странно».
Но я продолжу:
— Фишка в том, что ты не отталкивала меня. Не отталкивала. Но рассудком сопротивлялась. Хотела, чтоб я был таким, каким я быть не мог?
И вот тут я её задену. Нина знает: не я один виноват в том, что мы поссорились. Но она всё равно начнёт доказывать, что была права.
«Три слова — и всё сложилось бы по-другому. Это было сложно — их сказать?»
— Я не сказал три слова, которые ты загадала… Круто! А твой, значит, сказал? Ты так быстро выскочила замуж, что он, наверное, осыпал тебя словами до макушки. Болтун! Иди ты со своим мужем! Уходи! Это моя территория. Моя машина!
Кошусь на кресло: там никого. Это возвращает к реальности. Отлично. Почему я раньше этого не сделал? Почему, почему… Хотел с ней поговорить. А вот это опасная мысль!
Курю на обочине прямо перед билбордом Иры.
…мать!
Какого…
Выкурив ещё одну сигарету, достаю телефон и слышу голос любительницы русской поэзии.
— «Белеет парус одинокий»? Ира! У наших лодок нет паруса!
— Ну и что? Праздник совпал с ДР Лермонтова, как я могла это не учесть?
— И мы подходим к главному: третьего октября, серьёзно?!
— А что?
— Гонки — пятнадцатого!
— Боже! Третьего — это его ДР по старому стилю.
— Ну конечно. Ты же живёшь по старому стилю. Это всё объясняет. Девушка, весь город живёт по новому календарю, вся страна. Синхронизируйтесь уже!
— Прости, прости, прости! Не увольняй меня!
Смотрю на водохранилище за билбордом. Там остров — греется на солнце, дышит жёлтым и оранжевым. Опять осень, как тогда…
Вздыхаю.
— Проследи, чтобы эти плакаты убрали, — убираю телефон в карман.
Вот что бывает, если долго копаться в прошлом. Жизнь — в настоящем. И будущее мне нравится, можно строить планы.
Года через три детей заведу. Пусть создают движуху. А кто мне их родит? Лера? Настя? Может, Даша? Она хозяйственная. И похожа на бегемота. Что за мысль? Я б так не подумал. Тогда кто?
Закрываю глаза и вижу Нину: стоит, сложив руки на груди. Значит, всё-таки пора к психиатру.
«Не надо. Я постковидный мираж. Само пройдёт».
— Ревнуешь? Вышла за другого и ревнуешь.
«Я хотела тебя забыть! Хотела почувствовать себя любимой! И поторопилась. Скоро разведусь».
Нет. Не верю. Я её представляю, и она говорит то, что хочу услышать.
Почему она вообще поселилась в моей голове? Сомневаюсь, что кто-нибудь ещё живёт с таким пунктиком. А может, все так и живут? Ира хочет кого-то забыть и, чтобы отвлечься, копается в загадках истории. Даша везде прибирается, чтобы доказать привидению бывшего, что она хорошая хозяйка.
Надоели мне эти бабы. Как много Иван Иваныч готов потратить на раскрутку, интересно?
Переговоры затянулись на весь день, а я даже не заметил — вот что значит хороший коньяк. Машину оставил на парковке. А, ерунда, завтра перед работой заберу.
В окно такси льётся яркий свет и режет глаза, закрываю их и вижу недовольную Нину. Такая смешная, когда злится.
«Что это ты так нахохлилась?»
«Испортил нашу общую идею».
«Почему это? Колбасники хотят участвовать в гонках, а у нас есть свободная лодка».
«Помнишь: мы на острове, ветер гонит жёлтую листву по песку, по тёмному водохранилищу ползёт белый корабль. Тебе надо придумать праздник».
«Мне надо тебя поцеловать, но почему-то, уже не помню почему, нельзя».
«Я сказала, что в картине мало динамики».
«И я придумал лодочные гонки».
«Над городом нависла грозовая туча, а над нами светило солнце. Не могла решить, чего больше хочу: мороженого или горячего шоколада».
«И я подумал: расставим киоски вдоль берега, пусть соревнуются, кто больше продаст… Дело решит погода: будет холодно — зрители раскупят горячий шоколад, жарко — мороженое».
«И как в эту концепцию вписываются бутерброды с колбасой?»
«Бутерброды не вписываются, а вот жареные колбаски — очень даже. Ела австрийские колбаски? От Мюнхена близко, скатайся в Вену, попробуй».
«Ты ещё киоски с пивом между мороженым и шоколадом поставь».
«А что? Холодное пиво против грога. Отличная мысль! Команда мясокомбината, пивзавода и… какого-нибудь винного магазина».
«Ужас!»
«Не-а, гениально. Вот и свободные лодки пригодились. Ещё три контракта подпишем. Знаешь что? Раз ты из моей головы не уходишь, сделаю из тебя музу».
«Прагматик».
«Вредина. Даже у подъезда тогда не поцеловала…»
Бабочки какие-то полетели. Жарко. Вот и лето. Все времена года за одни сутки — тот ещё день.
«Постковидное марево».
«Ага».
«Просыпайся, приехали».
— Что? — всхрапываю я.
— Приехали, — говорит таксист.
На следующее утро Ира ставит передо мной конфетницу.
— Вот. Вычитала, что после ковида полезен корень имбиря.
С подозрением рассматриваю облитый шоколадом квадратик и откусываю от него кусок. В язык будто вонзаются сотни иголок.
— Ты сегодня бодрее выглядишь.
— Я и чувствую себя бодрее.
За утро о Нине ни разу не подумал, постковидное марево рассеялось. Естественно, я бодр.
Ира садится напротив.
— Пять минут ни о чём не думать — это возможно? Индусы считают, что можно, английские учёные — что нет.
— Я б не смог. А зачем это тебе?
— Выбираю тему для нового исследования. Вчера приснился Лермонтов. Говорит: «Ир, ну отстань ты уже от меня».
Чуть не давлюсь имбирём в шоколаде и начинаю ржать.
— Ты прелесть. Без тебя я бы давно сдох от скуки. Нет, правда. Сорок часов в неделю в одном помещении. Была бы у меня жена, я бы её реже видел. Отсюда вывод: жениться можно на ком угодно. Всё равно в итоге общаюсь с тобой.
Ира смотрит на меня пристально, не моргая.
— Молодой, красивый, накачанный. Девчонки из бухгалтерии здесь так и вьются. Но ты на них даже не смотришь. Загадка.
— На работе я работаю. Что здесь удивительного?
— Какая она?
— Кто?
— Ну та, по которой ты сохнешь.
Ничего себе! Пригрел змею на груди. Пушкин, Лермонтов, индусы — это пожалуйста. Меня пусть оставит в покое.
— А среди декабристов был предатель.
— Да ты что?
— Точно-точно.
— Найду гада! — Она пересаживается за свой компьютер и начинает строчить по клавишам.
Чувствуя себя хищником, которого дурной диетолог заставляет питаться сладкой стекловатой, жую вторую конфету с имбирём. Телефон звякает, принимая сообщение.
Отправитель: Нина.
Так, ещё раз: Нина!
«Привет. Я в городе. Давай встретимся».
В голове ни одной мысли.
Минуту…
Вторую…
Пятую…
— Эй! Ты чего застыл, как счастливый суслик?
— Да так. Английские учёные — дураки, Ирин. Пять минут ни о чём не думать — проще простого.
Рецензия писателя Екатерины Федорчук:
«В целом рассказ получился цельный, легкий. И это рассказ о любви, но не только. Об отношении к миру. Об отношении к прошлому. Очень хорошая вещь, герой, который вызывает симпатию. Тонкий лиризм, тонкий юмор. Никакого пафоса.
История у автора камерная. Поэтому, на мой взгляд, хорошо бы немного сократить текст. Сейчас чуть-чуть темп утрачен.
Отмечу моменты, которые очень понравились.
Финал. Отличная смысловая точка, о которой я писала в прошлой рецензии. Хорошо, что Нина реальная появилась на горизонте, хорошо, что через сообщение, а не звонком и не встретилась. Именно так, через смс сейчас и разбиваются сердца. «Пять минут не думать» — прекрасный ход!
Очень понравилась Ирина с ее интересом к прошлому, параллель с судьбой героя, рассуждение о прошлом и настоящем.
Как «Нина» в мыслях героя называет Дашу «бегемотом» — посмеялась от души.
Что можно, на мой взгляд, скорректировать. Надо четче обозначить, кем работает главный герой. Я не поняла. Дизайн и что-то там? Возникает вопрос, и он тормозит восприятие.
Разговор в мыслях с Ниной, который начинается со слов: «Ты испортил нашу общую идею» я бы сделала более личным. Вместо того, чтобы обсуждать рабочие моменты, лучше бы они поцеловались, что ли. Ведь дело во сне происходит.»
Рецензия писателя Романа Сенчина:
«Настроение рассказа схвачено удачно. Да, это мираж, может быть, и постковидный. А вернее, какое-то марево, что ли, в котором пребывает герой. Может быть, такое его состояние немного усилить. Не может сосредоточиться, слова Иры его раздражают. Сейчас он как-то легко на многое реагирует. Главное не переборщить. Наверняка автор болел гриппом — вот это ощущение, когда болезнь только-только прошла, а нужно возвращаться в работу, в жизнь. А тебя словно всего измяли, глаза вынули, а потом вставили, и они болят как-то изнутри… Повторяю, сейчас герой слишком живой, кроме момента, когда он едет в такси. Но, может, это коньяк подействовал? Хотя после ковида не очень-то пьется — алкоголь меняет и вкус, и действие. А у автора опять же очень легко герой его пьет…
Много Иры. Да, коллега, да, он с ней общается больше, чем с другими людьми, но Ира буквально затмевает в тексте всё остальное. И серьезно косячит, а герой ее, опять же, слишком легко прощает.
Кстати, почему «у гребных лодок нет паруса»? Бывают и лодки, и корабли, которые совмещают и весла, и паруса… Даша — это девушка на одну ночь или все-таки половой партнер, который метит в жены? Нина возникает неожиданно. Лучше бы Нина привиделась герою в самом начале, спросонья, а это оказалась бы Даша. Или герой отметил бы, что Нина не гремела посудой. В общем, что-то такое, чтобы мы поняли, что в мыслях у него одна Нина. Кстати, о мыслях. «В голове ни одной мысли». Если герой это отметил, да еще и минуты посчитал, то это ведь тоже мысли, да еще какие. Так что здесь какая-то неувязочка. Может, Ира его выведет из безмыслия? Такие у мня вопросы.»

Потеря
Как Надя Михайлова угодила в больницу, в гинекологию, она осознать не успела, настолько все быстро случилось. Сначала закрутилась в делах, потом опомнилась, посчитала дни в календаре: задержка — неделя. Купила тест на беременность — показал две яркие полоски. Как же так? Побежала в аптеку и взяла еще пять тестов, и все они подтвердили беременность. «Ребенок — это аргумент», — решила Надя, наконец.
Через две недели увидела пятна крови на белых шелковых трусах и вызвала скорую. В больнице поставили угрозу прерывания и положили на сохранение. За неделю руки Нади обкололи так, что на локтевых сгибах проступили синяки. Но больше всего ее бесило, что капельницы приносили в шесть-семь утра, лишая самых сладких часов сна.
Обычно, когда транексам начинал капать и стекать вниз по трубке, Надя закрывала глаза и представляла, каким будет их первый с мужем завтрак после больницы. Она напечет блинчиков и подаст их с разными начинками: свежей голубикой и малиной, джемом, красной икрой. Игорю предложит яйцо пашот с семгой и авокадо. И непременно нужен черный, посыпанный корицей кофе. Он сделает первый глоток, и она расскажет о ребенке. Игорь улыбнется ямочками на щеках и скажет, что любит ее одну и сегодня же подаст на развод. Она ведь только называла его мужем — женат он был на другой женщине и в браке растил двоих детей.
— Девушки, кто завтракает? — Голос разносчицы еды вернул Надю в реальность. — С тарелками подходим!
Пахнуло казенщиной, дешевизной, столовкой. Снова давали овсянку, и от запаха разваренных хлопьев в перекипевшем, загустевшем жирном молоке к горлу подступила тошнота. От прилива токсикоза Надю спасли три жадных глотка воды. Соседка по палате Ольга взяла для нее еду и поставила на тумбочку. Серая каша растеклась по тарелке, как блевотная лужа, в ней плавал бутерброд со шматком сыра.
Надя отвернулась к стене и провела по ней наманикюренными пальцами с длинными заостренными ногтями. Игорю о больнице она решила не говорить, чтобы и в мыслях он не мог представить ее с неуложенной головой и тарелкой вонючей каши в исколотых руках.
— Ночью девушку привезли, слышала? — спросила Ольга. Врачи нашли у нее отслойку плаценты, а она все равно собирала и пересказывала другим страшные больничные истории. — Лежала здесь тоже на сохранении неделю назад, а сегодня проснулась в луже крови, говорит.
Страх столкнул Надю с обрыва и бросил в пропасть, кромешную тьму, где не могло быть кольца с бриллиантом и белого платья. Она стала искать какой-нибудь выступ, чтобы зацепиться за него и остановить падение, но под рукой была только застывшая холодцом каша. Впрочем, она была не хуже только что услышанной истории. И Надя машинально схватила ложку и сунула комок каши в рот. Подернутый молочной пленкой, склизкий, он не провалился в желудок, а стал рваться наружу, и Надя закрыла губы рукой, чтобы сдержать рвоту.
В палату забежала акушер-гинеколог Ситцева.
— Михайлова, что с тобой, тошнит? Или каша невкусная? — спросила она и улыбнулась. — Сегодня домой? — Надя кивнула в ответ, и врач застучала каблуками прочь.
Пока прошел осмотр во главе с завотделением Беркович и Ситцева оформила выписку с больничным, было уже четыре часа дня. От казенного обеда Надя отказалась: давали смердящий суп с рыбными консервами и несоленую треску с переваренными макаронами, и по пути домой заказала доставку из ресторана. В такси ей написал Игорь, он прилетел из Нью-Йорка два дня назад и предлагал встретиться. Договорились по традиции позавтракать у Нади дома. Завтра.
С утра Игорь опаздывал на полчаса. Надя злилась, что его завтрак остынет. Сама она давно поела и теперь дергала тюль и смотрела в окно. О ребенке хотела сказать красиво и упаковала тест на беременность в подарочный конверт, но теперь сомневалась, получится ли разговор второпях.
Игорь появился с охапкой багрово-красных роз и, не раздеваясь, обвил Надю руками. Его кашемировое пальто и лицо были теплыми, а руки, как всегда, холодными, и она вздрогнула, как он к ней прикоснулся. Из кармана Игорь вынул коробочку цвета яйца малиновки. Надин любимый ювелирный бренд. Внутри оказался золотой браслет в виде незамкнутого кольца. Надя подняла глаза, чтобы поблагодарить за подарок, и осеклась. За десять лет она хорошо изучила Игоря и знала, что внешне он всегда одинаков — спокоен, бодр, добродушен, но под маской порой носит прямо противоположные состояния и научилась их угадывать.
— Очень красивый браслет. — «У него тоже есть для меня новости», — подумала она и добавила: — Спасибо.
Готовить новое яйцо пашот Игорь ей запретил, но и трогать остывшее не стал и только насаживал на вилку кусочки авокадо и рыбы. Пока Надя варила кофе, он повторял свои рассказы о погоде в Нью-Йорке и о том, как подорожало жилье на Манхэттене.
— Мы обязательно поедем туда с тобой, Наденька. Но попозже. Скоро мне снова придется уехать по делам, — сказал он, опуская кубик тростникового сахара в фарфоровую чашку.
— Надолго?
— Месяца на три-четыре. Но я буду приезжать, — попробовал улыбнуться он.
— Я могу поехать с тобой? — Игорь покачал головой. — Почему?
— Со мной едет семья, — он хлебнул кофе. — Жена третьего ждет, рожать в Америке хочет.
Надя прокусила нижнюю губу и почувствовала металлический привкус крови. Отношения с Игорем понеслись мимо нее высокоскоростным поездом, и она впервые увидела все, чего не замечала раньше. Не хотела замечать. Париж, где он кормил ее устрицами, а жене рассказывал, что задерживается в командировке. В Риме бросил одну, когда дочка заболела. На Мальдивах они меняли отель, потому что в соседний номер въехали подруги жены. Зачем она позволила так с собой обращаться? Почему решила, что ребенок это исправит?
— Пошел вон, — выдавила Надя, снимая браслет с руки.
— Не делай поспешных выводов.
Она схватила чашку с недопитым кофе и плеснула ему в лицо. Коричневые брызги попали на белую рубашку и растеклись в кляксу, словно измазывая все светлое, что было между ними. Игорь хлопнул дверью, и Надя осталась одна.
Жена третьего ждет. Это сжигало Надю заживо. Задави ее грузовик, найди у нее врач рак матки — казалось, больнее бы не было. Как он мог так с ней поступить? Его лицо вновь и вновь вставало у нее перед глазами — ни сожаления, ни чувства вины.
Надя смотрела в одну точку на стене, словно та была мишенью для выстрела. Нужно было решить, что делать теперь. Никогда больше не видеть его, родить для себя, растить ребенка одной, краснеть в ответ на вопросы об отце. Невозможно.
Или сделать аборт. Но ей было тридцать пять. Что, если другого шанса не будет? В гинекологии Надя видела, как привозят женщин с операций и как приходят они в себя после наркоза, не понимая, где оказались, что случилось и почему так больно. Страх перед оперблоком, хирургом Абрамяном с руками мясника сдавил ей низ живота, и Надя начала жалеть, что прогнала Игоря. Сама все испортила.
Она еще могла рассказать ему о беременности. Игорь сказал бы рожать. «Я все оплачу». Как всегда. Но как он мог так с ней поступить?
Надя вскочила, сбросила домашний шелковый костюм и пошла одеваться. Она разгадала ребус: это его жена решила завести третьего ребенка, только чтобы сохранить брак. Все подстроила специально. Бросила пить противозачаточные таблетки и не сказала ему. Разогнала овуляцию капсулами прогестерона.
На улице сквозь серое небо пробивалось холодное солнце, ветер трепал волосы и портил прическу. Надя села в машину и завела мотор. Она ехала без музыки, резко входила в повороты, подрезала нерасторопных водителей, обгоняла по встречке и сама не знала, зачем так спешила. До дома Игоря было недалеко: он на работе, дети в школе, а жена должна быть на месте.
Надя запарковала машину и направилась к подъезду. Он был заперт, оставалось ждать, проигрывая в голове предстоящую сцену.
Привет, Оксана. Ты ведь понимаешь, кто я? Десять лет мы делим его на двоих. Приехала поздравить тебя — такой большой живот, ты, наверное, больше нормы прибавила в весе? Представляешь, я тоже беременна. Да, от твоего мужа (который и мой муж тоже).
Мы никогда не встречались, но я хорошо тебя изучила. Когда появился Instagram, не поленилась сделать левый аккаунт, чтобы каждый день наблюдать за тобой. Спасибо, кстати, что рассказала, у какого хирурга сделала грудь — работой Рустама Олеговича я тоже осталась очень довольна. Только не понимаю, зачем тебе понадобилась новая грудь? На дряблом теле она ведь смотрится чужеродным предметом. Игорь как-то сказал, что в женщине должна быть гармония. Думаю, в тебе ее нет, поэтому ему всегда была нужна я.
Он давно не любит тебя. Что, если ваш брак вообще был ошибкой молодости? Или ты просто надоела ему за двадцать лет отношений. Я никогда не понимала, зачем жить вместе, если чувства прошли. Оставь его. Вы с ним больше не сможете быть вместе, а мы будем счастливы.
Из подъезда вышел жилец, и Надя шмыгнула внутрь. Лифт. Двенадцатый этаж. Квартира 248. Дверь открыла девочка-подросток. Надя не сразу узнала в ней дочку Игоря, последний раз она видела ее на фотографии лет пять назад. Кира в план не входила. Надя смотрела ей в глаза, а видела Оксану и странным образом чувствовала, что ревнует Игоря к ним обеим.
— Я сколько раз говорила не открывать дверь посторонним людям? — зазвенел женский голос.
Кира юркнула в глубину квартиры. Надя слышала, как выбивает удары ее сердце.
— Надежда! Пожаловала, мой компас земной! — Оксана шагнула на площадку этажа и прикрыла за собой дверь. — С чем пришла?
— Ты знаешь, кто я? — смутилась Надя.
— Я про таких, как ты, все знаю. Что надо? У меня через пять минут скайп с врачом из Америки.
Надя молчала. Она думала сыграть по-крупному, но выходило, что ее козыри биты.
— С гинекологом, наверное? Я ведь, как и ты. Тоже беременна. От Игоря.
— Поздравляю! Успела уже его порадовать?
— Ты не веришь мне? Я могу справку с узи показать, у меня с собой, — Надя полезла в сумку.
— В дурдоме ее покажешь! — отрезала Оксана и сложила руки на беременном животе. — Я двадцать лет за ним замужем. Ко мне раньше раз в квартал с такими новостями приходили. Богатые и красивые ведь всем нравятся? Хотела на все готовое прийти? Не выйдет! Напугать меня, семью разрушить тоже. И не думай, что ты у него одна такая. А сейчас извини, мне некогда.
Дверь захлопнулась. Даже если Оксана блефовала, партия была проиграна вчистую. Надя сползла на пол и полчаса сидела без движений и звуков. В машине она почувствовала острое желание выговориться. Маме звонить не хотела, та все время уговаривала найти хорошего парня и выйти замуж. Надя набрала двух подруг, но ни одна ей не ответила. Больше звонить было некому.
Езда за рулем обычно помогала Наде привести мысли в порядок, но сейчас она не замечала, как желтый сигнал светофора сменяет зеленый, и не слышала гудки других машин. На знакомом перекрестке не увидела помеху справа, едва не попала в аварию и решила сделать передышку. Рядом было кафе, куда ее любил водить Игорь.
Надя ждала салат с жареными креветками и личи, когда за соседним столиком заметила мужчину и девушку. Они пили шампанское и смеялись, в вазе стоял букет красных роз. Мужчина сидел к Наде спиной. «Пиджак и прическа как у Игоря, — подумала она. — Цветы красные. Это он». А ведь Оксана предупреждала.
Надя поднялась с места, прошла вперед и резко развернулась за спиной у девушки.
— Что ты делаешь с ней в нашем месте?
Пара замолчала, и мужчина поднял голову.
— Извините, — сказала Надя. — Я ошиблась.
— Весеннее обострение? — оскалился мужчина.
— Сумасшедшая, — бросила девушка.
Надя сунула купюру официанту и выбежала вон. Весь день она бродила по городу, ничего не ела и думала об Игоре. Вспоминала, как они грелись глинтвейном в Куршевеле и держались за руки на сафари в Африке. Вечером вернулась к себе и получила сообщение: «Как ты посмела заявиться ко мне домой? Из-за тебя жена попала в больницу». Надя сразу перезвонила, но Игорь не ответил. Телефон задрожал у нее в руках. Она понимала, что нервничать в беременность нельзя, но успокоиться не получалось.
Через два часа у Нади схватило поясницу. Спазмолитик не помогал, боль становилась все сильнее и скоро скрутила живот. Она положила руку справа от пупка и почувствовала, как сильно сокращаются и расслабляются мышцы. Казалось, живот весь пришел в движение. Она приняла максимальную дозу прогестерона и легла в кровать, но заснуть не смогла.
Когда в очередной раз пошла в туалет, заметила бледно-розовый след на бумаге. Надя поняла, что больше не в силах что-либо сделать, и тогда заплакала. Она сидела на унитазе, разматывала рулон туалетной бумаги и вытирала ей слезы. Еще днем она думала, что делать с беременностью, с отношениями, но теперь все было решено за нее. Скоро выделения стали алыми, а к утру пошли с кровяными сгустками.
Тапки, полотенце, шампунь, гель для душа, сменная одежда и большая пачка прокладок. Надя собрала сумку и поехала в больницу. В отделении гинекологии Ситцева сразу отправила ее на узи. Врач Мерешинский посмотрел в монитор, нахмурился, записал показания и вынул вагинальный датчик.
— Соболезную, — протянул он заключение.
Наде снова ставили капельницы. На третий день хирург Абрамян сделал ей чистку, потому что выкидыш получился неполным и нужно было опорожнить матку. Медсестры брали у нее анализы, разносчица еды предлагала зловонные блюда. Заходила Ольга, её бывшая соседка, но Надя разговаривать не стала. Она все время лежала на койке, отвернувшись к стене, и тихо, чтобы никто не слышал, называла себя недоженщиной. Никчемной, бесплодной и пустой. На этот раз она хотела, чтобы Игорь знал о больнице. Но он ей больше никогда не позвонил.

Пробуждение
Я стою на коленях, испачкав штаны в крови и грязи, смотрю на пистолет, дуло которого скоро упрется в мой лоб, на худую руку, держащую его, морщусь от запаха гниения и ладана, закрываю глаза, и раздается выстрел.
***
Поток тел втолкнул меня в вагон и прижал к стене: если кто-то решил бы ограбить или убить сейчас одного из нас, то он смог бы уйти незамеченным. Справа женщина лет сорока душила своими духами, слева — мужчина, пропахший луком и сигаретами.
Я пыталась абстрагироваться от запахов и гула голосов едущих на работу людей, когда мое внимание привлек высокий мужчина в черной шляпе-котелке и желтом плаще, который украшала большая брошь в виде летучей мыши. Он стоял, будто в огороженной зоне: к нему не прижимались ни школьники-студенты своими рюкзаками, ни женщины, ни мужчины — словно вокруг него была невидимая стена. Странно, но никто даже не обратил внимания на такую «свободную зону» — все старались держаться подальше и «утрамбовывались» вокруг как могли.
Мужчина посмотрел на меня и с ухмылкой на полных губах кивнул. Глаза его были большими и пустыми, как у мертвой рыбы. Я поежилась и отвернулась, но чувствовала, что он продолжал смотреть.
Поезд остановился, двери вагона открылись, и дышать стало легче: большая часть людей покинула вагон. Мне ехать почти до конечной, так что я поспешила занять освободившееся сидячее место.
— Доброе утро, — раздался надо мной хриплый и низкий голос. Я подняла голову и увидела мужчину в желтом плаще — я села в «его» зоне, черт. — Не подскажете, который сейчас час?
— З-здравствуйте. — Я нервно оглянулась на табло справа, показывающее название следующей остановки и время. — Половина восьмого.
— Очень хорошо. — Мужчина изогнул губы в улыбке и сел рядом, я немного подвинулась: захотелось встать и убежать, но это было бы невежливо. — Вы верите в судьбу?
— Нет.
Мужчина вытянул длинные ноги, будто отрезая нас от остальной части вагона.
— Почему же? Разве наша жизнь не подчинена какому-то высшему закону или порядку? Разве мы случайно оказались здесь? — Я открыла рот, чтобы сказать, что мне это неинтересно, но он продолжил: — Определенно нет. Мы здесь сидим, потому что мы должны здесь быть. Вы здесь вместе со мной, потому что должны быть здесь.
Он повернул голову ко мне, словно кукла, не двигая ничем, кроме нее, его глаза, карие, почти желтые, заблестели, рот обнажил скол на переднем зубе.
— Я сажусь в этот вагон каждый день вот уже тридцать лет, и только сегодня кто-то из пассажиров заметил меня. — Я задрожала и попыталась встать, но он схватил меня и усадил обратно, сжал ладонь вокруг моей руки. Мой рот открылся, кажется, я пыталась закричать, но не смогла проронить ни звука. — Вы заметили меня. В этот чудесный миг я понял, что должен сказать вам что-то, должен сделать для вас что-то, должен подарить вам что-то. И, если вы не верите в судьбу, в предопределенность, то я подарю вам эту веру.
Я отчаянно закрутила головой, открывая рот, словно рыба, выброшенная на берег, мои ноги бились о пол, но люди будто не замечали этого — мужчина всего в паре метров от нас посмотрел прямо мне в глаза, но будто не увидел ничего необычного и вернулся к переписке в смартфоне.
— Не бойтесь, нам никто не помешает: люди, погрязшие в своих мирских заботах, не способны увидеть что-то, выходящее за границы их узкого умишка. Вы же другая. Вы сможете. Я уверен. — Его голос надломился. — Вы сможете.
Его глаза, до этого пристально следившие за каждым моим движением, будто заволокло туманом. Я выдернула руку из его хватки, вскочила и побежала к кнопке остановки, но мужчина схватил меня за плечо и дернул вниз, встал передо мной и резким взмахом руки остановил поезд.
Двери вагона открылись, и люди медленно, словно околдованные, стали выходить. Я видела, как они уходили, спокойно и ровно, словно марширующие солдаты. Девочка, сидевшая в другом конце, уронила стеклянный флакон. Он разбился, и я почувствовала запах ладана.
Большая рука поднялась к моей шее, к подбородку, зарылась пальцами в волосы на затылке и заставила поднять голову. Глаза мужчины светились янтарем и почти вываливались из глазниц, зубы его заострились и пожелтели. Он улыбался все шире и шире, приближая ко мне свое лицо.
От него пахло гнилыми фруктами, забытыми на земле во время сбора урожая. Меня замутило.
— Ну-ну, дорогая, скоро все закончится. — Он нежно потрепал меня по волосам, опустил руку в карман, достал пистолет и с удивлением на него посмотрел. — Вот, значит, какие мысли сейчас посещают столь юных девушек. Хотя вы все для меня юны, бесконечно юны и прекрасны. Что ж, давай же начнем. Когда ты откроешь глаза, то вновь станешь моей Миктлансиуатль.
***
Ствол пистолета будто бы должен просверлить дыру в моем лбу, так сильно его прижимают. Я закрываю глаза, и раздается выстрел. Потом воцаряется тишина: до этого момента и не думала, насколько громко бьется мое сердце и шумят лампы, сколько лишних звуков вокруг.
Теперь я понимаю. Открыв глаза, смотрю на мужчину перед собой. Пистолет все еще прижат ко лбу, но я не чувствую его, равно как и крови, текущей по лицу. Голова ощущается странно пустой. Может, из-за того, что мне только что вышибли мозги, а может, из меня просто убрали все лишнее таким нетривиальным способом. Пистолет испаряется.
Мужчина стоит, и рот его теперь похож на акулью пасть, кожа, гладкая и желтоватая, светится изнутри. Он снимает шляпу, которая в тот же миг обращается совой, с плеч его слетает плащ и падает на мои, брошь оживает и радостно пищит.
Мужчина с поклоном протягивает руку, которую я на удивление спокойно принимаю, и помогает подняться с колен. Тело — ненужный мешок костей и плоти, падает на пол. Оборачиваюсь и равнодушно смотрю на него.
***
Над Морелией пробуждалось алое солнце, празднуя вместе с Владыкой Миктлана возвращение его Королевы.

Прорвись на другую сторону
А потом подплыли рыбы и стали жадно жрать всё то, что я выблевала за борт.
Теплоход был пришвартован к причалу ради декорации. Казино, теперь запрещённые, тогда были ещё на плаву.
Серж протянул мне салфетку.
И казино, и любовь к идиотским именам — всё это выдаёт начало века.
— Поехали, детка, к Жорику. — Серж тянет меня к выходу.
Мы идём через зал с редкими игроками. Рулетка сегодня нас выпотрошила. И бесплатная водка.
Такси, какая-то петляющая тёмная дорога. Загородные дома мелькают перед глазами. Вид у меня потасканный и почти уже гранж. Пайетки на майке кое-где оторваны. Концы волос — засохшие сосульки в блевотине.
Жорик встретил нас у ворот в трусах и с окровавленной ногой. В руках банка икры, которую он ел ложкой. Во дворе валялся полностью разбитый байк. В гараже стоял новенький, сегодня обмываемый. В доме толпа халявщиков. Пили текилу. Мне не хотелось, но я всё равно выпила и закусила из рук Жорика икрой. Солёные пузырьки с запахом дёгтя.
При всей роскоши дома, он был обставлен ублюдски. Кожаные бежевые диваны, к которым вечно прилипаешь задницей. Много мрамора и барные стулья, обтянутые синим дерматином.
Леся тоже была здесь. Любимая сука, моя сожительница и дрянь. Ускользающая. Всё реже вижу её по утрам. И облако её духов в коридоре отдается болью — запах острых злых холодных цветов. Опять ушла, не разбудив. От меня.
— О, моя дорогая, а вот и ты! — пьяная фальшь в её голосе.
Что-то надломилось в нас с ней.
Мои попытки убить себя были сплошь нелепы. Утопиться в ванной. Или выпить две бутылки водки под Зе дорз (с предсмертной запиской, само собой). А потом выблевать всё на её прекрасный пушистый ковёр. Пока Джим надрывно пел «Прорвись на другую сторону», с оргазмическим выдохом в конце.
Вот она сидит передо мной вся в бежевом — от волос до туфель. Новеньких и идеальных. И я — в босоножках на высокой шпильке, потёртых и подкрашенных чёрным маркером. Узкие джинсы с низкой посадкой, из которых стринги торчат как заячьи уши.
Леся болтала с лысым парнем, у которого всегда можно было раздобыть дурь. Кошельком была я. Случайный секс в грязных туалетах ночных клубов, отбитый о холодные бачки унитазов копчик, малиновые синяки на коленях и обветренные губы — приметы той меня, умирающей. На моё тело мне было плевать. Леся же своё тело любила.
Это была наша последняя с ней тусовка.
Мы пили текилу, жрали икру и потом долго гоняли с Жориком по дачным дорогам на байке. И я видела, как из его подсохшей и снова лопнувшей раны на ноге капала кровь.
Ближе к утру гости пьяными безымянными телами, иногда слипшимися, валялись по дому. Жорик называл их медузами.
Лесе срочно нужно было куда-то ехать. Опять без меня. Она села в такси. И останавливать её не было смысла, оставалось лишь смотреть, как она захлопывает дверцу, не глядя на меня.
Я поднялась в спальню Жорика по лестнице со стеклянной перегородкой вместо перил. Сверху всё это месиво из разбросанных как попало пьяных тел выглядело жалко. И правда — медузы, выброшенные на берег.
Для общей картины не хватало ещё трупа. На заднем дворе. Или в багажнике чьей-то машины. И чтобы изо рта характерная пена. И улыбка до ушей на посеревшем лице. И потом эпитафия на мраморном надгробном камне: «Жил бесцельно. Умер с кайфом».
Утренний свет выбелил дом. Солнечные пятна повсюду. Всё блестело: от мрамора до хромированных кухонных деталей и стеклянной перегородки. Я лежала на кровати храпящего Жорика и злилась на эту суку. Куда её вечно несёт?
Вспомнилось, как два года назад она дёргала меня с летней практики. Я в унылом Каргополе с горстью не менее унылых однокурсниц пила водку, закусывая шпротами и чёрным хлебом, подыхая от скуки. Сплошь деревенские избы и приземистые храмы. И больше ничего. Каждый вечер из единственного телефона-автомата на весь город я звонила Лесе. Мы что-то шептали друг другу нежное, как дураки. «Может, сбежишь? Вообще не могу без тебя, всё не то. Москва уродливая и скучная».
А теперь может.
Тогда мы ещё не жили вместе. Случайные совместные ночёвки были счастьем. Узкие диваны чужих квартир, на которых мы спали, — в клетку, полоску, коричневые, в мелкий рубчик, зелёные, бордовые, плюшевые, — я запомнила их все.
И все лавки на Патриках, на которых мы пили, закинув друг на друга ноги. И все подворотни — московские и питерские — в которых мочились, смеялись и плакали иногда.
Гоняли в Питер на вписку к какому-то незнакомому старому хипарю. Спали у него на полу и пили чай с безнадёжно заплесневелой заваркой. Мыли подмышки в вокзальном туалете. Дремали на лавке в каком-то питерском дворе. И были счастливы. Сука.
Через пару часов рваного сна я проснулась от звука спазмического кашля. Кого-то рвало на заднем дворе. Никакого трупа. Только смерть чьего-то желудка. Летнее солнце заливало газон жизнеутверждающим ярким светом. Блевотина на траве блестела влажным розовым пятном. На синем небе ни одного облака.
К телефону Леся не подходила. Вот она сейчас спит где-то, а её перламутровый маленький телефон, обклеенный стразами и увешанный подвесками, вибрирует.
Такси трясёт. От света хочется спрятаться подальше. Дома её, конечно же, нет. Я вваливаюсь в её светлое царство и, стянув кое-как джинсы, падаю на кровать. Тазик подставляю уже на автомате. Чтобы не заблевать её новый паркет. Вечером меня будит дребезжание трамвая под окнами. Металлический лязг, лёгкая вибрация стен, к которой привыкаешь. За окном темнота. Летняя глубокая ночь. Я звоню ей, но её телефон выключен.
Прилипающими к полу пятками иду в душ. Первый за последние пару суток. Джинсы воняют, но я всё равно их натягиваю. Ищу приличную майку, на которой ничего не оторвано. Красная с бисером, в модном этническом стиле. Без лифчика, само собой. Торчащие соски — тоже примета времени. Надеваю босоножки на высоченном каблуке и с прозрачной стопой. Сумка-кошелёк с бахромой. Красная помада. Тёмные кудрявые патлы пахнут шампунем. Понты — дороже денег. До шмоток Версаче и Гуччи я не доросла, но хорошие духи могу себе позволить. Никаких шлюхинских Гуччи Раш, которыми пахнет вся ночная Москва. Нет, нет. Дольче Габбана в леопардовом флаконе. Обливаюсь с головы до ног. Джинсы между ног тоже не забываю надушить.
«Z» — новое модное место, куда Леся достала нам клубные карты. Это её площадка для съёма. Убогое сборище анорексичных кокаинщиц и упакованных мужиков, лениво плавающих в неоновом свете. Со знаменитой лестницей, по ступенькам которой я не раз съезжала на заднице.
Меня встретил администратор ресторана, на чьей съёмной хате мы часто зависали в компании обкуренных придурков. Иногда он трахал меня на своей кухне, иногда, обдолбавшись в хлам, прямо при его гостях. Иногда он трахал меня, пока я блевала на пол. До этого ему не было дела. Но здесь мы были чистенькими. Я умела очень прилично есть рыбу в ресторане, распиливая розоватый стейк на маленькие кусочки. Сидя с царской осанкой. И поддерживая светский трёп.
— Леся здесь?
— Да, вроде видел её в випе.
Вип-зал — уродливое тёмное пространство с маленькой барной стойкой для избранных и огромным экраном. Леся вальяжно развалилась на синем диване, в сотый раз пересматривая «Брат-2». Всегда пустой зал, в котором нон-стоп крутят одно и то же. Её заветная мечта. Всего за двести баксов стоимости вип-карты вы попадёте в гламурную жизнь! — стучало в её голове. Она выпрашивала деньги у папочки. И ещё немного у мамочки. Экономила на шмотках целый месяц. Там, за дверью — всё! Понимаешь? Новый мир! С сожжённой носовой перегородкой и кровавыми соплями. Теперь оставалось с пафосным лицом делать вид, что и фильм — не говно, и жизнь удалась.
— Ты где была?
— А это важно? — Губы сложила в тонкую линию. Глаза злые.
Куда исчезла девочка с нежными чертами лица, с облаком светлых волос, вся в чём-то голубом и искрящемся, прижимающаяся ко мне своими тощими рёбрами? Передо мной лежала холодная дрянь с тёмными провалами под глазами и кокаиновыми зрачками. С новенькой, подаренной кем-то сумкой Прада.
— Сегодня домой не приходи, останься у кого-нибудь, — шмыгает носом.
— И что это, блядь, значит? — Двинуть бы ей по зубам, чтобы закровило.
Она пялится на экран и молчит.
У нас был гостевой диван. Спальня-священная-корова только для нас двоих. Там пахло нами. А диван — губка, впитавшая столько всякого дерьма и спермы московской тусовки тех лет, что казалось, стоит присесть — прилипнешь.
— Ты кого-то хочешь привести?
— Я сказала, не приходи, мне нужна пустая квартира, — не глядя мне в глаза.
«В чём сила, брат?» — в сотый раз и заезженно. Да иди ты на хер со своей силой!
Я пулей вылетаю из випа. Стучу каблуками по адской лестнице. Выбегаю на ночную дорогу. Пахнет горячим асфальтом. Редкие огни вывесок мельтешат перед глазами, готовые сплавиться в одно большое красно-зелёное неоновое пятно. А вот и ни хера не заплачу! Я ловлю такси и еду в свой родной любимый кабак. Клуб «X». Пристанище алкашей и рокеров.
Моя девочка, нежная, весёлая бледненькая мышка. Что же стало с тобой?
Случайная поездка в яхт-клуб «Глэм». Здесь собирались сливки общества. По сути — обычное свернувшееся молоко. Но тут были бабки и связи, тут были бренды и яхты. Она не вписывалась в этот круг с нашим нищебродством. Но очень старалась. Через месяц стали появляться правильные мужики, чистенькие рубашки, дорогие ботинки, Луи Витон атаковал всех вокруг; шлюхи стали эскортницами, кокаин доставался бесплатно. Хороший коньяк, дорогие подарки, секс в новеньких хатах. Леся на моих глазах строила карьеру светской львицы, и я очень мешала ей на этом пути.
Бережковская набережная тянется тёмной лентой. На летней веранде клуба знакомые лица. Сверкающие спортивные байки, разноцветные кожаные куртки, висящие на деревянных перилах. Громкий смех весёлой попойки. После душного «Z» с его фальшивым блеском и сложными связями это место — дом.
— Мика здесь? — бросаю на входе охраннику.
— Да, как обычно, у себя.
Сквозь потные тела, белёсый дым, подсвеченный дешёвой иллюминацией, я продираюсь к сцене.
Ныряю за неё, спускаюсь вниз по крутой лестнице в тесный затхлый коридор перед репетиционной. Мика — музыкант-бомж, живущий прямо здесь, в клубе.
Запах кислятины и тлена. Открываю тугую дверь со скрипом. Он разговаривает с кем-то по телефону, курит и улыбается мне.
Я стягиваю джинсы, забираюсь на шаткий стол, раздвигаю ноги.
— Туфли оставь.
Это штамп, но он любит туфли. Зимой — сапоги. Или широкий ремень с тяжёлой пряжкой на голом теле.
Надеваю туфли, снова раздвигаю ноги, мастурбирую. Ему так нравится. А я люблю делать так, как нравится. Я хочу чувствовать себя шлюхой, но не быть ей.
Никак не могу кончить.
Потом отсасываю ему и глотаю. Не хочу пачкать свой чистый прикид. Вкус хлорки намертво прилипает к горлу. Мы пьём дешёвый коньяк.
Леся влюблена в него давно и безнадёжно. Была. Иногда я подкладываю его к ней в постель. И он терпит. Таковы условия. Хочешь меня, трахай и Лесю.
Но в основном это она меня подкладывала подо всех. Под умных, статусных, богатых, ещё не понимающих в то время, куда потратить свои деньги. Я стала её визиткой. Меня хотели, меня звали, и я буксиром тащила её за собой. Но всегда помнила: я не такая тощая. Не такая плоская. Не такая бледная. Не такая.
Когда мы познакомились, её любовь обрушилась на меня. Все Сержи, Жорики, Мики и прочие — были пунктиром. Мы — это основная линия. Она мыла меня, выщипывала брови, расчёсывала, прижималась. Я любила её торчащие круглые соски на плоском теле. И красные пятна диатеза на тощей попе. Мы мечтали, гуляя по весеннему Питеру, как вместе когда-нибудь умрём. Пили дешёвый портвейн из горла в белёсой питерской ночи под громадой разведённого моста. Валялись в ванне. Я читала ей куски из упоротого романа «Электропрохладительный кислотный тест». Мы хотели сожрать с ней всё то, что жрали герои романа, и уехать куда-нибудь автостопом, пусть и по российским ебеням. И даже куда-то ехали, но недолго. Пили тёплое пиво на случайной заправке и много смеялись. Я была для неё номер один. И называла она меня нежно и пошло «малышкой» и «любовью». Вы не видели мою малышку? Моя любовь, возвращайся скорее. По утрам мы заворачивались в кокон из одеяла, курили, и тепло наших тел было нашим общим теплом.
Но однажды её всё достало. Она так и сказала утром: «Меня всё достало!» Курила сигарету и стряхивала в кофе. Недопитый и остывший. И вновь повторила: «Меня всё достало!» И снова стряхнула.
— Меня достали твои волосы повсюду! — раздражённо.
— Ты выглядишь жалко, и меня это достало, — устало.
— Посмотри на себя, ты же никчёмная, тебя саму это не достало? — швыряя одежду на пол.
— Да кому ты нужна? Достала ныть, — цедя сквозь зубы.
— Я не обязана всегда быть с тобой, достала уже! — захлопывая дверь.
Теперь я всё чаще просыпалась одна. Жалкая, пьяная, одинокая, нелепая, не очень умная, не слишком худая, не модная, не богатая, не вписывающаяся в её круг. Я застряла в своём ламповом мире с дробными воплями Дженис Джоплин в голове, в то время как Леся шумно втягивала дорожку под электронный клубный бит. Её любимая фарфоровая кукла, сидящая на комоде, смотрела на меня с насмешкой. Я хотела её разбить.
Надо было разбить. А лучше убить Лесю. Или себя.
Поднимаюсь на танцпол уставшая и злая. Сигарета, закуренная, но не выкуренная, осыпалась пеплом. Хочу, чтобы меня трахнули, чем жёстче, тем лучше. Первый попавшийся незнакомец. Не очень противный, но и не слишком клёвый, чтобы не запасть.
Долго стою у бара, пью. И снова пью. Вискарь пахнет плесенью и самогоном. Обыкновенным деревенским самогоном. Ещё не подкатывает рвотный рефлекс, но алкоголь гадко плещется в пустом желудке. Барная стойка липкая, как и я вся. Середина ночи, все уже потные и жаркие. Сальные лица с мутными глазами. Слюнявые рты. Красные пятна на щеках. Булькающие звуки пьяной речи. Прикосновения мокрых рук.
Такси на последние бабки. Ещё пара часов и рассвет. На всех танцполах Москвы врубят верхнее освещение, и вся эта ночная мишура предстанет грязью немытых пьяных тел, размазанного макияжа, потных подмышек, липких столов и барных стоек. Последние посетители, ещё не разъехавшиеся на автопати, стыдливо будут брести к выходу, подгоняемые охранниками.
Я еду в последнюю точку сегодняшней ночи. В маленьких бар у высотки. Тесный и уютный. Денег нет даже на вводную рюмку самой дешёвой водки. Вводная — это та, с которой ты покупаешь себе право стоять у стойки и ждать, когда начнут наливать и угощать. Сегодня я просто трусь у бара, нервно курю. Мне уже абсолютно на всё насрать, даже на простые правила игры. Первый попавшийся парень слышит мой шёпот в своё розовое надушенное ухо. Я пирожок из Алисы — «Съешь меня». Здесь идеальные проверенные туалеты. Во-первых, общие. Так что никакого смущения зайти вдвоём. Во-вторых, двери в кабинки из сплошного полотна от пола до потолка. Без зазоров и возможности рассмотреть ноги в щели. Но унитазы тут слишком большие, так что устроиться удобно задницей на фаянсовом бачке невозможно. Опираюсь на него руками. Джинсы спущены до колен вместе с красными несвежими стрингами. Я хочу жёстко и грубо, но парень не спешит, что-то спрашивает, уточняет. Да трахни меня уже наконец! Движения методичные. Хочется спать. Я абсолютно сухая, настолько, что, кажется, слышу скрип члена. Интересно, если я сдохну прямо здесь, в этом туалете, со спущенными штанами, что скажет Леся? Она будет плыть на какой-нибудь яхте, нюхать кокс, шмыгать носом и презрительно рассказывать своим новым классным друзьям в ботинках от Гуччи эту байку.
С сумкой Прада —
толчок.
В топике от Роберто Кавалли —
толчок.
Джинсах Кельвин Кляйн —
толчок.
В облаке Кензо —
толчок.
Бряцая часами Тиссот —
последний толчок.
Парень кончает куда-то в сторону. Вытирает себя туалетной бумагой. Всё очень культурно и аккуратно. А что ты хотела? Чтобы он схватил тебя за волосы, засунул член по самые гланды и плотной струёй кончил в рот, а ты бы блевала, блевала, блевала, пока не выблевала бы уже наконец всю свою любовь к ней? Я натягиваю джинсы и прошу денег на такси. Достаёт бумажник.
Светает. Всё вокруг выглядит паршиво. Я не чувствую никаких запахов, кроме собственной кислой вони. Такси. На асфальте миражные блики. Исчезающие лужицы в преломлении света. Там, за окном, начинается новый день для миллиона нормальных людей. Для меня всё закончилось. Мне хочется лечь на этот тёплый асфальт. И долго смотреть в небо, как в детстве, когда тебя маленькую втягивало плывущими облаками в бесконечный космос, и казалось, что, если вовремя не схватиться за траву — унесёт. Я бы хотела, чтобы сейчас меня унесло туда, в эту синеву.
Леся распахивает дверь. Глаза вытаращены и жила пульсирует на покрасневшем лбу. Она стискивает до боли мои протянутые руки, с силой пытаясь отпихнуть от себя.
— Я же просила тебя не приезжать!
На кухне сидит какая-то девка и цедит шампанское. Я ору, Леся орёт в ответ что-то жестокое и унизительное. Вынимаю из её новенькой хромированной подставки разделочный нож, самый большой из набора. С хирургической точностью делаю одинаковые разрезы. По три на каждой руке. Не хватает софитов и аплодисментов. Брызгает на светлую плитку кухонного фартука. И свежевыкрашенные стены. На полу собралась лужица и пяткам скользко. За окном дребезжит трамвай. Солнце бликом ложится на её светлые волосы. Как красиво!

Расставание
Лиза идет домой и не чувствует ног в промокших кроссовках. Почти стемнело. Лиза не стесняется плакать, она некрасиво покраснела и всхлипывает. Впереди стая бродячих собак. Одна испражняется, другая нюхает, что получилось. Третья, как в чехарде, опирается передними лапами на невысокую изгородь и перепрыгивает навстречу четвертой. Лиза живо представляет, как они окружают ее и грызут. Но ничего такого — они даже не смотрят, когда Лиза проходит мимо.
Вот июль 2006 года. Университет состоит из старого паркета цвета грецкого ореха и огромных окон с распахнутыми форточками. В лучах света золотится и колеблется пыль. На вступительном собеседовании Лиза в дрожащем беспамятстве рисует схему размножения грибов, рассказывает о хобби на немецком, одалживает вежливому дылде ручку. Все выходят и ждут. Лиза замечает Олю в первый раз. Та стоит неподвижно, схватив себя за плечи. Задумчивая и вычерченная на фоне остальных. Лиза не понимает, как это получается, но она сразу знает, что Оля особенная. Как будто Оля встретилась Лизе через много лет разлуки. Они познакомятся через несколько месяцев. А сейчас Лиза отвлекается на своего будущего декана: он зачитывает списки поступивших. Лиза не знает, как Олю зовут, кажется, ни одно названное имя не подходит.
Ветер сегодня свирепый. Срывает ветки, подбрасывает редкие капли дождя в непредсказуемых направлениях. Лиза зажмуривает глаз от одной такой капли и рассеянно смотрит на спешащих мимо людей. Рядом со светофором толпа почему-то всегда ускоряется, как вода, попавшая в водоворот. Чуть дальше под каштанами меланхолично поет музыкант с гитарой, ему неритмично подстукивает барабанщик с установкой. Музыкант поет чисто, мелодично, только микрофон съедает все согласные в конце слов. Получается: «А те…, кто ложится спа… — спокойного сна. Спокойная но…»
Лиза слушает и смотрит, и ждет Олю в условленном месте. Они не виделись месяц — очень-очень давно. Вот и Оля. Все та же, разве только немного загорела. Обнимаются, всхлипывают по очереди. Улыбаются и идут вперед, не договорившись о направлении.
— У меня дыра в душе, — признается Оля. Что ж, у Лизы тоже. Они идут быстрее необходимого, молчат и терпят слезы.
— И что, сегодняшняя встреча будет такой? — Лиза пытается иронично подбочениться и переключиться от горечи внутри.
— Да, нам следует пережить все эти чувства. — Оля храбро разрешает им плакать, берет подругу за руку, и они продолжают путь.
— Так почему же ты сразу не рассказала мне о Степной ведьме?
Это июнь 2007-го. Они сидят у костра на недлинном бревне. Оля чистит яйцо, бросая скорлупу в костер, а Лиза жарит сосиску на палочке. Они остановились на привал после нескольких часов пути. Пока собирали хворост для костра, совсем стемнело. Лиза задает свой вопрос, и тот повисает в воздухе, смешиваясь с потрескиванием сосисочной кожуры. Костер совсем не греет. Лиза ерзает на бревне, пытаясь поглубже спрятаться в куртку, и осторожно смотрит на Олю. Та не спеша доедает яйцо, вытирает руки бумажной салфеткой.
— Понимаешь, — наконец произносит Оля, — это вопрос веры. Если ты веришь в Степную ведьму, значит, она существует. Я не хотела тебе рассказывать о ней, чтобы она тебя не заметила.
— Зачем же ты веришь в Степную ведьму, если это опасно? — Голос Лиза дрожит от холода.
— О, я не верю в Степную ведьму специально. — Оля неожиданно обнимает Лизу левой рукой и притягивает поближе к себе. Сразу становится теплее. — Я верю в целом. Вера помогает мне видеть мой Путь. Но если я соглашаюсь верить, я соглашаюсь быть уязвимой. Потому что как только я впускаю в себя веру, я становлюсь видимой для всех с той стороны. Вера во мне горит ярче любого огня. Так Степная ведьма меня и нашла.
Оля говорит совершенно будничным тоном. Лизе очень хочется, чтобы все, что подруга говорит, было правдой. Лиза нанизывает еще одну сосиску на палочку и протягивает Оле.
— Как же быть, если ведьма тебя догонит? — «Или меня», добавляет про себя Лиза.
Оля смотрит Лизе в глаза и очень серьезно говорит. От нее пахнет нехитрым съеденным ужином и еще какой-то горьковатой полевой травой.
— Если ты услышишь, как шуршит ее платье, как она шепчет, то сразу ложись навзничь. Закрой глаза, не шевелись. Дыши едва-едва. Постарайся представить, что тебя нет. Если откроешь глаза — она заберет у тебя глаза. Если скажешь хоть слово — заберет язык. Ведьма не сможет долго здесь быть. Попугает тебя — и оставит.
В кулинарной лавке Лиза и Оля очень вкусно едят. Паста с семгой и сливками, салат из по-домашнему пахучих свежих овощей, чай с чабрецом. На десерт одна на двоих песочная корзинка с кремом и красиво выложенной клубникой. Хорошо. Оля все время хватается за телефон, теряет нить разговора, извиняется и говорит, что голова идет кругом от всех приготовлений. Лиза понимает. Уезжать навсегда — это сложно. Подруги говорят о привычном. О детях и мужьях — вечных свидетелях их дружбы. О работе — у Лизы новая, у Оли только что оставленная. У Лизы дочь научилась стоять на руках, у Оли сын ныряет, не зажимая нос. У Лизы коллега при любой возможности ходит в походы, у Оли приятельница приняла католицизм. Несмотря на очевидность прощания, подруги не вспоминают прошлое, нет никакой ностальгии. Ненадолго все становится по-прежнему. За окном усиливается дождь.
Лиза смотрит на свое прозрачное отражение в стекле и не видит своих глаз. Мимо без зонта спешит простоволосая старуха с невероятным количеством пакетов.
Спать легли, тщательно затушив костер. Лиза лежит в спальнике Оли и вдыхает запах ее квартиры. Немножко пыли, немножко индийских палочек. Внутри тепло и мирно. Ночной лес снаружи почти не издает звуков, только что-то шелестит в высоте. Оля лежит где-то рядом. Сон не идет. Все мысли вокруг истории про ведьму. Лиза уговаривает себя лечь на спину и сконцентрировать мозг на шитье. Представим себе кусок голубого трикотажа в тонкую зеленую полоску. Пусть сегодня это будет петельный шов. Идем слева направо. Нитка послушно скользит вслед за иглой. Идеальный стежок.
Швейная медитация рассыпается в секунду: рядом что-то шуршит, шаркает. Ближе, еще ближе. Сквозь спальник Лиза чувствует, как кто-то задел ее плечо, устроившись рядом. Все тепло разом улетело из спальника, всосалось в невидимую фигуру рядом.
Лиза приказывает себе вспомнить Олины наставления: не двигаться, не открывать глаза. Если откроешь глаза — она заберет у тебя глаза. Если скажешь хоть слово — заберет язык. Рядом с лицом, всего сантиметрах в пятнадцати, явное дыхание. Прерывистое, с хрипом. Пахнет землей, плесенью. Щеку морозит касание пальцев. Легкое, но внятное. На грудную клетку надавило сверху. Лиза невольно с шумом выдыхает. Холод и хрип снаружи моментально приближаются вплотную.
Шепот оцарапывает слух: «Чья ты? Будешь чья?» Шепот повторяет и повторяет вопрос, ледяные пальцы ощупывают лоб, переносицу. Оля сказала, что нужно поверить в свое отсутствие, слиться с фоном, исчезнуть. Но Лиза ничего не может с собой поделать. Дрожь в теле только усиливается.
«Ты чья? Будешь чья?» — шепот переходит в визгливый голос. Все громче, радостней. И вот уже торжествующий старушечий клич палит прямо Лизе в ухо: «Будешь моя! Будешь моя!»
Лиза дергается всем телом, чувствует тесноту спальника, судорожно вдыхает ртом, но глаз не открывает. Вдруг чувствует, как что-то колет правую ладонь. Но не страшно, не мертвенно — знакомо. Кольцо со слоном! Перекрутилось и давит крошечными выпуклыми бивнями где-то под средним пальцем. Теплое. Лиза сжимает кулаки посильнее. Внимательно следит, как напрягаются кисти, затем предплечье. Тепло волной переходит от рук к животу. Леденящий крик снаружи срывается в хрип, хотя причитать не перестает. Неплохо.
Лиза мысленно следует дальше. Вот ступни, вот голени. Колени, бедра. Внимание разливается по всему телу. В груди звенит, звенит в голове. Внутри стало так горячо, что холод снаружи отступает. «Я есть, — понимает Лиза. — Я здесь». И открывает глаза.
Над ней нависает косматое существо. Беззубое, безглазое, бледное, как воск. Ведьма замирает, слепо уставившись на Лизу. А Лиза смотрит на ведьму горячо и яростно. И бросает с силой: «Исчезни!» С тихим хлопком мертвенная фигура рассыпается пылью. Лиза садится, пытаясь отдышаться. Внутри все еще радостно жжет. «Я есть!» — повторяет она громко и сжимает кольцо в кулаке.
У входа в парк стоит тщедушный памятник Мандельштаму. Сразу за воротами лежит упавшее и уже распиленное можжевеловое дерево. Аромат потревоженной коры, усиленный дождем, заставляет дышать полными легкими. Лиза и Оля проходят к фонтану и останавливаются, наблюдая, как вода, льющаяся из трубочек вверх, смешивается с водой, льющейся из беспросветного неба вниз.
24 февраля 2022 года, в первый день войны, Оля звонит Лизе первая. Они ошарашенно молчат в трубку, ощущение нереальности чернеет в тишине разговора. Как ты? А ты? Что мы можем сделать? Почему мы к этому причастны? Как могло произойти, чтобы наша, твоя и моя страна, напала на соседнюю? Они выпускают эти вопросы из себя, но не могут на них ответить.
Где-то внизу, во дворе, слышен глухой удар о землю. Захлопали крыльями взметнувшиеся испуганные птицы. Лиза вытягивает шею, выглядывает — упала большая ветка с дикой груши. Должно быть, мокрый снег особенно тяжелый.
Оле нужно на работу, она прощается. Лиза продолжает держать телефон у уха, слушая пустоту, и смотрит во двор. Там немного поплывшая от плюсовой температуры зима, облезлые детская горка и качели. Пара женщин-дворников рутинно чистит лопатами дорожку к магазину. Как медведь из сказки, идет со своим квадратным лукошком курьер. Лиза не понимает, почему за окном ничего не изменилось, когда на самом деле изменилось все.
За спиной на пределе слышимости зашуршало тряпками. Нет, это не кот. Лиза будто врастает телом в пол и не может пошевелиться. К воздуху отчетливо примешивается знакомая земляная вонь. Из ниоткуда проникший в комнату сквозняк качает тюль. Лиза чувствует, как волоски на руках поднимаются, и старается справиться с сердцебиением. Сквозь звон в ушах холодом касается затылка сиплый шепот: «Чья?.. Чья?» Лиза ловит свое отражение в оконном стекле. Секунду напряженно смотрит в свое лицо — живое, с блестящими глазами — и резко оборачивается.
В комнате никого.
Они идут к перекрестку, где попрощаются. Это всегда не то же самое место, где они встретились. Так лучше. Пусть одно место будет для воспоминаний о встречах, другое — о расставаниях. Для Лизы они идут слишком быстро. Дождь кончился, закрытые мокрые зонтики болтаются на запястьях. Лиза берет Олю под руку и чувствует, как в десятый или пятнадцатый раз за вечер больно напряглось лицо, готовое заплакать. Чтобы как-то справиться с чувствами, Лиза винит во всем президента. Оля хмыкает: «Представляешь, он объявит, что следующими нашими врагами будут зайцы». «Или морковь», — подхватывает Лиза. Оля очень похоже пародирует, чеканя фразы: «Для нашей страны ключевой идеей является всеобщая деморквизация». Они хохочут. Обходят притормозившую темно-баклажановую ГАЗель без окон. С передних сидений на улицу спрыгивают хмурые бритые граждане в черных куртках. Подруги оставляют их позади. Оля с остатком усмешки говорит: «Вот сейчас они нас засунут в машину и увезут». «В хорошее место?» — с надеждой спрашивает Лиза. Оля улыбается и отрицательно качает головой. Со стороны водохранилища, невидимого за домами, ветер сердито сваливает на них запах застоявшихся водорослей и ила. Лохмотьями шелестят листья старых тополей вдоль тротуара. Начинает темнеть.
В апреле 2022-го Оля с мужем решают уехать. Делают паспорта для себя и сына, заканчивают дела, лечат зубы. Много лет замысел пожить в другой стране зрел в их вечерних разговорах, а война взяла — и всё окончательно решила за них.
Лиза не знает, почему она не может уехать тоже. Она не уверена, что должна. Чувствует ли Оля затхлый запах? Ощущает ли ледяные ощупывания на лице по ночам? Лиза не знает. Они никогда об этом не говорят.
Ну вот и место прощания. Лиза суетливо снимает свое кольцо со слоном и сует Оле в ладонь. У Лизы больше ничего нет, но она хочет, чтобы что-то ее было у Оли. Подруги обнимаются. Долго-долго. Оля немного отстраняется и говорит: «Я сейчас буду тебя запоминать». Олино лицо сминается от рыданий, но она внимательно осматривает Лизин заплаканный нос, размазанную тушь и родинку на щеке. «Теперь пора!» — Лиза тоже это чувствует. Порывисто обнимаются в последний раз, Лиза отворачивается и идет в другую сторону. Переходит широкую улицу по пешеходному переходу. Автомобили с мокрыми шинами здесь быстрые и притормаживают нехотя, раздраженно. Может, Лизу собьет машина? Нет-нет, конечно, нет. Она оборачивается, ступив на другую сторону улицы. Оли не видно. Лиза знает, что она нырнула в арку, чтоб сократить путь домой. Но Лизе кажется, что Оля растворилась в мокром воздухе и повисла вместе с другими маленькими капельками, дрожащими над городом.
Через дорогу Лиза замечает Степную ведьму. Та беззубо скалится, губы неслышно шевелятся, тощие руки тянутся к Лизе. «Исчезни!» — привычно и твердо говорит Лиза.
Я остаюсь здесь.
Рецензия писателя Романа Сенчина:
«Отличный рассказ. Вроде бы сюжет рваный, да и сам сюжет не сразу ощущаешь, но в итоге получилось, по-моему, превосходно. На небольшом пространстве показаны и история дружбы, и эта Степная ведьма, и событие, перевернувшее жизнь многих людей, вроде бы к событию этому не причастных, вроде бы от него далеких. Очень сильный эпизод: «Оля немного отстраняется и говорит: “Я сейчас буду тебя запоминать”. Олино лицо сминается от рыданий…» — буквально потянуло всхлипнуть. И сломавшаяся ветка — сильно… »
Рецензия критика Валерии Пустовой:
«Меня глубоко тронул рассказ. И обращением к актуальному времени, и точным выбором сюжета для раскрытия его специфики: расставание старых подруг наглядно показывает нарушение привычного хода вещей, конец того, что держало и питало жизнь, обрыв прежних ритуалов и связей. И сложностью устройства времени в рассказе: автор соединяет прошлое и настоящее, вмешивая, к тому же, условное вечное время, время мифа, мистического начала. И обаятельным, глубоко дышащим ритмом: автор изображает скоростные внезапные моменты — встреча, спешка, приступ страха, — на фоне медленных ожидаемых процессов, таких как дождь, ветер, течение толпы и т. п. В рассказе описание погоды не пустое дело — погода оттеняет состояние героинь ритмически, подсвечивает постоянством и рутинностью погодных явлений их человеческую растерянность, выключенность из привычной среды.
До сладости прекрасны описания — они уместны, детальны, чувственны, немногословны, точны. Тщедушный памятник, водоворот толпы, смятое лицо — образы запоминаются, врезаются в воображение. Замечательно, что в тексте нет следов надрыва. Автор не нажимает на предельные эмоции. Напротив, отгоняет отчаяние, загоняет в подтекст: подруги гуляют, хорошо кушают, обсуждают знакомые подробности жизни, — и потому печаль в рассказе действует даже сильнее.
Интересно место медитации. Автор убедительно и вдохновенно изображает рывок личности к утверждению, жизни. Рассказ привлекает этим ясным посылом — ясным, но, удачно, совершенно свободным от любой идеологии. Вообще рассказ из времени обостренной политики получился бытийным, не политическим — и это представляется большой художественной удачей.
У меня сомнения только в образе ведьмы. На мой взгляд, буквальное воплощение этого образа лишает его смысла и места в рассказе. Степная ведьма интересна как символ — угрозы, страха, смерти, обезличенности, — символ, который приходит из юности героини и внезапно встраивается в ее настоящее, вбирая новый опыт и эмоции. Если бы ведьма преследовала героиню как страх, оставляя, однако, читателя в сомнениях: то ли правда мистика, то ли героиня слишком впечатлительна, — то ее сила как символа была бы несомненна. Однако проявляясь: произнося слова, показываясь внешне, — ведьма из символа превращается в слишком явную условность. Поверить в нее трудно. Как некое чужое видение, она не очень пугает. Теряя символичность, она теряет и связь с внутренним миром героини, и связь с актуальным сюжетом рассказа. Слишком становится внешней, вещественно существующей, как следствие — ее образ теряет глубину. Очень важным кажется продумать связь веры в ведьму и реакции героинь на актуальные события. Сейчас этой связи нет. Линия ведьмы повисает сама по себе, она не влияет на ход рассказа. И выглядит в итоге декоративно, избыточно.
Отмечу ещё образ Оли. Думаю, в рассказе напрасно подсвечивается Оля как особенная. Развития это не получило. Она уезжает не потому, что особенная. А напротив, в каком-то смысле как многие. Кроме веры в ведьму, в героине нет удивительного. И вообще ее образ не развивается. В сравнении с Лизой Оля остаётся немного безликой, в тени»

Романтик
Упоительно желтые рапсовые поля мелькали в просветах между столетними липами — я возвращался из Калининграда в Янтарный после экскурсии. Гнезда аистов на коньках крыш и опорах линий электропередач — еще один характерный штрих восточно-прусского ландшафта — впечатляли своими размерами. Я просил водителя притормозить и высовывал голову, поражаясь близости величественных птиц, которых не смущали ни людская возня вблизи гнезд, ни плотный поток автомобилей, движущихся к морю и обратно в Калининград. Глядя на них, я приходил к мысли, что все же ни одна живая тварь не может жить без пары. Аисты, вероятно, знают толк в любви, если, встречая своего партнера единожды, живут с ним до самой смерти.
Наконец-то я ощущал жизнь во всей ее полноте. Дела и тревоги остались в прошлом, и воспоминания о них вызывали у меня улыбку — все казалось бессмысленным и пустым. Одного я не понимал — как я мог жить без любви так долго.
Мы не виделись с Полиной два дня, но я знал, что мы обязательно встретимся. Найти ее в Янтарном среди местных казалось несложным. Я прокручивал переживания последней встречи и представлял, как увижу ее случайно где-нибудь на набережной, и мы, точно два аиста, не расстанемся уже никогда.
Я думал, что, кажется, придется перенести обратный рейс или пропустить его вовсе, и осознание того, что я могу менять свою жизнь и не боюсь этих изменений, заводило меня еще больше. Билет — это всего лишь билет, такая мелочь.
Таксист остановил машину у вокзала. Я достал сигарету и курил на перроне, рассматривая подъезжающие автобусы. Выходили в основном туристы — они тащили битком набитые рюкзаки, растерянно крутили головами и оглядывались по сторонам, пытаясь сориентироваться. Последней из автобуса вышла девушка. Она поправила платье и направилась к пешеходному переходу. Меня охватило волнение. Это была Полина, но уже не воображаемая, а настоящая. Я столько времени представлял нашу встречу, но, увидев ее здесь, растерялся как мальчишка. Я махнул рукой, подбежал, взял из ее рук пакет, и мы пошли по тротуару так, как будто договорились о встрече заранее.
День выдался длинным. Мы катались на канатной дороге, загорали в лодке посреди озера, кормили лебедей хлебом, и уже давно эти банальные романтические ритуалы не доставляли мне столько удовольствия. Я сжимал Полину и прятал нос в ее распущенные волосы. Горячий затылок пах солнцем и сосновой хвоей. Я не мог различить ее черты, словно она была окутана дымкой. Мне все время хотелось до нее дотронуться и убедиться, что она настоящая и не исчезнет как мираж при прикосновении.
К вечеру мы порядком устали. Полина натерла мозоли, и мы уселись поужинать на летней веранде. Симпатичный старичок в морском кителе задорно играл на аккордеоне в окружении пританцовывающих слушателей. Журчал фонтан. Солнечные лучи преломлялись цветными пятнами в водяной пыли и рассеивались. Полина подставляла ладонь под струю холодной воды. Вода падала на запястье и стекала в чашу фонтана. Потом она сидела напротив меня, подперев кулачком щеку, и казалась мне очень милой.
— Тебе идет это платье, — сказал я.
Полина довольно улыбнулась.
— Я редко его одеваю.
— Надеваю, — автоматически поправил я. Полина отстранилась от стола, откинулась на спинку дивана и уставилась в экран телефона.
Мне стало неловко. Нужно было как-то спасать положение. Я принялся рассказывать бородатые анекдоты, которые мои знакомые считали несмешными и знали наизусть. Полина устало смеялась, а я в это время разглядывал ее. Лицо Полины покраснело на солнце. От смеха в уголках глаз проступили мелкие морщинки. На щеке лежала опавшая ресница. Кажется, Полина начала приобретать земные черты.
Фонтан зафыркал. Последние струи воды на мгновение повисли в воздухе и оборвались. Водяная пыль опустилась на землю, дымка рассеялась, и я, наконец, разглядел цвет глаз Полины: они были серыми.
После ужина мы остановились у лютеранской кирхи с высокими стрельчатыми окнами, переделанной в православный храм. Крыша была увенчана башенкой с колокольней. У нас на Руси колокольни всегда строились отдельно. Полина, не стесняясь, зевала и таращилась в телефон. Я и сам порядком устал и грешным делом подумал, что неплохо было бы сейчас оказаться в гостинице, принять душ и упасть на кровать. Кажется, впечатлений с меня было достаточно.
Когда мы подошли к ее дому, уже стемнело. В подъезде было зябко и пахло чужим ужином.
Дверь в квартиру была не заперта, и мы вошли. В дверном проеме показалась пожилая женщина. Она с подозрением разглядывала меня, вытирая руки о фартук.
— Бабушка, это я, — сказала Полина. Я молча кивнул в знак приветствия, беззвучно пошевелил губами. Бабушка не ответила, повернулась спиной и снова скрылась на кухне.
Полина достала из тумбы тапки и бросила передо мной.
— Я так… — сказал я и ступил на скомканный тряпичный коврик, поджимая пальцы.
— Надевай, пол холодный. — Полина подвинула тапки ногой ближе ко мне.
Я не стал спорить, надел тапки и попросился в ванную. На полотенцесушителе висели два бюстгальтера: один кружевной голубенький, другой — пожелтевше-белый, заношенный, прошитый для крепости, с чашечками такого размера, что они напоминали мне два летных шлема. В сливе раковины запутались длинные волосы. Я помыл руки, брезгливо закрутил кран и почти на цыпочках, не желая столкнуться с бабушкой Полины, скользнул в комнату.
Полина сидела на диване и наливала чай. Я опустился рядом. Обстановка была скромной. У стены стоял сервант. Полки за стеклянными дверцами были заняты чайными сервизами, сувенирами, книгами. Из неплотно закрытого ящика свисали женские колготки. На разложенном диване, застеленном смятой простыней, были разбросаны подушки. На стене висела какая-то картинка.
Глаза Полины то следили за тонкой струей, падающей из чайника в чашку, то зовуще в упор смотрели на меня. Я перевел взгляд на увесистую грудь, затем на круглые бедра. Глотнул чай. Она потянулась за сахарницей, заметно прогибаясь в пояснице и выпячивая грудь вперед, явно демонстрируя возможности своего тела. Я провел рукой по ее спине. Полина обернулась и потянулась ко мне, чтобы поцеловать меня в губы. Я ответил сдержанным поцелуем. Она выключила свет, разделась и легла в постель. Из-за стены доносились шепот и бормотание. Один из голосов был детским. Ребенок капризничал и гундосил. «Не хочу, — кому-то говорил он, — не хочу, не хочу…» Другой голос шепотом его уговаривал, но я не мог различить слов из-за того, что Полина сопела и что-то шептала мне в ухо, навалившись всем телом.
Вдруг дверь в комнату распахнулась, и свет из прихожей осветил часть комнаты. Я быстро натянул одеяло. Полина вскочила на ноги, схватила халат и прикрылась.
Светловолосая мальчишечья голова нырнула под руками Полины, загораживающими вход в комнату.
— Мама, я не хочу спать с бабушкой! — закричал ребенок и крепко, обеими руками схватился за дверной косяк. — Где Джекки?
— Не знаю, иди поищи в своей комнате, — раздраженно сказала Полина.
— Это и есть моя комната, — сказал ребенок и снова попытался прорваться.
Полина сердито дернула его за руку и потащила в коридор, прикрыв за собой дверь.
«Романтик хренов», — пронеслось в голове. Я быстро собрал разбросанную по полу одежду, натянул штаны, футболку и остановился в нерешительности перед дверью. У меня не было никакого желания вмешиваться в чужую жизнь, а уж тем более участвовать в семейных разборках.
За дверью кричала Полина, но звук был отдаленным. Я выскочил из комнаты, почти не глядя, завязал шнурки, повернул задвижку и как вор шмыгнул в подъезд. Мне хотелось воздуха.
Я достал из рюкзака куртку, закурил. Взглянул на часы — до вылета оставалось время. Я решил вернуться за вещами в гостиницу перед самым отъездом и вышел на набережную прогуляться.
От еще не остывшей воды веяло теплым воздухом. На берегу же было сыро и промозгло. Я застегнул куртку до самого подбородка и, скрестив руки на груди, пошел быстрым шагом, надеясь согреться.
Вдалеке тускло светили блеклые огни кораблей, стоящих на рейде. Они манили, но казались совсем чужими. Море шелестело и больше не волновало меня. Я почувствовал, что скучаю по дому.
Под вывеской «Очаг» — единственного заведения, где горел свет, — в уличном пластиковом кресле, свернувшись и поджав ноги, спал то ли хозяин, то ли сторож. Рядом остывал мангал. Из колонки на прилавке тихо играла музыка, и женский голос тоскливо выводил: «Только раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою рвется нить…», а далее еще более протяжно и заунывно: «Только раз в холодный зимний вечер мне так хооочется люууубить». Любовь, любовь… Вот тоже выдумали. Попадаешь будто в дурной сон и никак не можешь проснуться. Пока одни витают в облаках, другие дела делают. Я решил, что завтра же, по дороге из аэропорта, заеду на работу и согласую бюджет на новый проект — и так потерял много времени.
Я брел и жалел, что пропустил баню. Серега собирает друзей каждую субботу. Топит печь, заваривает чай из липы, мяты, зверобоя. Нарезает свежие березовые веники. Мы запариваем их кипятком, и предбанник окутывает сладковатый дегтярный запах. Я вспомнил, как в первый заход кожу пробирает мороз. Постепенно он превращается в тепло и растекается от солнечного сплетения по всему телу. Хорошо прогревшись, Серега опрокидывает на себя ушат ледяной воды, фыркает, ухает как филин, задыхаясь от неожиданности, и убегает греться в парилку, а я обычно открываю форточку, растягиваюсь на простыне и смотрю на колышущиеся макушки деревьев. Тело становится совсем легким.
Я набросил капюшон и поежился от холода: нет, все же нет в жизни ничего лучше бани.
Рецензия писателя Романа Сенчина:
«Мне понравилась атмосфера, понравилась Полина. Сложный персонаж, вызывающий и раздражение, и сочувствие. В общем рассказ сложился, но, по моему мнению, пока в общих чертах. Непонятно, откуда прилетел герой. Как познакомились герой и Полина в Калининграде. Сначала кажется, что герой едет из Калининграда в Янтарный, где живет Полина, но потом это оказывается все-таки Калининград. Или нет? «Вернувшись в город после экскурсии, я решил не заходить в номер, а прогуляться по набережной до того места, где мы познакомились». Что за город? В финале упоминаются корабли на рейде, но Калининград все же в глубине суши. Значит, все-таки Янтарный. Начало рассказа мне показалось запутанным, я не видел то, что читал.»
Рецензия критика Валерии Пустовой:
«Рассказ глубоко захватывает воображение, вызывает сопереживание. В нем покоряет раскачка чувств: от мечтательного романтического влечения, почти абстрактного, неземного, — к понятным, дельным стремлениям — утвердить проект, расслабиться с друзьями в бане. По ходу рассказа происходит немало тонких превращений чувств героя, вызванных переменами в обстановке и его восприятии Полины. Движение от отвлеченной мечты к приземленному суждению создает в рассказе драматичное напряжение. Герой благодушно мечтает о верности и любви, но по мере того как проступает реальный образ и мир его избранницы, он быстро любовью насыщается.
Очень здорово, что автор давит на читателя оценками. Героя автор не осуждает и не поддерживает. Он свободен и органичен в своих реакциях, его можно и понять, можно с ним и внутренне поспорить. Неоднозначность героя и жизненность его ситуации вызывают желание глубже всмотреться в эту историю, мысленно побыть с героями подольше. Ярко запоминаются проступающие детали внешности и быта Полины. Морщинки и ресница, волос в сливе и бюстгальтеры на сушке, ворчание ребенка, скудная обстановка, попытки понравиться.
Очень эффектно автор показывает Полину в свете изменившегося отношения героя: он чувствует, что она навалилась на него, — мы интуитивно понимаем, что это давление самой ситуации, в которой он больше не хочет находиться, так как в любовь наигрался. Финал ироничен — а все же не ехиден. Да, герой очень понятен и тут: романтики он уже набрался, теперь хочет отпустить напряжение, побыть собой. Рассказ получился и смешным, и печальным, а главное, очень правдивым.»

Сад Бенджамина
1
— Ты понимаешь, что это решение изменит нашу жизнь? — спросила Сюз.
Бен молчаливо кивнул. Конечно же, он понимал.
— Да, — продолжала Сюз, будто размышляя вслух. — Квентин и Эрнест хорошие мальчишки. Но и непростые при этом.
— Парням пришлось несладко с отцом. Им нужно больше внимания и заботы. Они оттают.
— Я еще беспокоюсь из-за Алекс.
— А что Алекс? Она с ними хорошо знакома.
Сюз понизила голос:
— В последний раз мне показалось, что Квентин на неё посматривает. У них сейчас такой возраст…
— Да ну, брось, — поморщился Бен. — Начнут ходить в школу, как положено, обзаведутся подружками. А для Алекс будет полезно общаться с кем-то ещё, кроме нас.
— Может быть. — Сюз вздохнула. — То, что она хорошенькая, делает её такой уязвимой.
Бен обнял жену и прошептал:
— Не переживай, с нами она в безопасности. А по поводу мальчишек… У меня такое чувство, словно я не могу поступить по-другому. Точно всё к этому и шло.
Сюз улыбнулась:
— Да знаю я, знаю. Ты всегда хотел сына, а тут шанс сразу двоих заиметь. Будут тебе помогать в саду. В гараже копаться…
Она погрустнела и немного отстранилась.
— Просто я тоже чувствую, Бен… Чувствую, что для нас это будет нелегким испытанием.
— Мы справимся, родная.
Он снова притянул её к себе и поцеловал.
2
Когда эмоции от переезда улеглись, Квентин начал тосковать. Он вдруг со всей остротой ощутил, что в прежней квартирке ему жилось куда привольнее, чем в большом доме Митчеллов.
Да, отец мало беспокоился о них, предпочитая проводить время с приятелями в баре. Но зато он и не лез в их жизнь, не навязывал свои порядки, при этом у него легко можно было получить совет по любому, даже самому деликатному вопросу. А еще Квентин знал, что какую бы штуку он ни выкинул в школе, отец всегда встанет на его сторону.
В новой семье были другие правила. На первый взгляд, всё выглядело чинно: ласковые объятия, пожелания добрых снов, сэндвичи с ветчиной и сыром в дорогу. Однако за приветливыми улыбками таился холодок. Словно к нему присматривались, как к неведомому зверю. Отчасти причиной этому являлась дочь Митчеллов. Алексия была аутистом и не выносила ярких эмоций, поэтому живущие в доме старались вести себя тише воды. Квентину с его характером эта наука давалась труднее, чем остальным. Впрочем, он не больно то и спешил подстраиваться, из-за чего приемные родители дулись на него по очереди.
А вот Эрнест, которого они с отцом постоянно шпыняли за стеснительность и нерасторопность, здесь наоборот расцвёл. Тихий и покладистый, он был просто рожден, чтобы стать Митчеллом. Вдобавок Эрнест с видимым удовольствием возился в саду, за счет чего сразу же дал Квентину сто очков вперед по шкале дяди Бена. Так что теперь рохля Эрн служил образцом для подражания, а Квентину оставалось довольствоваться ролью паршивой овцы. Это было невыносимо.
Одно смиряло Квентина с новым порядком вещей — дядин небесно-голубой «Понтиак». Порой, когда им удавалось еще засветло покончить с делами в саду, Бен отправлял их домой есть и переодеваться, а сам шел выгонять машину. К их возвращению «Понтиак» уже стоял наготове, они с Эрнестом усаживались сзади, и Квентин в томительном предвкушении потягивал ноздрями сладковатый запах бензина. Под хлопотливое бормотание мотора они пробирались мимо старенького «Форда» соседа Митчеллов — Стивена, затем спускались по проселочной дороге вниз с холма, и наконец, щурясь от заходящего солнца, выкатывались на залитое розовым глянцем шоссе. Здесь, вдали от неусыпного взора супруги и чутких ушей дочери, дядя Бен давал себе волю. С неистовым рёвом «Понтиак» срывался с места, а они, высунувшись из окошек и задыхаясь от бьющего в лицо ветра, смотрели на пролетающие перед глазами пшеничные поля, с трудом поспевающие за ними дома с черепичными крышами и степенно плывущие позади сливочно-белые гребни гор. Возвращались уже в темноте, под звездами. Войдя в комнату, Квентин блаженно падал на подушку и тут же засыпал. Это были те редкие ночи, когда ему не снился отец.
3
— Парни, от ваших кислых физиономий у меня вся рассада повянет. — насмешливо бросил дядя Бен, толкая мимо них нагруженную тележку. Эти слова явно предназначались Квентину, который уныло ковырял землю мотыгой.
— Что ты решил с постером? — спросил Эрнест у брата, подождав, когда дядя уйдёт. — Снимешь?
— Чёрта с два. — Квентин отставил мотыгу в сторону и со смаком плюнул на нежно-голубые гортензии.
— А если Алекс увидит? — В голове Эрнеста тут же возник образ вепря с кровавыми клыками, висящий у Квена над кроватью.
— Нечего ей делать в нашей комнате. Один раз сунется, больше не захочет. И вообще. Неужели ты не понимаешь, что все её проблемы из-за Митчеллов. Они трясутся над ней, как полоумные, пытаются оградить от любой ерунды…
В этот момент на крыльцо выпорхнула Алекс с флейтой в руке.
— О! Вот и помощь подоспела, — иронично заметил Квентин. — А я как раз уже наработался.
Эрнест не выдержал и прыснул. Он живо представил, как Алекс, заткнув флейту за пояс, мотыжит грядки в своём летнем платье. Тем временем та под завистливым взглядом Квентина отбежала в тенёк и расположилась на его любимой скамейке.
— Фигурка у Алекс, кстати, что надо, — отметил он. — Не хуже, чем у Камиллы. Интересно, аутизм лечится?
Камилла Харрис была тайной страстью Квентина. Она училась в параллельном классе и гуляла с разбитными парнями гораздо старше его возраста. Сравнение Алекс с Камиллой вызвало у Эрнеста смутное беспокойство.
— Работай внимательнее! — бросил он сквозь зубы. — Ты уже два куста срезал.
— Дядя Бен, конечно, с тобой не прогадал, — съязвил Квентин.
Немного помахав мотыгой, он снова предался размышлениям.
— Жалко девчонку на самом деле. Её же в любой компании заклюют. Может, взять её на поруки?
Эрнест хмыкнул. Ему не верилось, что Квентин будет тратить своё время на скучную возню с Алекс.
Тем не менее уже на следующий день он заметил их вдвоём в беседке. Квентин пытался объяснить Алекс правила какой-то настольной игры, горячился, жестикулировал. Пары подобных занятий хватило бы, чтобы горе-преподаватель умерил свой пыл. Но к удивлению Эрнеста Квен не стал сдаваться. Вместо этого он переключился на подвижные забавы, и тут дело пошло в гору. Дядя Бен был очень доволен их успехами и с торжеством поглядывал на жену, как бы говоря: «Вот видишь». Однако Эрнеста не оставляла тревога.
В тот день он вернулся из школы раньше обычного. Решив никого не беспокоить, Эрнест тихо поднялся по лестнице, толкнул дверь в их с братом комнату и опешил.
Квентин сидел с Алекс на кровати и с увлечением преподавал ей урок французского поцелуя. Одновременно чуткая рука наставника боролась с пуговицами на кофточке подопечной. Алекс то и дело становилось щекотно, и она тихонько посмеивалась.
Дрожа от гнева, Эрнест бросил на пол школьную сумку и выбежал в коридор. Взъерошенный Квентин догнал его около лестницы.
— Ну и куда ты помчался? Докладывать папочке?
— Отвали, Квен. — Эрнест нервно вцепился в перила. — Я не собираюсь покрывать твои грязные выходки.
— Да не было ничего такого, что ты завёлся? — пошёл на мировую Квентин. — Я буквально на мгновение голову потерял. Она очень милая, необыкновенная…
— Ну да. А главное, молчаливая и покорная. Я ещё, дурак, поверил, что ты хочешь ей помочь…
В глазах Квентина вспыхнула злость, он с силой толкнул щуплого Эрнеста в грудь и встал у него на пути. Тот, покраснев от обиды, полез в драку. Поединок, впрочем, вышел недолгим — рослый Квентин ловко подсек брата и навалился на него сверху всем телом.
— Если ты заложишь меня Митчеллам, я тебе этого не прощу, — прошипел он с угрозой.
— Мне плевать! — задыхаясь, выкрикнул Эрнест. — Я не позволю… За спиной у дяди Бена… Что, с Камиллой пороху не набралось?
От последних слов Квентина передернуло. Он размахнулся и отвесил брату звонкую оплеуху. Эрнест замолк, оглушенный ударом. На лестнице послышались торопливые шаги. Судя по сопровождающему их громкому сопению, это был дядя Бен.
— Вот дерьмо! — тихо выругался Квентин, слезая с брата. Они еще не успели подняться, когда громоздкая фигура дяди возникла в проеме.
— Вы что здесь устроили? — прогремел он в сердцах и, тут же увидев напуганную Алекс, смягчился. — Алекс, милая, всё хорошо. Мальчишки уже успокоились. Сюз! — окликнул он жену, поднимающуюся следом. — Присмотри за Алекс, а мы с парнями побеседуем.
Они мрачно поплелись за дядей Беном. Возле его кабинета Эрнест наконец набрался духу.
— Дядя, мне нужно тебе кое-что сказать. Наедине.
Бен встревоженно посмотрел на него.
— Ладно. Квентин, будь пока здесь.
Тот проводил брата ненавидящим взглядом. Минут через десять Бен выпустил зардевшегося Эрнеста и сухо бросил Квену:
— Зайди.
Он впервые не назвал его по имени. Квентин побледнел и перешагнул через порог. Тяжелая дверь за ним захлопнулась. Эрнест без сил плюхнулся на пуф. Дядя Бен за стенкой говорил быстро и с раздражением, слова были едва различимы. Внезапно из кабинета вырвался отчаянный крик Квентина:
— Вы же только повода ждёте! Изображаете из себя заботливых родителей…
— Ты пытаешься переложить вину на других, Квентин, — повысил тон дядя. — Умей отвечать за свои поступки.
— Да мне похер на всю эту муть…
— Не груби мне! Я не потерплю хамства!
— И что ты сделаешь? Ударишь меня? Вышвырнешь? Ну давай! Мне никто не нужен, поймите вы. Никто…
Голос Квентина дрогнул и смолк. В наступившей вязкой тишине все мысли и чувства Эрнеста повисли, как куколки в паутине, лишь сердце упорно продолжало трепыхаться. Наконец, за дверью раздались шаги, и в коридор вышел дядя Бен. Он выглядел растерянным. Из распахнутого кабинета доносились сдавленные рыдания.
4
— Стивен, насколько тесно вы знакомы с Митчеллами?
— Ну как вам сказать… На День благодарения они меня не приглашали. Случалось, помогал Бену в гараже. Могли с ним под эту марку выпить пива, потолковать.
— Вам было известно об их сложных отношениях со старшим сыном?
— Ещё бы. Квентин с его гонором к ним в семью ну никак не вписывался. Вдобавок там ещё и ревность была — Бен-то явно младшего Эрнеста выделял.
— Я правильно понимаю, что на момент трагедии Квентин проживал в квартире покойного отца?
— Верно. Это они после истории с Эрнестом так решили. Дружки Квентина тогда поиздевались над парнем, опозорили его перед всем классом. Бен ходил разбираться, но там и так было ясно, что без Квена не обошлось.
— И всё-таки странное решение с их стороны, не находите?
— Согласен с вами, офицер. Я предупреждал Бена, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Особенно с учетом того, к каким компаниям Квен тянулся. Но он надеялся, что мальчишка перебесится. Митчеллы содержали его, присматривали. А потом у Бена случился инсульт, и там стало уже не до Квентина.
— Получается, в последнее время он жил безо всякого надзора?
— Выходит, что так. Сюз тут сложно обвинить, она крутилась с больной дочкой и с парализованным мужем. Я, насколько мог, помогал им. И Эрнест тоже. Не всякий родной сын в подобной ситуации так себя проявит.
— Хорошо, Стивен. Давайте перейдем к событиям шестого августа. Опишите всё, как очевидец.
— Ну, значит, проснулся я во втором часу, сходить по надобности. Окно у меня всю ночь нараспашку. Слышу, у Митчеллов во дворе разговоры. Там было несколько парней и девушка. Я смог различить голос Квентина, остальные показались мне незнакомы. Позже, сам не заметив, задремал. Сквозь сон услышал грохот на улице. Подскочил, вижу, у Бена сад так и полыхает, и дом уже занялся. Первым делом набрал пожарную службу, потом оделся и к Митчеллам — у нас общая калитка в заборе. Подхожу — гараж открыт, оттуда языки пламени. Бен ведь, как нарочно, у себя всякий хлам копил. Инструмент, удобрения. Так что огню там было где разгуляться.
Я побежал вокруг дома, увидел Сюз. Их с Беном спальня уже горела, просто чудо, что ей удалось выбраться невредимой. Она билась в истерике, снова рвалась внутрь. Но это было бы самоубийством — здание трещало по швам. Я оттащил её к себе и продержал до приезда пожарных. Она рассказала, что не смогла докричаться до сиделки, разбудила мужа и стала пытаться усадить его в кресло в одиночку. Потом из коридора повалил густой дым, и Бен крикнул, чтобы она спасалась через окно. А сам остался в комнате…
— Да, очень прискорбно. Стивен, как, по вашему мнению, это мог быть умышленный поджог?
— Не думаю, офицер. Квентин испорченный мальчишка, но чтобы пойти на такое…
— Тогда как вы объясняете то, что произошло?
— Скорее всего, кто-то из его компании бросил окурок в гараже. Потом они второпях выгоняли «Понтиак», и никто этого не заметил.
— Кстати, Стивен, как вы считаете, почему Митчеллы не проснулись раньше? Сиделка должна была поднять немало шума, пока её связывали.
— Хм… Что касается Бена, то после уколов он спал беспробудно. Сюз от всех этих забот тоже валилась с ног. Эрнест с Алекс, наверное, могли бы услышать, но Сюз на пару дней отправила их к сестре. Словно чувствовала.
— Ну что ж. Пожалуй, на этом пока всё. Спасибо за помощь, Стивен. Не смею вас больше задерживать.
— Офицер… Слышал, на реке сегодня работала водолазная бригада. Нашли кого-нибудь?
— Да. Извлекли из «Понтиака» тело девушки, Камиллы Харрис. Видимо, оглушило при ударе о воду, и не смогла выбраться. Её сообщники оказались удачливее. Продолжаем поиски.
5
Луна мутным желтком болталась в небе. Сна как не бывало. Эрнест сел на кровать, обвёл взглядом чужую комнату. Они ночевали у Стивена. Тот здорово выручил их, предложив какое-то время пожить в его доме. Сам он, видя состояние тёти Сюз, взял у неё документы и уехал в Грейт-Фолс разбираться со страховкой. Там у него не заладилось, он несколько раз звонил Сюз и в итоге остался в мотеле.
Эрнест оделся, вышел на улицу. Ходить по скудному дворику Стивена быстро надоело, и он выскользнул во внутреннюю калитку. Что-то будто толкало его вглубь сада, туда, где случился пожар. Мимо, как в жутком сне, проплывали омертвевшие тени прошлого: сожжённая беседка, где они когда-то беззаботно просиживали вечерами, обглоданные пламенем деревья. В воздухе до сих пор стоял приторный запах гари.
Дорожка привела его к гостевому домику, который они с дядей так и не доделали. Эрнест встал перед ним, насупившись. Слёз уже не было — выплакал за эти дни. Сюда огонь не добрался, от постройки вкусно пахло древесиной. «Когда-нибудь я восстановлю здесь всё», — неожиданно подумал Эрнест, и эта утопичная идея странным образом его успокоила. Он почувствовал сонливость и решил, что пора возвращаться.
В этот самый момент по листве пробежал луч фонарика. Кто-то шёл через сад со стороны главных ворот. Между стволов Эрнест увидел длинный силуэт и похолодел — он узнал брата. Квентин приблизился к пепелищу на месте дома, немного постоял и, прихрамывая, двинулся дальше.
«Куда он идет? Какого чёрта нужно этому ублюдку?».
Неподалёку стоял стенд с садовым инструментом. Эрнест приоткрыл расхлябанную дверцу и на ощупь вытащил большие ножницы для газона. Свёл длинные лезвия вместе, поднёс к руке, получившееся остриё больно кольнуло ему запястье.
Луна скрылась в облаках, но Эрнест мог бы ориентироваться тут с закрытыми глазами. Он крался за Квентином по пятам. Внезапно тот замер посреди дорожки и присел, разглядывая что-то перед собой. Сердце Эрнеста заколотилось. Он понял, что может покончить сейчас со всем одним ударом.
Их разделяло буквально несколько метров. Найдя в себе решимость и злобу, Эрнест бросился вперёд. Квентин услышал шорох камней и обернулся. Яркий свет фонарика хлестнул Эрнеста по глазам. Он ударил почти вслепую, наудачу. В последний момент рука дрогнула. Лезвия скользнули по ветровке, пройдя дальше. Эрнест потерял равновесие и, перелетев через брата, упал на спину. Тут же попытался вскочить, но в эту секунду Квентин кинулся на него, как ласка. Он действовал стремительно — заломал Эрнесту пальцы, вырвал оружие. Следующим движением привстал и резко отвёл руку в сторону. По замаху Эрнест понял, что Квен сейчас полоснёт его по горлу. Страх сковал движения, он зажмурился. Что-то со свистом рассекло воздух. А потом всё оборвалось. Он лежал не дыша, не зная, жив или мертв.
— Не глупи, Эрн, — тихо произнес Квентин. — Хочешь сесть из-за меня?
Эрнест открыл глаза, его трясло. Обмякнув, они валялись друг на друге без сил, как два утомленных любовника.
— Зачем ты пришёл? — со злостью прошипел Эрнест. — Полюбоваться?
— Думай что говоришь. Я не хотел всего этого дерьма.
— Почему тогда вы не вытащили его? Почему ничего не сделали с огнём? Он же сгорел заживо, ты понимаешь?!
— Да не было, мать твою, никакого огня! — вскричал Квентин. — Я понятия не имею, как это вышло! — Он опустил голову и добавил глухо: — Может, кто-то косяк кинул, и после разгорелось.
Эрнест взревел и начал вырываться.
— Сволочи! Он был для меня отцом! Настоящим отцом!
— Всё, успокойся ты уже! — Квентин выпустил его и отскочил. Затем устало выдавил: — Я завтра иду к копам, если тебе от этого легче будет.
Эрнест замер.
— Ты поэтому тут? Решил покаяться напоследок?
— Просто захотел прийти. Я ведь даже не в курсе, где его похоронили. Увидел телегу эту его обгоревшую, и, сука, расплакался, как девочка.
Эрнест привстал и огляделся. Только сейчас ему бросилась в глаза черная от сажи тележка дяди Бена, выглядывающая из кустов. Он долго смотрел на неё, потом перевёл немигающий взгляд на Квентина.
— Я тебя ненавижу! Сделаю всё, чтобы тебя надолго упекли!
— Да, — криво усмехнулся Квентин. — Я знаю.
6
Молчание затягивалось. Эрнест мял в стакане ломтик лимона. Сюз глядела в окно, машинально подмечая изменения, которые произошли вокруг гостевого дома с её прошлого визита.
— Я надеялся, что вы переедете ко мне, — наконец выговорил Эрнест с обидой. — Всё уже почти закончено.
— Я очень ценю то, что ты сделал, Эрнест. Но я поняла, что не смогу сюда вернуться.
— А как же Алекс?
— Она привыкла к жизни в квартире. Мы с сестрой нашли отличный терапевтический центр неподалёку. Алекс сейчас не узнать — стала такой болтушкой, всем интересуется. Если честно, я немного боюсь этих перемен, но куда деваться.
— Мне даже некогда было вас навестить. Всё эта бестолковая возня.
— Не бестолковая. Зачем ты так?
— Какой теперь в ней смысл?
Сюз пристально посмотрела ему в глаза.
— Ты помнишь? В конце июня выходит Квентин.
Его лицо сразу стало жестче. Она вдруг заметила, что у него пропали веснушки.
— Да, ты уже говорила.
— Пустишь его? Хотя бы на первое время?
Он раздраженно отвёл взгляд, ничего не ответив. Сюз глубоко вздохнула и неуверенно потянулась к сумочке.
— Мне нужно тебе кое-что рассказать. Я бы, наверное, никогда не решилась, но вчера пришло письмо. От Стивена…
— Как у него дела во Флориде? Всё хорошо должно быть.
— Вряд ли. Эрнест, я хочу, чтобы ты прочитал.
В недоумении он взял протянутый ею лист бумаги. На нём стояло всего несколько строчек, Эрнест быстро пробежал их глазами.
«Это был маленький огонёк, боязливый, нерешительный. С какой легкостью я мог бы растоптать его… Так и моя любовь к тебе все эти годы едва тлела, безо всякой надежды когда-нибудь разгореться. А потом ты подлила масла в огонь… Нет, не думай, я тебя не виню, Сюз. Я сам похоронил свою душу, и теперь дело за малым. Прости меня за Бена».
Он застыл.
— Что всё это значит? О чём говорится в этом чёртовом письме?
— В ночь пожара, я… — Её губы затряслись. — Мы были со Стивеном… Я спала с ним.
Эрнест напряженно стиснул брови, будто силясь осознать услышанное. Сюз сжала руки в замок и торопливо заговорила:
— С Беном было очень тяжело. Врачи не обнадеживали, он был ко всему безразличен. Стивен тогда проявил участие, много меня поддерживал. Мне показалось, что с его помощью я смогу вытянуть нас из этой ямы. Я просто не видела другого выхода…
Она осеклась.
— Как же так, Сюз? — только и сумел выговорить Эрнест.
Она будто бы сжалась от его слов. Потом нашла силы поднять взгляд.
— Я не хочу больше оправдываться, Эрнест. Я прекрасно понимаю, что натворила. Думаю, всё это время Стив втайне завидовал Бену. Из-за его дома. Из-за сада. Из-за меня. Я не должна была давать ему надежд. Не знаю, о чем он думал в тот момент. Может, считал, что развяжет мне руки… А я даже видеть его не могла после смерти Бена… Как будто подсознательно всегда чувствовала, что он сделал.
Эрнест молчал, глядя куда-то перед собой.
— Прости. — Она тихонько заплакала. — Ничего уже не изменишь, это будет со мной всегда. И всё-таки есть вещи, на которые я еще могу повлиять. Квентин искупил свои ошибки. С лихвой искупил. Он нуждается в твоей помощи!
— Хватит, Сюз, — попросил Эрнест глухо. — Оставь меня.
7
Скамейка стояла на том же месте, чуть сырая от недавно пролитого дождя. Немного поодаль от неё возвышалась белёная арка, сверху донизу увитая раскидистыми лианами клематиса. Можно было только догадываться, каких трудов стоило Эрнесту с такой дотошностью восстановить всё, что погибло в огне.
— Чёртов зануда, — усмехнулся Квентин. Он опустился на скамейку и устало прикрыл глаза. Где-то вдали грозно пророкотало небо, по саду пробежал ветер. Беспечный, не ведающий ни времени, ни преград, он принес с собой неповторимый букет ароматов, в котором медовые нотки молочая соперничали с ревнивой сладостью английской розы. Квентин узнал этот запах. Он заставил его на миг забыть про хлам пустых, истлевших лет, сваленный в его душе беспорядочно и гадко. Вместо этого Квентину внезапно припомнилась их последняя дальняя поездка с дядей Беном.
Они мчали по серпантину, и засевшее за горами солнце, словно рыжий гангстер, лупило в стёкла «Понтиака» огненными очередями. Отвлёкшись от шикарной картинки за окном, Квентин посмотрел на дядю Бена. Тот поймал его взгляд в зеркале заднего вида и тепло улыбнулся. В ту секунду Квентин вдруг осознал, что однажды, после многих потерь и разочарований, он безумно захочет вновь оказаться в этом моменте. И тогда, стремительно несясь над обрывом, он почувствовал пронзительную благодарность к этому солнцу, к этим посеребрённым льдами вершинам за то, что сейчас он здесь. За то, что пока ещё всё так хорошо…
Квентин открыл глаза и увидел кусочек радуги над садом.
Рецензия критика Валерии Пустовой:
«Рассказ остросюжетный и в то же время убедительный психологически. С каждым новым эпизодом наше восприятие ситуации меняется, рассказ движется сильными рывками, и это движение захватывает. В то же время автор не уходите в экшн, во внешний конфликт. В рассказе интересно сталкиваются мотивы разного уровня, воля разных людей, а также — человеческая воля и случайность, стечение обстоятельств. Очень ценно, что автор не давит на читателя авторскими оценками, однозначным отношением к героям. Автор позволяет нам проникнуться мотивами каждого. Каждый из героев равно виноват и оправдан в наших глазах. В итоге я как читатель испытываю глубокое сочувствие даже к тому, кто оказывается настоящим преступником, потому что вижу, как непреднамеренно и стремительно в нем окрепла преступная решимость не гасить огонь и что он за нее душевно расплачивается неизбывной, непоправимой виной.
Очень интересно преображается восприятие Квентина и отношений между братьями. Квентин отбывает срок — но это, скорее, очистительное испытание. Такое же, как восстановление дома и сада руками его брата. Только эта страшная история и испытание трудом и неволей сблизили их, очистили от вражды. «Чёртов зануда» — это ругательство звучит в финале мирно, тепло, по-родственному.
Хорошо и название: завлекающее, намекающее, но не отражающее буквально сюжет. Понравился прием с переключением точки зрения — в этом рассказе он помогает остроте сюжета: углубляясь в мотивы одного героя, мы одновременно сужаем восприятие остальных, получается живой эффект действия вслепую, как в жизни, где мы тоже видим только свою правду и не можем точно знать, что думают и намерены делать другие люди. Тронул и образ отца, расслаивающийся в рассказе, мигающий: есть биологический отец, есть приемный, при этом первый отсутствует, а второй не всегда ведет себя по-отечески, точнее так, как это представляет себе Квентин. Крайне интересна разница в восприятии новой семьи братьями: один словно тут и родился, другому эти порядки не по нутру. И снова у меня как читателя есть выбор: автор не подсказывает, кто прав, не давит, я могу занять позицию любого из братьев.
Ярко запомнился образ поездок с приемным отцом, девушка с флейтой в саду. Очень естественно выглядит непослушание Квентина: автор не изобразил его злодеем. Его проступки возникают стихийно, от общего несогласия с тем, как повернулась жизнь. И девушку он не соблазняет намеренно — он словно пробует границу, пробует что-то менять, на что-то влиять, и предосудительный роман с девушкой возникает словно сам собой, словно без его умысла.
Еще понравилось, что Эрнест словно бы зря старался восстановить дом. Это помогает рассказу избежать сладенького финала. Тот образ радости, который автор показывает в финале, приправлен горечью утраты, передан в фильтре воспоминания. Возникает сложное чувство: одновременно сожаления и позднего умиротворения.»
Рецензия писателя Екатерины Федорчук:
«С интересом прочитала рассказ. Квентин, который не может ужиться в новой семье, который видит во сне своего отца, — этот момент вызывает живой эмоциональный отклик.
Не все моменты в тексте работают на раскрытие идеи, на создание художественного образа, в частности, явводный диалог супругов занимает много места, но не несет в себе практически никакой уникальной информации.
В тексте есть избыточные, многословные описания, которые, как ни парадоксально, оставляют много вопросов. Вводный диалог рассказывает нам о проблеме Алекс, но в нем нет и намека на то, что между супругами не все гладко. Можно было бы дать намек здесь, тогда появление у Сюз любовника выглядело бы более мотивировано. Сейчас Стивен и все, что с ним связано, сваливается на голову читателя слишком неожиданно.
Подробно описаны переживания Квентина по поводу новой семьи. Но что же произошло с отцом? С мамой? Отец хотя бы снится ему. А мама — нет? Тут фигура умолчания там, где информация необходима.
Дядя Бен узнал, что Квентин пытался вступить с его дочерью в интимную связь. Вообще, нормальный отец в данном случае должен был бы выставить мерзавца из дома. Но какие действия предпринял Бен, мы так и не узнаем. Мы даже не знаем, о чем они говорили.
Я не поняла, как случился пожар. Автор дает эту информацию сильно издалека, в пересказе человека, которому есть, что скрывать. Итак, Сюз и Стивен были вместе в доме Стивена, видимо… Начался пожар, Бен сгорел, а где были мальчики?
Была какая-то история с Эрнестом. Какая? Кто убил Камиллу. Ведь не Квентин же? Если Квентин не виноват в смерти дяди, почему он взял чужую вину на себя? Или все-таки виноват?
Словом, вопросов много. Видимо, это происходит потому, что автор попытался в рамках одного рассказа раскрыть сразу несколько сюжетов: тут и конфликт между братьями, и отношения Квентина с отцом и новой семьей, история супружеской измены, преступление Стивена.
Замах на роман-семейную сагу. Но рассказ как жанр имеет свои ограничения. Опыт показывает, что в рамках небольшого рассказа можно раскрыть один конфликт. Например, тоску Квентина по отцу, или его отношения с Алекс, вражду братьев, Стив и Сюз… Что-нибудь одно.»

Своё
Машины тянутся и тянутся мимо остановки. Никто не обращает внимания на неясный, смутный в метели силуэт человека в грубых ботинках и рабочей теплой куртке. Никто не задумывается, каково это — в такой холод среди размытых желтых и белых огоньков выискивать оранжевые фары автобуса. Которого все нет и нет. Впрочем, как и других людей на остановке. Маршрут не из популярных, место еще необжитое, погода не располагает — все к одному. Да и заселяются здесь, в новой Москве, в основном те, у кого есть машины.
Нурмат, тот самый неясный силуэт в снежном буйстве, хоть и продрог до костей, хоть и не спускает глаз с дороги, мыслями далеко. «Надоело все, вернусь домой. Не могу больше. Ничего не держит здесь», — крутится и крутится в голове. Еще недавно под курткой — возле сердца — ерзал Кызыл, Рыжик. Найденная радость. А теперь вот пустота и холод, внутренний холод, еще более сильный, чем пробивающийся сквозь ватин куртки.
Завибрировал карман. Непослушными пальцами Нурмат достает многое повидавший Xiaomi. Кычан, кто же еще.
— Братишка, долго тебя нет. Как, что? Нашел? Отдал?
— Да. Жду вот автобус. Дали пять тысяч.
— А-а-а, ну лады. Нормальные люди, стало быть.
— Ну как… дочка у них странная. Встретила Кызыла, будто и не пропадал. На меня не посмотрела даже, с пола не встала, сидела и раскачивалась. Не то с ней.
— Забей. В объявлении было же, аутизм у неё. Давай, ждем тебя.
Нурмат нашел Кызыла месяца три назад. На стройке, когда спустились после смены и шли к проходной. Из толпы уставших и грязных мужчин только Нурмат заметил щенка в листве среди опалубок, брошенных у забора еще весной. В пространстве пересеклись взгляды: черные яркие бусины и едва различимое в узком разрезе глаз внимание. Нурмат протянул руку, щенок неуклюже заковылял, ткнулся носом и… ну да, сердце дрогнуло. Нурмат снова стал для кого-то старшим, необходимым, близким.
Так Кызыл оказался в общежитии, девятым пацаном в комнате. Освоился быстро. Радовался каждому входящему. Смотрел телевизор, будто понимал. Только и ждал, кто же позовет его поиграть или погулять. Вот только ел Кызыл плохо. Что кашу, что макароны — покрутится, посмотрит неодобрительно и отойдет. Даже курицу ему давали, да все не впрок. То рвет его, то слабит. Нурмат поискал в интернете. Оказалось, пацан породистый, шпиц, кормить его — выходит дороже, чем себе. Другой бы испугался, да только не Нурмат. Скольких козу 1 он дома, в Киргизии, выходил? Справится и с этим мелким. Купил корм в зоомагазине. Как же щенок набросился! Смешивал корм то с гречкой, то с кускусом. Делился огурцами и яблоками. Через месяц Кызыл ел из одной тарелки с Нурматом, будто так всю жизнь и было. Друг. Настоящий.
Когда стало известно, что щенок породистый, Кычан с неделю пытался продать за полцены. Тридцать тысяч на дороге не валяются, глупо не воспользоваться. Но покупателя не нашлось. Порода породой, да без документов и родословной никому Кызыл не нужен. Нурмат, растерянно наблюдая за попытками продать, искал слова, способные остановить Кычана. Не нашел. А когда стало понятно, что собаку не продать, взял на себя расходы. Теперь он хозяин, Кычан не сможет распоряжаться.
Все привыкли к Кызылу, приросли. Нурмат кормил и гулял с ним. Кычан дрессировал. Безуспешно. Остальные играли или брали с собой на улицу для форса. Всем Кызыл принес радость. Щенок быстро рос. Нескладный. Подвижный. Ласковый. Превратился в бочонок на коротких лапках. Рыжий окрас стал ярче, шерсть пушистая топорщится, а на груди ворс подлиннее гладким воротником. Хвост задран вверх, лежит на спине.
На хвост Нурмат и обратил внимание, когда впервые заметил — с собакой что-то не так. Как у лошадей, все болезни раскрываются с хвоста. Шерсть там стала сухой, вылезала клочьями. Затем глаза погрустнели. Через несколько дней Кызыл уже не вскакивал, если кто-то заходил в комнату, не встречал. Почти перестал есть. Что только ни делал Нурмат, не помогло. Дождавшись выплаты, Нурмат поехал в ближайшую ветклинику.
Зеленые стены узкого коридора клиники пестрели рекламными плакатами, одна пробковая доска у входа — распечатанные объявления в разноцветных кнопках — казалась живой, настоящей. Среди старых, частично перекрытых объявлений красовался Кызыл. Ничего толком не поняв, Нурмат сфотографировал слова и отправил Кычану.
— Братишка, это Кызыла настоящие хозяева. Обещают заплатить.
— Я не отдам, ты что? Он мой уже.
— Надо отдать. Он не твой. А еще у них ребенок больной. Тут написано, что только с собакой дочка улыбается, а больше никогда. Ты понимаешь?
— Я не смогу.
— Сможешь. Сейчас позвоню им, договорюсь, и сразу поедешь. И подумай, у тебя, может, даже не хватит денег Кызыла вылечить, мы же не знаем, что с ним. А у хозяев наверняка есть.
Нурмат понимал, сейчас Кычан прав. Нашлись люди, которые заплатили за Кызыла и потеряли его. Нашлись те, у кого настоящие права на его собаку. Те, с кем Кызыл проживет предназначенную ему жизнь. Правильный поступок честного человека — отдать Кызыла.
…Неужели это было меньше часа назад? Нурмат приехал к тем домам около Ивановского пруда, которые стали для него первой работой в Москве. Теперь это обжитой, красивый квартал, хотя вокруг еще пустовато, только стройки. Быстро нашел подъезд и квартиру, с порога протянул Кызыла уставшей, доброй русской женщине. Все еще надеясь, что здесь ждут другую, похожую собаку. Напрасно. Кызыл узнал женщину, узнал девочку и стал Юкки. Или что-то созвучное этому слову, Нурмат не особо разобрал. Женщина говорила быстро, тихо и много. Нурмат качал головой в такт ее речи, не вслушиваясь. Он только что сообразил, что не попросил Кычана рассказать о болезни Кызыла. Искал в голове русские слова, но там не было нужных ему сейчас. Когда женщина протянула деньги, лишь благодарно кивнул, в последний раз взглянул на Кызыла, крутящегося возле девочки, шумно втянул воздух и решительно развернулся к лифтам. Каждый шаг в тяжелых ботинках извлекал глухой звук из светлой блестящей плитки.
Ветер дергает снежную массу. Остановка — два стеклянных полотна в разводах грязи — не поможет даже спину прикрыть, ведь ветер отовсюду. Аж завывает. На мокром асфальте крупинки снега сбиваются в кучи, катятся то в сторону дороги, то обратно к остановке. Табличка с единственным обещанным маршрутом сначала звенит от удара ветра, а следом сбрасывает только прибившуюся к кромке белую полоску. Серо-белый мир становится темнее с каждой минутой.
Добрался до общежития уже в темноте. Пацаны убрали блюдце с водой и лежанку из коробки и старого пледа, которую Нурмат соорудил для Кызыла. Будто и не был он здесь. Собрались за столом, чаевничают, поджидают.
— Братишка, заждались! Садись, поешь, — заулыбался Кычан, будто желанный гость пожаловал. Нурмат стянул тяжелую куртку, мокрую шапку, скинул ботинки и подставил руки под горячую воду. Согреться поскорей.
За спиной все болтают чуть более оживленно, чем обычно. Телевизор работает чуть громче, чем всегда. Соседи-таджики заглядывают чуть чаще, чем привычно. Внимательный Нурмат видит, понимает, но не хочет принимать поддержку. Надо возвращаться к прежней жизни. Вот только где она, эта «прежняя жизнь»? Лег лицом к телевизору. Пусть его никто не будет замечать. Пожалуйста.
Подошел Кычан, толкнул, чтобы Нурмат поджал ноги, уселся, облокотившись на стену. Тоже уставился в телевизор. Хорошо с ним помолчать. Спокойнее. Много благодарности к нему накопилось в сердце Нурмата, не отдать за раз.
— Ну ты чего совсем раскис-то? — Деятельный Кычан решил переключить внимание друга. — Хочешь, выдвинемся куда-нибудь? Поехали в Мегу, посидим, на девочек посмотрим?
— Да ну, лень. А вы езжайте. Мне все равно сегодня домой звонить, у племяшки днюха, все соберутся. — Нурмат ответил бодро, лишь бы друзья не остались ради него.
Засобирались. Обычно в выходной, если нет подработки, пацаны одеваются в лучшее и идут в сквер или к Потаповским прудам. Когда холодно, ездят в Мегу. Сидят на лавочках, украдкой пьют пиво, спрятанное в пакетах, обсуждают проходящих мимо русских девушек. Каждый мечтает, что когда-нибудь его настигнет любовь с русской. Но подойти и познакомиться — на это даже Кычану духу не хватает. Хоть и щеголяет в новом блестящем пуховике Монклер с рынка Садовод.
В Кычане, кроме киргизской крови, течет армянская. Аллах знает, когда и кто замешал их род с чужестранцами. Да только никто в родне не удивляется, если нет-нет, да родится чуть непохожий. Как Кычан. Лицо вытянутое. Профиль почти греческий. Скулы высокие. Язык без костей. А так киргиз. Для русских так точно. Поэтому и не познакомиться ему никогда с москвичкой.
Наконец ушли. Оставшись один, Нурмат снова затосковал, задумался. Почему ему так плохо в Москве? Все время плохо.
Старший в семье, он — первый помощник родителям, опора младшим. Дома на нем многое держалось. Поэтому именно он поехал в Москву на заработки. Но с первой минуты в Москве он перестал быть собой. А превратился в беспомощного, несамостоятельного. В младшего.
Нурмат добрался в Москву, ошалевший от первого полета на самолете, не понимающий ни слова на указателях, растерявшийся в суете многочасовой очереди. На паспортном контроле девушка с ресницами, каких Нурмат до этого не видел, сначала что-то спрашивала, затем кричала то же самое непонятное «где-е-е ё-л-е-н-а-я бырма-а-г-а», потом — когда Нурмат высыпал ей ворох всех документов и справок из пакета — разозлилась и вызвала высокого офицера поважней.
Зажатый в небольшом кабинетике, испуганный, как заяц, Нурмат додумался набрать Кычану, хоть и дорого. Поговорив с офицером, Кычан объяснил, какую бумагу нужно показать. Хвала Аллаху, была такая.
Забрав багаж, — отец скотчем замотал небольшую черную сумку для надежности — усталый и сбитый с толку Нурмат вышел через удивившие автоматические двери и снова растерялся, хотя казалось, что усилить растерянность уже было невозможно. Худой и вытянутый, все еще подростково-нескладный, Нурмат замер в огромном зале среди сотен не замечающих его людей. Беспощадное освещение подчеркнуло вытянутые треники с белым лампасом и затасканные парусиновые туфли. Куда идти? Как здесь найти Кычана? Озирался, вглядываясь в каждое азиатское лицо. Тянул цыплячью шею, только она и выдавала напряжение.
Наконец, рядом кто-то засмеялся. Нурмат обернулся, и сразу же тонкие губы растянулись в улыбке, а спина привычно ссутулилась. Кычан приобнял, уверенно снял с Нурмата ак-калпак, дал свою бейсболку и потащил к электричке.
Вот с того мгновения Нурмат перестал быть старшим. С того мгновения за него отвечает Кычан. А Нурмату только и остается, что следовать за ним, чтобы не пропасть среди чужих.
Кычан помог пройти регистрацию и помогает снова ее получать каждые полгода. Наставлял, на первых порах разнорабочего, на стройке. Вместе покупали на рынке вещи, подходящие для Москвы. Но их Нурмат почти не носит, бережет для дома. Да и в рабочей одежде он становится невидимым для полиции, его попросту игнорируют: ни документы не проверяют, ни шмаль не ищут. А значит, меньше причин общаться с русскими, для которых он — толком не знающий языка — как немой.
Обычно Кычан находит подработки, помогает пацанам. Прошлым летом Кычан оформился курьером, на велосипеде еду и продукты развозить. Договорились в общежитии с теми, кто хотел подработать в свой выходной, распределили дни. По очереди брали велик, терминал и общий телефон с электронным пропуском Кычана. Лучшие выходные Нурмата — гонять на велике в желтой жилетке, с теплым квадратным рюкзаком. Наедине с собой. За день зарабатывал, если повезет с чаевыми, как за два дня на стройке. Если бы не регистрация и общежитие, только курьером и работал бы.
Да, большое сердце у Кычана. Все ему благодарны. И не только в Москве. Родители Кычана давно городские, живут в Джалал-Абаде, уважаемы в родном кишлаке не меньше аксакалов. Когда приезжают к родным в кишлак, к ним на поклон ходят родители мальчишек, зарабатывающих в Москве. Люди выказывают признание за то, какого сына они воспитали, благодарность за то, что Кычан поддерживает единство их детей, оторванных от привычного. Во всякий праздник родителям Кычана отправляют подарки в город, любую помощь оказывают его родным. Даже из далекой Москвы Кычан влияет на жизнь своей семьи, что тогда говорить о тех, с кем он каждый день?
А что Нурмат сам захотел и сделал за два года в Москве? Взял собаку. Остальное время делал что-то со всеми, на что заряжал неутомимый Кычан. В прежней жизни — а это была жизнь до Москвы — он иногда по несколько дней не видел людей, а здесь всегда в толпе. В прежней жизни случалось несколько событий за год, а не за неделю. В прежней жизни он сам решал, что хорошо ему или младшим. В прежней жизни он был на своем месте. В своем ритме. Собой.
А кто Нурмат здесь? Никто.
Пора.
Поздравил племянницу, посмотрел на близких, сидящих за столом, сглотнул слюну, увидев мамины боорсоки и плов. И попросил отца поговорить с ним наедине.
— Как дела, сынок? Что-то ты грустный. Случилось что?
— Да не, ничего особенного. Я домой вернуться хочу.
— Хочешь — возвращайся. Мать волнуется за тебя каждый день, извелась вся. — Привычным движением пальцем прижал губы, подумал и продолжил, замедлив речь: — Дело твое, конечно. Только подумай, как Эрке замуж отдавать будем? Уже сосватана, к осени приданое готовим. Еще ого-го сколько покупать. И на свадьбу деньги нужны.
— Знаю, пап. Я не сейчас, весной.
— Что случилось-то? Тебя обидели в Москве?
— Да никто меня не обижал. Просто живу здесь, а жизни нет.
— Ты подумай еще, не спеши. Если решишь, в апреле возвращайся, юрту вместе подготовим, войлок не тот уже. Сразу надо было, как осенью вернулся, да одному не с руки. А в мае пойдем потихоньку на джайлоо.
— Спасибо, пап. Я приеду.
— Пойду мать обрадую. Придется на свадьбу Эрке занимать. После свадьбы в Джалал-Абад поедешь, там теперь много строят. Только платят… ну ты и сам знаешь. Работа такая же, а денег в пять раз меньше.
Последние месяцы пролетели, промелькнули. Нурмат работал и подрабатывал, насколько хватало сил. Он так уставал, что, казалось, друзей рядом нет, что он и его работы, короткий сон и быстро проглоченная еда — это все, что есть в мире.
В марте, после второй выплаты на стройке, купил билет. И только тогда сказал пацанам, что возвращается домой.
— Слабак, — вынес вердикт Кычан.
— Зачем так говоришь?
— Потому что твои живут хорошо, пока ты работаешь здесь. Без твоего заработка, без денег из Москвы на что будете жить? Пожалеешь. А вернуться не сможешь, займут твое место.
— Здесь нет моего места, — отчеканил Нурмат. Неожиданно даже для самого себя.
Нурмат наблюдает в иллюминатор, как уменьшается, исчезает за облаками Москва. Косые солнечные лучи подчеркивают серость окружностей холодного города. Поднялись выше облаков. Неужели все? Домой. На джайлоо. Наедине с собой, среди лугов от края до края мира, в звенящей тишине, с костерком, во влажной по утрам и горячей ночью юрте. Замечтался. Нурмат представляет гладь Сон-Кёля, в котором отражается восходящее солнце. Телом вспоминает, как уютно сидеть в чапане прям на земле, поджав колени к груди. Рядом с редким на этой высоте эдельвейсом, пахнущим небом.
Безмятежность, вот чем наполняется Нурмат, приближаясь к дому на скорости восемьсот километров в час. Хоть и не знает он такого слова, но чувствует это.
Разбудили. Стюардессы раздают воду и бутерброды с сухим сыром. Через несколько часов он будет пить атканчай и есть плов, лоснящийся бараниной.
Стряхнул крошки, вытянул затекшие ноги, насколько возможно. Черные джинсы и высокие, черные, почти кожаные кроссовки снова порадовали. Поправил поясную сумку, застегнутую накрест через плечо, по московской моде. На белой футболке и сумке буквы CK. Весь Садовод накануне оббегал, пока все купил. Куртку брать не стал, в аэропорте спрятал старую в чемодан. Не пригодится, дома уже тепло. Улыбнулся, представив лица родных, когда он такой красивый выйдет. Вспомнил, сколько везет подарков. Поскорей бы всех удивить, обрадовать.
Сверкнули снежные вершины Казахстана. Полпути пролетели. Удивляющая четкость и ясность за иллюминатором. Таким же ясным озарением Нурмат — за мгновение — увидел свою будущую жизнь. Осенью он поедет в город, как договорился с отцом. Но не обязательно на стройку. Сам посмотрит, поищет. На родине выбор побольше. Он будет работать так, чтобы на лето уходить в горы, а осенью возвращаться на заработки. Он будет помогать ребятам в городе, как ему в Москве помогал Кычан. И познакомится с… Нурмат не смог вообразить, какой может быть та, кто взволнует сердце. Предчувствие нежности уже удивило.
Если бы не Москва, стал бы он таким свободным? Едва ли. Готовность и сила жить, как Нурмат хочет, проявились сейчас так естественно, будто всегда были внутри. Жить по совести, желаниям и способностям. С уважением и к себе тоже. Он сможет. Теперь сможет.
Аллах даст, все будет хорошо. И еще он заведет собаку. Свою. Рыжую.
Рецензия критика Валерии Пустовой:
«Очень интересно наблюдать, как строится рассказ, ищет центр, направление — это стремление текста воплотиться почти ощутимо сейчас. Ощущается же это как движение в нескольких направлениях. У меня чувство, что сейчас текст еще не вполне выбрал, о чем и о ком ему быть. Написанное и план еще не написанного создают ощущение избыточности: автор задумал скорее повесть, чем рассказ. Предложила бы вернуться в рамки рассказа, это важно для ясности, сосредоточенности текста. Мне кажется, сейчас стоит выбор между двумя центрами повествования: Кычан или собака. Или это история о том, как Нурмат не вписался в новую среду — и собака стала последней каплей, переполнившей чувством отчуждения. Это конфликт со средой, а внутри героя — выбор между социально одобряемым/выгодным семье и лично важным решением. Или это история о том, что Нурмат всегда в тени «братишки» — идеального в его глазах Кычана. Тогда конфликт внутри героя в том, что он пытается пошатнуть идеал или идеал теснит личные чувства и ценности героя. А внешне может быть скрытое за обожанием противостояние, конкуренция невидимая. Возможны и иные варианты развития их отношений.
Сами образы отдаваемого щенка или идеального Кычана получились яркими, удалось создать напряжение вокруг этих образов: герой хочет оставить щенка — но даже щенок не родной, не роднит со средой, среда забирает его; герой хочет быть опорой семье — но не может сравниться в силе и удаче с Кычаном, покровительство которого и дразнит, мотивирует, и тяготит.
Отмечу также некоторую стилизованность рассказа. Возникает такая неспешная эпичная сказительность при описании героя. Так автор подчеркивает, что герой из другого мира, не современного. Но это делает героя условным. Как мне кажется, тут стоит выбрать точку зрения. Или автор пишет изнутри восприятия героя, его оценок. Или создает видимую объективность, ощущение стороннего взгляда. Второе мне кажется предпочтительнее в данном случае — именно чтобы не уходить в сентиментальность.
Также мне кажется избыточным выход на решение в финале. Рассказу достаточно окончиться на острой ноте выбора, утраты, недоумения. Показывать, как герой возвращается на родину, не стоит. Это как раз обезболивает рассказ, выводит его из поля читательского сопереживания. Автор предлагает решение — а может быть, лучше позволить читателю попребывать в чувствах.
В рассказе есть склонность к усложненным рациональным оборотам, словно автор делает оценки и выводы. Но дело автора — рассказать, показать. Оценки и выводы пусть делает читатель, не будем отнимать у него эту творческую увлекательную работу. В рассказе слишком чувствуется, как автор переживает за героя. Это сентиментальное давление на читателя, которое может помешать сопереживать герою всерьез. Брошенный щенок, котик — вообще прием ниже пояса, слишком ударный. Читатель как бы лишается тут выбора: он обязан переживать.
При этом мне очень понравилось описание того, как сочувствуют герою, поддерживают — а ему от этого хуже. Вот тут поймано глубокое чувство, передан внутренний конфликт. Очень интересно получилась и семья, где ждали щенка, и само преображение щенка в собаку с другим именем и судьбой. Семья, щенок — во всем чуждость, непонятность. Герой не чувствует удовлетворения от сделанного доброго дела. Потому что лишен опоры, привязанности в новой среде.»
Рецензия писателя Екатерины Федорчук:
«Отличный получился рассказ. У автора было желание сделать современный вариант тургеневского рассказа. В прямую Тургенев тут, пожалуй, не прочитывается, но и не нужно. Если бы автор попытался сделать рассказ формально более близким к претексту, получилось бы искусственно, нарочито.
А сейчас получилась замечательная история, простая и искренняя, как сама жизнь. Но и связь с классикой сохранилась: она осталась в общем гуманистическом настрое, в любви и жалости к маленькому человеку, который на самом деле вовсе не «маленький». Просто он не знает языка, он чужой в большом чужом городе, его беспомощность имеет искусственную природу. Автор смотрит на своего героя с любовью, но без снисхождения. Потому что он не нуждается в снисхождении. Потому что он заслуживает уважения.
Текст четко делится на две части: до расставания с собакой и после, но притом он не теряет ни темпа, ни цельности. Да, вот эта история с чужой собакой стала катализатором важного процесса осознания себя: почему мне всегда плохо? Герой делает осознанный выбор: он едет домой, там, где все — свое. При том, что он имел возможность остаться и попытаться завоевать столицу, как Кычан, выучить язык, в конце концов. В языковой среде это не то, чтобы просто, но реально вполне. То есть решение Нурмата не вынужденное, а свободное, что придает и ему, и рассказу дополнительное обаяние.
Еще очень ценно то, что автор никого не обвиняет, может быть идя даже вразрез с обличительной традицией русской литературы. Нет работы в родной стране Нурмата… Москва не резиновая… Мегаполис ломает людей… Богатые русские могут содержать щенка, Нурмат нет… Никто не виноват. Такова жизнь… И в этой «таковой» жизни нужно оставаться человеком.
Один момент нужно доработать: мотив Нурмата, почему он отдал щенка. Сейчас их три: сначала кажется, что ради денег. Потом появляется мотив: щенок болен, а он не может его вылечить. И третий мотив — девочка с аутизмом, которая не может без собаки. Слишком много. Мне больше всего нравится второй мотив — отказаться от друга ради друга. Но и подарить радость девочки — тоже неплохо. Первый более реалистичный, второй — более возвышенный.»
- так в Киргизии называют ягнят[↑]

Святой Бенедикт покидает Рим
Яркий, до боли слепящий свет стоял в глазах у Бенедикта, пока он, спотыкаясь о стыки между камнями, шагал по Аппиевой дороге в сторону одноименных ворот. За спиной разверзся зев Большого цирка, обдавая жарким от пропитавших его за века воплей восторга и смерти воздухом, делая почти невозможной всякую попытку отдалиться от его нечеловеческой гигантской пасти. Первая поездка в Рим, с отцом, сестрой и кормилицей. Отец, как всегда, отлучился по делам, кормилица с сестрой стремятся к какой-то непостижимой цели, опережая его шагов на двадцать. Запах ослиной мочи. Слабо выносимое величие с обеих сторон дороги.
Вероятно, через год его отправят сюда учиться: риторике, искусству управлять людьми и чему-то еще подлинно римскому, что только предстоит понять — но уже сейчас это что-то приводит в сильное движение жизненные духи. Свет в глазах вдруг натолкнулся на громаду тени: похоже на одну из гробниц, выстроенных в те времена, когда почему-то считали, что тому, что остается от нас после смерти, нужно так много места. Мы же теперь — христиане, мы знаем, сколько причитается телу, а сколько — духу. Надобно теперь строить для духа, но учиться мастерству зодчего лучше всего именно здесь, в Риме, который до сих пор побеждал и умерщвлял дух красотою материи, и всё-то здесь замешано на крови и силе, но кто-то ведь должен взять это всё — и очистить, и воздвигнуть новое величие — тем более сейчас, когда всякий может безнаказанно славить Господа. Искусство строительства и управления — надписью на мраморе явилось Бенедикту — строительства Града Божия и управления духом, вот что зовет меня в этом городе. Господи, не дай потерять уверенности…
Две женские фигуры, от которых он все больше отдалялся, вдруг нырнули в какую-то темную низкую арку на обочине и скрылись, будто бы уйдя под землю. Бенедикт устремился было за ними, вспомнив разговор о катакомбах, но выглянувшее за поворотом стены солнце на миг затмило зрение и заставило его остановиться посреди залитой сиянием дороги — наверное, поэтому кто-то, похожий на погонщика ослов, участливо спросил: «Куда идешь, господин?» И тогда Бенедикт открыл глаза и ответил твердо: «В Рим, добрый человек, я иду в Рим».
***
Тремя годами позже обожженный римским непобедимым солнцем, но еще не святой Бенедикт из рода Анициев, ученик риторической школы, сидел с приятелем под портиком на форуме Траяна и полурассеянно-полусосредоточенно разглядывал купленную неподалеку на рынке лепешку.
— Знаешь, Аврелий, — сказал он, едва повернув голову к склонившемуся над какой-то рукописью однокашнику, — а ведь храм Юпитера на Капитолии уже полвека как стоит в развалинах.
— Бенедикт, мы каждый день ходим мимо него в библиотеку. Не мешай мне читать.
— Развалины, Аврелий. Мы тщетно ловим тепло в едва выкачивающих последнюю римскую воду термах, молимся, склоняясь к мраморам язычников, становимся их частью, частью старого мира, преодоленного Христом. Здесь все завалено обломками жизни без Бога — не знаю, сможем ли мы… смогу ли я…
Аврелий явно не слушал, а Бенедикт непримиримо поджал чуть выступающую нижнюю губу и вдруг спросил:
— Вот ты — ты римлянин или христианин?
— Да разве это не одно и то же? — резко и негодующе вскинул наконец голову Аврелий. — Пора мучеников прошла, Бенедикт, препятствий для счастливой христианской жизни больше нет, и лично я намерен применить всю постигаемую мною теперь языческую и христианскую премудрость при равеннском дворе. И тебе советую оставить пустые мысли, время дорого!
О том же ему толковал и отец, отправляя его в Рим, на то уповал и он сам все эти годы. Но совсем не то просыпалось в его сердце после вечерней молитвы, когда перед сном касалась его волос цвета зерен овса рука кормилицы. Разве у этого может быть что-то общее с ненасытным оскалом Капитолийской волчицы, еще не до конца омывшей клыки от крови первых христиан? Верно, мы уже не мученики, но ради чего лилась эта кровь и представали пред Богом их души? Ради того ли, чтобы, перенеся имперский двор в Равенну, мы продолжали делать вид, что сошествие Господне на землю навсегда переменило наши жизни?
Однако теперь потерян и Аврелий, даже он не понимает, что не влить новое вино в ветхие мехи. Вот его далекая уже фигура с несколькими свитками в руках проявилась было среди древних арок и растворилась в них. Непостижимо: они вместе учились, как строить мысль и речь, как вразумлять людей, как жить по-христиански и толковать Слово Божие — но как соединить всё это вместе в одну жизнь, понимали слишком по-разному. Вчера верная сестра Схоластика увещевала: «Бенедикт, вспомни, для нас истинная молитва всегда была важнее премудрых речей прошлого». Увлекшись мыслями, путаясь в слишком длинном паллии, он почти бежал вниз к Палатинскому холму, мимо Цезаря, Августа, Нервы, наконец, Арки Константина, одержавшей триумф над самими древними триумфаторами, маршировавшими когда-то по окольцованной ею дороге. Нет-нет, дело именно в новых мехах. Но отказаться совсем от Рима, на проповедь которому положил свою жизнь один из лучших его граждан? Сжавшиеся под плащом пальцы нащупали заткнутые за пояс извлечения из Квинтилиана, которые заучивали в школе вчера. Так ли, Господи? Всё, что осталось от великой прежде империи — достояние разума и языка, лишь его удастся спасти, лишь его можно унести с собой? Небо над взвившимся ввысь взором Бенедикта выпустило из серого облачного омута, закрутившегося вокруг солнца, слабый луч и качнулось навстречу.
Он пал наземь и молился, один во всем Городе, кто знал, что Город должен быть покинут. Рука сжимала холодный обломок колонны, отягчавший молитву. В амфитеатре Флавиев зияла дыра от последнего нашествия вандалов. Время застыло в трепете перед новым столетием.
«Пойми, Бенедикт, — сказал он наконец сам себе (или это говорил с ним Дух Святой?), — этот мир разрушен. И так нужно, потому что так задумал Господь. Оставь эти камни. Ты уже умеешь строить для духа».
Через два дня Бенедикт стоял у развалин виллы Нерона в Сублаке и смотрел на с трудом поднимающиеся к небу неровные стены гор. Он еще не знал, что на одном из уступов также стоит и ждет его человек, уже проделавший такой же путь до него, и человек этот — монах Роман, новый римлянин.
Иллюстрация: Нероккио Де Ланди. Святой Бенедикт

Сердечный суп
— Мамочка! Мишу похитили инопланетяне! Пойдем его спасать. — Шестилетний Федя вцепился в подол Лилиного домашнего платья и потянул в сторону двери.
От неожиданности она опрокинула ложку с еще не доваренным бульоном на себя, так и не донеся до рта. Поморщилась, смочила холодной водой полотенце и приложила его к покрасневшей коже чуть выше ключицы — наверняка теперь будут волдыри.
— Мам, скорее, — не унимался мальчик.
— Федя, ну поиграйте без меня. Суп сварю и приду, ладно?
— А какой сегодня суп? — Федя взглянул на нее снизу вверх апрельскими, ясными, светло-голубыми небесами.
— С сердечками.
— Значит — сердечный суп, — серьезно кивнул сын.
Она повернулась к бульону, который упорно пытался сбежать из тесной кастрюли, и убавила газ. За ее спиной послышался удаляющийся топот Фединых ножек, стук двери, детские крики и смех.
Лиля выглянула во двор. Ровными рядами, словно Лотовы жены, неподвижно стояли белым облаком яблони и груши. Кусты крыжовника растопыривали веточки с нежной, почти просвечивающей на майском солнце зеленью. Посередине клумба с опущенными головками чахлых нарциссов и тюльпанов, три цветка были вырваны с корнем. Сбоку песочница в форме звезды, с деревянными бортиками — импровизированный космический корабль. Там-то и разворачивалась игра. Тася крепко держала за ручку маленького Мишу, пытавшегося вывернуться и сбежать. Федя отчаянно спешил к нему на помощь, вооружившись игрушечным пистолетом.
В кармане платья завибрировал мобильный. Почему-то Лиля сразу почувствовала, что это не муж, не мама, не подружка. Она взглянула на экран — и закусила нижнюю губу. Картины, почти забытые, непрошено вторглись в сознание. Лиля ощутила себя будто под снежной лавиной.
Это случилось так давно, что, кажется, в прошлой жизни. Над поляной висела блинноликая луна. Громадным пылающим цветком вздымался костер, сложенный колодцем. Искры кружились и падали на траву. Он и она сидели на бревне. Она пыталась унять разлетавшихся внизу живота бабочек — белых, медовых, горчичных, шоколадных. Упала зажигалка. Они одновременно наклонились, чтобы ее поднять… А когда их губы встретились, стало так легко, как во сне, так радостно, как в детстве, когда кажется, что вот-вот взлетишь — стоит только посильнее разбежаться.
— Мама, почему ты не идешь? — Детские голоса влетали в окошко вместе с ветром, который то и дело кружил прозрачную и юркую, как черноморская медуза, занавеску.
Лиля все держала указательный палец над мелькающим именем на экране. Потом зажмурилась, как от зубной боли. Решительно убрала телефон обратно в карман. По бедру всё разбегались и разбегались муравьи беззвучного звонка.
Сколько раз ей снилась та комната: просторная, с огромными окнами в пол. Из них вечером можно было смотреть, как разливается по экрану неба закат — то багряный, то маково алый, то цвета фламинго.
На снегу потолка прозрачная, с множеством сосулек, люстра из богемского хрусталя. Под ней двуспальная кровать, укрытая плюшевым пледом. Подушки с вышитыми гладью розами. На прикроватной тумбочке смешной утенок с нефритовыми глазами и с открытым клювом.
Она помнила все до мельчайших подробностей: как он медленно стягивал футболку со своего полноватого торса, как целовал ее в шею, смахивая двумя пальцами медно-рыжие пряди, затем дотрагивался до мягкой, горячей груди — так музыкант касается клавиш, чтобы сыграть свою самую заветную мелодию.
Она помнила визг молнии на его джинсах, солоноватый вкус на губах и жгучее желание во всем теле. И то, как над головой вспыхивал и переливался радугой свет.
Потом, когда он лежал рядом без сил, она гладила пахнущую мускусом макушку — волосы пепельно-серебристые, густые и жесткие, — и мысленно обводила незамысловатый узор на кофейных обоях.
— Мам! Ты с нами сегодня играть будешь? — услышала Лиля как будто издалека.
— Сейчас приду! — Она поспешно накинула на плечи поношенную флисовую кофту и вышла на улицу. Солнце грело по-летнему, но за домом, словно намокший хлебный мякиш, висели тучи цвета черничного киселя. В ноздри влетали запахи шашлыков и печного дыма — соседи растапливали баню.
Дети бросили играть в инопланетян и теперь с упоением тискали грязно-серого беспородного кота. Кот отчаянно вырывался, царапался, и, показывая волнистое нёбо и острые клыки, голосил на всю Ивановскую. Наконец ему удалось сбежать, и длинный облезлый хвост, покрытый свалявшейся шерстью, исчез в дыре под забором.
Перед лицом Лили прожужжал толстый шмель. И телефон тоже жужжал не переставая. Лиля достала мобильный. Пропущенные вызовы горели на экране, как и Лилины щеки, скулы, да и все внутри.
— Мамочка, кто тебе звонил? — Четыре глаза с любопытством смотрели на экран телефона. Тася и Миша. Так на нее похожи: те же веснушки на пухлых щечках. Поцелованные солнцем.
Внезапно она очнулась, положила телефон на край песочницы и скомандовала:
— Давайте играть в пиратов. Вам нужно спрятать клад на острове, чтобы его никто не нашел.
— Ура!
— А что у нас будет кладом?
— Сейчас.
Она сбегала в дом и вернулась с коробочкой, наполненной мелкими монетами.
Дети взяли пластмассовые лопатки и начали старательно выкапывать яму в песочнице, а Лиля ушла доваривать суп.
Перетирая на терке морковь, разрезая на мелкие кубики картофель, она вспоминала, как семь лет назад в той, далекой, квартире пахло краской и клеем, случайно пролитым кондиционером для белья, аппетитно булькающим на плите борщом и томящейся в духовке пленницей — жареной уткой в яблоках. В открытое окно влетал тополиный пух. Пушинки, словно манна небесная, плавно ложились на подоконник, на письменный стол, на деревянные стулья, на шерстяной ковер, которым был застелен пол. Она вышла из ванной, сияющая от крема и счастья. Он разливал белое вино по длинноногим бокалам.
— У нас будет малыш.
Он поднял голову, коротко стриженную, словно покрытую серебристыми ежиными иголками, взглянул, будто впервые, на ее живот под шелковой тканью халата, и его глаза наполнились тьмой.
Дальше Лиля почти ничего не помнит. Только треск разбитого стекла. Только колючую боль. Падение в бездну.
— Мам, тебе опять звонят. — На кухню вбежал Федя, принес забытый во дворе телефон. Лиля вынырнула из воспоминаний и, гладя пепельно-серебристые, нагретые на солнце Федины волосы, чуть дрожащей рукой нажала «добавить в черный список».
А суп она пересолила.

Сосед с верхней полки
Человек с большим оранжевым чемоданом на колёсиках нагрянул неожиданно, разрушив надежды Димы хотя бы до утра насладиться тишиной пустого купе. В полночь его попутчики вышли в Кутейниково, и вот уже несколько часов единоличная власть над четырьмя полками и маленьким столиком принадлежала Диме.
В пятом часу утра непрошеный сосед распахнул двери купе поезда Санкт-Петербург — Владикавказ, разбудив мирно посапывающего на нижней полке Диму. Нещадно вырванный из сна, тот подскочил и ударился локтем о столик. В следующую секунду из-под его одеяла выскользнул толстый блокнот и с глухим стуком упал на пол. Сокрушённо застонав, Дима свесил с кровати взлохмаченную голову, отыскал блокнот и уже хотел лечь обратно, как новый попутчик зажёг лампочку и принялся утрамбовывать чемодан под его сиденье.
Щурясь от ослепляющего света, Дима потёр глаз кулаком и покосился на нарушителя покоя. Тот, не в состоянии решить проблему мирным путём, уже обратился к ругательствам, пытаясь поставить багаж на положенное ему место. Наконец, одолев упорствующий чемодан и приказав ему сидеть смирно, сосед погасил свет и забрался на верхнюю полку. В купе снова наступила тишина. Поезд тронулся и застучал по рельсам, оставляя за окном белеющую в призрачном свете фонарей станцию Шахтная.
Облегчённо выдохнув, Дима улёгся и уже начал погружаться в сон, как вдруг раздавшийся сверху скрип заставил его распахнуть глаза и вздрогнуть от неожиданности: над ним нависала голова со сверкающими в темноте глазами.
— Прошу прощения, что разбудил вас, — шёпотом произнёс сосед, как будто боясь разбудить его ещё больше. — Спокойной вам ночи. — Голова снова скрылась за верхней полкой.
Дима сделал ещё несколько попыток уснуть, но вскоре был вынужден признать трагическое поражение. Мысленно желая своему соседу сладких снов и прочих гадостей, он сел, достал из-под подушки блокнот, прижал его к груди и тоскливо уставился в окно.
Так и просидел до самого утра, пока в восемь часов с верхней полки не свесились ноги в зелёных с оранжевыми апельсинками носках и не оповестили о пробуждении соседа. Вслед за носками взору Димы предстали жёлтые шорты, после которых появилась белая в чёрную полоску футболка и рыжая шевелюра.
— Не спится? — поинтересовался попутчик, наконец спустившись и плюхнувшись на сиденье Димы.
Одарив того взглядом, исполненным тоски человеческой, Дима кивнул. Сосед пересел на пустую полку напротив и занялся завтраком, заполняя купе шелестом пакетов и запахом жареной курицы. Дима прикрыл глаза и притворился, что дремлет.
— Я, кстати, Артём, — отхлебнув кофе, сказал мужчина. — Тебя как зовут?
Дима буркнул свое имя в ответ. На какое-то время повисла тишина.
— Что это там у тебя?
Прекратив притворяться, Дима взглянул на соседа, который с любопытством рассматривал старый блокнот в его руках.
— Да так, — замялся он, — ничего интересного.
— Значит, это что-то очень интересное, — подытожил Артём.
«Значит, это что-то, во что не нужно совать свой нос», — раздражённо подумал Дима.
Видя, что Дима не намерен отвечать, сосед чему-то кивнул и задал другой вопрос:
— А куда едешь?
— До Владикавказа.
— Далеко. Я раньше выхожу. Еду в гости к семье, через недельку на море поедем… А ты путешествуешь или по делам?
— Путешествую по делам. — Дима начал перебирать пожелтевшие страницы блокнота. — В смысле мне нужно посетить несколько мест, куда раньше ездил мой дед.
— Это его блокнот? — как бы между делом спросил Артём.
— Да. Дед записывал в нём свои истории и…
Дима нахмурился. С чего это он начал рассказывать о блокноте?
— О-о, — разочарованно протянул Артём. — Все мы по молодости мним себя писателями. Помню, как-то писал про инопланетян, которые…
— Мой дед не сказки писал, — возмутился Дима, — а реальные истории из его жизни!
— Личный дневник, что ли? — Артём скептически поднял бровь.
— Дед называл его журналом. И он не про глупости всякие писал, а про настоящие приключения!
— Любовные похождения, например? — продолжал подтрунивать Артём.
— Нет же! Хотя… там было кое-что про то, как дед встретил мою бабушку. Вот только было это не в парке и не в кино, или где там нормальные знакомятся. А в настоящем плену!
Дима не заметил, когда нежелание разговаривать перешло в спор. Его попутчик самодовольно ухмылялся. Смутившись, Дима посмотрел в окно и притих. Боковым зрением он чувствовал, как сосед выжидающе на него смотрит.
— Мой дед был исключительным человеком, — вздохнув, проговорил Дима. — Ну, на самом деле он был тем еще бедокуром, но вот приключения себе находил исключительные. Талант у него был впутываться в неприятности.
— И почему же его журнал у тебя? — перестав наконец насмехаться, спросил сосед.
— Так дедушки-то моего уже год как нет…
— Мне очень жаль, — вполголоса проговорил Артём.
— Я вырос на этих историях, — продолжил Дима, крепко сжимая блокнот в руках. — Очень любил их. Наверное, поэтому перед смертью дедушка и решил отдать журнал мне. Он надеялся, что я запишу в нём новые истории. А я-то в литературе не особо понимаю. Я ведь кондитером собираюсь стать. А писать истории… Этого я не умею. Да и о чём мне писать? Это вот у деда жизнь интересная была, хоть роман пиши. А у обычных людей что? Дом, работа, семья… В лучшем случае поездка на море раз в год. Что тут напишешь?
Артём открыл рот, чтобы возразить, но Дима уже продолжал:
— Я-то и во Владикавказ поехал, чтобы посмотреть места, где мой дед путешествовал. Вдруг тоже приключение найду. Или, может, встречу какого-нибудь человека с интересной историей.
— С интересной историей, говоришь, — произнёс попутчик.
— Ну да. Чтобы написать что-то стоящее.
— Думаю, с этим я тебе помогу. — Сосед загадочно улыбнулся и выглянул из купе. — Смотри, видишь вон ту девушку?
Дима высунул голову, чтобы рассмотреть стоящую в проходе незнакомку. Её пшеничного цвета локоны струились по спине до самой поясницы.
— Пойди, поговори с ней. Она расскажет тебе интересную историю для твоего журнала.
— Что? — опешил Дима. — Прям вот так подойти? Вы её знаете?
— Иди давай! — Артём махнул рукой и вернулся на своё место.
Дима с сомнением покосился на попутчика и направился к рассматривающей что-то в окне девушке.
— Вы тоже не нравится долго сидеть? — спросила та, прежде чем он успел придумать, как начать разговор. В её речи слышался сильный акцент.
— Эм… ну да. Вышел вот… постоять… — произнёс Дима, спотыкаясь о собственные слова.
Девушка продолжила разглядывать мелькавшие за окном домики. Дима тем временем ломал мозг, чтобы придумать какой-нибудь небанальный вопрос.
— Куда едете? — наконец произнёс он и едва удержался, чтобы не хлопнуть себя рукой по лбу.
— О, я едете в Владикавказ. Потом на автобусе в Грузия. Очень хочу смотреть горы и культура. Я… — Она закусила губу и нахмурилась, силясь вспомнить слово. — Путешествие по миру.
— Здорово! — воскликнул Дима. — А откуда вы?
— Я из Франции. Меня зовут Анн.
— Дима. — Он протянул ей руку. — Вы отлично говорите по-русски!
Девушка улыбнулась, на её щеках проступил румянец.
— Я стараюсь немного изучение язык страны, где я еду. Я уже два года путешествие. Родители не пускать меня, когда я в школа и университет, а теперь я здесь. — Она гордо дёрнула подбородком, в карих глазах заблестели лучи утреннего солнца. — Я быть в много стран.
— И не страшно одной путешествовать?
— Страшно. — Она снова улыбнулась широкой заразительной улыбкой. — Но очень интересно.
Дима уже готовился задать новый вопрос, когда у девушки зазвонил телефон, и она упорхнула в своё купе.
Какое-то время он смотрел ей вслед, размышляя, как это сосед угадал, что именно у этой девушки окажется такая удивительная история. Найдя единственное объяснение в том, что они знакомы, Дима вернулся в купе.
— Ну что? — спросил Артём. — Узнал что-нибудь интересное?
— Узнал! — ответил Дима, мысленно жалея, что девушка не успела рассказать больше. — Анн ваша знакомая?
— Анн? Нет, что вы.
— Но как же…
— Ваш завтрак. — В купе вошёл долговязый проводник. — К сожалению, весь омлет разобрали, так что вот овсянка. Приятного…
— А-а, — протянул Артём. — Доброе утро! У нашего проводника тоже есть очень интересная история. — Он весело подмигнул Диме и посмотрел на парня. — Уж извините за любопытство, но не расскажете ли вы, как стали проводником. Найдётся минутка?
Проводник скрыл удивление за вежливой улыбкой.
— Мой опыт немного отличается от стандартной процедуры. Это отдельная история.
— История? — Артём многозначительно посмотрел на Диму. — Расскажите?
Проводник помрачнел.
— Я раньше бортпроводником был. — Парень вздохнул и облокотился о дверной косяк. — Столько стран облетел. А потом авария. Нашу машину подрезали. С водителем всё в порядке, а вот я и мой коллега получили травмы. Нас так и не допустили к полётам после этого. Потом работал в аэропорту, выдавал билеты, но сидение на месте сводило с ума. Вот я и отучился на проводника. И сразу получил разрешение работать на поездах дальнего следования.
— Вот как, — с сочувствием протянул Артём. — И нравится вам работа?
— Ну, мне всё лучше, чем на месте сидеть. — Парень пожал плечами. — Ладно, пойду, нужно остальным пассажирам завтраки разнести.
Как только за проводником закрылась дверь, Дима вскочил со своего места.
— Как вы это делаете? — воскликнул он.
— Делаю что? — спросил Артём.
— Угадываете людей с интересной историей.
— О, я не угадываю.
— Значит, вы знакомы!
— Нет.
— Но откуда вы знаете их истории?
— Я не знаю.
Пытаясь вернуть самообладание, Дима сел и постарался заставить голос звучать спокойно.
— Как же такое возможно?
— А ты так и не понял?
Оставив вопрос без ответа, Дима нахмурился и уставился в окно. По словам Артёма, разгадка была где-то на поверхности, вот только Дима не мог её разглядеть. Он чувствовал себя глупо и из-за этого злился ещё больше.
Поезд начал снижать скорость, приближаясь к станции Минеральные воды. Пальцы Димы нервно застучали по лежавшему на столе блокноту.
— Нет, я всё-таки не понимаю, как вы…
— Да что ж с тобой делать-то? — Артём всплеснул руками.
— Ну признайтесь уже, вы знаете этих людей?
— Смотри в окно.
— Что?
— Смотри, говорю.
Поджав губы, Дима выглянул в окно. Поезд остановился напротив белоснежного здания с колоннами, окружающими бронзовую скульптуру орла. По перрону сновали люди, даже через стекло слышался гомон голосов и стук волокущихся по плитке чемоданов на колёсиках.
— Видишь женщину в синем платке на голове? Вон она. Оглядывается по сторонам.
— Ну? — сказал Дима.
— Прогуляйся к ней, она тебе тоже что-нибудь интересное расскажет. Может, тогда до тебя наконец дойдёт.
— Но как же поезд?
— Стоянка длинная, не волнуйся. Ну, давай. — Артём кивнул в сторону двери. — Смелее!
Не найдя энергии спорить, Дима поплёлся к выходу и направился к мечущейся по перрону женщине. Подойдя достаточно близко, чтобы рассмотреть, что та плачет, Дима замер. Пока он определялся, стоит ли предложить помощь или лучше не приставать, женщина повернула к нему измождённое, опухшее от слёз лицо.
— Вы, случайно, не видели девочку в зелёном платьице? — заговорила она дрожащим голосом. — У неё русые волосы, маленькая совсем.
— Нет, я… я не видел, простите. — Дима стал оглядываться, высматривая в толпе зелёное платье. — Давно она потерялась?
— Минут пять назад. Я наклонилась, чтобы убрать телефон в сумку, поднимаюсь, а её уже нет. — Женщина громко всхлипнула.
— Не переживайте, мы обязательно её найдём. — Дима придал голосу уверенность, которой сам не испытывал.
— Она всё, что у меня осталось… — Женщина вдруг прижала руки к груди и начала судорожно хватать ртом воздух. Её бледное лицо стало почти прозрачным. Она пошатнулась.
Дима схватил её за плечи и развернул к себе. Взгляд женщины лихорадочно бегал по платформе.
— Посмотрите на меня, — попросил Дима.
Женщина подняла на него затуманенные паникой глаза.
— Как зовут вашу дочь?
— Сонечка. — Она вся затряслась и зажмурилась.
— Смотрите на меня. Смотрите. Вот так. Слушайте внимательно. Я сейчас же пойду к охране и попрошу о помощи. А вы стойте здесь и высматривайте Соню. — Губы женщины зашевелились, но Дима не смог разобрать, что она бормотала. Он крепче сжал её плечи. — Вы меня поняли? Стойте здесь.
Дима бросился к зданию вокзала. Он наотмашь распахнул тяжёлую дверь, когда справа от него мелькнула зелёная ткань и скрылась за белой колонной. Отпустив дверь, Дима в два прыжка обогнул колонну и оказался перед девочкой с длинной тёмной косой, внимательно рассматривающей рекламный плакат. Подол зелёного платья развевался на ветру.
— Ты Соня? — спросил он, присев на корточки рядом с ней.
Девочка замотала головой, не отводя взгляда от плаката, изображавшего мальчика с телефонной трубкой. Красные буквы гласили: «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ».
— Мне нельзя говорить своё имя незнакомым, — сказала она.
— Правильно. Это правильно. Но твоя мама ищет тебя. Она очень переживает.
Девочка выглянула из-за колонны и посмотрела в сторону ищущей её женщины. Она не потерялась. Она точно знала, где находится её мать.
— Мама не даёт мне телефон, чтобы позвонить папе. Она сказала, что папа умер. Я хочу ему позвонить. Вы можете прочитать, что здесь написано? Они помогут?
Дима открыл рот, но слова застряли в горле. Девочка терпеливо ждала. Он кашлянул.
— Не думаю. — Он хотел сказать что-то ещё, объяснить, поддержать, помочь. Но вместо этого снова кашлянул.
— Жалко, — вздохнула девочка и убежала к маме.
Дима прислонился к колонне не в состоянии сдвинуться с места. Он смотрел, как, увидев дочь, женщина бросила чемодан и кинулась к ней навстречу. Как упала на колени, сцепив руки вокруг девочки, как крепко прижимала её к себе.
«Она сказала, что папа умер. Я хочу ему позвонить», — эхом звучало в голове Димы.
Непослушные мысли, как птицы в тесной клетке, заметались к голове.
Однажды ей придётся понять, что такое «навсегда» и «никогда». Она осознает, что уже никогда не сможет позвонить папе. Её мать будет жить с тем, что её муж ушёл навсегда. Почему такие вещи происходят с самыми обычными людьми?
Обычными людьми…
Ребёнок, не принимающий смерть, и мать, потерявшая мужа; бортпроводник, мечтающий летать, но навсегда лишившийся крыльев; юная путешественница, оставившая родной дом и отправившаяся на поиски приключений. Все они — обычные люди.
Рядом с Димой прошёл грузный мужчина с уродливым шрамом на лице. В одной руке он нёс четыре сумки, другой рукой прижимал к груди котёнка.
Какая история кроется за его шрамом? Что заставляет его так бережно держать мяукающий комочек? А та женщина с залатанной сумкой. Какая история привела её сюда? А что за история заставляет ту девушку украдкой вытирать слёзы и смотреть вслед уходящему поезду?
Дима всматривался в заполняющих перрон людей.
У каждого из них есть история.
Хлопнув себя по лбу, Дима побежал обратно в поезд. С грохотом распахнул дверь купе и, тяжело дыша, замер в проходе.
— И не надоело же вам полдня наблюдать, как я разгадываю вашу загадку?
Артём рассмеялся.
— Дошло наконец?
— Вы посылали меня к людям наугад!
— Да.
— Потому что у любого нашлась бы история.
— Именно!
— Но откуда вы знали?
— А как об этом не знать?
— Какой же я дурак! — Дима снова хлопнул себя по лбу, с которого ещё не успел сойти след от первого удара.
Артём не стал спорить.
Дима опустился на диван, взял со стола блокнот и принялся разглядывать его так, будто видел впервые. По коричневой коже обложки бежали трещины, ветхий переплет жалобно вздыхал от каждого его движения, силясь удержать груз воспоминаний, записанных на пожелтевшей от времени бумаге.
Задумчиво листая страницы, Дима размышлял о своём прошлом. Он вспоминал, как разочаровал прочивших ему военную карьеру родственников своим выбором посвятить жизнь выпечке тортов. Как он, самый обычный парень, несмотря на запреты родителей и насмешки ровесников, упрямо шёл к своей мечте. Не это ли история, достойная быть записанной в дедушкином журнале? Но ещё больше его будоражила мысль о том, что дед на самом деле тоже был обычным человеком, одним из многих, по воле судьбы попавших в непростую ситуацию.
Из размышлений его вырвал толчок. Сосед снова боролся с оранжевым чемоданом, теперь уже извлекая его из-под сиденья Димы. Поезд приближался к станции Георгиевск.
— Ну, мне пора, — сказал Артём, вытащив багаж и открыв дверь купе.
Дима задал вопрос, который уже несколько часов не выходил у него из головы.
— Почему вы решили мне помочь?
Артём пожал плечами.
— Стало любопытно, чем закончится эта история.
Подхватив чемодан, сосед с верхней полки подмигнул Диме и вышел из купе.
Наступившую тишину нарушал лишь стук колёс поезда, несущегося по бесконечным рельсам. Дима взял ручку и склонился над чистой страницей старого блокнота.
Комментарий писателя Романа Сенчина:
«Замечательный получился рассказ. Его вполне можно опубликовать, лучше в каком-нибудь журнале для подростков, им он в первую очередь, по-моему, будет полезен. Это отлично: «— Прошу прощения, что разбудил вас, — шёпотом произнёс сосед, как будто боясь разбудить его ещё больше». «Мысленно желая своему соседу сладких снов и прочих гадостей…» Чем ближе к финалу, тем текст становится лучше, чище, художественнее.»
Рецензия критика Валерии Пустовой:
«Рассказ интересно задуман: есть рамка-загадка, которая объединяет разрозненные истории. Удачно углубляет рассказ то, что автор смог связать разгадку с мыслью о жизни. Мы не просто следим за интригой — мы продвигаемся к открытию, к правде, которая вроде бы очевидна, но обычно ускользает от нашего сознания. Замечательно и то, что автор не навязывает читателю правду в виде готовой морали, вывода. Он играет с читателем в полноценную игру, это похоже на квест, на театр с погружением: вместе с героем мы проходим путь к разгадке и сами можем убедиться в том, как эффективно работает случайный выбор историй.
Поймала себя на том, что с особенным увлечением читаю о женщине на перроне: именно тут случайность выбора стала совсем ясна, и было интересно погрузиться в наугад выбранную ситуацию. К тому же из трёх представленных историй эта — самая неожиданная, продуктивно усложненная. Девушка, сбежавшая от семьи в путешествия, выглядит несколько схематично. Проводник вызывает сочувствие, но он вроде как уже нашел решение, то есть историю закрыл. А вот ситуация женщины и девочки выглядит незакрытой, напряжённой, сложно устроенной: мать и девочка оказываются в противостоянии, они не заодно, и нам ясно, что разобщило их, парадоксально, одно на двоих горе. В этой истории видна сложность работы души, неочевидность реакций и отношений.
Удачно и то, что герой ныряет в исследование историй не просто так: есть внутренняя мотивация, внутреннее сомнение, которое его толкает искать решение. Это важное условие напряжённости интриги: связь внешних событий с внутренним запросом героя.
Замечания у меня к избыточности рассказа. В нем слишком много, на мой взгляд, не ведущих к делу подробностей. Текст — это целое, живущее по своим законам, своя вселенная. В тексте все должно работать на целое. И если не работает, если оно просто так, для красоты, пришлось к слову и т.п., то это важно видеть и убирать из окончательного варианта. Они только подчёркивают выдуманность ситуации. Как носки с апельсинками. Не очень верится и в старый блокнот, хотя он тут повод к интриге. Старая тетрадь, старый блокнот — несколько затертый образ. Есть некоторая шаблонность. Та же рыжесть незнакомца — намек на странность, необычность.
Отмечу также, что рассказ к финалу немного изменяет сам себе. Автор показывает, что интересны самые обычные люди. Но изображает не обычных: мужчину со шрамом и котёнком (убойно сентиментальное сочетание, кстати, на грани манипуляции чувствами читателя), девушку, провожающую поезд в слезах (этот образ близок к романтическому шаблону).»

Февральская пурга
Петр Петрович суетливо шаркал по дому, разыскивая свой картуз. Остальные вещи были собраны в холщовый рюкзак, старое охотничье ружье лежало на кровати. Там же, на краешке, сидела женщина, спрятав лицо в морщинистые ладони, и тихонько всхлипывала. Сестра Петра Петровича — Вера Петровна.
— Хватит дуру корчить! Помогла бы лучше картуз найти.
— Петя, Петя! — убивалась Петровна. — Ну куда ты собрался? Там снега по пояс. Даже Люба с почтой уже вторую неделю к нам не добиралась.
— Я все сказал. Давно уже. Будет война — я поеду. Где, б**, этот чертов картуз?
Петровна вскочила с кровати, торопливо закачалась в сени, натащила на себя ватник и валенки. Хлопнула дверью, оставив после себя только холодный туман.
***
— Михална, открывай! — колотила в дверь облепленная снегом Петровна.
Дверь со скрипом подалась вперед, и Петровне открылась знакомая картина. Ее подруга, Надежда Михайловна, стояла в одной сорочке и с заплаканными глазами, а муж подруги, Михаил Михайлович, был при параде: старый потертый бушлат, ватные штаны, лыжная шапочка и, как на деревне повелось, ружье на плече.
Петровна схватилась за грудь и осела в сугроб. Михайловна в одних носках и сорочке заторопилась помогать подруге, и вот они уже вместе, черная — в ватнике и белая — в сорочке, лежали на пушистом снежном одеяле.
— Тьфу. Бабьё, — сплюнул Михаил Михайлович и ушел в дом.
***
Вытертая клеенка с выгоревшими на солнце китайскими розами, две кружки со сколотыми ручками, тарелка с хлебом, покрытая пожелтевшей от жизни скатеркой. Воздух наполнен запахом корвалола, а тишину тревожит только мерный хруст дров в печи и тихое шарканье Михайловны. Петровна лежит на кровати, глаза закрыты, руки сложены на монотонно вздымающейся груди. За окном кружит снег.
— Михалыч-то где? — слабо проговорила, не открывая глаз, Петровна.
— Ушёл.
Сосновое полено в печи затрещало, как новогодний фейерверк, застреляло.
— И братец мой ушел. Господи, помилуй.
— Может, тебя дожидается?
В ответ тишина.
— Ох, батюшки, они ж прямо у нас в деревне и навоюются. Полгода уже как не разговаривают.
— Думала, у Михалыча ума поболе. Он-то куда?
— Не знаю, Петровна. Он утром как новости прослушал. Сидит, почернел весь, по столу кулаком стучит. Я его успокаивать, а он: «Уйди»! И как зашуршал по дому. Пенсионное в топку бросил. Ничего, говорит, мне от этих фашистов не нужно. А потом и сумку начал собирать. Мол, в Киев, к нашим поеду. Ох, батюшки. Я ему: куда ты, старый? От переправы до станции ведь по такому снегу не дойдет. Ну разве я ему указ?..
Петровна принялась почти беззвучно бормотать молитву. Михайловна просто смотрела в пол. За окном прогремел ружейный выстрел.
***
Петровна и Михайловна, в платках, одна в ватнике, вторая в тулупе, перекатывались по снегу, карабкались, ориентируясь на стремительно исчезающий след. К переправе. Сначала причитали, потом тяжело дышали. Просто сидели в снегу и плакали. Но стремились навстречу неминуемому горю.
Тучи стали немного редеть, а снежная мгла — отступать. Вдали Михайловна смогла различить два силуэта.
— Вон они, черти! Сидят, курят.
Петровна и Михайловна подходили ближе. Справа от скамейки, на которой разместились мужики, на снегу темнел какой-то огромный мешок. Когда женщины подошли совсем близко, Михайловна разглядела, что это не мешок. Было видно темную синюю куртку и небольшую наплечную сумку «Почта России». Михайловна ахнула, закрыла рот руками в мокрых шерстяных варежках и замотала головой из стороны в сторону. Петровна, близорукая, так ничего и не разобрав, перекрестилась, плюхнулась обессиленная в сугроб.
— Живые. А я помру теперь, сердце колет, сил больше нет.
Мужики, мокрые от снега, без шапок, молча курили.
— Что случилось-то? — выдавила из себя Михайловна и снова принялась трясти головой, не двигаясь с места.
— Что-что? Замерзла.
— Кто? — очнулась Петровна.
— Люба, почтальонша. Куриная ты слепота, — указал Петр Петрович на покойницу.
Петровна закрыла лицо красными от холода руками и завопила. Женский вой постепенно перешёл в всхлипывания. Петровна раскачивалась и тараторила молитвы.
Мужики молча курили.
***
Все вместе еле дошли до дома Михаила Михайловича и его жены. Замялись у калитки.
— Заходи уж, — буркнул Михаил Михайлович, рассматривая снежную корку на своих ногах.
Ввалились в сени, раскидали мокрую одежду. Михаил Михайлович достал бутылку и поставил на покрытый клеенкой стол. Зазвенели граненые стаканы и стопки, крякнула винтовая пробка, водка забулькала по стаканам. Мужчины сели за стол, женщины со своими стопками, поддерживая друг друга, разместились на кровати.
Михаил Михайлович по-хозяйски придвинул стакан Петру Петровичу, взял свой стакан и тихо заговорил.
— Любовь Александровна почти тридцать лет была единственной связью между островом и большой землей. Привозила газеты, пенсию, редкие письма. Раньше мы и сами могли до станции добраться, а теперь что? И продукты она нам привозила, лекарства тоже. Про папиросы никогда не забывала. А теперь что получается? Так сказать, умерла наша Любовь. Нет больше Любви.
Все выпили. Петр Петрович смотрел на свои руки и мял пальцы. Михаил Михайлович занялся печкой.
А на кровати, в углу, облокотившись на настенный ковер сидели их женщины. Все, что у них осталось. Вера Петровна да Надежда Михайловна.

