Сентябрь 2021
2018 год. Лето
Et Cetera
Terra Incognita
Белые двери с облупленной краской
В автобусе
Видишь вечер, видишь тучи?
Воздух звенит узнаваемым голосом Левитана
Гигиена рук и заяц
Дурачок
За моим окном
За окнами
За окном
За окном («Инженеры 20-21»)
За окном утро, пять сорок два
Забиться в щелку до весны
Записки фланёра
Капли луны
Когда город меня отпустит
Когда жука или ещё кого выдворяю вон
Месяц Май
Москва — это боязно
Москва, день первый
Москва. Журнал наблюдений
На проспекте Курчатова сплошные малоэтажки
Напротив презирают занавески
Нижнему
Одно из трёх
Окно
Пейзаж — твой Левитан
перекати-пакет
Под пробочкой
Реприза «Новая Игра»
Скорость и ожидание
Слишком люблю здороваться
У меня за окном
Утренняя Москва
Утро за окном
Я бросаю куски белого хлеба
Город на Волге
На стыке
Не прощупывается. Екатеринбургу
Очень личный Вавилон
Первые капли апреля
С любовью. Зарайск.
Свидание внемую
Точка на карте
Утро приходит в Ереван
Экскурсионная
Я дома
Город К. говорит городу В.
Небо Боровска
Осторожно, двери закрываются
Ощущение дома (Светлогорск)
Стамбульская синхрония
Я — Холмск!
68 километр
Жирона: сказочный город
Икша-Икша
Кострома
Красное, белое
Московская, Московский, Москва
На краю земли
Один день в Переделкино
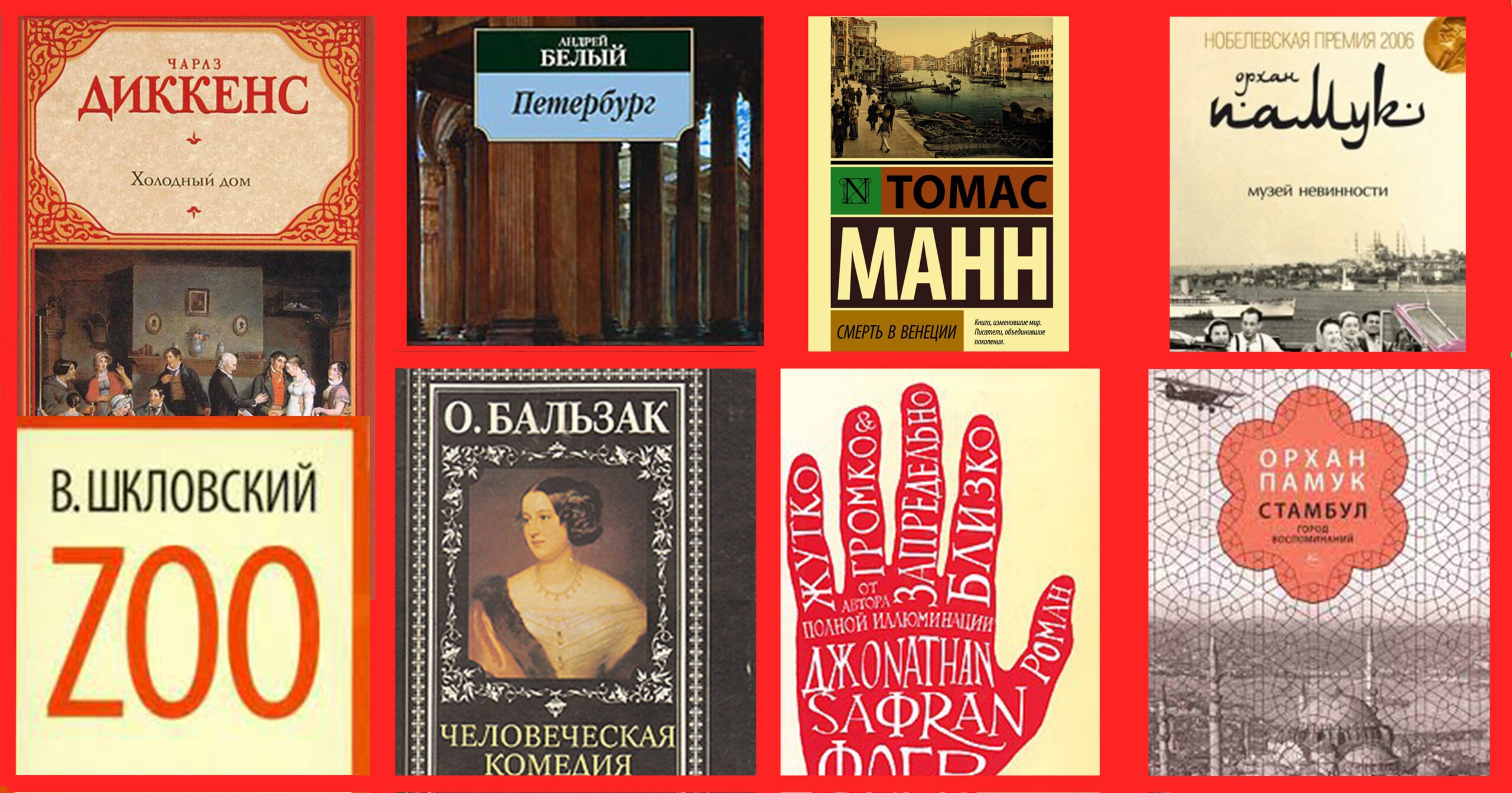
Мифология города в мировой литературе
Бум романа в конце XVIII–XIX веке совпал по времени с резкой урбанизацией ведущих европейских стран. Неудивительно, что город не только все чаще выступал в качестве «сеттинга» романных историй, но и стремительно обрастал своей особой литературной мифологией. Под «городом» здесь стоит понимать не формальную географическую номинацию, а сложно устроенное сообщество, полноценный микрокосм, в миниатюре — хотя в Новое время разбухшие города были уже отнюдь не миниатюрны — представляющий законы человеческого общежития. В особенности это касается главных столиц европейской политической и литературной карт этого времени: Парижа, Лондона, Петербурга, позднее, уже в XX столетии — Нью-Йорка и все более периферийных (с точки зрения европейского читателя) городов, например, латиноамериканских.
По мере того, как европейские библиотеки романов распухали все больше, городские литературные мифологии становились все богаче и разнообразнее. К фольклорным анекдотам, появлявшимся синхронно с самими поселениями, теперь добавлялись устойчивые сюжеты «высокой» литературы. Рядом с бытовой историей города, которую подчас не менее интересно прослеживать по подшивкам ежедневных газет, мерцала параллельная история его литературного двойника. Нередко, как в случае Лондона, литературная традиция не просто не совпадала с официальной государственной рекламой, но прямо оборачивала ее. В других случаях, как в Париже, разные мифологические традиции непротиворечиво дополняли друг друга. Реконструировать этот симбиоз в случае таких городов-гигантов — чудовищный труд.
В современной прозе по естественным причинам процент «городского» текста непропорционально велик. Но если пытаться не просто механически переносить названия улиц из реальной карты, а работать с литературным мифом города, то потребуется немалые интеллектуальные усилия. Для начала — познакомиться с «низовой» городской мифологией (особенно если это не ваш родной город): специфическими анекдотами, байками, легендами и прочим городским фольклором. Затем — перейти на уровень «высокой» литературной традиции, которая, впрочем, всегда питается этим фольклором. И, наконец, самое сложное — придумать тонкий и изящный сдвиг этих традиций, в котором культурное уважение будет причудливо сочетаться с ошарашивающим экспериментом.
Рассмотрим несколько примеров знаковых романов, авторы которых напрямую работали с литературным мифом города, а иногда и создавали его практически с нуля. В конце концов, почему бы не выступить мифотворцем и не придумать собственный город — Твин Пикс, например?
Чарльз Диккенс и дьявольский Лондон
Диккенс сегодня — это добрая и теплая история, уютная викторианская Англия, рождественский свитер. В твердой вере в то, что в мире есть свет, способный разогнать все хтонические силы, Диккенсу действительно нет равных. Но бытие добра в его мире никогда не беспроблемно: требуется немало усилий, чтобы побороть то зло, что этот мир переполняет. Ну а старый добрый Лондон, как раз об эту пору переживающий свой расцвет и принимающий Всемирную выставку, становится эпицентром дьявольской энергии.
По одной из острот Оскара Уайльда (а точнее, его героя), лондонские туманы появились благодаря поэтам и живописцам. На самом деле по-настоящему мы познакомились с ними благодаря Диккенсу. Нет, безусловно, о проклятости города, почти целиком сгоревшего в Великом пожаре 1666 года (многими воспринимаемом как божья кара), говорили много веков. Но упорядоченный литературный миф с его внутренней логикой и законами — заслуга именно Диккенса.
Многие элементы этого мифа появляются уже в «Оливере Твисте», но наиболее полно диккенсовский Лондон воплощен в «Холодном доме». Роман открывается обширным пассажем о городском тумане, что «слепит глаза и забивает глотки престарелым гринвичским пенсионерам» и будто поднимается из самого ада: «На мостах какие-то люди, перегнувшись через перила, заглядывают в туманную преисподнюю». Инфернальные туманы исходят из центра Лондона — в романе это, вопреки реальной картографии, Канцлерский суд, — и поглощают район за районом в облако дьявольских метаморфоз, внутри которого все живое обращается в рыхлую пыль и грязь и божий мир переворачивается наизнанку. Лондон так страшен и смертоносен, что единственный в романе островок добра — заглавный «Холодный дом» — вынесен далеко за его пределы. Оттуда, из еще живой периферии, начинается трудный путь света. В впрочем, вернуть Лондону приятный облик не хватит сил даже главным героям, и в финале романа они переедут еще дальше от столицы.
Одного «Холодного дома» уже достаточно, чтобы с изумлением вспомнить, как ортодоксальные советские критики поднимали Диккенса на щит как «своего», «социалиста» и идеального «реалиста» (разве что в высшем смысле, как аттестовал себя Достоевский). Диккенсовский городской миф — один из самых магических и страшных, и реальную британскую столицу по нему восстанавливать нет смысла. Зато и злачный, сумеречный Лондон Конан-Дойля, и инфернальный туман в «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» Стивенсона — прямые потомки мифа, созданного Диккенсом. Так что немедленно бросайте все и открывайте том-другой в домашней библиотеке (а если очень хотите писать о Лондоне — обратитесь еще и к одноименной монографии Питера Акройда, тоже пестрящей названиями диккенсовских романов).
Оноре де Бальзак и парижский центр мира
В предисловии к своему magnum opus, «Человеческой комедии», Бальзак писал, что хочет охватить все «три формы бытия — мужчин, женщин и вещи, то есть людей и материальное воплощение их мышления — словом, изобразить человека и жизнь». Задача не под силу человеку (впрочем, Бальзак, судя по его работоспособности и количеству потребляемого ежедневно кофе, и не был человеком), но «Человеческая комедия» — уникальный по своей энциклопедичности документ французской жизни середины века. В том числе и парижской.
В это время Париж — безусловный центр мира, в особенности культурный. Неудивительно, что для бальзаковских героев он становится землей обетованной и источником дьявольских искушений, местом нервного напряжения жизни, где прихотливые законы удачи и неудачи действуют с особенной силой. Когда в финале «Отца Горио» Растиньяк грозит кулаком раскинувшемуся под ним городу, то это не просто метафора, а опыт возвышенного — которое равным образом может обернуться великим успехом и разрушительной трагедией.
Любопытно сравнить бальзаковскую столицу со страшным пустым Парижем «проклятых поэтов», наследников великого Бодлера. «Цветы зла» — один из первых образцов по-настоящему «городской» поэзии, и вряд ли читателю захочется побродить на парижских улицах вместе с поэтом-фланером, который оказывается физической и эмоциональной жертвой агрессивного города. В XX веке, по мере того как Париж начнет уходить на периферию новой карты мира, литературный миф этого города приобретет новые смыслы — став центром мировой ностальгии по belle èpoche.
Венецианский декаданс: версия Томаса Манна
Самый известный текст о Венеции уже своим названием сообщает этому городу энергию Танатоса. Замысел новеллы пришел Манну весной 1911 года, в дантовском тридцатипятилетнем возрасте, но «Смерть в Венеции» обращается не к середине, а к концу человеческой жизни (впрочем, Густаву Ашенбаху лишь слегка за пятьдесят). А точнее, всей европейской культуры, последнему эстетическому пароксизму которой и посвящена новелла о внезапной дионисийской страсти именитого писателя к аполлонически прекрасному польскому мальчику.
Венеция оказывается идеальным фоном для символической истории о смерти Европы. С одной стороны — средоточие европейской культуры и архитектурное царство эстетики. С другой — многовековой упадок, политическая и культурная стагнация, а тут еще и эпидемия холеры, облюбовавшей грязные каналы. Манн умело работает со всеми традиционными элементами венецианского мифа: и карнавальный дух, оборачивающий стариков в детей, и внечеловеческая красота, оказывающаяся смежной со смертью, и, конечно, вода и гондолы, за которыми мерцает лодка Харона, перевозящая через Лету. Любопытным образом основное действие происходит не в самой Венеции, а на острове Лидо, расположенном прямо напротив нее (здесь же Висконти снимет одноименный фильм и проходит старейший в мире кинофестиваль), но именно венецианские калле и каналы — источник и божественной красоты, и дьявольской травестии.
Так через индивидуальную историю смерти-от-красоты Манн говорит о «закате Европы». Аккурат за три года до начала Первой мировой войны и за семь лет до выхода одноименного трактата Освальда Шпенглера 1. Городской миф оказывается тесно сопряжен с культурными мифами большего порядка.
Андрей Белый и «Петербургский текст»
В начале 1970-х годов Владимир Топоров впервые выдвинул ставшее уже хрестоматийным понятие «петербургский текст» в своей статье «Петербург и «петербургский текст русской литературы» (введение в тему)», до сих пор остающейся одним из важнейших образцов структуралистского анализа городского мифа в русскоязычной гуманитарной науке. Согласно Топорову, уникальная история создания и развития северной столицы — искусственное строительство города на болотах и костях рабочих, резкий разрыв с национальной традицией и форсированный переход к обществу модерна, — обусловила его особый культурный и литературный миф, возникший еще в последние годы Петра. В течение XVIII–XX веков этот миф консолидировался и задал единое концептуальное пространство петербургского «гипертекста» со своими внутренними законами.
Роль «Петербурга», magnum opus Андрея Белого и главного романа русского модернизма, в этой традиции сложно переоценить. Чего стоит одно название (впрочем, не придуманное самым Белым, а подсказанное Вячеславом Ивановым). Характерным образом роман представляет собой своего рода центон: его части отсылают к хрестоматийным текстам русского канона, а в образах, персонажах и темах отыгрываются все главные образцы «петербургского текста», от «Медного всадника» и «Невского проспекта» до романов Достоевского. Однако «Петербург» — не просто механическое воспроизведение этих устойчивых элементов, а попытка найти объяснение и разрешение парадоксальному и противоестественному бытию невской столицы, обнажившемуся в минуту мира роковую — «на рубеже двух столетий» и «между двух революций», по названию мемуарных книг Белого. Это объяснение, в соответствии с символистской доктриной, ищется одновременно в нескольких измерениях: во внутрисемейной драме видится мифологическая борьба вечных сил, литературные реминисценции полноправно сосуществуют с историческими реалиями первой русской революции, бытие просвечивает через быт.
Петербург, каким мы видим его в романе, — сложная контаминация всех этих уровней символистской вселенной. Хрестоматийную традицию Белый обогащает свежевыученной антропософской теорией (через пару лет по окончании романа он станет одним из самых верных последователей Рудольфа Штейнера и будет строить Гётеанум), согласно которой жизнь многомерна и специальные интроспективные медитации позволяют перейти к высшему из этих измерений. Но сложная геометрия романной вселенной «Петербурга» — своего рода страшный перевертыш антропософской схемы: Петербург Белого тоже имеет четыре измерения, но из последнего, трансцендентального, уровня к героям романа приходит не метафизическая истина, а инфернальные сущности и дьявольские двойники (вроде Шишнарфнэ-Енфраншиша), провоцирующие хаос и трагедию. Виновник такой геометрической пляски пространства и времени все тот же — сам возникший против законов природы город, про который «только кажется, что он существует». Порочный круг петербургского мифа может быть преодолен только изнутри себя, через метафизический взрыв в самом сердце геометрического мира, идеально распланированной квартире сенатора Аблеухова — чтобы уже с нулевой точки зачинать новый мифологический круг. Правда, финал «Петербурга» только обещает это возрождение (равно как и сам Белый только обещал Штейнеру написать «позитивный» вариант антропософского романа), и главные герои, как и у Диккенса, для очищения и обновления оказываются за пределами дьявольского города.
Роман Белого в каком-то смысле замыкает классическую традицию «Петербургского текста», но город, сменивший за прошлое столетие три имени, успел обрасти новой, советской и постсоветской мифологией. Так что если сейчас приступать к петербургскому роману, без Белого не обойтись — но и ограничиться «классической» дьявольщиной не получится. Городские мифы развиваются вместе с городами.
Виктор Шкловский и эмигрантский Берлин
Один из самых любопытных сюжетов — взгляд на городской миф не изнутри, а снаружи, глазами чужого и постороннего (впрочем, парадоксальным образом и центральный текст петербургской традиции создал москвич Белый). Русский двадцатый век с его катастрофическими миграциями сильно обогатил этот сюжет. Особенно это видно на примере Виктора Шкловского, чья авантюрная биография уже больше ста лет вдохновляет многочисленные книги фикшн и нон-фикшн. Начал эту традицию, как это ему свойственно, сам Шкловский, описавший в своей эмигрантской трилогии («Ход коня», «Сентиментальное путешествие» и «ZOO») трагический опыт вынужденной миграции русской интеллигенции после 1917 года. Впрочем, сам глава русских формалистов был активным революционером, но Февраля, а не Октября, так что его побег в Финляндию и затем в Берлин случился позже — в период первых большевистских репрессий против революционных конкурентов.
В свете городских мифов интереснее всего именно «ZOO». Любовный роман в силу запрета на собственно чувственную тему — один из подзаголовков гласит «Письма не о любви» — превращается в роман о жизни эмигранта в чужом городе. В начале 1920-х годов Берлин на короткое время стал анклавом русской культуры: в послевоенной Германии было проще всего снимать жилье и даже издавать журналы на русском языке, так что именно здесь на несколько лет осели многие бежавшие из советской России писатели. Однако в версии Шкловского (как и многих других свидетелей) русский Берлин двадцатых годов — не эпицентр эмигрировавшей культуры («мы не в изгнании, мы в послании»), а жалкая имитация настоящей жизни. Ключевой метафорой «ZOO» становится импотенция — не в медицинском, а в энергетическом смысле: как главный герой не может добиться взаимности от своей корреспондентки и вынужден взамен описывать ей берлинский быт, так и сам город скован, недвижен и замкнут на воспроизведении автоматизированных вещей (а ничего не может быть страшнее для боевого формалиста Шкловского). Любопытно сравнить Берлин Шкловского с современными ему берлинскими свидетельствами (например, с «Даром» Набокова и «Одной обителью в царстве теней» Белого) и другими образцами подчеркнуто «чужого» взгляда на городской миф. Но мало кто так остро чувствовал утрату революционной энергии, как «настоящий литературный броневик» (как окрестил Шкловского Манлдельштам): «Бедная русская эмиграция! У нее не бьется сердце <…> Мы заряжены в России, а здесь только крутимся, крутимся и скоро станем».
Орхан Памук и стамбульский хюзун
Орхан Памук, один из крупнейших современных турецких писателей, в 2006 году получил Нобелевскую премию с формулировкой «автору, который в поисках меланхоличной души родного города нашёл новые символы для столкновения и переплетения культур». Редчайший случай, когда именно городской миф стал главным основанием для присуждения самой престижной литературной премии в мире. Памук действительно большой мастер городописания: действие почти всех его романов происходит в Стамбуле — и если вы почему-то еще не посетили этот город, то можно вообразить его во всей потрясающей многомерности по книгам Памука. Причем Стамбул здесь реконструируется сразу по двум основным координатам — в пространстве (сложно перечислить все упомянутые здесь районы, улочки, мечети и магазины) и во времени. Последняя ось особенно важна для Памука, поскольку магистральная тема его романного наследия — сложное и подчас трагическое движение консервативного стамбульского мирка к обществу модерна.
Напрямую городу посвящена книга «Стамбул. Город воспоминаний» (2003). Здесь урбанистические зарисовки перемежаются с автобиографическими очерками и задают очень личную перспективу недавней турецкой истории (которая стоила Памуку нескольких судебных разбирательств с турецким правительством). Уникальное местоположение Стамбула на границе между Востоком и Западом, палимпсест древнейших христианских и мусульманских святынь (зачастую внутри одного и того же здания, как в случае Айя-Софии), давняя связь Османской империи с западными державами — все это задает богатый стамбульский миф. В версии Памука, однако, в его основе не столько связь культур, нередко весьма болезненная, сколько интенсифицированное переживание городской памяти — об утраченном величии, о до-модерновом обществе и традиционной культуре, — которое задает непреодолимый зазор между временами. Итогом этого переживания становится особый стамбульский «хюзун» — который невозможно приравнять ни к тоске, ни к ностальгии, ни к какому-либо другому слову другого языка.
Любопытный сюжет этого памуковского инварианта представлен в «Музее невинности» (2008), где городской миф тесно смыкается с любовной трагедией и встроен уже не в нон-фикшн, а в фикшн. Собирая в своем любовном музее артефакты, связанные с его возлюбленной, герой романа заодно представляет нам бытовой ассамбляж сложной турецкой истории XX века, от контрабандных сигарет до кофейных чашек. Мемориальная природа городского нарратива Памука роднит его Стамбул с другими «вспоминаемыми» городами, наполнившими мировую прозу в катастрофическом столетии, резко аннулировавшем старые мифы, что особенно остро сказалось в России XX века: дореволюционные Петербург и Москва, проекты советских городов («Город Брежнев» Шамиля Идиатуллина) — все это вдохновляло и продолжает вдохновлять города памяти.
Джонатан Сафран Фоер и посттравматичный Нью-Йорк
Нью-Йорк — один из главных, если не главный, литературный (и, конечно, кинематографичный) город XX и XXI веков: по его улицам гуляют читатели как «Голоса большого города» О. Генри, так и «Щегла» Донны Тартт. В силу такой популярности здесь особенно сложно говорить о едином городском мифе, тем более если принимать во внимание размеры мегаполиса: к примеру, манхэттенский символический ореол принципиально отличен от бруклинского, а в случае статуи Свободы и острова Эллис, который первым видели бежавшие в Новый Свет, нужно говорить об отдельной иммигрантской мифологии.
Страшным водоразделом в культурной истории Нью-Йорка стала, конечно, трагедия 11 сентября 2001 года, дискредитировавшая привычный образ города как процветающего и защищенного островка цивилизации, уютного мирка вечного Рождества, каким мы его знаем по кинематографу XX века. Тексты последних двадцати лет пытаются осмыслить этот фундаментальный сдвиг в нью-йоркском (и вообще американском) мироощущении и описать город в его новой, посттравматичной эпохе.
Джонатан Сафран Фоер, один из самых эксцентричных и оригинальных американских прозаиков нового поколения — уроженец Вашингтона, но уже много лет живущий в Бруклине, — попытался в 2005 году показать Нью-Йорк после трагедии через очень специальную перспективу: мальчика с синдромом Аспергера, потерявшего отца в одной из башен Всемирного Торгового Центра. Более того, Фоер сообщает столь тяжелому сюжету форму городского детектива: по ходу сюжета юный герой, обнаруживший в вазе отца конверт с надписью «Black», обходит один нью-йоркский квартал за другим и знакомится с множеством людей в поиске ответа на эту загадку, ставшую последней связью с отцом. Глазами этого мальчика, переживающего окружающий мир в утроенно интенсифицированном режиме, мы видим восстанавливающийся и не-восстанавливаемый после катастрофы город, жители которого теперь боятся высотных этажей и иначе воспринимают друг друга и самого себя. Заглавие книги, «Жутко громко и запредельно близко» (англ. Extremely Loud and Incredibly Close), отражает и специальную оптику героя, и это новое нью-йоркское мироощущение.
Фоер вообще, если можно так выразиться, «специалист» по культурной травме: его дебютный роман, «Все освещено» (англ. Everything is illuminated), описывает путешествие альтер-эго писателя в украинскую глубинку в попытке реконструировать историю семьи его дедушки, чудом бежавшего из еврейской деревушки, уничтоженной в Холокост. Первый роман говорит о непреодолимости временного разрыва и бессилии культурной памяти, второй — о сходной невозможности post-mortem связи, но и о попытке найти новые формы коммуникации поверх травмы и отчуждения. У Фоера такой новой формой становится почти оксюморонное соединение противоположных регистров эмоционального опыта, непереживаемой трагедии прошлого и чудаковатой комедии настоящего. Остранение как единственный способ спасения и творческого преображения невыносимой реальности — излюбленный фоеровский прием: в его свете мы видим и непривычный, страшный и странный, тревожный и тем не менее домашний Нью-Йорк нашего времени.
Ряд литературных городов — или литературных версий одного и того же города — можно продолжать сколь угодно долго (не говоря уже о совершенно особом поэтическом изводе урбанистической темы). Главный рецепт интересного текста о городе остается все тем же: уважение к многовековой (или не очень) городской мифологии и готовность экспериментировать с литературным преданием, чтобы сообщить вашему городу энергию индивидуального взгляда и индивидуального времени.
- подробнее об этом меме см. недавний труд Александра Долинина «»Гибель Запада» и другие мемы»[↑]
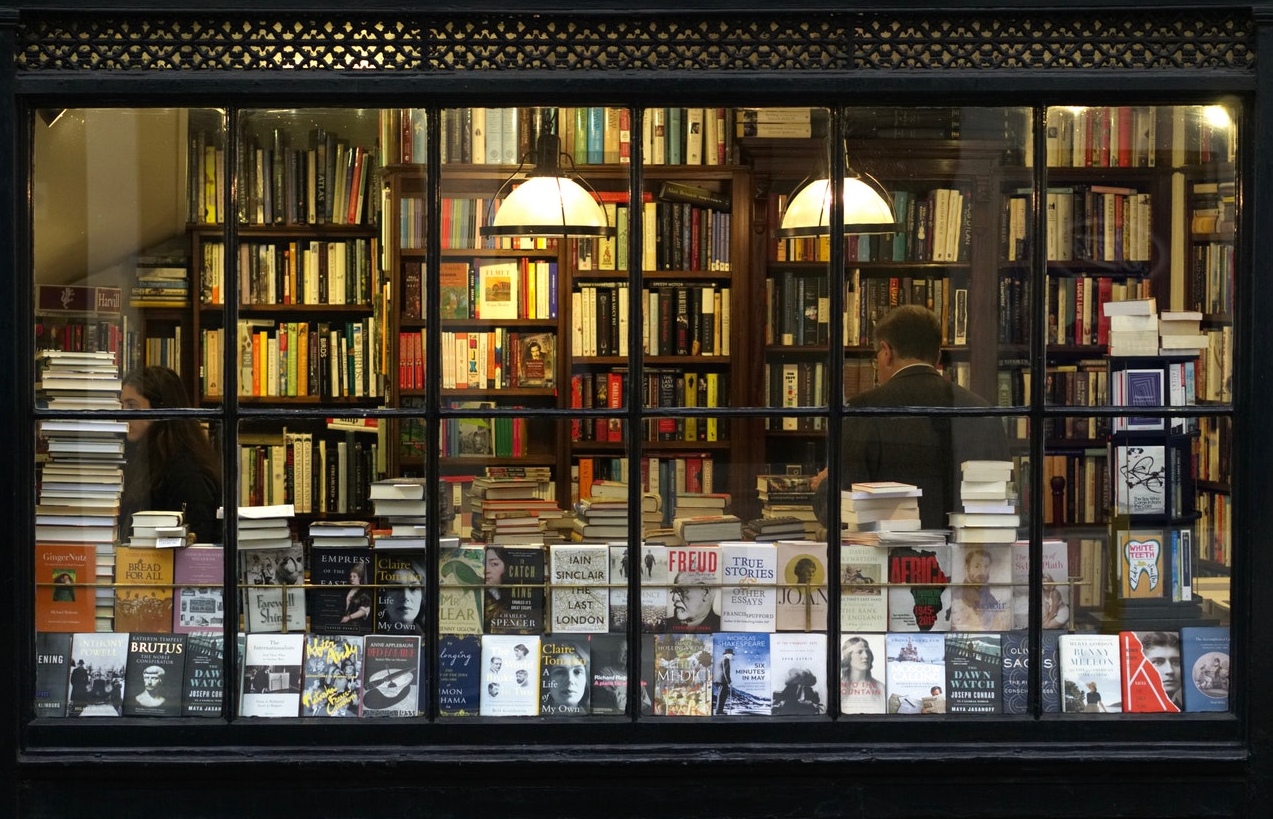
Писатели и критики о литературных городах
Города играют в рассказах и романах совершенно особенную роль, иногда становясь фоном для событий, иногда превращаясь в самостоятельного персонажа. В нашем урбанистическом выпуске мы решили выяснить, если ли у писателей и критиков, мастеров Creative Writing School, любимые литературные города, и чем они так привлекательны.
Марина Степнова. Берлин Владимира Набокова
Я не сразу вспомнила, есть ли у меня любимый литературный город, к счастью — есть. Это Берлин в романе «Дар». Сам город Набоков ненавидел, а когда пишешь — важно испытывать какие-то сильные чувства. Возможно, поэтому Берлин в «Даре» блистателен. Это абсолютно живой город, несмотря на нелюбовь к нему автора!
«Улицу он знал, как знал весь округ: пансион, откуда он съехал, находился невдалеке; но до сих пор эта улица вращалась и скользила, ничем с ним не связанная, а сегодня остановилась вдруг, уже застывая в виде проекции его нового жилища.
Обсаженная среднего роста липами с каплями дождя, расположенными на их частых черных сучках по схеме будущих листьев (завтра в каждой капле будет по зеленому зрачку), снабженная смоляной гладью саженей в пять шириной и пестроватыми, ручной работы (лестной для ног) тротуарами, она шла с едва заметным наклоном, начинаясь почтамтом и кончаясь церковью, как эпистолярный роман».

Буквально на первой странице Набоков от первого лица описывает берлинскую улицу. И в этом описании, которое одновременно и подражает романам XIX века, и пародирует их, столько иронии, столько невероятного мастерства! Это Набоков в зените своего таланта! Но удивительное не в этом, автор прекрасно описывал города и до, и после «Дара», удивительное в том, что роман перескакивает в третье лицо, рассказчик превращается из «я» в «он», и сделано это так, что 90% читателей не замечают произошедшего. Это какой-то невероятный фокус. И я, прекрасно зная, как это сделано, все равно всякий раз попадаюсь на эту удочку. Думаю, что первая страница «Дара» должна войти во все учебники. Кроме этого, в «Даре» лучший эпиграф в истории литературы:
«Дуб — дерево. Роза — цветок. Олень — животное. Воробей — птица. Россия — наше отечество. Смерть неизбежна». П. Смирновский. Учебник русской грамматики.
Ольга Брейнингер. Стамбул Орхана Памука
«Черная книга», «Стамбул. Город воспоминаний», «Меня зовут Красный» — во всех этих книгах он пишет о Стамбуле. Все эти книги дополняют мерцающий огнями образ Стамбула в одном из лучших романов в мире — его «Музее невинности». Его — Орхана Памука, писателя, чье имя стало синонимом города.

Роман и музей с одинаковым названием — где граница между текстом и вымыслом, между реальностью и литературой? На страницах романа — невероятная, отчаянная история любви; светское общество и затворничество, мир стамбульской аристократии и мир кино, актеров, творческой богемы; показная роскошь и семейные ужины перед телевизором, Стамбул европейский и Стамбул азиатский. Музей невинности, спрятанный в стамбульском квартале Чукурджума, начинается с комнаты, где собраны 4213 сигареты, выкуренные Фюсун. А в маленькой комнате на последнем этаже — кровать Кемаля, она же — кровать, где пытался забыться сном писатель, собиравший воедино историю любви.
В последней главе «Музея невинности» — билет в Музей Невинности. Что может быть прекраснее бесконечности?
Елена Холмогорова. Елец Ивана Бунина
Цитата, которую я сейчас приведу, не вполне может быть названа описанием города. Это эмоции, это звуки, запахи. Но для меня она ценна тем, что приоткрыла дверь в неведомый мир и побудила к путешествию. Мы знаем городской ХIХ век по русской классической литературе, говорим, например, о «петербургском тексте», о «дворянских гнездах». Но куда хуже представляем мы себе уездную Россию — главным образом, по «Мертвым душам» да «Грозе» Островского. И вот в «Жизни Арсеньева» читаю:

«Город… гордился своей древностью и имел на это право: он и впрямь был одним из самых древних городов, лежал среди великих черноземных полей Подстепья, на той роковой черте, за которой некогда простирались „земли дикие незнакомые“ <…> Как въехали в город, не помню. Я висел над пропастью, в узком ущелье из огромных, никогда мною не виданных домов, меня ослеплял блеск солнца, стекол, вывесок, а надо мной на весь мир разливался какой-то дивный, музыкальный кавардак: звон, гул колоколов с колокольни Михаила Архангела, возвышающейся надо всем в таком величии, в такой роскоши, какие и не снились римскому храму Петра, и такой громадой, что уже никак не могла поразить меня впоследствии пирамида Хеопса».
Бунин не именует город, названия Елец нет в романе, это просто «город», но не Город (с прописной, как Киев у Михаила Булгакова в «Белой гвардии», а сообразно уездному статусу — со строчной). Поражает яркость ощущений мальчика, впервые попавшего из степной усадьбы в «каменные джунгли», оказавшегося «в узком ущелье из огромных, никогда мною не виданных домов», которые на самом-то деле были довольно скромными, а то и убогими строениями. Может быть, особую трогательность придает этому описанию то, что пишет это давно живущий в эмиграции писатель, понимающий, что едва ли доведется ему увидеть эти места. И я поехала в Елец, который стал одним из моих любимых мест на земле. А потом перечитала не только роман, но и многие рассказы, где тоже красками и запахами просвечивает неназванный уездный город, где еще не стерта граница между полем и камнями улиц. Вот как в самом загадочном «Легком дыхании»:
«Город за эти апрельские дни стал чист, сух, камни его побелели, и по ним легко и приятно идти <…> Она переходит по шоссе грязную площадь, где много закопченных кузниц и свежо дует полевой воздух; дальше между мужским монастырем и острогом, белеет облачный склон неба и сереет весеннее поле, а потом, когда проберешься среди луж под стеной монастыря и повернешь налево, увидишь как бы большой низкий сад, обнесенный белой оградой, над воротами которой написано Успение божией матери».
Валерия Пустовая. Ветлуга Дениса Осокина
Я хотела бы путешествовать по России с Денисом Осокиным. С его текстами, которые часто возникают в соприкосновении с городом — небольшим, приречным, увиденным и прожитым лично, детально, не туристически. Города Дениса Осокина могут составить карту сокровенной России — но в текстах его нет манипуляции мистикой. Города Дениса Осокина не оглянешь оценивающе — они выкручены из мрачной социальной статистики и гонки достопримечательностей. Писатель словно открывает для меня их тайную, только местным, укорененным, да и то очень неспешным и чутким жителям известную сторону — и притом оставляет каждый город отчетливо видимым, здешним: пахнущим, особым на вкус, открывшимся для интимного или ритуального прикосновения.
Таков, к примеру, текст о магии Ветлуги. «В городе ветлуга на реке ветлуга на улице ветлужской — на втором деревянном этаже двухэтажного дома — на первом каменном этаже которого магазин “ветла” где всегда продаются орехи в пакетах и ветлужская минеральная вода» — вот так точно, и в то же время будто сказочными приметами, указан временный адрес рассказчика. Это предновогодний рассказ, тянущий на миниатюрную повесть, разворачивающий краткий период накануне запойных праздников в просторную вертикаль внутреннего поиска. Герой-рассказчик пишет о том, как ему пришлось нарушить свой ежегодный пост, свое декабрьское тихое уединение с рекой, травяным чаем и заквашенной в капусте клюквой, — и почему этот выход за установленные самому себе границы, планы и правила оказался очень правильным и своевременным шагом.
«Ветлуга» — рассказ о любви, где двоих венчает город, его ритуалы на реке, исхоженные улицы, обжитая память. Герой вступает в декабрь, город, рассказ одним — и один — а выходит другим и с подругой. Это история о доверии — не только тому, в кого влюблен, но и пространству и времени, которые вас настоятельно друг другу сватают. Нарушивший предновогодний пост герой совершил главный внутренний подвиг — перешагнул через свое упорство в планах, открылся принятию. И в тексте есть чувство, что город Ветлуга открылся ему в ответ.

Екатерина Лямина. Париж Ги де Мопассана
Я хочу поговорить об одном описании Парижа в романе Ги де Мопассана «Милый друг» (1885). Я прочитала его еще ребенком и потом неоднократно перечитывала. Текст неизменно производил на меня сильнейшее впечатление. Вообще говоря, это сатира: идеологическая, политическая, социальная. При этом написан роман блестяще и очень тонко (горячо рекомендую всем!), а кроме того, строится на одном из беспроигрышных, на мой взгляд, литературных сюжетов — сюжете восхождения. Это история о том, как человек, не одаренный ничем, кроме физической привлекательности и почти животной жажды успеха, его добивается.
Действие почти всего «Милого друга» происходит в Париже, который Мопассан знал превосходно. Описаны кафе, бульвары, театры, редакции газет, фешенебельные особняки новой буржуазии и ветшающие дома прежней элиты. Но меня особенно завораживает финал — настолько, что, оказавшись в Париже и принявшись его подробно изучать, я одним из первых посетила именно то место, которое автор сделал сценой завершения своего текста и одновременно его кульминацией.
В финале главный герой, Жорж Дюруа, бывший военный, а затем журналист, в своих целях ничтоже сумняшеся прибегающий к обману, интригам, шантажу, использованию женщин и мужчин, женится на младшей дочери владельца и главного редактора одной из больших газет, определяющей картину политической жизни Парижа.

В объектив Мопассана церемония венчания молодых людей попадает во всех деталях. Гости на этом празднике жизни — люди большого света, и аристократы, и буржуа. Все они ясным осенним утром (это важно для Мопассана, тонко чувствовавшего связь природы и города) наводняют фешенебельную церковь Мадлен. В русской традиции мы тоже называем этот храм «Мадлен», хотя, конечно же, он посвящен святой Марии Магдалине. Это весьма любопытное здание. Оно находится в очень выигрышном уголке, от которого рукой подать до Оперы, больших бульваров и прочих визитных карточек Парижа. Сама церковь представляет собой греческий периптер с пятьюдесятью двумя колоннами коринфского ордера по всем четырем сторонам, не имеет окон на стенах и освещается только через свод. Строилась она долго: заложена была еще при Людовике XV, а закончена в 1842 году, и проекты по ходу дела менялись. По желанию Наполеона за образец был в итоге взят Maison Carrée — великолепный древнеримский храм в Ниме, на юге Франции. Получилось нечто совершенно несообразное парижской архитектуре, но чрезвычайно импозантное и очень заметное. Еще одна особенность Мадлен состоит в том, что здание поставлено как бы на возвышении, подиуме. И для того, чтобы войти внутрь или выйти на улицу, необходимо преодолеть довольно длинную и крутую парадную лестницу.
Итак, после венчания Жорж Дюруа под руку с молодой женой выходит из церкви и понимает — настал миг его торжества. Он достиг того, чего хотел: богатства, известности, положения в обществе. Из жалкого отставного унтер-офицера он превратился в хозяина жизни. Дюруа стоит на паперти церкви Мадлен, которая замыкает собой перспективу Королевской улицы. Та, в свою очередь, заканчивается у Площади Согласия, а за ней, уже на другом берегу Сены, располагается Бурбонский дворец, где заседает Национальная ассамблея. Весь этот исключительно красивый и вдохновляющий Париж оказывается как бы у ног Дюруа, ведь церковь приподнята над уровнем улицы. Мысленно он как бы сбегает с подиума, проносится по Королевской улице, по площади Согласия, по мосту и оказывается в Ассамблее, прекрасно понимая, что когда-нибудь он будет ее членом. Конечно, Дюруа мерзавец и радоваться за него не хочется, но Мопассан заставляет как-то так звучать финальный аккорд романа, что читателю передается это упоение героя, его неиссякающая энергия и чувство слияния с великолепным городом.
Bonus: Роман Сенчин о важности места в тексте
Описание того места, где происходит действие, одна из важнейших составляющих произведения художественной литературы. Это касается и прозы, и поэзии (вспомним хотя бы «Медный всадник» Пушкина), и драматургии (например, пьесы Александра Островского), и очерка (шестидесятники XIX века).
Есть романы, повести, рассказы, где место действия становится, по сути, главным героем, буквально управляет персонажами. К примеру, «Улисс» Джеймса Джойса, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Преступление и наказание» Достоевского. Если бы действие этих книг происходило в других местах, это были бы другие книги, в них жили бы другие люди.
В нашей современной литературе, к сожалению, нередко действие происходит словно бы в пустоте. Непонятно, большой это город или маленький, северный или южный. Случается, когда герои носят русские имена и фамилии, говорят на русском языке, а вокруг явная заграница (правда, тоже неясно, Европа ли, США, а может, вообще Австралия), и автор не удосуживается объяснить, почему так. И это отталкивает читателя от произведения, рождает недоумение и недоверие.
Я стараюсь, чтобы в моих вещах место действия было определенным, читатель видел, где находятся персонажи. Необязательно, конечно, называть, что это за город или поселок, но создать атмосферу необходимо.
Двадцать лет я прожил в Москве, и, конечно, она присутствует во многих моих текстах. Например, в романе «Информация», повести «Вперед и вверх на севших батарейках», рассказах «Сорокет», «Персен», «Жить, жить», «Поход». Я родился и вырос в Сибири, часто надолго туда уезжаю, и естественно, что сибирские города и деревни становятся местом действия некоторых повестей и рассказов — «Елтышевы», «Минус», «Золотые долины», «Постоянное напряжение»… Были периоды, когда я жил в Ленинграде/Петербурге, и он отображен, например, в повестях «Обратный путь», «Ждем до восьми», «Дочка». Есть вещи, где практически на равных показаны, скажем, Москва, Абакан и Питер — роман «Лед под ногами», или Кызыл и Париж — роман «Дождь в Париже». Сейчас я большую часть времени провожу в Екатеринбурге, и этот город стал местом действия рассказов «Девушка со струной», «В залипе», «Ты меня помнишь?». Мне очень важно, чтобы персонажи моих текстов жили не просто в определенном городе или поселке, а на определенной улице, в определенном доме. Хотя я могу и не называть что это за город или поселок, какой номер дома, как, например, в рассказах «Мы идем в гости» или «Зима», но колорит, топонимические приметы, надеюсь, дают понять читателю, где происходит история.
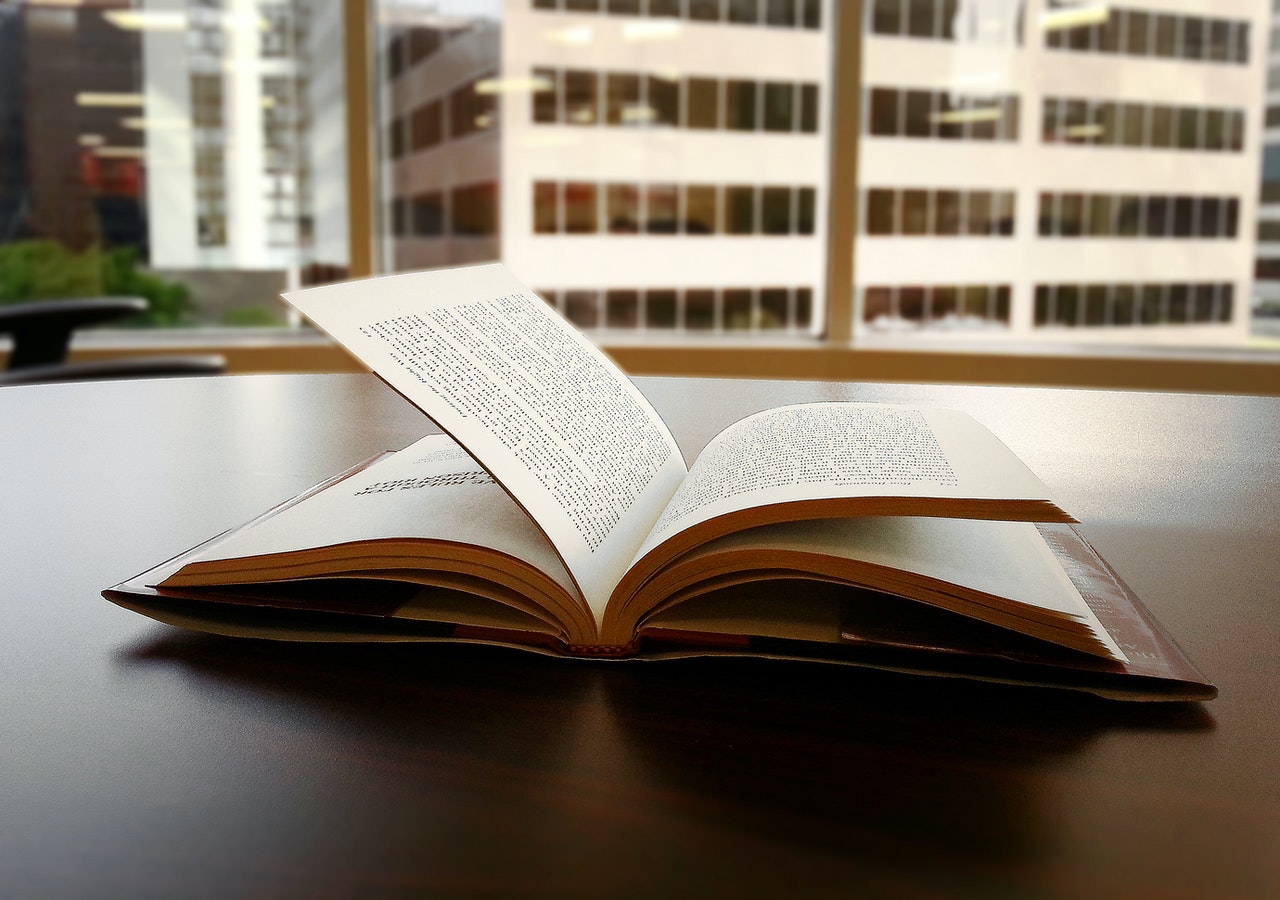
Пять книг о городах и людях
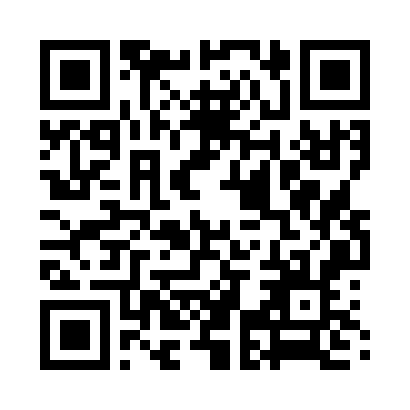
Мы попросили портал Bookmate специально к тематическому номеру сделать подборку книг, в которых города становятся не менее важными персонажами, чем сами герои книг, и раскрывают перед читателями свои тайны. Все эти книги можно найти на сайте проекта, а для наших читателей действует специальное предложение — подписка за 166 рублей в месяц при оплате на год.
Эдуард Лимонов «Это я – Эдичка»
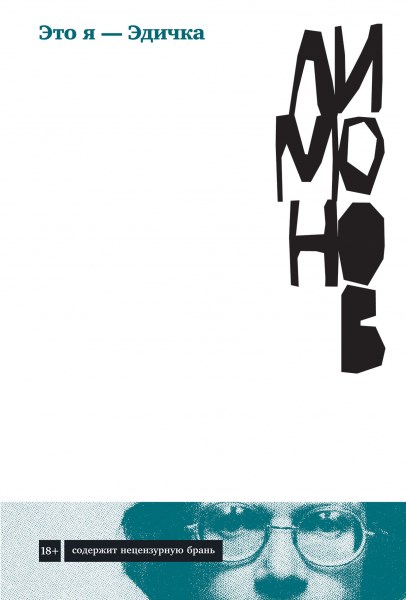
Первый и самый известный, во многом автобиографический роман писателя, поэта и публициста Эдуарда Лимонова, принесший ему мировую популярность. «Это я — Эдичка» и сегодня, спустя четыре десятка лет после первой публикации, остается самым откровенным и скандальным русскоязычным романом. Предельный эпатаж соединяется в нем с литературным мастерством и вкусом. Его герой — молодой поэт — эмигрирует из СССР в Америку вместе с женой, но та вскоре не выдерживает нищенского существования и уходит от него. Оставшись один в огромном городе, Эдичка странствует по Нью-Йорку в поисках любви, работы, забвения, приключений и самого себя.
Гайто Газданов «Вечер у Клэр. Полет. Ночные дороги» (сборник)
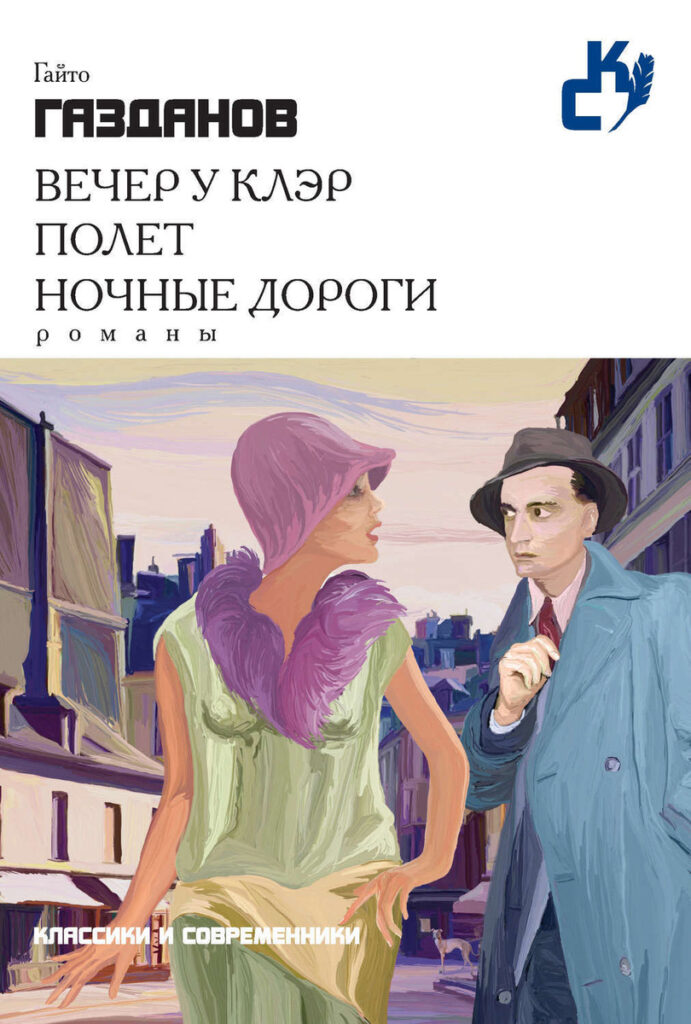
«Клэр была больна; я просиживал у нее целые вечера и, уходя, всякий раз неизменно опаздывал к последнему поезду метрополитена и шел потом пешком с улицы Raynouard на площадь St. Michel, возле которой я жил. Я проходил мимо конюшен Ecole Militaire; оттуда слышался звон цепей, на которых были привязаны лошади, и густой конский запах, столь необычный для Парижа; потом я шагал по длинной и узкой улице Babylone, и в конце этой улицы в витрине фотографии, в неверном свете далеких фонарей, на меня глядело лицо знаменитого писателя, все составленное из наклонных плоскостей; всезнающие глаза под роговыми европейскими очками провожали меня полквартала — до тех пор, пока я не пересекал черную сверкающую полосу бульвара Raspail. Я добирался, наконец, до своей гостиницы…»
Элена Ферранте «Моя гениальная подруга»
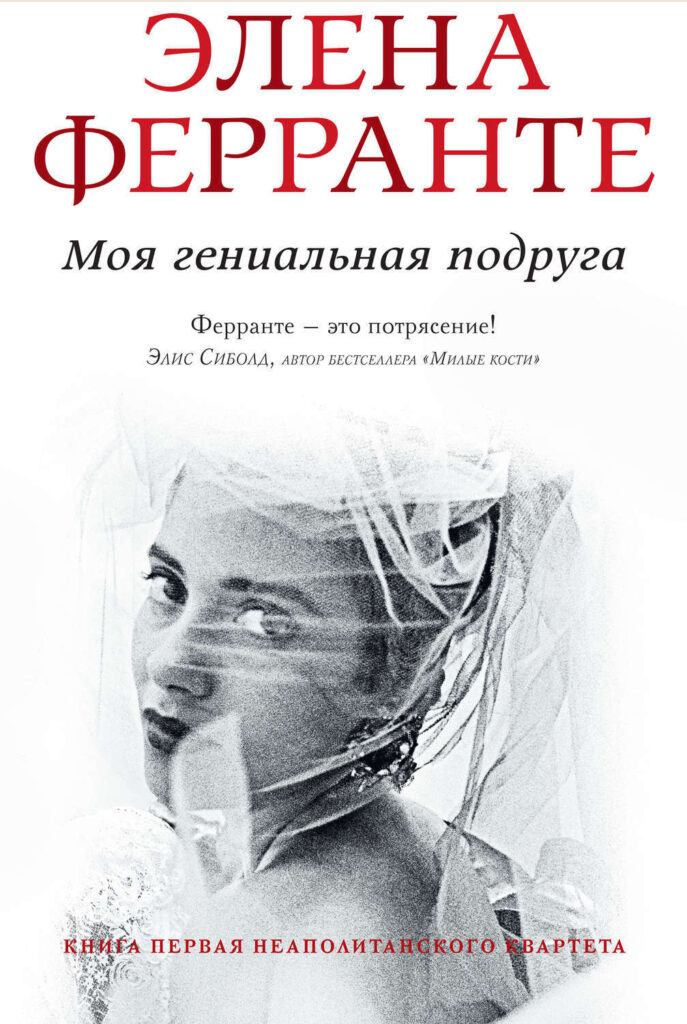
Первый из четырех романов уже ставшего культовым во всем мире «неаполитанского цикла» Элены Ферранте — это история двух подруг, Лену и Лилы, живущих в 50-е годы в одном из бедных кварталов Неаполя. Их детство и юность проходят на суровых улицах, где девочки учатся во всех обстоятельствах полагаться только друг на друга. Идут годы. Пути Лену и Лилы то расходятся, то сходятся вновь, но они остаются лучшими подругами — такими, когда жизнь одной отражается и преломляется в судьбе другой.
Через историю Лилы и Лену Ферранте рассказывает о драматических изменениях в жизни квартала, города, страны — от фашизма и господства мафии до расцвета коммунистического движения, и о том, как эти изменения сказываются на отношениях между героинями, незабываемыми Лену и Лилой.
Андре Асиман «Восемь белых ночей»
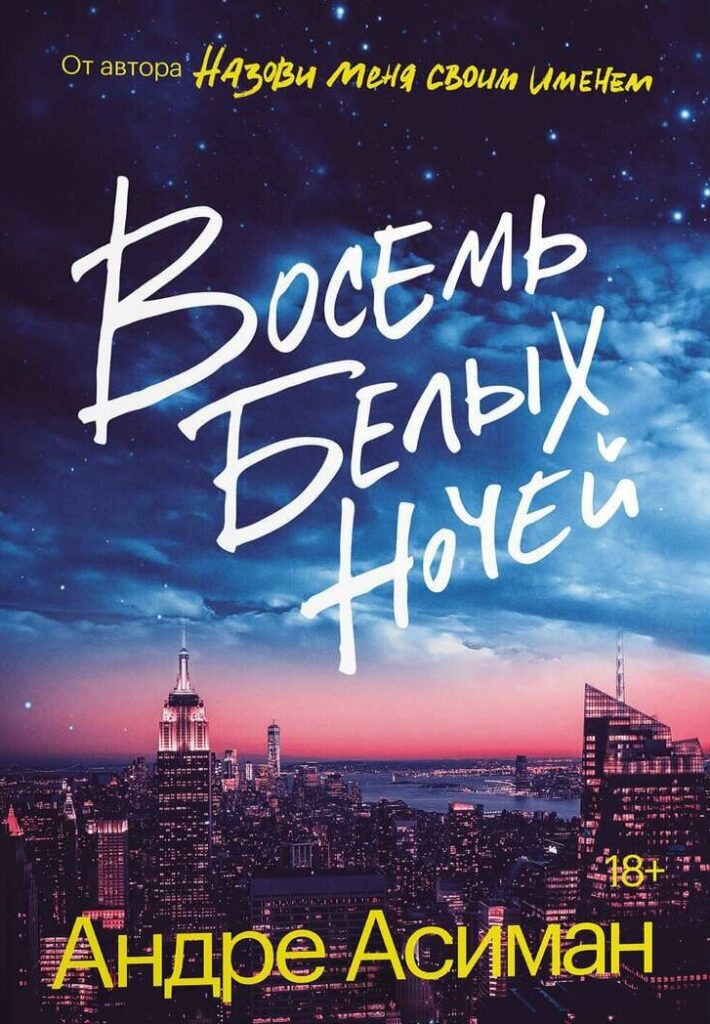
«Восемь белых ночей» — романтическая история о встрече в канун Рождества и любви с первого взгляда. Молодым людям, познакомившимся на вечеринке, суждено провести вместе восемь ночей, в ходе которых они то сближаются, то отдаляются, пытаясь понять свои истинные чувства в отношении друг друга. Мастерски исследуя тонкости человеческой натуры, Асиман вновь доказывает, что его по праву называют одним из главных американских романистов современности.
«Эта волнительная история представляет собой обжигающий любовный роман — войну полов между двумя молодыми ньюйоркцами… Невероятно напряженная и искренняя книга…» — Publishers Weekly.
Владимир Гиляровский «Мои скитания»
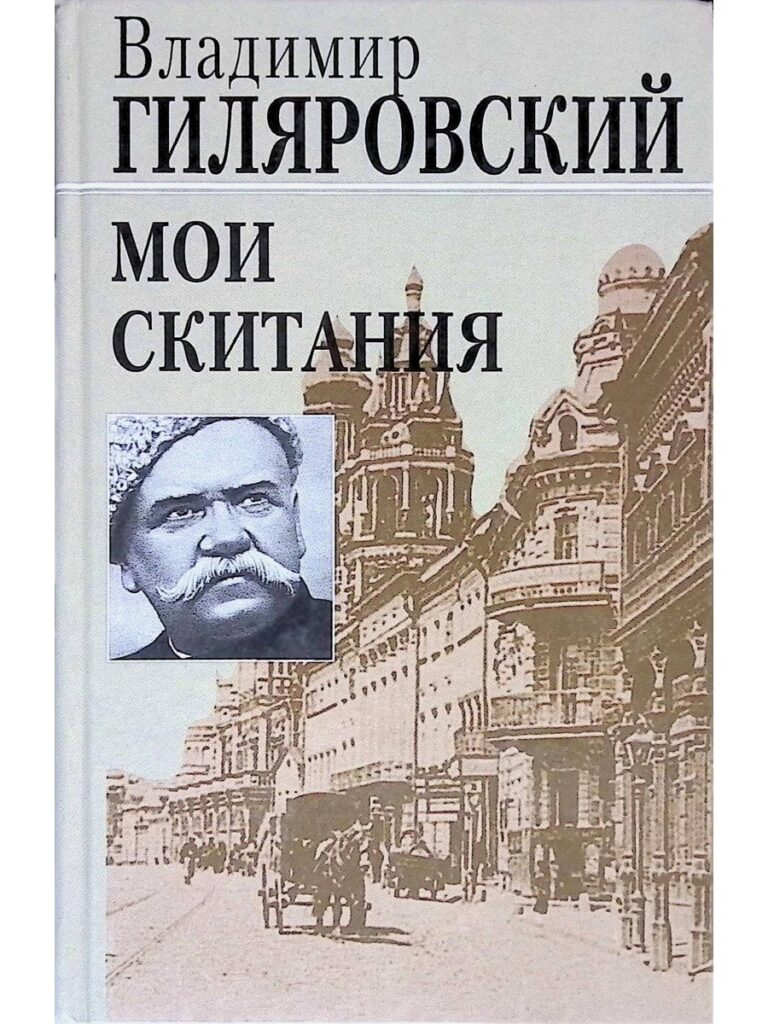
Владимир Алексеевич Гиляровский — явление в истории русской культуры уникальное. Его жизнь была так богата событиями и приключениями, а личность так привлекательна, что еще при жизни он стал фигурой легендарной. Один из самых знаменитых репортеров своего времени, талантливый беллетрист, поэт, он оставил и удивительные книги воспоминаний, давно ставшие классикой мемуарного жанра.
Наряду с «Моими скитаниями» — а эту книгу Гиляровский называл «самой любимой», — где с необыкновенной живостью и непосредственностью описаны молодые годы будущего писателя, успевшего побывать к тридцати годам и бурлаком, и крючником, и рабочим, и табунщиком, и актером, и солдатом, и репортером, — в книгу вошли избранные главы из книг «Люди театра» и «Друзья и встречи».
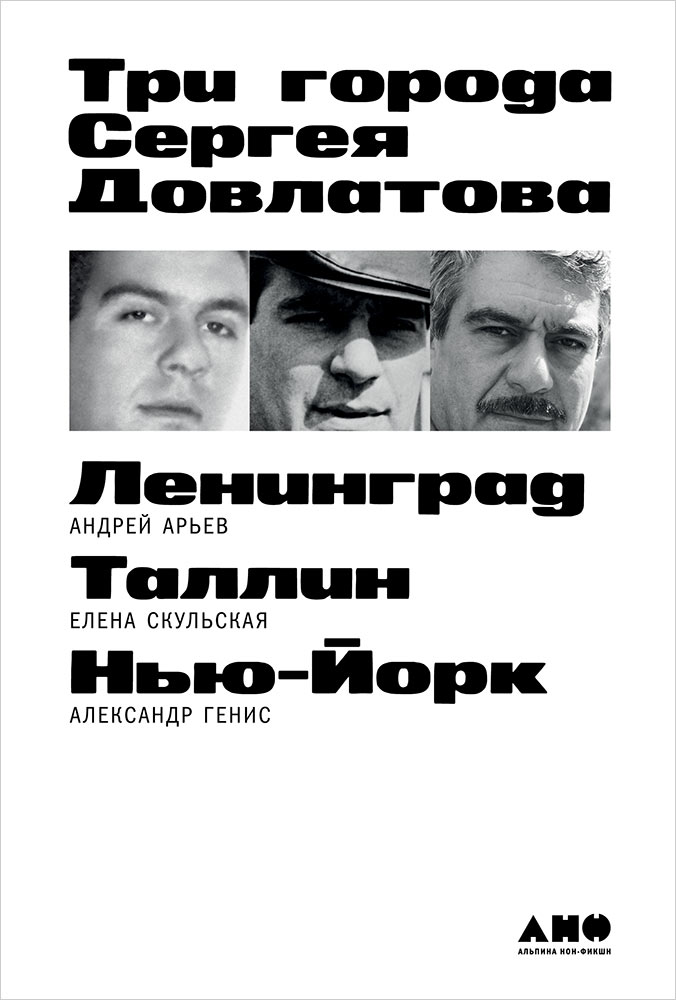
Три города Сергея Довлатова
В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга «Три города Сергей Довлатова», которая под одной обложкой собрала воспоминания Андрея Арьева, Елены Скульской и Александра Гениса. Литературная судьба Довлатова определена, по его словам, тремя городами: Ленинградом, Таллином и Нью-Йорком. В первом из них он обрек себя на писательскую судьбу, во втором надеялся утвердить себя в писательском звании, в третьем добился признания, обратной волной принесшего его книги к отеческим берегам. В каждом из этих городов остались друзья, их мысли и воспоминания об ушедшем друге и вошли в издание.
К 80-летию Сергея Довлатова, которое мы отмечаем в этом сентябре, «Пашня» представляем фрагмент книги, в котором Александр Генис рассказывает о жизни издательства «Новый американец» в Нью-Йорке.
7
Стоит еще вспомнить, что «Новый американец» поженил Довлатова с Нью-Йорком. Газета началась с визитных карточек, потому что придумавшему газету Боре Меттеру сказали, что главное в бизнесе — адрес.
— Location, location, location, — объяснил ему в лифте сосед-бизнесмен — запомни, поц, в Америке место красит человека.
Соседу нельзя было не верить. Он владел одной четвертью лавки, где продавались кабачковая икра, шпроты и «Новое русское слово».
В прошлой жизни Боря был моряком загранплавания, что необычно для еврея, и родственником известного ленинградского писателя, что уже не так удивительно. Поверив соседу из лифта, Меттер выбрал самый престижный после Белого дома адрес в Америке и снял там офис. На визитке стояло: Таймс-сквер, 1.
Отсюда поднималась неоновая часть Бродвея. За углом открывалась отданная тогда пороку, а теперь Диснею легендарная 42-я стрит. Сам треугольный небоскреб умеренной высоты, но не амбиций служил витриной капитализма. На фасаде мелькала реклама, призывающая купить пиво, автомобиль и вступить в армию. Бегущая строка цитировала биржевые индексы и делилась свежими новостями 1980 года: Иран, Картер, заложники, нашедшаяся кошка. 31 декабря с крыши спускался светящийся шар, отмечающий смену каждого года.
Считая эту достопримечательность большой, как все в Америке, афишной тумбой, я даже не знал, что она внутри полая, пока не попал в первую редакцию «Нового американца». Она размещалась в чулане без окон. Довлатов в нее влезал только сидя. Теснота не мешала пить, курить и ссориться. Собственно, нас с Вайлем для того и пригласили, чтобы разрядить обстановку. Первые номера нового еженедельника не оправдали надежд, в чем обвиняли друг друга отцы-основатели.
— Вы же, — зазывали они нас, — беспринципные циники, без царя в голове, вам лишь бы хиханьки да хаханьки, и нашей газете без таких не обойтись.
— Какие есть, — согласились мы, — и пошли к Седых заявлять об уходе.
Весть об измене он принял панически. Из «Нового русского слова» никто не уходил — ни живым, ни по собственному желанию. Посерев от обиды, он взял себя в руки и попросил ему тоже подыскать место в редакции конкурентов.
Сменив с восторгом и не раздумывая постоянную службу на редко оплачиваемую работу, мы вырвались на волю и остались без денег. Их, впрочем, хватило, чтобы отметить шампанским первый вольный понедельник в пол-одиннадцатого утра. Разлив бутылку прямо на бродвейском тротуаре, мы чокнулись пластмассовыми стаканчиками за наконец обретенную в Америке свободу. Она отличалась от русского безделья тем, что сулила труд по любви без зарплаты. Эта целомудренная утопия пьянила больше шипучего, и мы весь день строили ослепительные планы на будущее — до тех пор, пока жены не вернулись с работы.
Изрядно забегая вперед, я должен с благодарностью признать тот понедельник краеугольным. С того дня я никогда не служил и всю жизнь делал, что люблю и как хотел, точнее — как мог. Мне повезло не изменить свободе, о которой говорил пышный девиз «Нового американца», напечатанный там, где в советских газетах пролетариев призывали объединяться.
— Мы выбрали свободу, — убеждал читателей придумавший это лозунг Довлатов, — и теперь наше счастье у нас в руках.
Первая газета Третьей волны оказалась в кризисе, едва успев выйти в свет. От «Нового русского слова» она отличалась только форматом, предпочитая остальным сюжетам все те же приключения кремлевских старцев. Чтобы избавиться от них чужими руками, нас вызвали из тыла врага и предложили любой пост на выбор. Как я уже говорил, мы согласились на должность главного редактора — для Довлатова.
Сергей отвел себе церемониальные функции: мирил и ссорил сотрудников, вел изнурительные переговоры со всеми и обо всем, а главное — представлял газету в сношениях с внешним миром, прежде всего на Брайтон-Бич, где его безмерно уважали за виртуозное владение феней.
Момент истины наступал раз в неделю на планерке, когда Довлатов обозревал вышедший номер так, что у всех горели уши.
— Что ты, собственно говоря, имел в виду, — ласково спрашивал Сергей поэта, педагога и массажиста Гришу Рыскина, — когда написал «кровавая рука крайма душит Нью-Йорк, по которому слоняются бездомные в чесуче»?
Нам доставалось наравне с другими, особенно за статью «Простаки в мире секса».
— Смесь напора с лицемерием, — говорил Сергей, — как будто этот опус написали Портос с Арамисом.
Никто не смел обижаться, потому что в редакции царил азарт взаимного издевательства, который мы же и насаждали. У нас не было ничего святого, и больше всего мы боялись того, что Аксенов (пиковый король в нашей колоде) называл «звериной серьезностью». Перегибая палку, мы считали смех всему мерой, еще не зная, что шутки могут стать нервным тиком и обернуться стёбом. Сергей это предвидел. Он ненавидел профессиональных юмористов и боялся, что его к ним причислят.
— Ирония и жалость, как у Хемингуэя, — одергивал он нас без особого толку.
В принципе ему было все равно, о чем писали в «Новом американце», лишь бы чисто, ясно, уместно, с симпатией к окружающим и со скепсисом к себе. Отделавшись от антисоветского официоза, не менее предсказуемого, чем советский, не впав в панибратство, научившись избегать пафоса, сдержанно шутить и видеть в читателе равного, «Новый американец» расцвел на свободе. Выяснилось, что она скрывалась в стиле, добывалась в словаре и наряжалась простым синтаксисом. Раньше никому не приходило в голову, что устный язык может стать письменным без мата.
По-моему, Довлатов, заново открывший «средний штиль» Ломоносова, и сам не заметил совершённой им революции. Сергей просто физически не выносил, когда пишут «пах» вместо «пахнул», а за «представлять из себя», мог, как я выяснил, преследовать неделями. Возделывая и пропалывая наш грамматический садик, Довлатов расчистил почву для всех. В «Новом американце» все стали взыскательными читателями других и настороженными писателями для себя. Боясь позора, мы, готовые отвечать за каждое лишнее, неточное или скучное слово, писали, озираясь, как в тылу врага.
Самым симпатичным в редакции был художник Длугий. Ученик нонконформиста Немухина, рисовавшего игральные карты, Виталий из уважения к учителю ограничивал себя костями домино. Когда его пригласили на выставку в Латинскую Америку, мой брат, писавший, кстати сказать, в газету под псевдонимом Тетя Сарра, посоветовал Длугому послать картины не самолетом, а телеграфом: дубль-два, пять-один, четыре-пусто.
Рядом с Довлатовым малогабаритный Виталька казался щенком и был таким же задиристым.
— Я — не Рембрандт, — говорил он в ответ на любые претензии, — я — Длугий.
Это не помогло, и Сергей его чуть не задушил после уже упомянутого случая, когда в разгар борьбы за свободу профсоюза «Солидарность» Длугий раскрасил польский флаг зеленой и коричневой краской.
— Почему же это флаг у нас на обложке не краснобелый? — еще сдерживаясь, спросил Сергей.
— Это — условные цвета, — заносчиво ответил Длугий, — настоящее искусство не унижается до копирования действительности.
Он не успел договорить, как мы с Петей повисли на Довлатове, зная о его отношении к авангарду.
К счастью, оба были отходчивы. Обложку переделали, и в знак примирения Сергей подарил Длугому свою книжку с автографом:
«Люблю тебя, Виталий, — вывел Довлатов, — от пейс до гениталий».
8
«Новый американец» удался: нас читали, любили, приглашали в гости, многие даже подписывались. Купаясь в счастье, мы жили в долг и впроголодь, ибо чем лучше шли дела, тем меньше оставалось денег. Решая парадокс, Сергей, который с первого дня трудился в газете даром, пришел к выводу, что нас может спасти профессиональный менеджер.
— В нашей газете, — объявил Довлатов на чрезвычайном общем собрании, — вдоволь журналистов, художников, критиков, поэтов и фотографов, но никто не умеет считать деньги.
— А что считать-то? — спросил сребролюбивый Рыскин, но его зашикали.
— Мы — дети социализма, — сокрушался Сергей, — по-нашему, лучше украсть, чем продать. Газете нужен настоящий хищник-эксплуататор, который сумел бы нажиться на наших талантах.
Каждый представлял его себе по-своему. Довлатов заранее благоговел, я — ненавидел.
Первый пришел в редакцию своим ходом. Полный, с пшеничными, как у модного тогда Леха Валенсы, усами, он, обладая опытом в крупном американском бизнесе и не нуждаясь в прибыли, согласился помочь исключительно из жалости.
— Я буду продавать перочинные ножи, и с каждого газета получит 5% практически даром — за две полосы рекламы. Представляете, сколько в год набежит?
Мы не представляли, но боялись спросить, чтобы не показаться идиотами. Не выдержав затянувшегося молчания, я сменил тему.
— Вы читали Джойса в оригинале?
— Ну а сам-то как думаешь? — сказал он, снисходительно улыбаясь.
Через неделю усатый бизнесмен исчез, и мы еще долго получали письма с просьбой вернуть деньги за оплаченные, но так и не доставленные ножики. Сергей всем вежливо отвечал, однако и это не отучило его искать богатых.
Следующим менеджером был юный американец, только что закончивший престижный Дартмутский колледж по специальности «Макроэкономика».
— Говорят, он хорошо играет в футбол, — сказал порекомендовавший его профессор Лосев, — жаль, что не в наш.
Вникнув в ситуацию, юноша нашел решение:
— Как показывает экономический анализ, причина дефицита кроется в том, что ваши доходы меньше расходов, и это значит, что надо попросту сократить последние, — вывел он и перестал платить типографии.
Когда газета не вышла в срок, этот менеджер тоже исчез.
Третьего Боре Меттеру привел сосед, с которым он ездил в лифте. Тщедушный молодой человек в трениках сразу взял быка за рога.
— Я спасу газету, — пообещал он, — надо, чтобы Бунину было где печататься.
— Но Бунин умер, — сказали мы.
— Какое горе! — воскликнул менеджер.
Этот не успел навредить, потому что наш рекламный агент Миша Бланк спустил его с лестницы, узнав в нем дилера, продавшего ему автомобиль без мотора.
Довлатов, однако, не потерял веру в большой бизнес и на каждую планерку приводил новых воротил.
Один, с лишаем, велел нам писать с огоньком, другой требовал выгнать Бахчаняна, третий предлагал продать газету хасидам, четвертый — баптистам, пятый пообещал взять все расходы на себя и попросил жетон для метро на обратную дорогу. Самым обнадеживающим считался крупный биржевой маклер, но ему грозил долгий тюремный срок.
Все они смотрели на нас сверху вниз, видя, что мы готовы работать даром — как каторжники, боявшиеся, что у них отберут тачку.
Когда газета отчаялась разбогатеть, мы согласились обеднеть и ввели мораторий на собственные зарплаты, приучившись обедать в гостях, в том числе у моих родителей. Но и за накрытым столом редакция продолжала заседать.
— Чтобы расшевелить читателя, — говорил Довлатов, — газете нужна склока.
— Полемика? — переспросил я.
— Тоже годится, — одобрил Сергей, — но склока лучше. В сущности, он был прав. Всякая газета сильна оппозицией, даже советская, в которой мы завистливо читали материалы из рубрики «Их нравы». Именно там задолго до опытов Комара и Меламида, писавших картины в соавторстве с животными, я прочел, что на американскую выставку абстрактного искусства попал холст, созданный одноглазым попугаем. Я запомнил это, потому что сочувствовал птице — у мамы тоже не было глаза, и она часто промахивалась, накрывая чайник крышкой.
— Автор заметки намекает, — решил я тогда, — что, будь у птицы оба глаза, она рисовала бы, как Репин.
Нам тоже нужен был такой «попугай», и им стал Солженицын. Мы все, конечно, были его поклонниками. Собственно, своим «Архипелагом» Солженицын и затащил нас в Америку, убедив на своем примере в неисправимости отечества. Однако в Новом Свете он нас презирал и в упор не видел.
— Пока мы пируем на тучных полях Америки, — означало его молчание, — он, Солженицын, грызет горький хлеб изгнания.
Неудивительно, что снимок Солженицына в шортах, игравшего в теннис на своем корте в Вермонте, вызывал любопытство, граничащее со злорадством и порождающее его.
Тем не менее Солженицыным восхищались все, либеральная часть эмиграции — с оговорками, Бахчанян — без них.
— Всеми правдами и неправдами, — говорил он, — жить не по лжи.
Поэт и царь в одном лице, Солженицын заменял в эмиграции Брежнева, тоже порождая анекдоты. Так, когда Бродскому дали Нобелевскую премию, Солженицын сдержанно одобрил Стокгольм, но посоветовал поэту следить за сокровенной чистотой русской речи.
— Чья бы корова мычала, — по утверждению молвы, ответил Бродский.
Скрывшись в Вермонте, Солженицын интриговал недоступностью. Единственный русский писатель, которого никто не видел, будоражил фантазию и провоцировал нашу газету на кощунственные публикации. Жалуясь на них, апологеты Солженицына писали нам с экивоками: «Милостивые господа, которые с усердием, достойным лучшего применения…»
Мы отбрехивались, полемика тлела, скандал разрастался, и на планерках цитировали Джерома: «Большие собаки дрались с большими собаками, маленькие — с маленькими, в промежутках кусая больших за ноги».
Довлатов от всего этого млел, и газета с наслаждением печатала поношения в свой адрес, вызывая восхищение терпимостью.
— Школа демократии, — говорили друзья.
— Либеральная клоака, — поправляли их враги.
— Главное, — лицемерно примирял всех Довлатов, — чтобы не было равнодушных.
Их действительно не было. «Новый американец» возмущал старую эмиграцию тем, что пользовался большевистским языком («сардельки — это маленькие сардинки?»). Евреи жаловались, что о них мало пишут, остальные — что много. И все укоряли нас непростительным легкомыслием, столь неуместным, когда родины (старая, новая и историческая) обливаются кровью.
— Как, как накормить Польшу?! — спрашивал Борю Меттера все тот же сосед в лифте, жаловавшийся на бесчувственность «Нового американца» до тех пор, пока на общем собрании Боре не запретили пользоваться лифтом.
Упоенные дерзостью и разгоряченные голодом, мы наслаждались свободой слова. Читателям нравилось следить за газетными склоками, в которые мы втягивали друг друга, публично выясняя отношения, в том числе — с Довлатовым.
— Считаешь ли ты разумным, — вкрадчиво спрашивали мы Сергея, — выслать иранских студентов из США в ответ на захват американских дипломатов в Тегеране?
— Конечно, но лучше посадить, — не задумываясь, говорил Довлатов, и мы печатали это в газете как доказательство дремучего правосознания ее главного редактора.
Довлатов отвечал тем же, и читатели, наблюдая из номера в номер, как мы валяем дурака, привыкали считать газету родной и нужной. Мы убедились в этом, когда «Новому американцу» исполнился год. Отмечая юбилей, редакция сняла в Бруклине ангар, куда набилось больше тысячи поклонников. Выпивая и закусывая, они смотрели на сцену, где Довлатов проводил открытую планерку. Это было посильнее «Тома Сойера»: зрители платили не за то, чтобы красить забор, а за возможность наблюдать, как это делают другие.
Уникальный коммерческий успех этой акции привел к мысли заменить бумажную газету устной, упразднив расходы на типографию. Но к тому времени в газете скопилось слишком много писателей, которые не хотели менять профессию.

2018 год. Лето
2018 год. Лето.
В Москве — Чемпионат мира по футболу.
Вечер. Но что нам — одиночество, когда есть WhatsApp…
— …Привет, Солнце!
— Привет, Родная, как ты?
Девушка на том конце пожала плечами:
— В порядке. Утром в Озёрки ездила. Всё решили.
— А с домом что? — спросил он.
— Снесли. Тетя Зина сама мужиков наняла. Даже деньги остались, что я переводила… Я уже очень соскучилась!..
— Я тоже скучаю, Малыш. Ничего не могу без тебя делать. Ты когда по делам уезжаешь, в будни — работа. А выходные — это ужас. Шляюсь по городу. Весь потерянный.
— А ты найдись, — посоветовала девушка.
— Угу, «найдись». Я вот тебе сейчас расскажу, что вчера делал.
— Вся внимание.
Но парень был серьезен и печален:
— Приехал я в Александровский Сад. А там никого, одни гвардейцы. Вышел — на Манежной оживление. А на Красной — ты себе не представляешь! До Василия Блаженного — всюду группы людей, компании. Всех народов. С этими… с бумбоксами. С дудками футбольными. Танцуют, машут флагами, хохочут. Никто никого не трогает.
Я свернул в переулок, ну, сразу перед ГУМом. Там вообще — Фестиваль Молодежи и Студентов, из 57-го года.
Девушка не любила и не понимала советских сравнений:
— А в переводе на нормальный язык? Без бюста Ленина и красной дорожки.
Парень хотел поворчать, но передумал:
— Там в узком переулке толпы людей со всего мира под светящимися гирляндами… При этом — трезвые, радостные, доброжелательные. Общаются, смеются, жуют что-то, пьют пепси…
— Как же мы без пепси.
Не слыша иронии, он продолжал:
— …понимаешь, никакой агрессии. Какое-то единение, чувство свободы. Коммунизм братьев Стругацких. В самом конце переулка — смуглые ребята головами перебрасывают мяч. Прямо напротив Большого Дома на Лубянке. Они — все вместе, а я среди них в полном одиночестве…
— И что в итоге, или это еще не конец?
— Потом я доехал на метро до Кропоткинской, перешел мост за Храмом Христа. В открытых барах, в кафешках на набережной люди одержимы ФУТБОЛОМ. Голоса комментатором слышны за километр. Дошел я до Дома на Набережной, поднялся на мост и перешел обратно на сторону Библиотеки Ленина.
Короче, когда вернёшься, я покажу тебе Москву Моего Одиночества.
Девушка слушала своего мужчину одновременно как любимого и как ребёнка:
— Очень красиво! Вот именно это и можно было записать для рассказа. А не прикидываться несчастным.
— Ну тебя!..
— А я тебя, между прочим, люблю. Ты моя Рыба!
— Я тоже тебя люблю, Милая…
— Не переживай, я уже скоро приеду! Доброй ночи, Солнце!
— Доброй ночи, Родная…

Et Cetera
Мне нужно петь о Москве, а не писать о ней текст. Петь, как вот эти ребята, сидящие на лавочках у театра «Et Cetera». Что они здесь делают? Ждут своей очереди прослушаться. На кону — желанное попадание в труппу театра, хоть какая-то стабильность после тепличных условий института. Они отходят в сторону парами или трио, суетно повторяют текст драматических отрывков. Они крутят в руках реквизит: швабры, ведра, книги. Открывают и закрывают кофры с отглаженными костюмами. После песни Магомаева о Москве, вселяющей хоть какую-то надежду, они переходят на «Без шансов» Земфиры. Они готовы к любому исходу, впереди долгий рейд по театрам столицы. Эт сетера, эт сетера. Сегодня тебя без объяснений отфутболят, завтра тебе скажут «спасибо, достаточно» на второй минуте отрывка, когда ты даже не успел произнести первую реплику, а вот послезавтра тебя точно куда-нибудь возьмут. Но будет ли тебе это надо? Будет, будет! — отвечает восторженный желторотый выпускник. Когда расхочешь, тогда всё и будет, — говорю я со знанием дела. — У меня было так. Хотя при чём тут я?
Одним из первых театров, который ответил мне на резюме, был детский музыкальный театр «Экспромт». Близость театра к любимому «Современнику» и сама личность художественного руководителя — Людмилы Ивановой, которая к тому моменту, правда, почти не появлялась в театре из-за болезни, но оставалась его гарантом — всё это окрыляло меня, и я шёл, скорее летел в «Экспромт» с большой надеждой. Там были нужны поющие мальчики, и я должен был прийтись впору. Помню, мы очень любезно поговорили с заведующей труппой, и она попросила меня пройти на сцену «Экспромта». Оказавшись на подмостках, я сразу понял, что мне здесь не работать никогда. Фактура-дура мешает. Со своим немалым ростом я почти упирался в потолок. Один легкий прыжок — и всё, второй этаж. Зав.труппой мгновенно погрустнела, а я с улыбкой, которую мне теперь уже не повторить, сказал ей, что готов играть роли на полусогнутых. Котов, Зайцев, Кузнечиков, да хоть куриную ножку в избушке Бабы-Яги. Я ужмусь, скукожусь, только возьмите. Зав.труппой ответила: «Мы вам перезвоним», и я ушёл, и, конечно, очень ждал. Ждал ответа от «Экспромта», как и от других театров, в чьих двери я стучался и сбивал костяшки в кровь. В один театр, к моему большому удивлению, меня тогда взяли, но через месяц умер худрук и все прежние счета обнулились. В другом театре я должен был завоевать сердца приёмной комиссии за три минуты и ни секундой больше. Они засекали время на секундомере, и когда оно кончалось, сухо констатировали — «прошли до-о-олгие три минуты, а вы нас, увы, не зацепили». А вы меня, увы, да. До сих пор помню.
Было ещё одно прослушивание в детском театрике, находящемся в подвале. Оно завершилось успешно, и я даже уместился на крошке-сцене. За то время, что я уже был в Москве, я приобрёл этот важный навык — ужиматься до нужных размеров. Худрук, почтенная дама, сказала как отрезала: «Трудовую на стол». Я испугался этой фразы, нарисовав в своей голове перспективы каторжной работы в том месте, в котором я не пожелаю работать даже врагу. Так почему же я всё равно шёл туда и пробовал? Я заколебал худрука расспросами о количестве спектаклей в месяц, о ролях, которые мне светят, но не греют, о графике репетиций. В помещении театра ядрено пахло кошачьей мочой, и диалог худрука и взыскательного молодого артиста приобретал садомазохистский характер. Наконец худрук оторвала палку от пола, указала мне на дверь и процедила:
— Достоевский, уходи отсюда.
— Почему Достоевский? — поспешил я уточнить. Вдруг она увидела во мне черты Алёши Карамазова, которого я так хотел сыграть, вдруг разглядела тот надлом и скрытую боль за всех живущих на земле.
— Потому что достал. Вот поэтому, — ответила худрук. Просто и доходчиво.
А вот и ребята вернулись. Прослушались. Это быстро и небольно, как укол, вот только потом ноет. И к этому нельзя привыкнуть. Лица выпускников успокоились, стали настоящими, движения осмысленными, без прежней суеты и наигрыша. Вот только жаль, что песни больше не звучат, гитары повисли на сутулых плечах, без шанса и без варианта.
Сегодня Москва о тебе не вспомнила, отвернулась, не заметила твоего провала, а может быть, просто сделала вид, что не заметила. За это мы ее и любим, мучительно, по-достоевски. За ту радость редких поцелуев, за то, что обещала перезвонить и всё тянет и тянет.

Terra Incognita
Стоял жаркий июньский полдень. Мелкий сор с редкими вкраплениями тополиного пуха, поднимаемый порывами ветра, как будто убегал от кого-то по потрескавшейся мостовой. Спустя несколько часов точно так же по этому бульвару будут разбегаться люди, но Антон ещё об этом не знал.
Он был в Москве первый раз, хотя вся русская история и литература, казалось, нашептывала ему обратное, невольно ставя его в положение блудного сына. Повинившись перед древней столицей, Антон, едва сойдя с утреннего поезда, отправился гулять (во искупление грехов — без завтрака).
С трудом скрутив внутренний тумблер снобизма, сидящий в душе каждого петербуржца, Антон впитывал новый город как губка на скамейке зеленого поэта. Москва казалась огромным раскинувшимся полотном, на которое невидимый художник сверху бросает случайные краски. На узких переулках толпились скучающие советские блоки, булгаковские особнячки, зеркальные новоделы, пряничные церквушки, ларьки без эпитета. Улицы загибались, изворачивалась и внезапно кончались — как будто словом «надоело». Бульвары очерчивали немыслимые комбинации: победивший линейку циркуль выводил кривой круг. В ритме несущейся подземки и в ней существующих людей было что-то истово-жреческое, и даже сбившиеся в стаи голуби, казалось, совершали какой-то тайный ритуал, как крестящиеся на мавзолей бабки.
Гулять по аллеям было особенно хорошо: снизу шуршал гравий, с боков неслись машины, сверху душили липы. Антон шел и мурлыкал что-то из полузабытого а-я-иду-шагающего детства, когда даже бесогон ещё был влюбленным юношей. Вот так идти, беззаботно размахивать руками, жмуриться на солнце — и не думать, что начнется здесь через каких-нибудь несколько часов…
Устроившись в маленьком кафе с видом на улицу, он даже во время еды старался не отрываться от жизни столицы — смотрел да запоминал. За соседним столиком сидело двое молодых мужчин, которые, кажется, тоже рассуждали про город. Антон начал непроизвольно прислушиваться.
— Хорошо, что летом, — говорил парень, сидевший к Антону спиной, было видно только, как он все время нервно теребит пальцами застежку борсетки, — не надо мерзнуть целый день, по жиже бултыхаться. Да и место приятное — как на прогулку, под деревьями. Только, боюсь, как бы не было на площади чего, как думаешь?
— На Пушке тесно, огорожено всё, так что двинутся по Страстному к Трубной, — ответил мужчина постарше в клетчатой рубашке. — А чем Трубная хороша? Тем, что маленькая, с трех сторон окружена забором. Там мы их, голубчиков, и прижмем.
— А если они вверх пойдут, — парень мотнул головой, — к Садовому кольцу?
— Эх, не понять вам, тверским, сущностную сторону Москвы, её, так сказать, фи-ло-со-фию. — Клетчатый даже прицокнул от неодобрительности. — Тут ведь как оно строится, драматургия, понимаешь? Вот в центре Кремль, а от него, как в воду камень кинул — и круги пошли. Улицы до Тверской — Моховая, Театральная, Лубянка, конечно, — это первый круг, потом бульварное кольцо, потом Садовое, ну и так далее, вплоть до МКАДа. Смекаешь, в чем тут заковыка?
— Смутно. — Судя по теребящим пальцам, не смекал вовсе.
— А в том… — Клетчатый поднял свой один, уверенный палец. — Нету им резона в сторону от Кремля двигаться. Драматургии не выйдет. Тут чем ближе к центру, от которого круги идут, тем воодушевления больше. Как на войне: взял редут — сдал редут, снова штурм, а здесь уж мы тут как тут. Главное не забудь, «похорошела Москва».
— Ладно болтать-то. — Борсеточный оглянулся и чиркнул глазами по Антону. — Пошли.
Спустя два часа Антон вместе с растянувшейся по бульвару толпой подходил к Трубной площади. Москва уже не была для него терра инкогнита. Он обладал тайным знанием. Драматургией.
Бутылочное горлышко перехода засасывало толпу. Пространство сжималось.
Вскочив на каменный парапет, он успел только крикнуть: «Уходите, это ловушка!», как два мужика — один с борсеткой, а другой в клетчатой рубашке, отделившись от забора, схватили его за руки и потащили к стоящим за оцеплением автобусам. Последним, что слышал Антон, перед тем как его ударили головой об асфальт, были два слова, которые Клетчатый кинул кому-то в погонах: «Похорошела Москва».

Белые двери с облупленной краской
Белые двери с облупленной краской,
Тянет сквозь щели, ангелы в масках
Возле прибывших кружат хороводом —
Что вам запомнилось перед уходом?
Анна — поезд, дворняга — космос,
Неизвестный, по виду лет сорок — хоспис…
Старый гроссбух в истлевшей обложке,
Пятна вина и хлебные крошки,
Икеевский стол под стопками бланков.
Тихо вещает ангел в гражданском —
Номер такой-то? Подпись напротив,
Дату и время — на обороте.
Ангел размашисто лепит штампы,
По коридору с мигающей лампой
Ангел в военном уводит под руку —
Дальше навеки и дальше разлука,
Дальше — все кафелем белым и светом,
Дворняга бежит по привычке следом…
В конце коридора не будет Бога.
А землю опять заметает снегом.

В автобусе
В автобусе меня укачало и едва не стошнило. Я прислонил голову к запотевшему стеклу и попытался вспомнить, как раньше ездил в общагу на этом автобусе стоя. Можно было сесть на ступеньки у аварийного выхода, подложить какие-нибудь лекции и прямо в автобусе выпить пива с одноклассником, которого случайно встретил у метро. Теперь же дорога выматывает до такой степени, что перечеркивает все то прекрасное, что еще можно встретить в городе моего детства.
Автобус останавливается у пластмассового автовокзала, и мне пора выходить. Сейчас старую остановку с деревянным полом и бесплатным телефоном-автоматом заменили на просторное здание автовокзала, сочетающее такие столь популярные в провинции материалы как красный кирпич и дешевый пластик. Но асфальт все так же покрыт окурками и жвачкой и не дает усомниться в том, что ты приехал домой. Бесит это все.
Жить в крошечном городе — разве может быть что-то прекраснее! Пять минут пешком — и ты уже в лесу, в нем растут черника и грибы. Зимой весь город ходит по лесу на лыжах. Летом все лежат на пляжах ближайших озер или речки. Папа твоей одноклассницы с большой вероятностью окажется старшим научным сотрудником, а возможно, академиком… А я терпеть не могу место, где все друг друга знают!
Я иду домой через сосновый лес, и эта одноклассница не идет у меня из головы. Люба Данилова — закат в осенних горах. Рыжая, кудрявая, не умеющая регулировать громкость своего голоса: на всех вечеринках я точно помнил момент, когда появлялась Люба — всегда это был балет, не меньше. Кажется, она поступала потом куда-то в театральный… Забыл, так давно не думал о ней. Кажется, что никогда не думал о ней с тех пор.
Встречные прохожие смотрят прямо в лицо почти не стесняясь. Некоторые тетки даже кивают, словно здороваясь. Как будто я всех тут должен знать. Но я никого не помню почти, в лицо уж точно. Но меня явно знают. И помнят. Хотя я приезжаю хорошо, если пару раз за год. Здесь время явно течет по-другому, словно я для всех этих женщин — все еще мальчик, и они только что видели, как я в ларьке покупал сигареты поштучно.
Я сворачиваю во дворы панелек, хочется немножко еще пройтись, не идти сразу в тесную двушку к родителям. Оказывается, ноги сами помнят все эти сорок лет назад протоптанные жителями тропинки, и я на автомате сворачиваю на них, чтобы срезать путь. Память тела. Оказывается, это остается навсегда. Из подъезда выбегает огромный ретривер, его с трудом удерживает на поводке маленькая кудрявая девочка, и я опять возвращаюсь мыслями к Любе.
Вспоминаю, как зимой того нашего последнего, одиннадцатого класса она попросила меня помочь ей похоронить собаку. Ей не разрешали держать дома животных, кто-то там с аллергией или просто мама не хотела лишней грязи дома. Люба нашла выход и прикормила дворнягу, которая жила в подвале ее дома. Все так и говорили про эту собаку — Любина псина. И вот холодной зимой того года кто-то отравил эту ее собаку. В тот день я понял, что не хочу здесь больше жить. Что уеду сразу, как поступлю в университет, и больше не вернусь. Только жалко было оставлять Любу.
Нет, я совсем ее не любил, это было что-то другое. Но, копая замерзшую землю в лесу того дикого января, я чувствовал правильность всего происходящего. И я был уверен, что она обязательно будет со мной. Но она уехала сразу после выпускного, и я никогда больше Любу не видел. Выхватывал иногда что-то из рассказов матери — ВГИК, сериал, даже, кажется, муж какой-то. Да и бог с ней, с этой Любой: университетская жизнь лихо закрутила меня с первого же курса. А потом только успевай отсчитывать: романы, дипломы, отцом даже стал, правда, теперь уже воскресным…
Дорога к дому, где я всегда жил с родителями, идет мимо школы. Теперь тут большой забор, а раньше были низкие железные трубы. И мы курили на переменах, прямо сидя на этих трубах. И девочки сидели здесь же: секретики, блокнотики, смешочки. Тогда было ужасно радостно, а теперь это место вызывает тошноту.
Я закуриваю на ходу, и какая-то бабка, проходя мимо, неодобрительно качает головой и скрипит что-то про курение около школы. Кажется, когда-то давно она вела у меня черчение… Сплевываю на траву и снова думаю, что ненавижу этот город. Все друг друга знают, помнят, да еще и советы дают!
Ненавижу! Мимо пробежали какие-то дети и тоже пристально смотрели прямо в лицо, будто опознали во мне чужака. Бесит.
…Через полчаса я сидел на маминой кухне, ждал котлеты, слушал последние сплетни и ужасно тосковал по Москве. Где никто никого не знает. Где никому нет ни до кого дела, где совершенно неважно, как ты выглядишь. Где так легко потеряться. И невозможно потом найтись.
— …Прямо у подъезда столкнулась. — Мать рассказывала о чем-то, но я давно потерял нить. — Постарела, конечно, но прическа такая же лохматая.
— У кого? — Я зевнул, мамина болтовня все меня убаюкивает.
— Ну у кого? Ты прослушал, что ли? Любку Данилову встретила вчера, говорю же. Она же с вами училась в одиннадцатом классе?
Я похолодел, но очень скоро почувствовал правильность происходящего, как тогда в зимнем лесу, когда клал на дно ямы завернутую в полотенце дворнягу.
Родной город — он как родители: иногда бесит, но при этом всегда помогает.

Видишь вечер, видишь тучи?
Видишь вечер, видишь тучи?
Путь длиною в бесконечность.
Питер в серость неба вкручен —
Поглощает человечность.
Лужи пьют из водостока,
Отражать хотят добро.
Отражают лиц востока
И закрытое метро.
Капель бой, не зная ритма,
Шум прибоя повторил,
Прыгнул тенью колоритной
На мозаичный настил.
Слабый слышен звон металла —
Тучи теснят, трут друг друга.
Из-под белого забрала
Воют призраки простуды.
Странно и красиво это:
Видишь небо — чуешь тучи.
Вечер каждого поэта
Акварельная ждёт участь.

Воздух звенит узнаваемым голосом Левитана
Воздух звенит узнаваемым голосом Левитана.
Ленинград спит. 41-ый.
Просыпается Петербург. Век 21-ый.
Это была проверка. Исправен ли громкоговоритель.
Администрации важно. Мне страшно.
Пугаюсь мысли, сколько же бабушек сейчас тянется за валидолом, поверив спросонья, что век на дворе 20-ый.
А может, кто-то и не проснулся.
Мы здесь вечно живем на грани.
Между войной и миром. Прошлым и настоящим.
Подвигом и нежеланием встать с дивана.
Мы все время здесь не одни. Сотня тех, кто был и кто будет после.
Мы не можем с ними договориться, но все время слышим.
Этот город когда-то уйдет под воду.
Очень быстро, вспомнив, что он — болото.
Но я знаю точно, мой милый правнук, последнее, что ты расслышишь — будут отзвуки голоса Левитана.

Гигиена рук и заяц
У Москвы много рук, и все они грязные. Не отмываются ни дождями, ни антисептиком. Попав туда однажды, я так и не смогла отмыться от возбуждения и какого-то жутковатого восхищения. Это была другая, отличная от моих привычных предпочтений любовь. Любовь, от которой я трижды бежала, и все три раза удачно. Стоит ли говорить, что до сих пор пытаюсь вернуться и научиться чувствовать её тепло? Чтобы утереть самой себе нос. А то все, вон, любят, погружаются, питаются энергией большого города, вдыхают пары успеха, растворяются в ней, а я… А я, кроме шума в голове и постоянного ощущения грязных рук, ничего от неё не получила.
Не получилось.
И запахи. Метро пахнет бетоном и сдобой, в электричках стоит кислый запах усталости и кожи, выход со станции Чистые пруды пахнет жареной картошкой и моим желанием погрузиться в нечистый пруд с головой. Там, на Чистых прудах, посольство Казахстана, в котором ничем не пахнет — там только шуршание обертки от шоколадки «Казахстан». Этот звук обещает сладость, но получаешь ты только тоску — коричневую липкую тоску по родному дому. Сейчас, через пятнадцать лет, Чистые пруды для меня пахнут пиццей и кофе. Черт его разберешь, почему. Черт разберешь эту Москву.
Чужую. Не мою.
Разобрать Москву по частям, выискать то зерно, которое можно посадить-посеять-полить, собрать урожай потом, попробовать на вкус, на цвет, и снова — выискать зерно, посадить, посеять и поливать без устали. Как те руки антисептиком.
Я поливала руки спиртом задолго до пандемии, потому что только резким запахом и иссушением могла избавиться от ощущения грязи на них. Каждый день с самого утра, лишь только я выходила из дома, Москва пожимала мне руки своими грязными, всеми своими грязными лапами и подталкивала вперед. Тот «перёд» я чувствовала провалом, падением в темноту — маршрутка, удушающе-кислая электричка, сдобное метро и чистые, как мои надежды, пруды. По вечерам тогда на Чистых прудах собирались готы. Я чем-то походила на них — синяки от недосыпа под глазами и оскал вместо улыбки. Ах да, и черные волосы — не мои. Чужие. С которыми у меня, как и с Москвой, не получилось.
Вот так и вышло, что Москва ассоциируется у меня с двумя Г — готика и грязь. Точнее, руки грязные — колкие. А после утра приходил день, прогулочные и, по сути, ничего мне не дающие. Я бестолково ходила по улицам, добиралась до Красной площади, потому что туда вели все мои грязные дороги, дожидалась открытия ГУМа и Охотного ряда, а потом бесцельно пялилась на товары в их бутиках, стыдливо пряча грязные руки в карманы. Пялилась чистыми прудами глаз и запоминала, чтобы лет через пять-семь все это найти у себя в Казахстане, который, к слову, тоже так и не стал моим.
Не получилось.
Да пошло оно все к черту, думала я как-то в тамбуре электрички. Курила. Сбрасывала пепел на кислый пол и думала, что надо-таки бросить уже эту пагубную привычку — привычку бесцельно приезжать в Москву и пялиться по сторонам. Напротив меня стоял огромный мужчина. Ну, такой — под потолок тамбура, с готическими синяками под глазами и готически-колким взглядом.
— Билеты предъявляем! — гаркнуло сбоку.
Я равнодушно протянула билет.
— Билеты предъявляем! — гаркнуло в сторону мужчины под потолок.
На секунду кислый воздух стал тишиной. На второй секунде мужчина вобрал в себя тишину и твердо ответил:
— Я заяц.
Я вздрогнула не от звука голоса, не от забавного ответа, не от надвигающего конфликта, а от его уверенности. Мужчина под потолок, в отличие от меня, знает, кто он именно сейчас, в этот момент, в этом тамбуре — он заяц. Парадоксально смелый и совершенно не белый, несмотря на зиму. Заяц в черном старом пуховике, подтертом с правого боку — каждый день на электричке зайцем в тамбуре, прислонившись к грязной стене, он знал, кто есть.
А у меня не получилось.

Дурачок
дурачок
я на луну хотел
как на живца
пустышки звезд
ловить не уставая
лежал раскрытым
томик гришковца
звенели искры
в поисках трамвая
потом вдруг тихо
стало на сенной
и даже чайник
бормотавший замер
и в темноту
я пялился всю ночь
и шли круги
и мерзли под глазами

За моим окном
За моим окном
Строят дом
И не дом а школу
На 1300 человек
Но когда я смотрю в окно
Вместо огромного здания лимонно-желтого и вишнёвого
Я вижу грязно-синие бараки
В углу слева
Бараки в два этажа
Второй этаж съехал
Как сломанный конструктор
Ровно настолько
Чтоб можно было подняться по деревянной лестнице
И забраться внутрь одного из вагонов
Ровно настолько
Чтоб на втором этаже
Выходить и сушить белье
Школу уже обнесли забором
Посадили газон и деревья
Построили теннисный корт
Сделали беговые дорожки
Фонари
И бассейн внутри
Она откроется первого сентября
Всего лишь через неделю
У бараков свой вход — это щель в стройзаборе
Возле бараков стоят припаркованные трактора
Мой сын следит за ними с утра из окна
Он в восторге
Бараки окружены вспаханной свежей землей
И воздух там тоже другой
В бараке живет Ахмет
Он строитель уже пару лет
И поэтому он тут за главного
Ночью Ахмет иногда гуляет по школе
Приходит к бассейну садится на край
Думает о своей дочери и жене
И о своей стране
Где летом дождей почти не бывает
И где сейчас соберут урожай
Ахмет построил два дома в Мурино
И школу в Приморском
Ахмет живет в отдельном бараке
Что редкость
Раз в месяц пьёт дорогое пиво
А все остальные деньги он шлёт жене
Чтоб дочь уехала и училась в другой стране
Работа Ахмета хорошая
Лучше чем быть таксистом
Не надо платить за жилье
И можно пожить
В разных районах города
Сегодня вечером гуляя с сыном вдоль школы
Мы наблюдали зрелище
Оранжевый кран Клинцы 25 тонн
Поднял за четыре троса Ахмета дом
И повернул его к нам
А там нет стены
Она отвалилась наверно
Внутри слишком просто кровать из поддонов и пара курток
А где его близкие
Спросила девочка в толстых очках близорукая
Наверное в Чечне какой ужас пошли скорей
Сказала бабушка внучке
Мы с сыном стояли долго
Я плохо вижу
Хотелось все разглядеть запомнить
Но там нельзя было ближе
За моим окном лимонно-вишнёвая школа
Утром туда бегут дети
Гуляют на чистых дорожках
Возят ногами по старой траве и листьям
Один мальчик стоит у забора
В том месте
Где месяц назад
Большой и старый синий конструктор
Ютил строителей будущего
Среди них был Ахмет
И больше его тут нет

За окнами
Между стеклами — бабочка. Спит? Мертва?
Незаметно. На крыльях — осенний лес.
Луч заката последний сверкнул — исчез.
На сосне у ограды кричит сова.
Небо чистое, в звездах. Блестит роса,
Серебрится болотное полотно.
Понемногу темнеет мое окно —
Значит, близится время открыть глаза
И вернуться в реальность — дрожат огни,
За ремонтным заводом гудит шоссе,
Позабыть о болоте, ночной росе —
Только бабочку в банке — в стекле — хранить.

За окном
От серости дня
С самого утра
Молью сиреневой
В крылья укутавшись
Тихо ходить
В угол из угла
И солнца не ждать
Пить
Бордовый горячий отвар
Созерцать
Как пар поднимается к потолку
Слушать за окном уличный базар
Шум машин на мосту
Вдыхать
Глубоко
Выдыхать
До конца
Ничего
Нет
Внутри
Меня
И снова вдох!
И я полна
Базаром за окном
Гулом машин на мосту

За окном («Инженеры 20-21»)
За окном («Инженеры 20-21»)
Переезд в новый век —
этот год вдруг напомнил об этом,
Так и тянет по дате с дефисом
пройтись «по слогам».
В запылённом стекле
отражается свет кабинета,
И донские ветра
сквозняками шалят по ногам.
Замеревший завод
вспоминает былые высоты,
Перепроданный трижды,
по горло арендами сыт.
Инженеры в отставке
привычно встают «на работу»
И бредут к проходной
с яркой вывеской красной «Магнит».
Остановка маршрутных такси,
развороты по кругу.
На конечной монтируют
новый ларёк «Шаурма».
Пыль и снег посезонно
выходят на смену друг другу,
Инженеры в поношенных куртках
бредут по домам.

За окном утро, пять сорок два
за окном утро, пять сорок два,
мусоровоз застыл у моего дома.
если б знал, что время не знает про тормоза,
стрелки бы остановила тонна
наших эмоций, слов и чувств,
перебежек по родным глазам.
с утра вчерашнего лечусь,
заболел, но не бегу к врачам.

Забиться в щелку до весны
Забиться в щелку до весны
Без грусти и без сожаления
Смотреть в окно, а за окном —
Земля и небо кувырком:
Смешалось все в одно мгновение
И сидя в кресле, у камина,
Пригревшись, слушать как дрова
Трещат уютно. И с Е2
На Е4 пешку двинуть
И вновь застыть в оцепенении
Забиться в щелку до весны
В анабиозе видеть сны
И ждать покорно пробуждения.

Записки фланёра
Если гуглить список самых одиноких профессий в мире, поисковик выдаст стандартный набор: программист, лесник, ремесленник, творец, фрилансер… Профессии для интровертов и мизантропов, шизоидов и параноиков. Всех тех, кто считает себя лучше или, наоборот, гораздо хуже других. Для людей, которые отрицают в себе общечеловеческое. В сущности, для большинства.
Ни в одном из этих списков вы не найдёте профессии архитектурного или интерьерного фотографа. Хотя он, конечно, и ремесленник, и творец, и фрилансер… Но вглядитесь в это лицо: с опущенными уголками рта и с одним зажмуренным глазом. В моё лицо.
В 2020 году я начала снимать здания. Десятки, сотни… Сначала неохотно, потом с любопытством и наконец с каким-то первобытным азартом охотника. Вот он, мой город, моя Москва посткарантинная. С её БЦ, бизнес-парками, административными зданиями, жилыми домами и нежилыми развалюхами. С её культурным наследием и бескультурной пошлостью. Каждый раз со звуком затвора я присваивала себе новое здание. Щёлк! — и величественный фасад с колоннами в моей копилке. Щёлк! — и очередной небоскрёб, так и не доскрёбшийся до неба, там же. Моё пространство расширялось в строгой арифметической прогрессии. Так постепенно, щелчок за щелчком, внутри меня вырос целый город. Столица России, отражённая в зеркале цифровой камеры.
Если бы Бог сочинял Вселенную Абсурда, где люди раскрывают зонт, когда приходят в гости, где носят бюстгальтеры на голове, чтобы защититься от УФ-излучения, где одинокие коты заводят десятки старушек, где на войну отправляют только детей в возрасте до двенадцати лет, где, где, где… В общем, если бы Бог сочинял такую Вселенную, в ней обязательно был бы человек, который целыми днями шатается по улицам города и фотографирует здания, не имеющие ровно никакой художественной ценности. Фотографирует, хочу заметить, весьма старательно, подыскивая ракурсы и следя за геометрией. Без всякой цели.
В некоторых районах я чувствовала себя с камерой на шее как дома. Хипстерские ульи: Винзавод, ARTplay, Дизайн-завод Flacon — принимали меня с распростёртыми объятьями. Мне удавалось затеряться среди фотографов, проводящих фотосессии на фоне граффити. Всем было на меня наплевать, как и мне на них.
Но в основном приходилось иметь дело с объектами, сурово отгороженными от реальности. На Гоголевском бульваре и на Погодинской улице я залезала на забор, чтобы урвать-таки нужную картинку. Рядом с Кадашёвской набережной спускалась в овраг, чтобы снять здание сквозь прутья ограждения. В районе Курской пряталась от охранника за мусорными баками, после чего бежала от него вдоль объекта, поливая на ходу очередной бизнес-центр пулемётной очередью снимков. Я научилась маскироваться, фотографировать исподтишка и выполнять свой долг в экстремальных условиях словесной перепалки со стапятидесятикилограммовым верзилой.
Забавный диалог однажды произошёл у меня с охранником на Пречистенской набережной:
— С какой целью фотографируете?
— Просто так.
— Но у всего должна быть какая-то цель.
— Даже у творчества?
— Хм, не знаю… А фотографировать вход в охраняемый объект — это творчество?
— Ну конечно! — смотрю на него осуждающе.
— Тогда извините, — задумчиво опускает глаза.
На подобной работе осознаешь, сколько же вокруг нас заборов и замков. Как будто важность большого города заключается в количестве вмещающихся в него тупиков и сложности лабиринтов. А чоповцы только и мечтают встать у тебя на пути, несмотря на полную законность фотосъёмки на улице. Их не волнуют ни твои права, ни то, что съёмка осуществляется в интересах владельца недвижимости, что это дополнительная, бесплатная реклама для его же бизнеса… Действуют исключительно по бумажке, подчиняются субординации, на переговоры не идут. Реализуют на все сто свой маленький клочочек власти.
…Обычно люди выходят из дома на улицу, чтобы добраться из точки А в точку Б, а затем снова в точку А. В моём же маршруте ежедневно разворачивался целый алфавит. Им можно было писать любовные письма или философские трактаты. Я слилась с городом, как бездомные, вросшие в индустриальный пейзаж. Как жёлтые курьеры Яндекс.Еды и зелёные посыльные Delivery Club, ставшие постоянным рефреном городских прогулок. Мой дом был на улице, как в детстве, когда ты гулял во дворе всё свободное время с редкими перерывами на завтрак, обед, ужин и сон. Трудоголизм профессионального фланёра.
Такой образ жизни развивает поэтическое мировосприятие. В детстве все мы поэты. Все поэты в какой-то мере дети. Одиночество и беспрестанное мелькание новых картинок перед глазами, раньше не хоженые маршруты и большое количество кислорода способствовали созданию новых нейронных связей в мозге. Должно быть, все курьеры пишут стихи или поэтическую прозу. Идеальная работа для тех, кому врачи прописывают длительные прогулки, лучший в мире антидепрессант.

Капли луны
Капли луны,
ударяясь в стекло,
Звеня,
превращаются
в брызги…
Память мне чертит другое окно
Как эхо
навязчивых
мыслей.
За этим окном кружит пух тополей,
В Советской стране
перестройка…
Я жду, чтобы мама вернулась скорей.
Вдали простучал трамвай-двойка.
На нашем окне накрахмаленный тюль,
Мой кот еще дикий котенок…
За этим окном
будет вечный
июнь
И метры немых фотопленок.
А позже в окне я увижу
его —
С букетом нарциссов под мышкой.
И вот я смотрю сквозь другое окно,
Сквозь счастье
и треть века с лишком.
Туда, где никто не рубил тополя,
Где маме едва ли за тридцать…
А капли луны,
разбиваясь,
звенят
Сумбуром навязчивых мыслей.

Когда город меня отпустит
В не моих городах не мои балагурят черти.
Я вожу языком, будто кошка, смотря на мышку.
Просто манят чужих перекрестков дороги-черви,
Только город родной накрывает консервной крышкой.
У чужих водостоков чужие собаки лижут
Воду талую, морды к земле пригибая, уши
Навострив, чтоб никто (или кто) беззаботно лишний
Не мочил в этих водах когтей загребущих.
Душу
трепет Молох. Желает детей, в услуженье просит
Непременно красивых, здоровых, курчавых, светлых.
Города отдают. Не таких. Только темных рожают в осень,
Только бледных рожают в осень.
Только в осень рожают бледных,
Из себя исторгая на землю собачье племя.
Закрываю глаза, по привычке считаю. Десять.
Сердца с разумом
ворох
ленивых
судебных прений.
Заряжает на жизнь. Вместе с тем невозможно бесит.
Где-то там, далеко, на чужие проспекты вечер
Опускает лучи предзакатной тоски по лету,
И я шлю свои весточки им белой птицей. Нечем
Отвечать, когда город родной, запросив ответы,
По ногам полосует стеклом недопитой чашки.
На балкон выходя, не забудь посмотреть на небо:
Облака — это тень междугубной белесой чащи,
Чаща — это следы на проспектах чужих. Не требуй
Никаких объяснений. На завтрак из черной плошки
Подъедал в уголке не моих городов картинки
С аппетитом, которого мышка не дарит кошке,
Пока псов вырождали косые ларьки на рынке.
Темнота одолела, стихи ковыряют крышку,
Через щелку гляжу, провонявши консервной грустью.
Я вожу языком. Знаешь, кошка догонит мышку.
Я тебя догоню,
когда город меня отпустит.

Когда жука или ещё кого выдворяю вон
Когда жука или ещё кого выдворяю вон
За равнодушные створки моих окон,
Не доброта это, а неясный расчёт
На то, что где-то когда-то кто-то ещё
Много больше, умней и сильнее меня
Подойдёт к подоконнику, не ленясь,
Аккуратно двумя пальцами с боков со спины,
Переждав трепыханья, что мне только вредны,
Выдворит меня наружу, говоря: «Эй, друг!
Ну куда ты суёшься, тебе здесь каюк!»
И я поползу, поскачу, полечу оттуда на
Все четыре, едва сознавая, что спасена,
И плевать мне будет, что это тоже расчет,
На то, что где-то когда-то кто-то ещё…

Месяц Май
По внутренней поверхности бедра, к бугру колена, добежав до щиколотки, доверху наполнив пятку советских тапок на тяжелой резиновой подошве, дальше на асфальт и вниз по Шелапутинскому переулку, дотянув до сточной решетки, а там к своим — ко всем земным потокам. Околоплодных вод было много. По Шелапутинскому переулку их разливала высокая брюнетка, спешила она к роддому имени Клары Цеткин. Все окна уже спали, утром на парад Первого мая.
А май — лучший месяц, чтобы лететь в Москву из Флориды. Я всем всегда советую. И вот сама. Воздух в это время должен носить в себе черемуху и сирень, но во Внуково он почему-то был пропитан табачным дымом и взвесью дорожной пыли. Можно ли назвать освежитель воздуха спасением от всего этого? В такси я закрыла нос ладонью и нюхала остатки санитайзера для рук.
29 миллионов разделить на 76. На 76, ого. Я уезжала — было меньше 30. Получается без малого 400 тысяч. Годится.
— Але! Новости есть?
— Здрасьти. Он не согласился.
— Вопрос цены. Добавьте немного.
— Не будет он продавать. Это вам не Америка. Тут не от цены. Тут принципы.
— Сходите еще раз.
— Да уже был дважды. Там художник какой-то. Выглядит, как вам сказать, странновато. Он с ножом второй раз вышел. В одном фартуке. С голым задом.
— С ножом, говоришь…
— Даша, давайте другую квартиру посмотрим. Этот дом, прямо скажем, не очень — гнилое старье, лифт загораживает пол-окна в комнате. В Шелапутинском еще эта развалина стоит, вот-вот рухнет. Чинуши дожидаются. Там сразу стройку начнут. Куда проще просто землю купить, чем землю с историческим объектом. Оно вам все надо?
Второй, нет, третий вопрос в США после «как вас зовут» и «чем зарабатываете на жизнь» — «откуда вы?» И обязательно с сочувствием: «Скучаете по Родине?» А я отвечаю: «Ее же там нет — Родины, чего скучать… Я в СССР родилась, а такой страны больше нет.»
Но этот двор я помню. Насыпь поосела. Или я подросла. Кому пришло в голову насыпать земли, чтобы железная с толстыми швами паутинка, песочницы, качели и скамейки оказались на метр выше тротуара?.. Зимой склоны его превращались в горки, и всем хватало места кататься по периметру насыпи. Этот кто-то был молодец.
Чтобы доехать на лифте от первого до пятого, надо было не дышать, вынести запах мусоропровода и собачьей мочи было нельзя, а задержку дыхания на сорок секунд можно. И я думала, что смогла бы сниматься в продолжении «Голубой Бездны» Люка Бессона. Тем более что там мой Жан Рено. Мой, потому что он — Леон, а я — Матильда.
Лифт теперь стальной — модный. Дышу. Не пахнет. Дверь другая — черная. Была бордо. Звонка нет, и я стучу, как в бочку.
— Внимательно, — с той стороны двери заговорил тот, что с высокой вероятностью сейчас стоит там с ножом и без штанов.
— Что внимательно?
— Слушаю вас внимательно.
— Может быть, откроете дверь.
— Чтобы слушать, не надо открывать дверь.
— Я пришла посмотреть ваши картины.
— Здесь не галерея.
— Купить ваши картины.
Дверь открылась. Квартира выдохнула мне в лицо смесь масляных красок и растворителя. На меня смотрели два серых глаза, над ними ровный высокий лоб. Волосы русые, а щетина медная — ирландские корни? Я из тех мест, где происхождение только формально ничего не значит, а на самом деле… Слава богу, на нем штаны, а в руках только тряпка.
— Что хотите приобрести?
— Из последнего что-нибудь.
— Из крайнего? Тогда суккуба… Я сейчас вынесу.
— Нет, я пройду.
Все было не то! Все! Никакого совпадения! Квартиру чужая и даже балкон, даже этот аппендикс был истреблен. Но я уже вошла. И я уже осталась.
Голой спиной я припечаталась к теплым кирпичам балконной стены, а он курил над Шелапутинским переулком. Крыши домов вместо бурых теперь сплошь стальные. Горизонт занимают высотки из синих стекол. Улицы заполнены телами разноцветных машин. Мой ветхий балкон, мое лежбище мечт, теперь он застеклен белым пластиком и заставлен муштабелями и мольбертами.
— Таганка в мае это что-то. Не Москва, а именно Таганка. Смотри. Тут можно выйти на набережную Яузы, а можно, если ты из спортивных, и до Москва-реки добрести. — По тому, как он обмягчал «г» было ясно, что он не москвич. — Пятый этаж! Пентхаус, можно сказать! Последний этаж сталинского дома — мечта.
— Или крайний?
«Острый язык у тебя, Дашка, одна останешься», — мама крепко наметала на моем уме. Продали мы квартиру, когда они развелись. Все разъехались: бабушка с дедом на дачу, отец на Юго-Западную к своей новой, а мы с мамой — в Измайлово.
— Нет, этаж как раз последний. Чтоб больше никого надо головой. С балкона можно смотреть салют, а можно просто звезды, хоть небесные, хоть кремлевские. Сегодня Вальпургиева ночь, кстати. А это вот, справа — богадельня Морозова, 1890 какого-то года. Совсем развалилась. Все мечтал ее написать, да она рухнет быстрее, чем соберусь.
«Это мой роддом. И сегодня у меня День рождения».
Пошел дождь, и первые еле заметные струйки воды дотянулись до сточной решетки, а там к своим — ко всем земным потокам.

Москва — это боязно
Я обижалась на московское время. Все вебинары и трансляции в час ночи, потому что в Москве вечер. В детстве не понимала, почему время именно московское, почему не российское. Повзрослев, узнала, что и не Россия мы вовсе. Живём где-то на отшибе с плюс шестью часами, дорогой доставкой почтой, без метро из-за Вечной Мерзлоты, с домами на сваях из-за Мерзлоты этой Вечной и лицами в основном не русскими.
Но когда я окончила местный университет, возник вопрос: а куда податься дальше? Мне хотелось учиться. В местном вузе, я знала по опыту, ничему толковому не учили. Только делали вид. И отчёты сдавали, как будто у нас всё прекрасно, — для московской проверки, конечно. Мол, финансирование идёт не в карман ректора, а на компьютерные классы, которые студенты почему-то найти не могут. И успеваемость у нас прекрасная. Нет, мы не завышаем оценки, потому что гонимся за рейтингом. У нас студенты сами по себе умные, хоть и приходится усмирять принципиальных преподавателей, чтобы двоек меньше ставили. Да, мы загнали студентов в общаги, из-за чего случайно распространили ковид. Это просто так совпало, что были выборы в мэры и мы ходили по комнатам и объясняли, почему студенты должны проголосовать за нужного правительству кандидата.
В свою альма-матер я бы ни за что не вернулась. У меня было два варианта: учёба в Останкино или уехать к Диме в Екатеринбург. Дима меня ждал, но каждый раз при звонках по фейстайму говорил: «Дурочка, что ли? Какой Екатеринбург? Пожить вместе мы ещё успеем. Тебе учиться надо, новых людей узнавать. Не прячься туда, где комфортнее».
Мама была согласна с Димой. В командировки в Москву она летала часто и чувствовала себя там своей. Встречалась с одноклассниками, одногруппниками и партнёрами клиники, в которой работала. Однажды, собираясь утром, мама сказала: «Ну не, какой Екатеринбург? Дима твой ждёт-ждёт, да подождёт. Что ты там собралась делать? Работать? Замуж? Пока молодая, города посмотри. Поживи для себя, а не для кого-то». Потом чмокнула меня в щёку и добавила: «Ещё в Екатеринбурге ветка метро всего одна! А в Москве всё как у людей!» Затем она вышла за дверь, и я открыла поиск дешёвых авиабилетов и сайт по аренде жилья.
Просмотрела билеты и в Екатеринбург, и в Москву. На один билет ушла моя зарплата за месяц в кофейне. Точно сервис дешёвых авиабилетов? Вы не ошиблись? Может, я ошиблась? Нет, никто не ошибся. Спасибо, что хоть в одну сторону.
Оплачено, увидела я. И в душе зародился страх. Проснулась тревожность. Пришло стыдливое осознание — я боюсь. Боюсь толпы людей, которая после спокойного родного городка будет душить. Боюсь, что буду возвращаться после учёбы в пустую квартиру и меня убьёт какой-нибудь наркоман. Никто сразу и не узнает, что до дому-то я не дошла. Боюсь одиночества, потому что друзей у меня там нет. А ещё боюсь через месяц стоять на пороге квартиры Димы и молчать. Он тоже будет молчать. Потом обнимет, потому что поймёт — не смогла, не прижилась.
Почему мне так страшно остаться одной? Я не знала. Но стала наблюдать за собой: вдруг найду причину и пойму, как себя перебороть.
Странности я обнаружилась не сразу. Стала замечать, что со мной что-то не ок: мне становилось дурно, когда наедине с собой я не надевала наушники. Поэтому я перестала настолько часто заглушать тишину и свои мысли музыкой, кушать в компании Приятного Ильдара, чистить зубы под подкасты, ехать в автобусе под инстаграмные сторис. Мне стало легче.
И в августе, стоя у багажной ленты и смотря на круговорот чемоданов, баулов и сумок, уставшая от тяжести рюкзака, я выдохнула. Назад возвращаться не стоит.
Проверили, не стащила ли чужое. И я вышла к гулу. К зазывам таксистов. К людям, облепляющим меня. Но дышалось легко, ничего не душило. И Дима стоял с табличкой в ожидании меня. Первая встреча за полгода вживую — на нейтральной территории. В Москве.
Было тоскливо, что прогулки с мамой сократятся до её командировок, разговоры — до звонков через скайп. Уже стало грустно, что через неделю Дима уедет обратно в Екатеринбург. Мы будем жить на два города — это интриговало. Было радостно, что сейчас он здесь со мной, стоит и улыбается, машет букетом роз. А я бегу к нему так быстро, насколько позволяет то, что я забрала из прошлой жизни.
Было боязно. По-хорошему боязно перед первым днём учёбы в Останкино. И было так хорошо, что я могу бежать к Диме, к Москве и к жизни с собой.

Москва, день первый
Москва встретила хмурым июньским утром.
Стеклянная дверь за их спинами ещё продолжала мотаться взад-вперёд, когда Вика многозначительно спросила:
— Чувствуешь?
Марина непонимающе посмотрела на подругу.
— Говорю: чувствуешь, как здесь пахнет?
Только что замершую дверь с силой толкнули, и на Марину пахнуло кислым запахом человеческих тел, которые несколько суток мариновались в спёртом воздухе плацкартных вагонов.
— Как?
— Глупая, это же — Москва! Здесь пахнет успехом!
— А-а, — неуверенно протянула Марина. Порыв тёплого ветерка донёс из торчавшей неподалёку закусочной на колёсах ароматы шаурмы и хот-догов.
— Что за настроение? Нет, подруга, так не пойдёт… Знаешь, почему москвичи такие успешные?
Марина посмотрела на таджиков в оранжевых жилетах, заметавших в совок бумажные обрывки с заплёванного асфальта.
— Почему?
— Потому что они — целеустремлённые! Мы — в Москве, перед нами открыты все дороги. Так что, выше нос — и вперёд, к успеху!
Вика поправила солнцезащитные очки, которые нацепила сразу же, как сошла с поезда, выбросила перед собой руку, демонстрируя безупречный маникюр на красивых длинных пальцах, и закричала:
— Молодой человек, молодой человек, вы нам не поможете?
— Ты со мной? — обратилась она уже к Марине.
— Нет, Вик, ты иди. А я сама, на метро.
— Тогда давай, Мариш. На созвоне.
Одной рукой катя за собой сиреневый чемоданчик, а другой продолжая махать смуглому парню в сером пиджаке и полосатом галстуке, Вика бодро зацокала в сторону автомобильной стоянки.
В вагоне метро была давка, прямо как в их автобусе до областного центра. Несколько раз к Марине прижимались. Она пыталась аккуратно отстраниться, без фанатизма — чтобы никто не догадался, что она приезжая. Марина читала, что такое в порядке вещей: многие мужики пользуются подходящей обстановкой и не упускают случая будто бы случайно потрогать задницу — москвички уже и внимания на это не обращают.
Клиника микрохирургии глаза оказалась обнесённой сплошной бетонной стеной, и пройти на её территорию можно было только через будку пропускного пункта.
— Ты куда? — спросил охранник, посмотрев на Марину сверху вниз.
— Мне надо. Очень, — дрожащим голосом пролепетала она.
— Пропуск есть?
— Нету… Но мне очень надо увидеть главного хирурга, спросить…
— Нет пропуска — нечего здесь шастать, иди отсюдова, — прервал её охранник, опуская окно.
— …можно ли бесплатно сделать операцию моей маме… она у меня совсем ослепла… — Марина окончательно смешалась, поняв, что говорит сама с собой — охранник давно уже забыл о её существовании.
И вдруг сильно, просто нестерпимо захотелось услышать мамин голос. Марина протянула руку к заднему карману — китайского смартфона там не было. Вместе с лежавшей в чехле банковской картой с пятью тысячами на обратный билет. На всякий случай она порылась в наплечной сумке, хотя всё уже поняла: кого-то из тех, кто прижимался к ней в толчее, интересовала вовсе не её тощая задница.
Марина не запомнила, как снова спустилась в метро, доехала до Комсомольской. Побродив какое-то время, она поняла, что это — не тот вокзал, и ноги понесли её в подземный переход — они откуда-то сами знали дорогу.
Но не дойдя до конца перехода, Марина свернула вправо, поднялась по ступенькам и оказалась на узкой площади с клумбами и фонтанами, разделявшей Ленинградский и Казанский вокзалы. Почти все скамейки были заняты бомжами, но Марина нашла свободную и рухнула на неё, как подкошенная. Идти куда-то ещё не было никаких сил. «Останусь здесь, — безучастно подумала она, закрывая глаза. — И будь, что будет» …
— Вот ты где, — услышала Марина знакомый голос. — На звонки не отвечаешь. Я весь Казанский оббегала. Мы уже с Мариком уезжать хотели, но я решила сюда добежать… Тебе чего в больнице-то сказали? Впрочем, неважно. У Марика куча знакомых, он уже позвонил кому надо, всё на мази, маму твою проведут по бесплатной квоте. Вставай, чего расселась, пошли…
— У меня телефон украли. И карточку с деньгами. И в клинику охранники не пустили… — Марина впервые за день дала волю своим чувствам — и те хлынули наружу неудержимым потоком слёз.
— Ты чего? — растерялась Вика. — Дурочка моя, ты разве забыла, где мы? Мы же в Москве, а Москва слезам не верит, забыла, да?.. Подумаешь, телефон, карта… Да мы с тобой скоро знаешь, как заживём?
Коренные москвичи на соседних скамейках, они же — по совместительству — местные бомжи, перестали разливать водку и притихли, проявляя деликатность… Марина хотела сказать, что это всё ерунда: и китайский смартфон, и пять тысяч рублей, и московское метро, и больничная охрана… не поэтому совсем она плачет. Главное — это… это… у неё никак не получалось сформулировать, что же главное.
— Да ты у меня, Мариш, я смотрю, совсем расклеилась… Хорошо, что я тебя нашла.
— Ы-а-а, — закивала Марина, соглашаясь с Викой.
Поток слёз не иссякал, всхлипы мешали произносить слова, но Марина отчаянно пыталась сформулировать то, что было сейчас на душе. Почему-то это казалось ей очень важным.
— Каже мне…
— Что? — не поняла Вика.
— Как же мне было плохо… одной… в этой твоей Москве.

Москва. Журнал наблюдений
Я слоняюсь в ожидании встречи там, где Покровка впадает в Китайгородское море, она вьется ожившей лентой моего инстаграма. Пробегают вниз пуховики да мартинсы, свежие домашние панк-стрижки, обрывки фраз прохожих в сознании сверстываются облачками реплик из комиксов, пока я стою и выбираю «тот самый» из проезжающих мимо самокатов.
На боковой улице виднеется новая стрит-арт работа, на ней полуразложившийся зеленый Ленин. Он почти выбрался из Мавзолея и нависает над молодым человеком, который пишет что-то в большой лососевый блокнот. «Почему ты такой молодой?» — спрашивает Ленин. «Потому что ты такой старый!» — бросает ему парень и отходит.
***
В ресторане «Буфет» ужинает молодая московская семья. На ней: малахитовый пижамный костюм из шелка с белой окантовкой и лаконичный нюдовый маникюр. На нем: белый свитер с высоким горлом и очки. Темный низкий зал освещен всего двумя торшерами. Но на их лицах разлит ровный голубой свет. Она говорит ему: «Таргет!» Он ей: «Редколлегия». Она: «И бонус-видео». А он: «Первая профессиональная премия». Она: «Негативный отзыв, Рамблер, стикер-пак!» Он: «Индустрия, шорт-лист, новые технологии и новая мораль». На том разговор утихает. Становится слышно, как под столиком стонут и расползаются жертвы свободного воспитания, их дети. Лебедь, рак и щука, вместо погремушки они перетягивают друг у друга ключи от родительской новостройки.
А в углу ресторанного зала стоит старинный бурый буфет. Внутри него живет домовой. Он целыми днями стучит дверцей о голову и скулит. Раньше он был человеком, владел этим рестораном, но ресторан пришлось продать, и даже этого не хватило, чтобы покрыть долги. Вот он и прячется здесь от кредиторов, периодически перестукиваясь с собратом по несчастию из соседнего мебельного.
***
В сквере стоит памятник, а под памятником стоит мужик, у ног мужика метет метель. Вокруг мужика медленно покачивается толпа из немолодых людей, мужик возвышается над толпой, кричит, вскидывая обе руки:
«Они хотят использовать силу ветра!
И они используют.
Они хотят заставить нас использовать силу ветра!
Хотят использовать ветер!
Кто-нибудь видел ветер?
Я не видел!
Но я видел много ветряных мельниц!
Эти штуки убивают! Они убивают много птиц! Как в том страшном фильме, но по-другому!
Умирают птицы, а не люди.
Мы любим наших птиц, разве нет?
Мы все любим птиц!
Они наши, русские птицы!
И когда ветряные мельницы убивают птиц… Это эпидемия!
Это должно быть для нас как эпидемия!
Вон там, посмотрите! Птица! Смотрите! Какая это умная птица!
Они убьют наших птиц, а на их место придут крысы!
А черви? Ветряные мельницы сотрясает землю, а земля выбрасывает червей!»
***
В знаменитой московской «яме» на Хохловской площади, в месте встречи и увеселения московской молодежи, решили сделать чучело на Масленицу. Принесли кто что смог. Фанатскую футболку несуществующей, разумеется, рок-группы набили тщательно отмытым пластиковым мусором, который, вообще-то, готовился на отправку в переработку, но тут такое дело. Все это закрепили на палку от елки с крестом в основании, украсили цветастой юбкой, туристической панамой и дутой курткой неактуального уже цвета «миллениал пинк». В итоге чучело напоминало модель с показа Balenciaga 2018 года, а еще, конечно, Рауля Дюка из культового фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Полюбовались, но сжигать побоялись, решили просто оставить как есть, само как-то потом разберется на составляющие. В общем, сделали и сделали, а внимание стало уже, понятно, переходить на какие-то другие вещи. Но тут чучело ожило.
Ну, все собрались вокруг него и спрашивают: «Ты кто?» Он и говорит: «Я дискордианский жрец-миссионер!» Все смеются: «Чего? Какой миссионер?» «Дискордианство — свободная левая религия. Служим, короче, хаосу. Давайте, ребята, все подумайте, кто чему в этом мире поклоняться будет. Но чтобы у всех разное! Свое! А потом будем в игры играть!» — объявляет чучело. «Чувак, слышь, ты, может, акционизмом бы занялся каким-нибудь. Политическим искусством, что ли. Тебя ж типа все равно “кто ж посадит”. Ну, хотя бы права ЛГБТ, блин», — на полном серьезе вдруг предлагают чучелу ребята. А чучело: «Ну не, ребят, это че-то как-то не прикольно в целом».
Ну и после этого все разошлись недовольные и Масленицей этой, и собой как-то, что ли, и Москвой этой долбаной.
А чучело ночью волки разодрали.

На проспекте Курчатова сплошные малоэтажки
На проспекте Курчатова сплошные малоэтажки:
так удобно прыгать глазом по низким окнам,
залипнуть бы в телефон — может, там что-то важное.
Ничего там.
А за стёклами чайник свистит и кладётся сгущёнка
в розетку из хрусталя или в крышку от банки.
Не стесняйся, но помни о том, что смотреть запрещёнку
лучше с изнанки.
Бритые головы спрятаны в кружеве занавесок,
мутным пятном оранжевым старческий абажур
манит тоской упрямой, рубчиками от порезов.
Что-то ищу в отражениях, но
не нахожу.
Вспыхивают неоном окна натуралистов,
мне сказала подруга — выращивают коноплю.
Как через дырку в заборе лезу в чужие жизни,
будто бы в этих жизнях
я отыщу свою.

Напротив презирают занавески
Напротив презирают занавески
И топлес курят,
Но это мелочь, если миопия
Рисует окна в пене тополиной
Инклюзом или пасторальной фреской.
И запах дури
Балконов постмиллениума, пиво,
Заброшенное в заводь жёлтых лилий,
Капризные детины, лай бездомный, —
Смешная малость,
Барашки на покойном Пермском море.
О них не скажешь много. Нас роднила
Цивилизация, покуда томно
Плеча касалась
Безветренная ночь, и на повторе
Твердил району с фанатичной силой
О боге соловей. Дома молчали
Нагретой краской,
Лежалой пылью и тоской панельной,
Оглохшие от бурного распада,
И, полное родительской печали,
Стыдливой ласки,
Звучало виноватой колыбельной
Ночное небо, словно космос падал.

Нижнему
Ты ждёшь под окном,
Ты лежишь за окном,
Мой Нижний,
Неслышно свистишь мне,
Поёшь серенаду.
Коварно хохочешь,
Гуляешь с другими.
И выйти из дома
Так просто —
Так сложно —
А вдруг не заметишь.
На улицах толпы.
Ты шлёшь мне в окно
Сотый солнечный зайчик.
Ко мне подсылаешь
Конфеты и книги.
Твой смех я ловлю
В громыханьи трамвая.
Ты хочешь, чтоб я,
Про себя забывая,
Летела и пела,
Тобой любовалась,
Тебя воспевала,
В тебе потерялась —
Как эти, которых
Огромные толпы
По всем твоим жилам
Текут бесконечно.
Но стоит мне выйти —
Я буду забыта,
Я стану «одной из»
В толкучке трамвайной,
Я между домов
Не увижу рассвета,
Я смех твой лукавый
Уже не услышу.
Стою у окна
И тебе улыбаюсь.

Одно из трёх
1.
— это оно?
— да
— точно?
— держи камень
— точно оно?
— на счёт три бросаем и бежим, понял?
— точно?
— бе
— жи
— м
2.
прежде чем посмотреть в окно
нужно к нему подойти
опереться на подоконник
заметить опавшие цветы герани
собрать их в горсть
перекрестить все видимое и невидимое
живущее и выжившее
в границах и за пределами окна
увидеть как жук-короед плюет на стекло
безбожник
теперь точно придётся мыть
3.
выходя из «Магнолии»
смотрю в окно дома напротив
через которое вижу
воздушный шарик-цифру
сегодня там
тройка-золотинка
уже три года
это мог быть мой
вид из окна

Окно
Старинным окнам столько лет уже,
Что солнце застревает в витраже,
Открой задвижку — отзовется визгом,
И там, за перекрестьем, за карнизом
Ни слов, ни красок — всё белым-бело.
Очаг отдал последнее тепло,
Но всё живёт, храня под пеплом искры.
Сорочий хвост мелькает на сосне.
Ночь не дала ни сил в коротком сне,
Ни тонкой нити сказочных предвестий.
Пошли же знак. Скажи, что будем вместе
Или, напротив, покажи сейчас,
Как нож буханку рассекает враз
В одном определенном кем-то месте.
Шитьё забыто, брошена игла,
А снег нашел дорожку из угла
И наискось летит на подоконник.
Как нежный пух. Коснись — рука утонет.
Собрать в горсти, прогнать тяжёлый жар.
Но остриё — иголки, не ножа, —
Коварно бьёт стрелой в мишень ладони.
Уж лучше нет вестей, чем эта весть.
Мир уместился в малой капле весь —
И свет, и тень. Но, кажется, успела
Засыпать снегом — алое на белом.
Загадывать такое — что за вздор.
Рванётся сердце — неуклюжий вор,
Едва-едва не пойманный за делом.
Часы пробьют, как водится, спеша,
И солнце, раскалённый мутный шар,
Скользнув из тучи, как из рваной сети,
Покатится в сплетенье разноцветий.
Извечный свет толкнётся в витражи.
Смотри, смотри, всё можно пережить —
Всё, что придет, с рождения до смерти.

Пейзаж — твой Левитан
Пейзаж — твой Левитан. Куда ни глянь —
Зажмуришься. Здесь после Сотворенья
Возник собачий лай да пара-тройка бань
На три-четыре крохотных селенья.
Блаженны алчущие, без пяти
Успевшие затариться баклашкой,
На испыленном и завилистом пути
Верстая время ржавой открывашкой,
И не мешавшие ноль тридцать три
Ни с чем иным. Комар в клочке
Небес — окошко в жизнь, тепло внутри,
Два паука пригрелись на очке.
Ленивых коз, печальных псов невинный край,
За черепицей над ботвой — мазурки мух,
И если есть отсюда путь, ведущий в рай,
То до него не миновать тягучих двух
Часов в электропоезде «Москва —
— неясный штрих — село — безвременье — NN»,
Да в общем-то не важно. На черта
Знать остановки на пути в Эдем:
Ведь обозначены на картах те места,
Которым только карта даст понятье.
Там осень красная и что-то Ильича,
Да три пустых бутылки под распятьем.

перекати-пакет
перекати-пакет
парит над проспектом
мы курим на кухне и бро
роняет пепел в рукав халата
говорит — еб*ть я царевна-лебедь
и взмахом руки освобождает пепел
он падает на пол и рассыпается в пыль
перекати-пакет взмывает в потоке воздуха
и опускается на трамвайные пути
мне досадно смотреть как его разрежет,
поэтому отворачиваюсь,
бро задумчиво тянет — в старости
хочу быть как большой лебовски
ходить в халате и тапочках за бухлом
и каждый день пить любимый коктейль
я улыбаюсь —
это хорошая мечта,
ты сможешь ее воплотить
а сейчас — пора отдыхать
нам обоим завтра работать
потому что быт, как незнакомый амбал
всегда приходит с одним вопросом —
где деньги, лебовски
счета за коммуналку орут
где деньги, лебовски
мы пришли за деньгам
и они не верят тебе
чувак
мы разбредаемся по комнатам
лежать на кроватях,
залипая в свои экраны
я слышу —
на проспекте грохочет трамвай
он разрезает перекати-пакет

Под пробочкой
Андрей Петрович натянул тельняшечку, прыснулся духами, сделал па в погоне за рукавом лёгкой куртки и молодцевато хлопнул дверью съёмной квартиры. В подъезде пахло прелыми бычками, лифт навевал тоску, а тосковать Андрей Петрович был совершенно не расположен. У него была назначена встреча. Андрей Петрович ощупал куртку, карман которой приятно тяжелили деньги, и вышел на улицу.
Город бился свежей рыбой в сети транспортных хабов и полыхал чешуйками крыш автомобилей и новых поездов. Сегодня это трепыхание не раздражало, а веселило Андрея Петровича, ему казалось, что он даже слышит запах моря за стеной егозливого коммерческого привкуса моллов, барбершопов, электросамокатов, курьеров, такси, реклам маркетплейсов и фастфуда. Жители мегаполиса впрыскивали жизнь и деньги в него, как коварный продавец фруктов из городской легенды впрыскивает химикаты в яблоко.
Андрей Петрович шёл бодрым шагом, перетекая, как шарик в пинболе, с улицы на переулочек, с переулочка в поворот. В повороте за краснокирпичным домом он готов был повстречаться с прекрасным.
Прекрасного ждал не он один. В закутке стояли двое: работяга лет сорока в зелёной курьерской робе и молодая девушка в круглых синих очках, раздраженно теребящая сумочку-клатч. Они вздрогнули, заметив незнакомца, но увидев тельняшку, умиротворяюще зебрящуюся из-под расстегнутой куртки, тут же успокоились, оценивающе поглядев на Андрея Петровича и так же настороженно — друг на друга. «Этот — наш человек, работал два месяца, копил, а сейчас по-русски спустит всё за один день, — подключился к процессу угадывания Андрей Петрович. — А эта переехала недавно, может, замуж выскочила или студентка. Конечно, в интернете пишет видео о красивой жизни и рассказывает, как красиво живёт, а вот гляди ж ты, всё равно пришла».
И тут явилось прекрасное. Темнокожий парень зашёл в переулок и оглядел собравшуюся публику, приветственно подняв светлую ладонь.
— Эма, чёрт чумазый, а Володька где? — растерянно произнёс работяга по-русски. Девушка кинула на него осуждающий взгляд, Андрей Петрович непроизвольно улыбнулся. — Обычно Володька всё приносит.
— Володя’s at work. He told me to take money and give you the pot.
Работяга сжал кулаки, и Андрей Петрович понял, что пора вмешаться:
— Уважаемый, извините, не знаю вашего имени, всё в порядке, это Джим, он работает с Владимиром Леонидовичем. Дай, Джим, на счастье лапу мне, помните? — засмеялся аккуратно Андрей Петрович и потряс руку Джиму.
— Меня Димой зовут. Ну ладно, мани так мани, — примиряюще сказал работяга, похлопав по карману. Девушка напряженно стояла поодаль, будто бы не имела отношения к этой компании.
Джим вытащил три маленькие бутылочки коричневого стекла, раньше в таких бутылочках под резиновой пробочкой — пробочка над крепким йодом — держали всякие лекарства. Быстро передав деньги и приняв бутылочку, девушка чуть ли не бегом, обгоняя уходящего Джима, пошла прочь из тупичка.
— Ну вот и зачем вот домой нести? Либо соседки по кампусу сдадут, либо муж скандал устроит, а там развод, потеря прав, девичья фамилия, а, Дмитрий Батькович, вы со мной согласны? — всхихикнул Андрей Петрович.
Работяга хмыкнул и пожал плечами. Андрея Петровича понесло на любовь к людям, что было неудивительно со счастьем, надёжно лежащим у него в ладони. Смахнув невидимую пыль с ближайшей лавочки, он жестом пригласил Дмитрия присесть.
— Дмитрий Батькович, сообразим на двоих, раз уж на троих не получилось. Вы не бойтесь, брать с наших славянских морд нечего, тут народ смирный, никто не разденет, а полиция нашей тоски ещё не нанюхалась.
Сотоварищи по счастью чокнулись, свинтили пробочки с бутылочек. В стеклянной пещере золотою горкой из детской сказки про хоббита призывно поблескивал москалин. Андрей Петрович высыпал долгожданную радость на язык и почувствовал, как сахарной пудрой москалин всосался в кровь. Кирпичная стена налилась большим красным яблоком на фоне синего неба и вдруг лопнула, как воздушный шар.
— Андрюша, обедать!
Андрей вскинул голову и увидел, как из-за белого заслона трусов и маек из окна барака ему машет мама.
— Сейчаааас! — заорал Андрей, пнув что есть силы мяч, рвущийся под ноги. Рыжая пыль разлетелась вдребезги от падения на мяч Толяна, который стоял на воротах.
— Ну что, проигрыш, 5:4, — ехидно ухмыльнулся Толька. — Калита, калита, а в воротах — пустота! — насмешливо пропел и кинул мяч Андрею. Специально в голову целился, зараза.
— Смотри у меня, сосиска микояновская, завтра отыграемся.
Андрей побежал домой. На Калитниковской улице бушевало лето, мама мыла раму, пахло солнечной пылью и свежим бельём, в бараке тётя Ира таскала за уши провинившегося Кольку, с которым завтра снова можно будет сбегать на стройку и наковырять гудрон, а потом в библиотеке взять новую книжку Каверина. Коридор барака гудел, как улей добрых пчёл, Андрей шагнул в его прохладный лаз.
Андрей Петрович встал со скамейки. Соседа уже и след простыл. Рабочий класс москалин брал не так забористо, как пожилых поэтов. На Большое Яблоко опускался вечер. Андрей Петрович этим вечером был счастлив.

Реприза «Новая Игра»
— А у меня для тебя есть совершенно новая игра.
— Интересно!
— Игра очень простая. Нельзя говорить слово «нет».
— Нельзя говорить «нет». Все ясно.
— Как скажешь «нет» — так проиграл.
* * *
Знакомство с Москвой для меня началось с долгого спуска в метро.
— Дедуль, а представляешь, если наверху взорвется бомба и нас всех завалит?
— Абсолютно невозможно, Котенок.
Дама в песце назидательно выдохнула мне в лицо чесноком:
— Во время войны метро было бомбоубежищем. Стыдно этого не знать, деточка!
Дедушка растерянно потёр ручку чемодана. Дама измерила взглядом степень нашего невежества.
— А вы… вы знаете, кто самый известный клоун СССР? — От моего вопроса оторопела и дама, и ее песец.
«Не знает», — подумала я и на всякий случай прижалась спиной к дедушке.
Тут ступенька поравнялась с платформой, и мы друг за другом сошли с эскалатора.
Дедушка улыбнулся:
— Ты?
— Понаехали! Юрий Никулин, конечно! — фыркнула дама, и песец слился с толпой.
Я взяла дедушку за руку:
— У нас же на него билеты, да?
* * *
— Давай сыграем.
— Давай. По рублю.
— Ну, давай по рублю.
— Ага. А ты раньше в эту игру играл?
— Нет.
— Нет? Проиграл.
* * *
Вокзал встретил нас двадцатиградусным морозом, запахом гари и мазута.
— Приехали, блин. Оно нам надо было? — Саня поправил шлейку сумки.
— Мне нет. Я вообще хотела в Питер. — Стертым носом сапога я ковыряла утоптанный снег.
— Да ладно вам! Поезд вечером. Что мы, день в Москве не выдержим? — Витек потёр покрасневшие уши.
Моя новая куртка, с трудом купленная по талонам, низкосортно хрустела.
Витек покосился на звук:
— Ты скрипишь, как старая бабка.
Я быстро намотала шарф, как платок, сгорбилась и оперлась на руку Санька. Он прижал мою руку к себе локтем.
— Холодно, однако! — прошамкала я.
Витек и Саня захохотали.
— Ну что, старушка, на Красную площадь? В Мавзолей? — Витек постучал ботинками друг о друга.
— Мамма мия, нет! — Мне стало душно от мысли о сладком затхлом воздухе в помещении с желтой мумией. И сразу вспомнилось, как в детстве на Красной площади мне мерещились колья с отрубленными головами, затопленная кровью мостовая и слепой зодчий — создатель сказочного собора. Я почти вцепилась в Санькин локоть. — Может, в цирк? Новый?
Витек натянул капюшон поглубже:
— В Макдональдс можно, ресторан всё-таки. И клоун там, говорят, бывает.
Через час Витек разочарованно смотрел на бумагу из-под гамбургера:
— Шило какое-то!
— Зато попробовали. — Саня дыхнул себе в ладонь, поморщился и достал всем по «Взлетной».
— И с клоуном не повезло. — Витек забросил конфету в рот. — Что еще хорошего в этой Москве?
Мы с Саней переглянулись и одновременно запели:
— У дверей заведенья народа скопленье, топтанье и пар…
Витек кивнул:
— Да ну вас, остряки. Может, на Арбат, напишем, что Цой жив?
И мы гуляли весь день. Посреди суетливого муравейника мы никуда не спешили. Саня не отпускал мою руку, и мне было тепло.
Тогда я еще не знала, что назавтра, вернувшись домой, я буду держать в своей руке руку бабушки, и это будет ее последний день.
* * *
— Знаешь что? Давай сыграем по два рубля.
— Давай. Пожалуйста, два рубля.
— Только с условием: выиграешь — угощаешь меня пивом.
— Ну нет уж.
— Нет?
— Ах ты ж!
* * *
Аэропорт Шереметьево встретил меня Мерседесом S-класса. Водитель в костюме уложил мою сумку в багажник и услужливо открыл заднюю дверь. Я почувствовала, как спина выпрямилась сама собой. Роскошь приняла меня в объятия.
Огни проспекта танцевали, искрились и серебристыми бликами скользили вниз.
В кармане у меня было тридцать долларов, и я судорожно прикидывала, хватит ли мне на чай водителю. Платить чаевые не пришлось, ведь я приехала в лучший отель к лучшему в мире боссу.
Неделя была похожа на лихорадку — встреча за встречей, каблуки, три часа сна в сутки, завтрак и вода, удачные находки в переводе. В конверте — полгода работы в офисе с девяти до шести. Мечта засверкала отточенными гранями.
«Я — хороший переводчик. Бабуль, ты видишь? Всё было не зря!» — думала я, стоя вместе с охранниками у входа в двухэтажный номер, снятый для заключительной вечеринки босса.
Из номера вышел он сам. Послышался визг танцующих, которых поливали шампанским.
Босс подошел так близко, что я почувствовала запах его пота.
— Не хочешь к нам присоединиться? — Он сказал это так, словно набросил мне на плечи бархат.
Я сделала шаг назад.
— Нет, не думаю. У меня муж, и…
Его взгляд тотчас сделался ледяным. Он вернулся в номер, хлопнув дверью. Плечистые парни сделали вид, что ничего не слышали.
Я опустилась на благоухающий корицей пол, вздохнула и тихо запела: «Я давно дал обет никогда не являться в такой ситуации». Крепкие ребята усмехнулись. Роскошь разжала объятия.
* * *
— Знаешь что? Давай сыграем по пять рублей.
— А у тебя есть?
— Найду. По пять рублей играем. Десять рублей никто не разменяет? Пятерочка только? Эх!
— Десяточку не разменяешь?
— Нет. О, черт!
* * *
В вагоне скоростного поезда еще пахнет новым велюром и пластиком.
«И сижу, словно в ложе, и очень похоже, что сейчас будет третий звонок», — еще не тронулись, а пульс уже стучит в висках.
Знаю, знаю — это последний раунд нашей с Москвой игры.

Скорость и ожидание
Москва для меня — это скорость и ожидание.
Ты мчишься по шестиполосной магистрали мимо жилых домов, время от времени мелькает цифра «80» в красном круге, но приедешь на место при этом часа через три.
Из конца в конец как будто в другой населённый пункт.
И если вдуматься, то порой ты и переезжаешь из городка в городок, просто на других дорогах между ними есть промежуток — хотя бы 200-300 метров, а кое-где пара десятков или сотен километров с полем или лесом.
А тут непрерывные ряды домов, но в одном месте стоят две таблички.
Перечёркнутое красной полосой слово «Москва», а за ним сразу же слово «Люберцы».
И от того, что они срослись друг с другом, ты не ощущаешь, что приехал в другой город.
Это всё ещё Москва.
Москва — город транспортного разнообразия.
Идти пешком.
Стоять на самокате.
Крутить педали велосипеда.
Арендовать машину через каршеринг.
Сидеть в такси.
Ехать на автобусе, троллейбусе или трамвае.
Спускаться в метро.
Трястись в электричке.
Плыть на лодке.
Лететь только вот нельзя.
Это было бы слишком быстро.
Москва — город выбора контента.
Чтобы скрасить ожидание, ты слушаешь музыку, аудиокниги или подкасты, листаешь печатное издание или переключаешь страницы на читалке.
Но чаще всего ты выбираешь белый треугольник на красной подушке.
Тебе помогает высокоскоростной мобильный интернет.
Но надо ещё немного подождать.
«Видео начнётся после рекламы».
Так ты скрашиваешь ожидание ожиданием.
Иногда маленькие белые цифры, отсчитывающие секунды до появления кнопки «Пропустить».
5…
4…
3…
2…
1…
Что, если бы можно было пропустить скорость и ожидание, а сразу оказаться там, где нужно?
Наверное, это была бы уже не Москва.

Слишком люблю здороваться
Слишком люблю здороваться
Слишком
Много раз махала мальчикам
Оконным,
Которые
Вне краснофигурности,
Хоть и на черном
Фоне.
Здравствуй, здравствуй,
Самое лучшее за день ты,
Такой зубастый
И ласковый,
Хоть и на черном фоне.
Моешь окно, растворяешься.
А я в погоне
За подлежащим нам,
Несказуемое которое.
Беспокойное. Носится
Над просторами.

У меня за окном
У меня за окном —
Спорткомплекс.
Там играют дети,
А я — нет.
А я — нет.
У меня за окном —
старая хрущевка.
Там одна парочка
постоянно ссорится,
затем мирится и
занимается любовью
(достаточно скучно),
А я — нет.
А я — нет.
У меня за окном —
сбербанк.
Там один мужик
пытался взять кредит,
носил справки,
все оформлял,
теперь ходит туда
каждый месяц
и отдает пол своей зарплаты,
А я — нет.
А я — нет.
У меня за окном —
остановка.
На ней круглосуточно
стоят какие-то бабки,
чего-то ждут,
держат свои пакеты,
рассуждают какие танцы
были раньше
и какая плохая нынче музыка,
заходя в автобус — толкаются,
пытаются сеcть
и уезжают,
А я — нет.
А я — нет

Утренняя Москва
Утренняя Москва
обещает с три короба, выполнит — черта с два.
Я к ней приговорена
пожизненно, и она,
словно любовь, одна,
словно любовь, от Бога.
Раньше казалось, что этого слишком много.
Нет. В самый раз.
Ни слёз, ни глаз.
В Москве весна.
Моя голова ясна
до следующего сна.

Утро за окном
Когда поднимается солнце,
в ужасное верится меньше.
Кричат попугаи на ветках.
В окно проникают лучи.
К забору магнолия жмется.
Коты на траве — безмятежны.
Ругается с мужем соседка.
И утренний кофе горчит.
Ворона клюёт флегматично
кусочек черствеющей сдобы.
У дома алеет гибискус.
Белеют тарелки антенн.
И вроде бы все как обычно.
Но только, царапая нёбо,
саднит металлический привкус
ночных леденящих сирен.

Я бросаю куски белого хлеба
Я бросаю куски белого хлеба
Из окна четвертого этажа.
В воздухе их ловят шустрые чайки
С черными головами.
Белоголовые чайки не умеют
Ловить хлеб на лету,
А могут только подбирать его с земли.
Папа говорил,
Что черноголовые чайки называются крачки.
В детстве я ему верила на слово,
Но сейчас сомневаюсь, что это правда.
С годами я поняла,
Что многие его истории,
Которые мы с братом слушали, раскрыв рты,
Папа приукрасил или полностью выдумал.
Он больше не рассказывает историй.
Речевой аппарат он использует
В основном для того,
Чтобы спросить у жены,
Что поесть
И что надеть.
Его мозг проржавел и укутался паутиной.
Он забывает знакомые лица и тропы,
Медленно дрейфуя по сонной жизни
Под приглушенные звуки хоккейного матча.
У подъезда застыл Сеня с пятого этажа,
Как будто задремал с открытыми глазами.
Сеня моложе меня на год.
Значит, ему еще нет сорока.
Раньше Сеня играл в группе на барабанах,
А сейчас он алкоголик и наркоман.
Я на днях ехала с ним в лифте.
Его лицо страшное,
Как у оплывшего воскового Деда Мороза.
Когда мне было пятнадцать,
Я почти каждый вечер кормила крачек из окна,
Глядя, как солнце опускается в лес,
Я представляла, что стану одной из них,
Полечу с балкона над лесом.
И над множеством других лесов.
Прошло еще пятнадцать лет,
И я улетела.
Но от этих гнилых нерушимых уз
Я никогда не буду свободна.
Сеня поднял на меня взгляд.
Его глаза прозрачные,
Как у сбитого машиной пса,
У которого уже ничего не болит
И который
Мирно доживает на обочине
Свои последние минуты.
Лицо Сени перекосила беспечная улыбка.
Я никогда не уезжала отсюда.

Город на Волге
Саратов, историческое тюркское Сары-тау — «жёлтая гора», интеллектуально-дерзкое Сарытаун, ехидно-ностальгическое Желтогорск, до противного свойское Сарик.
Огней так много…
Рыжие, как осень, противотуманные фонари подсвечивают пергамент листьев с фоном из вечернего ультрамарина. Выгнутый мост через Волгу — путь в автопробках над прошедшим летним счастьем. Ведь сама Волга — счастье же и беззаботность. Плюк-плюк, и чаячьи крики, и гудки судов. Крошащаяся красным туфом набережная с каштанами в огнях — пройтись вдоль счастья, прикоснуться к нему — хоть к парапету, приобщиться, подышать им — волжским воздухом, а после снова в офисы, в автобус, по домам.
Счастливцы те, кто в домах на этих двух километрах старой набережной дышит тёмной, в красных точках бакенов и золотой подсветке моста, Волгой, и дышит утренней Волгой с восходящим над ней днём, и дышит вечерней с ее сиреневыми закатами. Их предки, видимо, заслужили, украли или просто бездумно получили возможность жить из всех домов города именно здесь, у широкой реки.
В деревню, к тётке…
Лето — это она, оно — счастье на островах, на дачных берегах, на склоне с чёртовым пальцем-останцем, затерянным среди сиреневых куп и помойных куч частного сектора. Да, простите: город малофонарен и не чист, город заброшен властями и хаян горожанами.
Свои ладони в Волгу опусти…
Верующ ты или неверующ, но всякому тебе знаком трепет и восхищение той сверкающей рябью. Снизу вверх ты смотришь на гостей, сходящих с четырёхпалубных с золотыми буквами, на равных прищуриваешься на танкеры и баржи. Всё, что она несёт, всё — золото, а не золото, так серебро — вишь, как переливается вертлявый слиточек на лесе у рыболова. Как про могилки говорят — надо, чтоб храм было видать, так про квартиры — чтобы с видом на Волгу. Жизнь удалась, когда с видом. Хоть кусочек её видно: если опасно высунуться с балкона и ещё голову выкрутить, то почти удалась жизнь — увидели!
Встретимся на площади, потом к Волге спустимся.
Сначала дела поделаем, а после до Волги дойдём.
Это всегда «движение к», цель конечная, но недосягаемая. Что дойдём-то?
Дойдём до набережной, может, сунем руку пощупать воду. Самые отвязные купаются с бетона у ротонды — опасное дело: складывают кучкой одежду, спускаются осторожно.
Кто они? Вы кого-то лично знаете из этих людей? Их кто-то знает? Они вообще — люди?
Они, причастные Волге, им туда можно? Я здесь, у белой ротонды, причастилась однажды на Крещение, когда это было ещё не в моде. На нас глазела толпа — у меня фотография есть, как мы глазели в детстве на гостей Волги, сходящих с четырёхпалубных с золотыми буквами.
Эх, Волга-Волга, мать родная, кто тебя выдумал?
Издалека-долго, и в каких бы волжских городах я ни оказалась, я в мыслях передаю по ней, по воде, сюда привет, а ей — респект. Достичь её — как сон-освобождение, как награда с мороженым из полукруглой вазочки под треплющимся ветром бело-синим зонтиком на набережной. Как запах жжёного сахара — сладкой ваты, и в нарядном платье с родителями в выходной в предвкушении чего-то небудничного.
Теперь продлили набережную, посносив лодочные гаражи, насыпали новый пляж — стало больше счастливцев с окнами на восток, больше серо-розовых на закате разговоров на пирсе, дольше летят самокаты, акварельнее лица. Свадебные замочки вцепились в чугунные ограждения — знаем-знаем мы ваши изменчивые закаты да вольные взгляды, нас не разрубишь! Зубастый Гагарин с граффити мечтает о небе, идущие мимо — о счастье, граффити бледнеет со временем, счастье становится точечным, точным, одна точка и снова маета. А Волга — что Волга, она же вечна, как надежда.

На стыке
Умерло Пермское море. Континенты поменялись в лице. Живая плоть, побеги, способные различать солнце, стали прожилками на пурпурных сводах великаньих копей. Когда ты обнажаешь срез в глубинах Аида, кем ты видишь себя, человек? Кем ты останешься, когда след твой затянется красотой и покоем, красотой и покоем, которыми зарастают самые уродливые из пятен?
Крупинкой крови в карналлите, жирным чернозёмом на подошвах тех, кто будет лучше нас?
Тех, кто научится быть украшением и благом, древесным корнем, крошащим бетон.
Максим вытягивает руки с айфоном за край балкона, тыкает пальцем в центр холма на экране.
— Так странно, дом разобрали, какой-то курган оставили. Сравнять же надо, не?
— На сайте администрации писали, там магистральные коммуникации. Их нельзя убирать.
Настя отвечает ему из квартиры. У подъезда копается в петунье соседка, один глаз — в компост, второй — на Максима. Легко понять: Максим, с ухоженной бородой, в лимонном худи, блистает, как попугай на воробьиной тусовке. Свежий выпуск подкаста «Новости нашего двора» верстается по горячим следам.
— Чёт стрёмно с окнами на могильник какой-то жить. Вас-то когда расселяют? — Максим примеряет шрифт для сторис.
— Заходи уже. — Настя задергивает за ним тюль, но балконную дверь не закрывает. Ветер расчёсывает траву на холме, как русалочьи волосы. Цветёт осот, сладкий запах и звёзды пушинок долетают до окон, и Настя воображает, что ветер эльфийских земель играет занавесками. — Нас не расселяют. Дома нет в списках.
— То есть как? Мой снесли, а вы через пару метров.
— Ну, так. Нет деформаций. Твой на стыке с подработанной территорией стоял.
— Ммм, мы стоим на стыке эпох. — Максим что-то печатает. — Мы стоим на стыке, и пох.
Настя садится на свой письменный стол, покачивает ногами и смотрит, как он залип в телефоне посреди комнаты. У Насти в зеркале каштановый хвост, загорелые ноги в джинсовых шортах.
— Ты прикинь, — начинает Максим, но айфон квакает и забирает его снова.
Он теперь укладывает волосы, и пропала его вторая макушка из русых завитков. Похоже, вместе с шилом из задницы, которое когда-то делало его егозливым очарованием.
— Ты прикинь, у меня коллеги заинтригованы прям. — Он наконец засовывает телефон в карман джинсов. — Я им рассказал, что из Березников. Они начитались, видосов этих насмотрелись, где «затоплена калийная шахта», «город уходит под землю», дома трещат, всё, короче, трещит.
— Угу, проваливаемся по три раза за день.
— Нууу, вот требуют теперь с меня фотоотчеты, типа я в Чернобыль поехал по-вашему или чё?
— А ты чё?
— Чё?
— Приехал чё?
— А… так отпуск. Отца проведать. Посмотреть, куда переселили. Ну и вообще давно не был.
— Катя не поехала?
— Да какая… Катя. Не поехала. — Максим садится на стул рядом с Настей и смотрит теперь на неё снизу вверх. — Помнишь, мы ночами болтали по телефону, а ты засыпала прямо с трубкой под щекой?
Максим смотрит в окно на травяной холм. Настя смотрит туда, куда смотрит Максим.
— А у тебя лампа горела в окне, одна во всем доме.
— И я тебе такой: «Ты любишь Орду, ты отдашь за неё жизнь?» А ты такая: «Да, да, конечно!»
— Иди в жопу!
— Ты так смеёшься. И сонный голос у тебя такой. Я только там это понял…
— Я только через три дня позвонила твоему отцу.
— Вот захочешь поговорить, а что им всем скажешь? С чего вообще начинать?
— Три дня у тебя света нет, и ты молчишь. Ты просто исчез.
— Это как анекдот объяснять.
— А я не пишу первой, потому что один раз я уже писала первой.
— А в Березниках есть моя родная Анастасия Сергеевна, которой можно ничего не рассказывать — все и так понятно.
— А ты мне: «Ну не люблю я тебя, не могу я тебя любить, ты же видишь, что ничего не получается». Да, вижу, не получается, действительно, ничего. Ты только не переживай, дружочек.
Максим робко гладит Настино колено. Рука тёплая и чуть влажная. Ни приятно, ни неприятно. На кухне капает из крана.
— У меня книжка есть про город. Здесь столько строили в 60-70е. Думаешь, если бы им сказали, чем всё кончится, они бы поверили?
Максим убирает руку. Снова смотрит в окно.
— Я ведь не верил, что его снесли. То есть я знал, но как так, если он всегда был? Если я во сне всегда возвращаюсь? — говорит Максим.
— Это наоборот правильно.
Максим смотрит в ответ, молчит и не понимает.
— Он теперь целее будет. У тебя вот тут, — и Настя стучит пальцем по своему виску. — Возвращаться вообще не надо, если не хочешь терять. Особенно, если сны.
Заколдованный холм молчит, и нет за ним города, нет улицы Льва Толстого, нет юношей на прокачанных авто, сотрясаемых трэпом, женщин разной степени прелести, прижатых к земле пакетами из Пятерочки. Только ветер в траве, только дрожь молодых, вровень с травой, осинок. И трещина заката на горизонте, алая, как тектонический разлом.

Не прощупывается. Екатеринбургу
Пульса нет. Одна тонкая, длинная, бесконечная линия на аппарате, и звук такой монотонный, писклявый, как в каком-то фильме. Обойдёмся без дефибриллятора. Я очень вас прошу. Возвращаться — это плохая примета, доказано. И если даже посмотришь на себя в зеркало и скорчишь себе рожицу (своё истинное лицо наружу выпустишь), не поможет.
Бейся в грудь, впивайся кастетами (не твоими, взятыми тайком у отца, не твоего) в малахитовую грудь родного города, кричи не кричи — не дозовешься.
— Пульс, ишь чего захотел, пестрёныш, — говорит мне город голосом Бажова.
— Почему пестрёныш? — спрашиваю я город.
А город отвечает:
— Серой Шейки на тебя нет. Какой же ты стал бесчувственный в этой своей Москве, как бамбуковый коврик, с помощью которого можно свернуть ролл.
Я ничего не отвечаю, я мало что понимаю в литературе, путаюсь в текстах Бажова и Мамина-Сибиряка, потому что их не читаю. И до сих пор боюсь Огневушки-поскакушки. И тех ребят во дворе, которые говорили, что она потаскушка и вообще не огонь.
В детстве я был уверен, что Бажов, Мамин и Сибиряк живут одной семьей, и Бажов в этой семье за старшего, потому что с бородой.
А вообще, это все неважно. Пульс у города есть, но не по мою честь.
Вспоминал день своего отъезда из Екатеринбурга. Сидел на чемоданах на дорожку (к вам подъехала белая Киа Рио, водитель Джафар), прямо как три сестры все разом, вместе, в одном флаконе. Но я уехал, а они нет. Но кто их знает. А вообще, я больше Ольга. Я — стоик и кладу все на алтарь, всхлипываю внутрь, застёгиваюсь на все пуговицы, и даже ту верхнюю, которую бы надо все-таки расстегнуть. Как ты там будешь, в Москве? Там ведь все нарастопашку (уральский диалект).
Два чемодана весом в тридцать два килограмма (лимит был тридцать, пропустили без доплаты, последний поцелуй на прощание от города). В одном чемодане — левое предсердие, в другом — правое.
А где желудочек? Где-то между.
Об этом нужно писать книгу. Но зачем? Зачем брать с собой сердце родного города в чужой город? Пока ты летел, все эти два часа полёта на «Победе», сердце ныло, болело, даже останавливалось (показалось), а потом даже заводилось (снова показалось), это все твоё сердце, в груди малахитовой (пока), а то, другое — в чемоданы замурованное — не выдержало и сбежало из багажного отделения, когда шмонали багаж. А ты ведь даже и не заметил, что шмонали и что сбежало.
Зачем ему твоя Москва? Что оно там не видело?
Где запястье у Екатеринбурга,
чтобы нащупать его пульс?
Где твоя грудь драгоценная,
малахитовая, прежняя,
где оно все?
На Урале больше не существует малахитовых месторождений. Все камни везут из Африки. Я давно живу с этим.
Зачем-то придумал, что водителя такси звали Джафар (в переводе с арабского — райский ручей, источник). А машину не придумал. Курсив мой.
Бажов умер от рака в Москве в 1950 году. Не знал. Значит, он мог ездить на метро и так же, как и я, бояться удара турникета.
Мамин умер от плеврита в Санкт-Петербурге и не знал о смерти Бажова, потому что умер задолго до этого. Перечитать «Серую шейку», сегодня же, проверить, насколько все плохо.
А где Сибиряк? Умер? Что вы такое говорите. Типун вам на язык. Кто-нибудь его видел? Куда он опять за-пропасть-ился? Вот же его чемоданы стоят. Оба — его, не трогайте, он вернётся. Какая ещё примета? Нет, он все никак не уедет. Ольга? Какая Ольга? Да, она с ним. Но они уже не вместе. Давно. Темная история.
А Сибиряк где-то между. Там же, где и желудочек. А вообще, об этом надо писать книгу.
И не по верхам щупать-нащупывать, а копать, и как можно глубже.

Очень личный Вавилон
Я родилась в Вологде, где серые ночи и неряшливая река, где чучело волка в краеведческом и недоплетенное кружево в детсадовском кабинете ИЗО, а в магазине-стекляшке — эклер, безе и «корзиночка».
Я приезжала на лето в Каменец-Подольский, где от жары плавится асфальт и лучше идти по камням — прямо через обрыв к настоящему замку, а если уехать дальше, к Днестру, то в недолгих сумерках будет распускаться «ночная свеча», энотера, и звезды будут включаться как по щелчку, кругом будет пахнуть домашним кефиром кисляком, сырым бетоном и клубникой, и можно будет есть черешню прямо с дерева и кормить коз липовыми листьями — так молоко слаще.
Я жила в Сергиевом Посаде, где, спускаясь по проспекту Красной армии, жмуришься от золота куполов Успенского, где монастырская чайная коврижка застревает в зубах, где рабочие районы с их голыми балками, пустыми фонтанами и серебристыми памятниками будто прячутся за золотокольцовыми центральными улицами.
Я живу в Москве, где заливаюсь сладким кофе — лаванда, розмарин, соленая карамель, — и грызу ногти перед тем, как войти в студенческую аудиторию. Я хожу в университет на работу по Покровке, где единый ароматический запах магазинов перебивается запахом разлитого пива, где стены расписаны цитатами и заклеены наклейками, да и я иногда добавляю что-то помадой. Я живу в городе, где вон на тех качелях мы с друзьями пили белое, а вон у той набережной писали шпаргалки — билет должен умещаться на 1/8 листа, а вон из того бара убегали от болтливых знакомящихся к макдачной картошечке, в том переулке мешали портвейн с колой, а в том книжном — Словарь русского мата с «Муми-тролль и волшебная зима».
Я живу в городе — одном, другом, третьем. Перелетаю туристкой, исследовательницей, гостьей. Но сердце мое каждый раз схватывает внезапной нежностью от общего знаменателя всех усталых постсоветских городов: там свет фонарей подсвечивает листья золотым, и золотой свет бьет по пластику и стеклу лоджий, по серому и коричневому панельных многоэтажек, и я думаю, что даже если переехать в Венецию или Иерусалим, настоящая все равно останешься среди этих вот битых стекол и обрывков газет, и одуванчиков, а до них — мать-и-мачехи на черной земле среди гаражей-ракушек, детских горок с прошарканными пятнами перед ними, и шин, наполовину вбитых в землю.
Я бы хотела собрать для себя город из рассыпанных элементов общего и уникального, из бесконечных списков и перечислений «что увидеть в городе за три дня», из того, что сама увидела и полюбила.
Я бы хорошо поработала глиной, камнем и известью, собрала бы обратно свой личный Вавилон до смешения и расселения. И тогда лестница в небо в переулке Львова приведет к негаснущему солнцу летнего Мурманска, а коричнево-красный старый завод Нижнего Тагила померещится тем, кто счастливо и пьяно целуется у каналов красно-кирпичного Кембриджа. Принцессу с плато Укок, что показывается в музее Горно-Алтайска только в дни новой луны, обдаст холодным ветром с Осло-фьорда, из города, где конечная станция метро приводит в горы, и там лежит снег, когда внизу, у воды, уже цветут деревья. Какой хорошей глиной, камнем и известью я могла бы быть. В моем очень личном Вавилоне на кассе в супермаркете говорили бы о физике как в Новосибирском Академгородке, и асфальт обступал бы сосны как все там же, где у Кремля был бы пляж — с зонтиками и волейбольными сетками — как в Великом Новгороде, где посмотрели бы друг на друга каменная русалка реки Вильняле и пестрая кошка из Дербентской крепости.

Первые капли апреля
Дождь у меня ассоциируется с Европой.
Такой дождь в конце апреля, постоянный, когда ходят в пальто, но нет ветра. И только пахнет малахитовой травой, блестит асфальт, автобусы и профили.
Деревья скоро распустятся — это уже московско-советское.
Пахнет Германией… Тысяча воспоминаний. Из Лондона, Софии, Гамбурга. Настя и Ади, мокрые кроссовки.
Дождь, серое небо и медленное утро у меня ассоциируются с Европой.
Когда едешь в автобусе и пытаешься разгадать, куда с тобой едут другие пассажиры. Чем они живут? Почему одеваются так одинаково? И обязательно по-другому, не так, как в Москве, хотя одежда всегда такая же. В Москве мы редко думаем, куда едут другие люди, потому что у нас самих есть цель. Мы одеты под определенный мотив, а в Европе — в поездке — внутри всегда спокойно, гармонично, потому появляется место для вопроса. Этот дождь вымывает из мыслей всякий хлам.
…Подборка лекций на сегодня в Телеграме. В 12:00 что-то завлекательное в МГУ. Сегодня… Двадцать… четвертое апреля. Хороший день, чтобы начать что-то новое.
В метро сидит девушка с масштабным букетом чего-то изящно-розового и вьющегося зеленого. Я как-то так же в метро, глядя на чужой букет, писала стих про астромелии, которые на самом деле альстромелии. «Астромелии головки…»
Вагонный свет и блестящие от воды куртки скручивают и сажают тебя на скамейки новых поездов «Метро 2020», втягивают и вытягивают в двери и из дверей, утыкают в книгу или телефон, запрещают разговаривать с незнакомцами — а только ворчать и толкаться. С утра все дышат усталостью, даже (или особенно) здесь, под землей. Будто дождь в Москве — это простуда.
Странно. В Европе дождь висит в каждом транспорте и кафе, в глазах, в любом разговоре. Чайка… Тягучая мысль. Им пахнет вся Европа.
А тут его нет.

С любовью. Зарайск.
Ночной туман зловеще клубился по обочинам и не обещал ничего хорошего. По крайней мере, Свете так казалось. Проехав две свалки, кладбище и угрюмую погорелую деревню, из мрака выплыл долгожданный указатель, где белым по синему было написано: «ЗАРАЙСК».
Света как-то не так представляла свое первое совместное путешествие с Антоном.
Не в Зарайск уж точно, мать его. Они встречались четыре прекрасных месяца, и вдруг он предложил съездить на выходные в подмосковный старинный городок. В какой — Света не стала уточнять, а когда пришло время, просто закинула сумку к Антону в машину и поехала с ним куда глаза глядят — в темноту.
— Так куда мы едем?
— В Зарайск.
— Куда, прости?
— В Зарайск.
Света напряглась, но виду не подала.
— Я и не знала, что есть такой город.
Антон, казалось, не заметил ее легкого разочарования.
— Он давно есть, аж с 1146 года. Здесь жил мой прадедушка.
— И что мы будем делать в Зарайске?
— Будем гулять, посмотрим Кремль и торговые ряды. Выпьем квасу, съедим окрошку, искупаемся в Осётре. Это местная речка с водопадом. Ты же взяла купальник?
— Ну, раз с водопадом, то я и без купальника могу.
Антон ухмыльнулся.
— Очень на это надеюсь.
К двухэтажной деревянной гостинице под названием «Постоялый двор» путешественники подъехали уже ночью. Света не удержалась:
— Коня-то не забудь в стойло поставить и сеном накормить.
Антон засмеялся.
— Как боярыне угодно. Сейчас мерина отгоню.
«Постоялый двор» оказался аутентичным бутик-отелем, как сообщила надпись на ресепшене. Маленький номер, вопреки страшным Светиным ожиданиям, дышал свежесрубленной деревянной мебелью и был весьма уютным. Засыпая на большой дубовой кровати в обнимку с Антоном, она вспомнила, как ранней весной подруга Даша, начинающий нумеролог, сообщила, что у Светы Венера в пятом доме, а это значит, самое время пуститься в активные поиски второй половинки. Света спорить со звездами не стала и зарегистрировалась в Тиндере. Эта гремучая комбинация не оставила судьбе шанса, и в жизни Светы появился Антон. И вот теперь он обнимает ее на «Постоялом дворе» в Зарайске, а хотелось бы на Мальдивах. Эх.
Утром стало понятно, что кофемашины нет. Угощали сырниками с медом и душистым чаем с кипреем.
— Что такое кипрей? — спросила Света.
— Иван-чай, такой высокий, розовый, вдоль дороги часто растет, — ответила официантка.
— Бодрит не хуже эспрессо. Где его можно купить?
— Да мы вам отсыплем! — воскликнула официантка. На том и порешили.
Июльское солнце уже с утра палило нещадно. Душному променаду по местной центральной площади Света предпочла бы морской пляж и апероль. Но Антон так увлеченно рассказывал о Зарайске, что они медленно, но верно обошли старые полуразвалившиеся торговые ряды, поднялись на высокую колокольню, потом добрели до водонапорной башни, которая по совместительству была смотровой площадкой, и перекусили в Коврижечной. Света узнала, что медовая коврижка — местная съедобная достопримечательность с неповторимым вкусом и низкой калорийностью. По этому случаю взяли еще абрикосовую.
В Кремль они пришли ближе к вечеру, когда солнце надело какой-то удивительный тепло-золотой инстаграмный фильтр. Антон, казалось, знал всю подноготную города, а в краеведческом музее и вовсе выдал какой-то невообразимый запас знаний. Когда они шли вдоль исполинских кремлевских стен, он вдруг повернулся и сказал:
— В нашей семье есть легенда, связанная с Кремлем.
— Правда?
— Мои прадедушка и прабабушка родились и познакомились здесь. Но до свадьбы их довел таинственный случай.
Света села на лужайку из мелкого белого клевера и приготовилась слушать.
— Однажды, будучи подростками, они носились вокруг Кремля. Вероятно, играли в мяч или просто чем-то кидались. Так или иначе, они попали в кремлевскую стену, и старая кладка посыпалась. Один кирпич вывалился целиком, и в углублении ребята обнаружили маленькую костяную шкатулку. Прадедушка открыл ее и увидел резной золотой перстень с рубином. По всему было видно, что не крестьяне его туда схоронили. В каком-то неведомом порыве он тут же надел этот перстень моей будущей прабабушке на палец, тот подошел идеально. Это и стало началом их семейной истории. Вся моя родня наизусть помнит координаты этого кирпича: в стене справа от угловой Тайницкой башни, отсчитываешь снизу 37 кирпичей, сбоку 12…
— Ничего себе! А перстень еще у вас?
— Да, у моей мамы. Мы верим, что он принадлежал той самой Евпраксии, жене убитого Батыем князя Федора, которая выбросилась из терема, чтобы избежать татарского плена. Помнишь, мы проходили их некрополь около собора?
Света опешила.
— Да ладно, почему ты так решил?
— В летописи говорится, что князь подарил ей на помолвку яхонтовый перстень. После смерти Евпраксии его больше не видели.
— Покажешь?
— Не сомневайся! — загадочно ответил Антон. — Так, а сейчас идем к водопаду! Я надеюсь, ты не взяла купальник?
Набережная реки Осётр была небольшой, но имела аккуратный деревянный настил с лавочками и мостками для входа в воду. И она действительно заканчивалась рукотворным водопадом в три порога. Света первой пошла купаться. Антон постоял и нырнул за ней. Хороший был вечер, хоть и не Мальдивы.
Утром Антон заявил, что ему надо срочно переделать отчет, и попросил Свету немного погулять по Кремлю, пока он разберется с цифрами. Света согласилась и побрела вдоль стен, разглядывая вчерашнюю инфо-брошюру.
«Троицкие ворота, Наугольная башня, Спасская, господи, зачем я туда иду?» — подумала она, но уверенно пошла дальше.
— Вот она, Тайницкая! — вскрикнула Света и тут же оглянулась, не слышал ли кто.
Распластавшись на склоне вдоль стены, она стала внимательно отсчитывать кирпичи: 37 вверх и 12 вправо. Должно быть, вот этот кирпич!
Света пошевелила камень, и вслед за ее рукой он неожиданно вышел наружу. Посмотрев на кирпич, потом в отверстие, она засмеялась, положила его на траву и засунула руку внутрь. Есть! На ладони лежала миниатюрная белая шкатулка меньше пудреницы, на крышке угадывались старые, еле заметные узоры. Света дрожащей рукой открыла ее и увидела кольцо. Мелкие золотые бусинки обрамляли оправу большого аккуратного рубина, сам ободок был в непонятной резьбе и немного потускнел. Тут кто-то дотронулся до Светиного плеча, она вздрогнула и обернулась. Антон!
— Господи, ты напугал меня!
Антон не ответил. Сосредоточенно взял рубин и надел ей на палец.
— Выходи за меня замуж.
Света сначала онемела, потом глупо улыбнулась и запрокинула голову, чтобы слезы не потекли дальше глаз.
— Согласна?
— Да.
По дороге домой Света вдруг спросила:
— А если бы я не пошла искать этот кирпич, что бы ты делал?
Антон улыбнулся.
— Я придумал бы другую легенду.

Свидание внемую
Мы встретились на остановке «Парк Горького».
В этом парке моя сестра разбила голову, прыгая на батуте.
В этом парке мы с подружками пихали «Ментос» в бутылку колы, чтобы устроить праздничный залп.
Но теперь я была взрослая. Я шла на свидание с парнем из интернета.
Я вышла из автобуса. Мое сердце колотилось где-то во рту. От волнения потекли сопли.
Парень стоял там. Букет стыдливо опущен вниз, но когда я подошла, парень наставил на меня букет, как оружие. Это были три красные розы, уже скукоженные от холода.
— Ты Зара_014? — спросил парень.
— А ты Панк_навсегда?
Он улыбнулся. Между передними зубами у него была щель. Я решила, что это не очень страшно. В целом он был симпатичным, хотя из-за шапки особо не понять.
Мы пошли гулять. Вниз по улице, мимо публичной библиотеки, мимо «Молодежной моды», мимо длинного строительного забора, разукрашенного посланиями. Мы шли вдоль трамвайных путей, из-за грохота ничего не было слышно, и значит, мы могли не разговаривать.
Я смотрела под ноги.
Его голос выплывал в пунктирах между трамваями, когда наступала тишина.
«…моя группа, мы репаем в старом ДК на Северке, ты знаешь…»
На Северке я никогда не бывала. В этой части города пропадали люди. Девочки вроде меня. Все столбы были заклеены объявлениями, фотографиями. Иногда на лицах этих девочек появлялись усы, очки, иногда члены у рта. Потом фотографии облезали от дождя и снега, и на них сверху клеили другие.
Мы прошли мимо книжного магазина, где я подрабатывала летом. Моя коллега — Роза Захаровна — стояла на своем посту в отделе учебной литературы и смотрела в витрину. Она помахала мне. Хотела бы я быть такой жизнерадостной в свои шестьдесят семь.
Улица стала узкой. Теперь мы терлись друг о друга своими пуховиками с шуршанием, как два мишленовских снеговика. Панк_навсегда взял меня за локоть, когда я поскользнулась. У него была крепкая хватка.
«Я сейчас временно не работаю, — сказал он. — Живу у своего кореша, тут недалеко».
Я перекладывала букет из руки в руку. Пальцы у меня окоченели.
Мы остановились в квадратной арке у дома 32. Там лежала на снегу мохнатая собака. Она подняла уши, когда мы подошли, но потом со скучной мордой отвернулась. Панк_навсегда нащупал мой подбородок в слоях шарфа, приподнял мое лицо. Ему пришлось согнуться, чтобы мы поцеловались. Собака начала лаять, и мы ушли.
«Хочешь выпить чего-нибудь? — спросил Панк_навсегда. — Я знаю тут магазин рядом, давай зайдем». Мы спустились по лестнице в подвал, прошли под гирляндой из мушиных липучек. Отстояли длинную очередь. Панк_навсегда вынул два пива из холодильника. В последний момент схватил упаковку конфет «Мишки на Севере». Конфеты были для меня.
«Присядем где-нибудь?» — спросил он, когда мы снова вышли на холод. Он вытащил сигареты. Я пожалела, что он закурил после поцелуя, а не до. Мне нравился сигаретный запах.
Мы шли через дворы. В одном я увидела ребят, которые расстелили ковер прямо на снегу. Ковер был красный, в узорах, как у моей бабушки на стене. Ребята сидели на ковре, пытаясь собрать кальян. Панк_навсегда свистнул им, и они помахали.
Панк_навсегда здоровался со всеми, кого мы встречали. Девушка с коляской, малышня, которая дралась на горке. Он знал здесь каждого голубя. Наверное, он был популярным.
Мы нашли пустую детскую площадку. Сугроб на лавке был совсем небольшой. Панк_навсегда расчистил мне место голой рукой, пальцы у него покраснели. Я заметила, что у него крупные суставы, как у шарнирной куклы. Наверное, как у всех музыкантов.
Я налегала на «Мишек», потому что пиво в бутылке совсем замерзло. Зажглись фонари. Потом зажглись и окна в доме напротив. Я видела, как за шторами двигаются фигуры. Из открытой форточки доносился детский плач.
«У города свой бит, — сказал Панк_навсегда. — Я хочу записать альбом с таким ритмом, знаешь?.. Ну, типа включить туда звуки улиц. Мы хотим так и назвать, “Звуки улиц”. Индустриальный рэп, типа того. Панк мне уже не очень, я ищу новые направления. Надо двигаться, понимаешь? Все время».
Я поднялась со скамейки. Там, где я сидела, была прогалина, а вокруг — слой снега. На деревянной рейке, прямо под моей задницей, было чье-то послание. Нацарапано острым.
«Кто я?»
Уже холодно. Уже поздно. Мне пора домой.
«Тебя проводить?» — спросил Панк_навсегда. Но не двинулся с места. На плечах у него собрались сугробы. В пустую бутылку задувал ветер, создавая низкий гул.
Я бросила свое пиво в урну, Панк_навсегда взвился, нырнул рыбкой вслед за бутылкой.
«Там же еще половина! Я допью». — Он выудил бутылку, обхватил своей большой красной кистью, прижался губами к горлышку в долгом поцелуе.
Даже глаза закрыл.
Я ушла, пока он не смотрел.
В трамвае сняла шапку — голова чесалась. Тушь смерзлась на ресницах, пуховик поднялся к ушам, когда я села на сиденье с подогревом. Три замерзших розы в тепле вагона размякли, начали испускать аромат.
Кондуктор улыбнулась, проходя мимо.
— Молодые все счастливые, — сказала она.

Точка на карте
Точка на карте движется, движется, ждет. Я сажусь в точку, точка превращается в салон такси класса «Комфорт». Водитель показывает знаком, что нем, что неслышащ.
А мне все равно не до разговоров и даже лучше без них, иначе пошло бы поехало: цены, бензин и издержки, компании, богатеющие на таких как он, о! Слышали, знаем.
И хорошо, ибо раздражение от нудно-рабочего дня достигло предела внутри, готовое разразиться, но сдерживаемо.
Москва. Что в переводе:
Морг. Останкино. Стационар. Кремль. Ваганьковское. Автозавод.
Подножие Останкина, будто грозясь вслед своим исполинским массивом, пропадает из вида. До свидания, каторга, в этот вечер достаточно, встретимся завтра, завтра будет по новой и завтра, и завтра, и завтра. А там и суббота. Сколько я здесь еще выдержу на побегушках ведомых ведущих — год, может, полгода?
Сколько надо — кредиты. Да, стыдно, да, выживательно, да, недостойно, однако — кредиты. С другой стороны, мы не в Северной и не в Корее, найдется другое место, да хоть бы и грузчиком, хоть бы и… Но снова искать! Снова проедать подушку из денег, отказываться от «Комфорта», и как бы не уволокло обратно в Воронеж. Воронеж.
Слово веет тоской, врешь, не воротишь, нож, малая чертова родина, где только умеют судачить за спиной и гэкать фрикативно. Нет, неохота. Суббота, скоро суббота.
Молчание. Опаска. Совестливость. Крик. Враги. Агрессия.
Молчание вдруг обнаруживает себя в движимом автомобиле, водитель, естественно, не слушает радио, а у меня нервное — не выношу тишины. Шоссе под окном, вечный трёп, телевизор за стенкой, всё — подсадило меня за два года на шум, без него не могу.
Аккуратно, чтобы не отвлекать от маршрута, машу, мол: «Поставьте что-нибудь, бога ради, спокойное, без слов желательно?» Ищется невразумительно, крутит колесико, воздушные волны вороша. Найдено, лучше, спасибо. По-немому «спасибо» это кулак, приложенный внутренней стороной сначала ко лбу, а потом к подбородку. Этому меня научил старший редактор, заставший еще сурдоперевод на ТВ. Сурдоперевода в новостях больше нет, его заменила бегущая по низу строчка, так как по каким-то опросам решили: жесты в углу экрана раздражают слышащих потребителей новостей.
Водитель смотрит внимательно в устье дороги, чутко на круги светофоров, мысли его здесь и теперь, не то что мои — я рассеиваюсь, фокус бродит по темени зданий. Здесь горело, здесь казнили, здесь бомбили, здесь стреляли. Город, город, город. Я ненавижу его, а он уменьшает меня против воли, как уменьшается спящий на паперти церкви кочевник в зеркале заднего вида. Я ехал сюда стать кем-то, стать больше, как каждый, кто едет, но вместо — я точка на карте, коих миллионов уж сколько. Сбились считать!
Сбылись ли надежды? Думал ли я, приезжая, вжимаясь в «Не прислоняться», питавшийся гречкой в столовой, я, кантовавшийся месяц у бесконечно далекого старшего брата, думал ли, что буду вот так рассекать свежесть ночи в салоне, говорить по айфону: «Я занят»?
Мама, я в телевизоре! Мама, меня довозят до дома на корпоративном авто, можешь ли вообразить! Ты бы мною гордилась, кабы не застряла в междусобойной провинции, в библиотеке города-гетто, где-то между полками «Б» — безнадега и «У» — уныние и…
И если б не умерли или не съехали все, кого ты любила, но. Но я непременно приеду, мама, я обязательно соберусь навестить, может быть, через годик, только бы встать на ноги, только бы.
Тверская в окне восторгает домами, строенными не для жизни, но для восторга. Пусто.
Пушкин в заборах, не подобраться, не выразить. Днем здесь собирались, роптали, здесь били, здесь забирали. Кого? Обеспеченных, коренных, с жиру бесятся, дразнят собак, мутят воду, это не про меня, я к политике индифферентен. Скажут «продался», отвечу — нужен и вам будет рубль, прикусите языки! Так я себя утешаю, сжимая последней модели айфон в салоне «Комфорта», так уверяю.
Мигалки. Окраина. Стабильность. Комбинат. Водоканал. Аптека.
Город-город-город! Что ты наделал со мною, мечтательным юношей, свежевыпущенным из областного журфака? На каком из вокзалов обворовал ты меня, кинул на идеализм, гордость, интерес к человеку?
Но бывало иначе. Помню, ходил, охваченный новым, свободным, огромным на павелецких задворках, где соседская старость домов и прогресс человеческих взглядов, огней, всепроисходящего кутежа суёт по карманам надежду. Помню на перекрестке девушку Аню. Я только с вокзала, и она, незнакомка, показывала дорогу, вела, видя мою неуверенность, за собой, это здесь рядом, по-свойски, будто мы двести лет. Вы не местный? Нет, я с Воронежа, я журналист, попробую тут…
Вам понравится, сами увидите! Я сама не отсюда, была поначалу растеряна, всюду давило, но потом научилась по-другому смотреть, представлять, видеть незаметное в броском, мелочи в крупном. Это город-случайность, в нем столько историй — сколько прохожих и больше, бесценно и невероятно. Вот и пришли.
Постеснялся спросить телефон, и прошло слишком много. Вспомнилось, заблестело.
Мгновение. Объято. Сном. Куда? Вернитесь! Аня…
Город. Город. Город.

Утро приходит в Ереван
Утро приходит в Ереван, бессовестно опаздывая и совершенно не беспокоясь об этом. Но не со зла, а по безмерному великодушию, прощая себе опоздание с той же легкостью, с которой прощает его другим. Оно идет медленно, слегка косолапя. Довольно жмурится и аккуратно собирает с улиц ошметки таинственной восточной ночи. От него убегают все ее завсегдатаи, боясь сгореть в лучах солнца. И несколько минут город лежит в руинах человеческих жизней — пустой, тихий и мертвенно-бледный, а затем воскресает с новым величием. Такой же вечный и хрупкий, как весь армянский народ.
Появляются первые невольные адепты утра — ученики и студенты, спешат, хмурятся. Оно не принимает их в расчет. Слишком они молоды и суетливы для антикварного армянского утра.
Мудрым старцем проходит оно по скверу Сарьяна, уважительно кивает художникам, глубокомысленно сидит на скамейке. Затем бодро встряхивает головой, и из его карманов сыпятся голуби и окурки. Оно встает со скамейки, идет к улице Туманяна.
Пренебрежительно пропускает ночную Парпеци: не его это территория. Весело, словно бы помолодев на полвека, пробегает по Северному проспекту и восхищенно замирает на площади Республики.
Ленивое кавказское солнышко начинает выжигать мостовые, и армянское утро заканчивается тогда, когда любой уважающий себя европеец уже встает из-за обеденного стола.
Когда заканчивается утро — наступает день. Суматошный и совершенно сумасшедший. Он носится по городу, врезаясь в стены. С одинаковым безразличием разбивает леденцы и телефоны, а то и людей. День никого не любит. Не потому что зол, просто слишком занят. Он сталкивает старых знакомых, чтобы через минуту растащить в разные стороны на тысячелетия. Хохочет, мячиком отскакивая от камней мостовой, небрежно тянет жребий человеческих жизней. Ругается на перекрестках, торгует на рынках, пишет любовные послания на стенах.
День высок, с выгоревшими светлыми волосами, серыми глазами, которые слишком резко выделяются на смуглом лице. Черты его абсолютно неуловимы, поскольку каждый день плавятся под безжалостным солнцем и каждую ночь срастаются немного иначе. День черпает силу в солнечном свете и очень на него похож. Яркий, непостоянный и безумно притягательный.
Когда солнце теряет власть, успокаивается и день, убирает руки за спину и величественно вышагивает мимо Оперы к Каскаду. Смотрит, слушает, удовлетворенно кивает, наслаждаясь последними минутами своего существования. А потом переводит печальный взгляд на возвышающийся над бесконечными ступенями колос Монумента.
В этот момент из неприметной подворотни на улице Абовяна выскальзывает невысокая, изящная барышня-вечер. Идет, позвякивая украшениями и предрассудками, выбивает из камней танцевальный ритм каблуками, а за ней шлейфом стелется запах духов вперемешку со спиртом и дымом. Она взмахивает веером, и на город опускаются уютные сумерки, вспыхивают фонари и витрины, город гудит светской болтовней и блистает улыбками. Вечер порхает по старому центру, поет на улицах, пишет стихи на салфетках, критикует театральные постановки, смотрит кино, сидит в ресторанах. Курит тонкую сигарету через мундштук и улыбается темно-бордовыми губами. Каждого человека она разглядывает придирчивым взглядом, особо отмечая красивых и безрассудных. Такие иногда замечают ее взгляд. Беспричинная тоска по несбывшемуся душит их посреди веселого застолья, и долго еще ходят они, подставляя горячие головы горному ветру. Куда они потом исчезают? Вечер никогда не запоминает. Она спешит к площади Республики.
Часы выбивают восемь, гремит оркестр, приветствуя хозяйку бала. Вода в фонтане бьет в небо, окрашивается в оранжевый и синий. Вечер недолго наслаждается представлением.
Она незаметно растворяется в прохладных брызгах.
Ночь приходит в Ереван неожиданно: откуда-то с окраин, будто бы со всех сторон сразу. И старый центр, попав в оцепление, быстро пустеет. Ночь крадется, прячась под арками, плетет заклинание, скрывает лицо. Свидетели ее смущают.
У ночи много личин, тел, ипостасей, и все она искренне ненавидит. Порой, если луна освещает ее с правого бока, она кажется дамой с пышными формами, огромным носом и соблазнительной улыбкой, если с левого — нервным юношей с выступающим кадыком.
Бывают и другие лица, такие же очаровательные в своих изъянах. И ни одно из них ночи не по душе.
Если день не любит никого, ночь не любит всех. До поры она прячется во дворах и закоулках. Выжидает, как убийца в засаде, чтобы набросить на шеи жертвам удавку-сонливость. И люди исчезают, а город меняется. Ночь пускается в пляс, она дико прыгает и кружится по проезжей части под удары часов, визг одиноких покрышек, лай собак.
Улицы вибрируют, подпевая, силуэты зданий расплываются, подчиняясь безумному ритму.
Ночь танцует, безразличная к чужим печалям, до тех пор, пока не валится с ног прямо в одну из клумб на улице Парпеци. Так она и лежит, разглядывая звездное небо, пока на горизонте не забрезжит рассвет. С первым лучом ночь уходит, оставляя Ереван сиротливо баюкать спящих горожан.
Утро, как всегда, бессовестно опаздывает.

Экскурсионная
Мне до сих пор не верится.
Когда мы обговаривали поездку, весь план казался несбыточным. У тебя была сотня вариантов и только две недели отпуска, а у меня — только один. Один шанс, один город и один ты. И до тебя осталось пять дней, шесть часов и четырнадцать минут. Расстояние между нами теперь измеряется часами, а не километрами.
Я сижу на подоконнике и рисую в блокноте маршрут новой экскурсии. Пробный запуск уже в эти выходные. Загвоздка в том, что мои подопытные кролики самые разные: кому капусту подавай, кому морковку, а кто и вовсе в лес смотрит. С тобой проще: ты всеядный, и информацию в тебя можно закидывать безостановочно, как уголь в топку. Помнишь Питер?
Забежали переждать дождь в музей игрушки и вышли, когда сотрудники стали приглушать свет, тонко намекая, что пора и честь знать. Ты ещё обижался, как ребёнок, и смешно поджимал губы.
Своих я в музей не поведу. Пожалуй, только с субботними школьниками подойдём к входу в изобразительный (ставим точку на маршруте). Пусть посмотрят, что на заборе, кроме матов, писать можно: там на днях стены граффити покрыли. Среди «покрытий» мунковский «Крик» и «Поцелуй» Климта. Ты первый раз поцеловал меня у него в Вене под неодобрительные взгляды смотрителей музея, но для тебя общественное мнение, как прогноз погоды: послушать можно, прислушиваться необязательно.
Ещё мы с ними обязательно пойдём гладить и обнимать тюленя на набережной (жирная точка). Надеюсь, никто из мелких не удумает чмокнуть его в нос, а то на улице зима, потом не отдерёшь. Или кипяточку с собой в термосе на всякий случай захватить? Ладно-ладно, шучу. На самом деле, каждый раз пытаюсь не разреветься, рассказывая его историю.
Жил-был город на Северной Двине в Великую Отечественную. Ну как — жил? Выживал. И шли через этот город, порт на европейской части единственный, все товары по ленд-лизу поставляемые, всё продовольствие закупленное. Шло оно прямиком с корабля, да не на бал, а на фронт. Долго ли, коротко ли дело делалось, а суточная норма хлеба архангелогородца до 125 грамм съёжилась. Только в блокадном Ленинграде столько же выдавали.
В общем, пошли бить тюленя. Жир, мясо, шкуры. Гуси спасли Рим, а тюлень — Архангельск. Надеюсь, ты не спросишь «в каком честнóм заведении отведать тюленьего жирца?» Ты можешь. Знаешь, что на дух не выношу такие шуточки, и подначиваешь. За два года ты меня хорошо изучил.
Стоп, не будем ссориться. Ведь впереди нас ждёт фотосессия с Петром и деньгами. Что? Какой Пётр и откуда деньги? Тот самый, Первый. Памятник. А деньги сам из кармана выудишь.
Вообще, очень люблю этот момент. Попросишь туристов поискать купюру в пятьсот рублей, и они тихонечко зашелестят в кошельках, а сами переглядываются: с деньгами расставаться жаль, но любопытство пересиливает. Найденная купюра перетекает из рук в руки, всем хочется фотографию с Петром, которого «и там, и тут передают». Но ты фотографироваться наверняка не станешь и скажешь, что мой город — дешёвка. Красноярск ты именно так и назвал в прошлый раз, а он мельче. И что тебе гораздо приятнее видеть Хабаровск, хотя ты в нём никогда не бывал. В крайнем случае, Владивосток.
Вообще удивительно, что ты решился наконец приехать сюда: это затратно. Ты говорил, что давно хотел посмотреть, где я выросла, но перебои с деньгами в последнее время меняли планы. Ты даже не смог вырваться ко мне, пока я была в Москве проездом пару дней.
Что-то меня понесло в грустные дебри… Сижу на подоконнике и вру, что готовлюсь к экскурсии, а сама погрязла в мыслях о тебе, как Архангельск в болотах. Пора выбираться: барон Мюнхгаузен, косичку к бою! Верю я, в конце концов, или нет?!
Я ещё весь вечер буду сидеть на подоконнике, прорисовывая наш блокнотный маршрут, но в моём электронном ящике уже будет лежать сообщение об изменившихся планах и сданных билетах. А в субботу я проведу моих подопытных кроликов по набережной до памятника Петру и Февронии у Успенской церкви. Мы замедлим шаг и остановимся поодаль, чтобы случайно не попасть в объектив, нацеленный на молодожёнов. Будем кричать «Горько!», дружно красть невесту и требовать выкуп. Есть честно завоёванные конфеты и слушать волшебное предание о любви, над которой расстояние даже после смерти было не властно. Но тебе я его не расскажу.
Ты всё равно не поймёшь.

Я дома
— И за что только ты её любишь? — спросил меня Стас, суетливо пакуя вещи. — Кругом грязь, нищета, приставучие индусы.
Я молчала. Я просто не могла сказать вслух, что, оказывается, я люблю этот индийский городок с самобытными домишками и яркими моторикшами больше, чем Стаса.
А всё потому, что Индию любят не за что-то, а вопреки. Вопреки пыльным трущобам, змеям, в честь которых здесь даже возводят храмы, вопреки обезьянам, которые скалятся на каждом углу и норовят украсть твой обед. Индию либо любят всем сердцем, либо не понимают. А она и не ждёт понимания. Она ничего не ждёт. Только делится, только даёт.
Сердечно и трепетно.
За этой сердечной теплотой я и ехала в Гокарну, в первый раз по совету подруги. Мне казалось, что солнце отогреет мою замёрзшую в серой Москве душу. Душа действительно отогрелась, и тогда через пару лет я снова вернулась сюда, только уже со Стасом. Я думала, тёплые волны Аравийского моря, белоснежный песок пляжей и душевный народ соблазнят его сюда переехать. Нас ведь ничего не держало в Москве. Оба работаем удалённо, есть квартира, которую можно было бы сдавать, в общем, привет, дауншифтеры.
— Как наиграешься, возвращайся. – Стас выдернул меня из воспоминаний неловким поцелуем в щёку. — Так и будешь молчать?
Я крепко обняла его, будто в последний раз. Он ушёл, недовольно бурча что-то себе под нос про жуткую жару и мою легкомысленность. Я скажу ему, обязательно скажу про развод, но позже. Чтобы он не подумал, что это решение на эмоциях, чтобы знал, что я уже тогда, когда была здесь в самый первый раз, всё для себя взвесила: буду жить здесь. С ним или одна, но здесь.
Помню, в первую мою поездку Гокарна встретила меня настоящей арома-баней. Разогретые жарой деревья, туман от сильной влажности и этот запах, будто на раскалённые в сауне камни щедро брызнули аромамаслом. Нос просто оргазмировал.
Дорога, по которой меня вёз местный водитель, была узкой и темной. Фонари здесь не в почёте, поэтому водители постоянно сигналят, особенно на поворотах. Ощущение, что ты всегда едешь по встречке — непонятно, как им удаётся не врезаться в друг друга. Я рассматривала полумесяц, который был совсем не такой, как дома: яркий серп выглядел явно острее московского аналога, казалось, проведи им по тёмному полотну неба, и останется шрам из света…
Мы приехали к пляжу уже под утро, там меня встречал мой индийский друг Мукеш. Я пару лет назад переводила его на одном московском йога-семинаре. Добротный, как мишка-панда, он стоял и улыбался, покачивая головой из стороны в сторону. Так и не разгадала, что значит этот любимый индийцами жест.
— Обнимашки! — Единственное слово, которое Мукеш знал по-русски.
Тёплое объятие стало официальным стартом моего отпуска. Сначала я строго следовала правилам — протирала руки, приборы и, со страха заразиться, даже фрукты спиртовыми салфетками. Носила с собой деньги и паспорт в трусах. Серьёзно, мама-мастерица сшила мне трусы с особым секретным кармашком, чтобы я чувствовала её заботу даже в те моменты, когда мы не могли пообщаться из-за плохого интернета. А потом что-то перещёлкнуло. Не знаю, было ли дело в Чёрной Скале, в расщелине которой прятался целый храм, в сияющем как снег песке, в шуме моря-океана, которое постоянно было в движении или в том, что меня, жуткую трусиху, не пугали, ни бродячие собаки, ни рогатые буффало с выпученными глазами. Но в итоге я заразилась. Заразилась этой расслабленностью, открытостью, дружелюбием. А ещё поняла, что я, оказывается, многое могу. Могу жить в бунгало из бамбука, пальмовых листьев и без электричества. Могу мыться только холодной водой. Могу вставать в пять утра без будильника, потому что город начинает галдеть, гудеть рынками и базарчиками, которые на каждом шагу. Здесь в одной палатке можно купить и специи, и амулеты, и благовония, и фрукты, и долго удивляться тому, что несмотря на их соседство, запахи не смешиваются, каждая вещь настойчиво излучает свой аромат. Здесь, как любит говорить моя мама «время не успевает за событиями». Она единственная, кто в итоге поддержал мой переезд. Всё потому, что когда-то она сама оставила в Гокарне кусочек своего сердца.
— Не помню, где потеряла его, — рассказывала она мне про это, когда я ещё была подростком. — Может, когда медитировала в священной пещере или когда смывала карму в местном озере, которое называют второй Гангой. Многие верят, что именно здесь, в Гокарне, родился великий Шива. Пусть это будет моим ему подношением.
Как в компьютерной игре, со второй поездкой мне открылся следующий уровень. Уровень ясного понимания, что для меня Гокарна не просто место силы. Это место, где мне больше не надо было ничего из себя строить. Место, где достаточно было быть собой.
Стас уехал, а с ним уехала и суета. Я всё ещё видела, как он, раздраженный и взлохмаченный, наспех запихивает её в чемодан вместе с выцветшими футболками. Несмотря на этот застывший перед глазами образ, на сердце, на удивление, было легко. Я дома.

Город К. говорит городу В.
Город К. говорит городу В.
К.:
— На фотографиях со мной она кажется такой маленькой! Черная фигурка на белом фоне, лица не разглядеть. Такая уж у меня особенность — растворять в себе любого: в кадр обязательно должны поместиться горы. И снег, разумеется. Горы снега.
В.:
— А меня нет почти ни на одной ее фотографии. Можно только догадываться, что она снималась на моем фоне — по брызгам центрального фонтана или по куску железного Белого Бима с позолоченным ухом.
К.:
— Она уезжала, не оглядываясь. Играла со словом «навсегда», как с леденцом, гоняла во рту, пробовала на вкус. Увозила с собой коллекцию вкладышей и кукол. А то, что не поместилось в чемодан, казалось неважным: отметины роста на дверном косяке до цифры 13, запах жвачки в ящике с игрушками, жужжание лампы над кроватью — читай хоть всю ночь.
В.:
— Я встретил ее снегопадом. Немыслимый апрельский подарок. Хотел, чтобы она почувствовала себя как дома. Но она сразу меня раскусила. Снег таял, едва коснувшись земли, превращался в грязь и пах сыростью. Она замерзла.
К.:
— Я не пожелал ей счастливого пути. Не попрощался. Кажется, она до сих пор лежит в теплом снегу, руки — крылья ангела. На лице тают обжигающие искорки. Метель пишет в небе неровным почерком о чем-то важном. Странно, она не помнит, что почти все время было темно. Полярная ночь опускалась с гор вместе со снегом, укутывала меня полупрозрачным пуховым покрывалом, сотканным из белой и черной нитей. Я зажигал розовые фонари. Они горели всю ночь, а потом весь день.
В.:
— Ты испугался, что она тебя забудет. Не был готов отпустить. Ведь тогда тебе пришлось бы полюбить кого-то другого. Это невозможно эгоистично с твоей стороны — оставить у себя часть ее души! Поэтому она так и не смогла меня разглядеть. Она смотрела на небо, на воду, на птиц. Но не на меня. Она говорила обо мне, как о ком-то постороннем: он становится чище, красивее, удобнее. Она говорила: возможно, я смогу когда-нибудь его полюбить. Она знала, что врет.
К.:
— Помню, как она забиралась по ледяному боку горы до той точки, с которой меня можно было увидеть целиком. Прямоугольники пятиэтажек как детали конструктора, рассыпанные на ковре в ее детской. Она чувствовала себя птицей. И ничего не боялась. Позади были горы.
В.:
— Ничего не боялась? Со мной она годами тряслась от страха. Ее пугали темные подворотни, дорога в школу вдоль длинного забора, грязный подъезд, дребезжащий лифт. А еще липкое внимание прохожих. Она ужасалась поголовной привычке грызть семечки и кидать шелуху на пол. Черные ночи, чернозем. Она научилась опускать глаза, не издавать звуки, надевать неприметное, носить в кармане смешной перочинный ножик. Я почти ничего не мог с этим поделать.
К.:
— Я послал ей вдогонку духов гор. Они нашептывали по ночам: как далеко ты ушла от дома! Я напоминал о себе белыми уютными снами. Каждый раз, просыпаясь, она думала о тебе: ты мне чужой. Ворон, нож. И оставалась мне преданна. Сквозь тысячи километров на моей стороне.
В.:
— Я надеялся, она привыкнет. Шли годы, но она все никак не решалась дышать полной грудью. Я развернул ее окна на закат, чтобы она училась любить горизонты. Показывал парки, где она ступала босыми ногами на живую землю. Приводил к ней тех, кто умел быть рядом, не смущаясь. Летом ей становилось легче.
К.:
— А каждой зимой она вновь думала обо мне. Ты говоришь — годы. А годы стирали колючие воспоминания. О скрипучей двери из подъезда, за которой ее, сонную, всегда ждал тоскливый утренний холод. О постоянно скрюченных от холода пальцах в обледенелых рукавицах. О бесконечно долгом ожидании первого солнечного света. В ее памяти я безупречен. Навсегда.
В.:
— Ты теряешь волю над ней, засыпаешь, убаюканный своими же колыбельными. И видишь девочку во сне. В этом сне она тоскует по своему детству. Словно еще можно вернуть. Влезть на гору и стать птицей.
К.:
— Я смотрю на фотографию и не могу разглядеть ее лица. Она же здесь улыбается, да?

Небо Боровска
Без труб и барабанов, в смысле, без карт и путеводителя мы вышли на главной площади. Парковка, Ленин, храм — монтируются в один кадр.
По городу протекает речка, и мы наугад отправляемся ее искать: вдоль подслеповатых домиков и накренившегося забора, выбирая островки посуше. Подвело чутье местности: мы уперлись в памятник. Памятник смотрел рассеянно и отчаянно.
Надпись знакомила: Николай Федорович Федоров.
Первый русский философ, разглядевший в небе над Боровском цель человеческого существования. Он считал преодоление смерти вопросом времени и долгом человечества. В том золотом веке, о котором он грезил, человечество, повернув вспять череду рождений и смерти, сошлось бы в одной точке — воскресив первоотца. Из его философии следовало, что необходимо последовательно воскресить каждого отца, а для этого сохранить тела умерших и сведения о них. Идеальным решением ему виделось кладбище, превращенное в музей. А идеальным кладбищем — Кремль.
Мы шлепаем по бездорожью, всего в трехстах метрах от главной площади — обветшалые домики с резными наличниками в проплешинах неокрашенной древесины. Припорошенный снегом, как нафталином, город спит. При расстоянии от Москвы в девяносто километров этот город кажется немыслимым. По этому поводу есть легенда, что Святой Пафнутий вымолил такую судьбу этому краю — не процветать, дабы остаться в тиши и уединении.
Впрочем, для зануд вроде меня есть и другая версия. Когда строилась железная дорога Москва-Брянск, ее трасса сделала крюк и обошла стороной Боровск, пройдя через деревню Балабаново. По официальной версии проект железной дороги через Боровск сочли нерентабельным. По неофициальной — Боровские купцы скинулись и дали взятку ответственным лицам, чтобы дорога обошла их город стороной. Хорошие версии, одна лучше другой. Про Пафнутия даже как-то убедительнее звучало.
Впрочем, у боровских купцов могли быть на то основания. В большинстве своем они были старообрядцами. Так что жизнь, протекавшая вокруг, считалась ими греховной, и они по мере сил старались отгородиться от нее.
Так или иначе, город стал отрезан от мира и остался любимым прибежищем старообрядцев.
Немного на пустыре и отшибе — памятник Циолковскому. Трудно отделаться от ощущения, что это и есть антропоморфное изображение гения места: в валенках, чудаковатый и неуверенно сутулый, он запрокинул голову, чтобы видеть небо.
Отец советской космонавтики здесь работал сельским учителем. Однажды он сделал для детей игрушку — воздушный шар, склеенный из бумаги. Под ним — сетка, на которой тлели угли. Шар совершил несколько удачных взлетов-посадок, а после его унесло ветром и он упал на крышу амбара. Амбар сгорел. Когда дошло до полиции, погорелец не стал настаивать на открытии дела, и изобретателя отпустили с миром. Он продолжал безнаказанно изучать все, что может летать, и задумался о том, сколько топлива нужно ракете, чтобы покинуть Землю. Рассчитал — в сто раз больше, чем ракета. Впрочем, не растерялся: придумал ракетный поезд. В передней ракете — пассажиры, снаряжение и немного топлива, в остальных — только топливо. Топливо выгорает, ракета сбрасывается, поезд становится легче. По сей день эти поезда поднимаются в космос, сбрасывая ступени с отработанным топливом на казахскую степь.
Циолковский отобрал у космоса заглавную букву. Космос — это больше не идея совершенного порядка, даже мыслить о котором было кощунством. Космос Циолковского — пространство, которое предстоит освоить и населить. Идеей населяемого космоса он заразился от Федорова, а у того были свои аргументы: всем воскресшим будет тесно на Земле.
Мысли обоих нашли свое воплощение в реальности и пересеклись уже совсем в другом городе. Придуманную Циолковским ракету воплотил Королев. Придуманный Федоровым музей-пантеон для будущего воскрешения — Красин. И Гагарин, первый испытатель этой самой ракеты, произносил свою торжественную речь, стоя на стене Мавзолея, прямо над головой первого отца, ждущего своего воскрешения.
У Боровска много историй, и совершенно не востребован путеводитель: они осели фресками на стенах его домов. Бытовые зарисовки и исторические эпизоды открывают сквознячок из Боровска минувшего, отражения которого множатся, как в зеркалах. Все эти картины и картинки, которых в городе набралось уже больше сотни, выводит трепетной рукой Владимир Овчинников.
Это отдельное наслаждение — неожиданно натыкаться на его фреску. Ловить на себе взгляд несуществующей кошки с картонки, вставленной в провал окна заброшенного дома. Улыбаться, разбирая подробные комментарии к Глобусу Боровска. Подглядывать, как купеческое семейство пьет чай.
Штукатурка фресок лукаво трескается, время мстительно напоминает о себе. Обаяние затерявшегося во времени и пространстве города не вечно. Но еще можно успеть взять билет на электричку до Балабаново, а оттуда на переполненной маршрутке по проселочной дороге — чтобы унести с собой образ этого странного места.
Фото с официального сайта города Боровска

Осторожно, двери закрываются
В Генуе я наконец-то на собственной шкуре испытал, что это за такая итальянская необязательность, удивительная даже для не самого организованного русского человека.
Да-да, меня много раз предупреждали о том, что на благословенном Апеннинском полуострове не стоит полагаться даже на поезда — расписание у них, конечно, есть, но придерживаются его железнодорожники не то чтобы очень строго, поэтому выезжать, например, в аэропорт из другого города лучше сильно заранее.
С поездами, впрочем, мне до сих пор везло. Не везло с другим. Вот идешь ты, скажем, в музей современного искусства, чтобы глаз, натруженный созерцанием романско-готических фасадов и барочных потолков бесчисленных соборов, отдохнул на чем-то менее роскошном, чем полотна мастеров XVI века, которыми завешаны обращенные в галереи местные дворцы.
По карте и указателям ты добираешься до Виллы Кроче, где тебе обещаны Фонтана, Личини и Мандзони, но ставни на окнах неоклассического особняка наглухо закрыты, двери заперты, и нигде ни единой вывески с объяснением причин. Потом уже пытливый турист на сайте музея может прочитать, что то ли директор, то ли куратор разошелся во мнениях с меценатом, и у музея попросту нет денег, чтобы принимать посетителей.
А не пытливый полюбуется видом на Генуэзский залив и, пожав плечам, пойдет обратно в старый город — через средневековые ворота Порта Сопрана, мимо развалин дома, где когда-то жил Колумб, и дальше по хитросплетению узеньких улочек-«каруджи», уворачиваясь от портовых проституток, вернется на Виа Гарибальди.
А тут его уже зазывают на выставку «Караваджо и последователи». Что ж, не вышло с контемпорари — усладим взор гением итальянского барокко. В Палаццо делла Меридиана показывают Ecce Homo («Се, человек»), причем обычно картина висит в соседнем Палаццо Бьянко. После бегства из Рима, где разгульного художника обвинили в убийстве, он проездом остановился в Генуе — так городу достался шедевр, вокруг которого теперь выстраивают отдельные выставки. Впрочем, на родине песто можно и вовсе не ходить по музеям, поскольку великая красота здесь прячется в любой базилике.
Еще на въезде в Геную я заприметил не только знаменитый маяк Ла Латерна, хранителем которого в стародавние времена был дядя Колумба Антонио, но и колесо обозрения, торчавшее над водой где-то в центре. Понаблюдав пару дней за любимым аттракционом из разных точек лигурийской столицы, я понял, что колесо так же монументально недвижимо, как и Триумфальная арка Муссолини на Пьяцца делла Виттория под моими окнами. Поскольку прогулка по Порто Антико все равно входила в мои планы, я в итоге дошел и до колеса, установленного в самом конце пирса. Но не нашел там ни слова о том, когда колесо заработает.
Ладно, решил я, одно достижение инженерной мысли, поманив своим стальным каркасом, так и осталось мечтой. Тогда вперед и вверх — на тот самый лифт, про который пишут в путеводителях. Легких путей я не искал, поэтому решил на лифте не подняться, а спуститься. Кое-как вскарабкавшись на гору и выведав на ломаном итальянском верное направление до ascensore у двух почтенных матрон (a la sinistra — всё, что я сумел разобрать в их ответе, но grazie, как говорится, и на этом), я наконец добрался и до лифта…
Только вот никакого лифта я не увидел, а увидел замок д’Альбертис, напротив него дом и в нем — очередную закрытую дверь. И конечно же, ни малейшего намека на объявление: лифт, дескать, не работает потому-то, заработает тогда-то. Нет, ничего подобного. В Италии так не принято. Хорошо хоть соседняя дверь, в кофейню, была открыта, и пока я в который уже раз пил марокино, случилось чудо! Какой-то добрый человек все-таки запустил лифт (потом на сайте местного оператора пассажирских перевозок я узнал, что его закрывали на профилактику — и открыли с получасовым опозданием).
Не зря, не зря я сюда шел, лифт и правда оказался чем-то невероятным: на кнопки нажимать тут не надо, кабина, подав звуковой сигнал, едет сама — 70 метров вниз, потом сама же встает на рельсы и становится фуникулером, после чего еще 200 с лишним метров везет тебя по туннелю к центральному вокзалу.
Обидно побывать в Генуе и не прокатиться по лигурийскому побережью, тем более что до воспетой Жанной Фриске деревушки Портофино всего час езды. Сказано — сделано. Всё как в песне: сели в машину, поехали по серпантину, к морю, красиво, только вот… Да-да, вы уже сами всё поняли, никакого Портофино я так и не увидел. Когда до него было уже рукой подать, методом проб и ошибок выяснилось, что на личном транспорте можно доехать только до соседнего городка Санта-Маргерита-Лигуре — море размыло прибрежную дорогу, и поэтому дальше либо на пароме, либо на автобусе, ну или пешком, если у тебя вагон времени. Я не успевал даже на паром, поэтому, съев пиццу в кафе «Дельфин» (четыре столика и один сотрудник на все заведение — повар, официант и, скорее всего, хозяин), поехал восвояси. Благо закат одинаково розов в любом из лигурийских городишек.
А жизнь прекрасна, пусть вас об этом никто и не предупреждал.

Ощущение дома (Светлогорск)
Однажды уехать стоило хотя бы ради того, чтобы приехать в этом июне. Купить билеты за месяц, позвонить маме за неделю, накануне погладить свои любимые брюки-кюлоты и собрать рюкзак (только ручная кладь). И, несмотря на бессонную ночь, приехать в аэропорт, выпить сладкий чай и сесть в самолёт. Взлететь.
Когда в иллюминаторе показалось море, будто высеченное из камня, я почувствовала, как внутри что-то надорвалось. Эти два года, что мы не виделись, были сложными и прекрасными одновременно, и я приехала, чтобы рассказать: как нам запретили выходить на улицу в любимом марте, как я во второй раз стала мамой в жарком июле, как мы заболели в том сером ноябре и как любили и искали повод для радости ежесекундно, круглосуточно.
Я приехала рассказать, что не видеться два года — это уж слишком. Но это стоило того, потому что сейчас я смотрю в иллюминатор, пытаюсь разглядеть свой маленький светлый город и чувствую, как сердце переполняется радостью. Неистовой и самой чистой.
Я делаю шаг на трап и глубокий вдох. Пахнет солью, смолой и летом. Запах детства.
На улице жарко, солнечно, широкополосная трасса тянется к самому горизонту. В большом городе я успела отвыкнуть от деревьев, и теперь их яркая сочная зелень будоражит меня, приводит в чувство. Указатели, маленькие машинки с номерами любимого региона, аисты, которые соорудили гнездо прямо над дорогой (в прошлом году ураган снёс его, а в этом году они вернулись и построили заново, представляешь?).
Я смотрю по сторонам, и только кажется, что город с замиранием сердца ждал моего приезда, едва дышал, не жил. На самом деле, он, так же, как и я, рос, искал ответы, терялся, радовался и грустил. Я вижу, как он изменился, но приберёг для меня тропинки, усыпанные розовыми лепестками шиповника, и улицы детства, залитые утренним светом.
Здесь даже птицы поют по-особенному: то ли потому, что тихо, то ли потому, что любимо.
Я стою на балконе, смотрю на догорающий закат и пытаюсь надышаться, насмотреться, начувствоваться наперёд. А в голове только одна мысль: «Пожалуйста, просто будь. Всегда. Я уезжаю, чтобы любить тебя ещё сильнее. Я приезжаю. Я приехала. Я здесь».
Я выросла в этом маленьком городе на берегу моря, и это, конечно, оставляет свой след. В сердце, в душе.
На закате у моря всегда велись и будут вестись самые честные разговоры. Звучала и будет звучать гитара. Всё так же будут признаваться в любви. В школьной, наивной и самой трепетной.
Море учит чувствовать. Принимать чувства и отпускать.
В этот раз я стояла по колено в солёной холодной воде. Был штиль. Закатное солнце нежно прикасалось ко мне, заставляло щуриться и улыбаться. Вокруг резвились дети, взрослые расслабленно сидели на тёплом песке. Я слушала. О чём они говорят? О чём говорят люди, когда им хорошо?
Я была в моменте. Существовало только здесь и сейчас. Со мной в большом городе редко такое бывает, а здесь — вот. Особенно сильно.
А на следующий день я вышла из дома в шесть утра. Пели птицы. Небо было светло-жёлтым. Я прошла под деревьями, которые стали великанами. Как бы ни старались коммунальные службы обрезать им крону, их мощные ветви всё тянутся и тянутся к небу. Выше и выше.
Я остановилась возле турника, где мы детьми играли в десяточки. Прикоснулась к одинокой старой сосне, по которой вверх и вниз так и снуют жуки-пожарники. Из окна соседнего дома выглянула сонная женщина.
Я шла по дороге, по которой каждый день ходила в школу. Помню, как мы встречались под этим фонарём, наклонялись под раскидистыми ветвями яблони, проходили мимо дома, где жила одинокая старушка-авиаконструктор, мимо библиотеки, мимо магазина «Дивидишка» и почтового ящика, куда я каждый год опускала своё письмо Деду Морозу.
Я шла в тишине, по которой так соскучилась. Это было утро на двоих, наше с ним.
Я видела, как город просыпается: проехал автобус, человек вышел из подъезда с маленькой собакой, мимо промчался бордовый автомобиль, закукарекал петух, женщина решила прополоть траву возле своего дома, мужчина достал из багажника пластиковое ведро квашеной капусты («Без уксуса!»), шумела листва, билось сердце.
Я просто шла и ничего не ждала ни от себя, ни от города. Кажется, я наконец-то перестала что-то доказывать и себе, и ему. Может быть, просто повзрослела.
Возвращение домой — это особый способ понять, как ты изменился. Деревья во дворе стали выше, а я научилась принимать, любить и прощать. Себя. Просто так и ни за что. Просто потому что что может быть лучше.
Я изменилась и не заметила бы этого, если бы не приехала в свой маленький светлый город, домой. Здесь сразу стало очевидным, как много всего я узнала, что-то потеряла, а что-то (обязательно!) приобрела. И как бы кто ни старался обрезать мою крону, я всё равно тянусь вверх.
Ты прав.
Однажды уехать стоило хотя бы ради того, чтобы приехать в этом июне. И понять, что, как бы мы ни менялись, ощущение дома — это стержень.
Пока от этой любви и скучания всё так же сводит сердце и трепещет душа, я жива. По-настоящему.
И поэтому это того стоит.
Спасибо, что отпустил. Спасибо, что принял.

Стамбульская синхрония
Стамбул встретил нас дождем. Первое, что меня удивило на прогулке по городу — выразительные эмоции на лицах горожан, именно их, не туристов. «Всё написано на человеческом лице, потому что жизнь и есть борьба за лицо», — писал Пришвин. И жесты: хлопают в ладоши, друг друга по плечу, обнимают — как наглядная иллюстрация эмоциональных состояний.
Архитектурные изыски напомнили мне великолепные дома в Санкт-Петербурге, «гениальной каменной книге», как называл его Пастернак. Помню, как шла в последний свой приезд по Питеру, раздавленная его величием. В Стамбуле ощущения своей ничтожности с мыслью, что эта окружающая красота музейной помпезности не для пользования, а для любования со стороны, у меня не возникло. Здесь было будто что-то родственное, знакомое. Может, в корнях дело? Корни Питера на болоте, с «похороненным в нем солнцем» — у Мандельштама, а корни Стамбула в залитых солнцем «естественных пределах, проливах и уралах» — у Бродского. У него же и о родственности: «Существуют, однако, места, разглядывание которых на карте на какой-то миг роднит вас с Провидением». Природные краски окрестностей Стамбула он назвал спятившим светофором, «все три цвета которого загораются одновременно. Не красный-желтый-зеленый, но белый-желтый-коричневый. Плюс, конечно, синий, ибо это именно вода — Босфор-Мармора-Дарданеллы, отделяющие Европу от Азии… Отделяющие ли?»
Меня удивило ощущение связи времен в Стамбуле, как прошитое нитями то, что было давно, и что сейчас, и всё это живет, продолжает происходить сегодня — в реальном использовании, одновременно и древнее, и самое новое. Те же камни, то же море, те же надписи из восточной вязи, пронизывающие воздух и определяющие статус перекрестка мира, как неизменные основа и уток тканого вручную цветного яркого ковра. «Забавна и немного пугающа, не правда ли, мысль о том, что Восток и впрямь является метафизическим центром человечества», — у Бродского в «Путешествии в Стамбул».
Узкие улочки-сирены заманивают путника в свое лоно, усыпляют бдительность своей неповторимостью, самобытностью, изматывая и отбирая силы. Не угадаешь, куда за поворотом устремится следующая по синусоиде — вверх или вниз. И к вечеру ноги стонут от усталости. Остановишься, присядешь в кафе или на лавочке — и Стамбул сам движется вокруг тебя… Или это я так устала в первый день?
Отель наш был в историческом центре, с видом на Босфор, Айя-Софию и Голубую Мечеть Султанахмет. Отдых в нем — пассивное путешествие: из окна можно любоваться бесконечно. Я смотрю и прикидываю, на что похож этот волшебный город. А для полного ощущения рая пью кофе и слушаю аудиокнигу с воспоминаниями Олеши о Маяковском:
— Он всегда мне казался ещё чем-то другим, а не только человеком. Не то городом, не то пламенем заката над ним. — Я удивилась совпадению: поэт и город — синхрония. — Он очень любовно, по-товарищески относился к тем, кто был с ним заодно… Свирепо нападавший на противников, он был прямо-таки нежен к единомышленникам, участлив к ним, внимателен, как врач. Неожиданность такого превращения: из яростного гладиатора на трибуне в ласкового друга среди близких по духу ему людей чрезвычайно украшала его образ.
Меня всегда впечатлял эффект синхронии — когда подумаешь про себя про что-то, и тут же об этом слышишь из внешнего мира. Два события совпадут — и то удивляешься, а тут… Олеша сравнил поэта с городом, а я как раз думала, с чем сравнить город. Под слова «гладиатор на трибуне» зазвучал призыв на мусульманскую молитву. Да еще и упомянутый «пламенный закат» вживую полыхал в это время за окном над Айя-Софией и Босфором.
Совпадения слов, звуков и заката соединили у меня образ поэта и образ города, такого же «ласкового друга», с оголенной толерантностью стамбульских обитателей.

Я — Холмск!
Только самые лучшие мужчины уходят в море. Только самые лучшие девушки ждут их на берегу.
Холмск, город-порт на сахалинском побережье Татарского пролива, десятилетиями жил по этому правилу. Его жители всегда были неразрывно связаны с морем.
СМП — Сахалинское морское пароходство. УМРЗФ — Управление морского рыболовного и зверобойного флота. Морской торговый порт. Они были тут главными, они определяли здесь жизнь. Кадры для прославленных предприятий с давних пор усердно растило Сахалинское мореходное училище — гордость города, мечта многих, не только островных, мальчишек. Из самых дальних уголков страны сюда за морской наукой приезжали будущие капитаны.
Каждый день город встречал и провожал корабли. Могучие и нестерпимо красивые, они заходили в порт, подрагивая корпусом от радости встречи с родным берегом. Они не задерживались у причалов, погрузка и разгрузка шли круглосуточно. Грузы ждали в ближних и дальних краях. А город ждал своих дорогих и любимых. Дважды в день городское радио сообщало их позицию в мировом океане на данную минуту. Там судовые радисты ловили в эфире позывные острова: Я — Холмск! Ответьте Холмску! — неслось через пространство и время.
В 70-х годах прошлого двадцатого века закончилось строительство паромной переправы Ванино-Холмск, соединившей берега Татарского пролива. Холмск окончательно и бесповоротно победил в споре со своим вечным соперником — портом Корсаков. И никто тогда не сомневался: Холмск ждет большое и яркое будущее, ведь это — морские ворота Сахалина!
Само собой, в городе и окрест были и другие важные предприятия — два рыболовецких колхоза, звероводческий совхоз, судоремонтный завод, консервно-баночный комбинат, рыборазводный завод, целлюлозно-бумажный комбинат… И как-то все здесь было ладно и складно. Рыба косяками шла в прибрежные воды, прямо в колхозные сети. Продукция местных звероводов высоко ценилась на мировых пушных аукционах. Судоремонтный завод славился своими специалистами. Консервы Холмского комбината никогда и нигде не залеживались на торговых полках. Рыборазводный завод ежегодно выпускал в море миллионы мальков горбуши, которые через год возвращались в родные места уже крупной рыбой, чтобы, отметав икру в сахалинских ручьях и речках, дать жизнь потомству. Целлюлозно-бумажный комбинат, доставшийся Холмску в наследство от тех времен, когда он был японским Маока, тоже радовал жителей качественной, столь необходимой повседневной продукцией.
Холмск называли самым красивым городом на Сахалине. Конечно, город у моря уже по своему счастливому месторасположению не может быть невзрачным. Очарования ему всегда добавляла и необычная вертикальная застройка. Улицы ярусами шли вверх по сопкам. Не имея возможности расти вширь на узкой полоске суши у моря, он рос вверх по холмам. Первый ярус, второй, третий. Виадуки и лестницы, словно корабельные трапы, соединяли их. Он был сказочно хорош в любое время года: осенью — среди разноцветных красно-желто-зеленых сопок, зимой — метельной, снежной, штормовой, весной — туманной, волнующей звуками неспокойного моря и низким, протяжным голосом-сигналом маяка, летом — сияющим бирюзой и беспричинной радостью. Город жил, уверенный в своем счастье — быть любимым.
Жизнь Холмска резко изменилась в 90-ые годы. Первым тревожным звоночком было сообщение о закрытии железной дороги на участке Холмск — Южно-Сахалинск. «Шутка», — подумали холмчане. Закрыть горную железную дорогу со всеми ее тоннелями, мостами и станциями, в том числе уникальным хитроумным Чертовым мостом, столь любимым путешественниками? Абсурд! Оказалось, не последний. Сахалинское пароходство в короткий срок распродало значительную часть своего флота. Опустел торговый порт. Один за другим свернули деятельность рыболовецкие колхозы. Закрылись цеха рыборазводного завода. Не осталось и следа от звероводческого совхоза. А в конце 90-х город пережил шок. Закрылся целлюлозно-бумажный комбинат, местный гигант. И не просто закрылся. Его бросили. Как ненужную и бесполезную вещь. Даже не вывезя всего оборудования, оставив в складах часть продукции. Неведомые варвары все быстро разграбили, разбили и поломали. Сегодня в южном районе города стоит жуткий «памятник» — огромное здание бывшего ЦБК с выбитыми окнами, разрушенными помещениями, нагромождениями металлических конструкций и кучами мусора.
Дольше других работал консервно-баночный комбинат. Но после того как было ликвидировано УМРЗФ, пришел и его черед.
И еще потеря — погас и замолчал маяк. Полвека он помогал кораблям не сбиться с пути, а сейчас вдруг, разрушаясь в одиночестве, оказался никому не нужен.
Население Холмска с 90-ых годов сократилось наполовину — с 60 до 28 тысяч.
Но есть одна хорошая деталь. Мореходное училище по-прежнему готовит командиров флота. Среди курсантов теперь есть и девушки.
Фото с официального сайта города Холмска

68 километр
Я проезжаю мимо станции «68 километр», когда еду из Петергофа в Сосновый Бор, и уже лет двадцать эта станция меня гипнотизируют. Что в ней такого особенного? Не знаю, я никогда не выходила на этой остановке, но каждый раз, когда вижу надпись «Станция 68 километр», точно какая-то струна во мне начинает дрожать.
Из окна поезда не видно ничего особенного — полуразрушенная платформа, много валежника, над которым возвышаются сосны и лиственницы. Но такой же лес можно увидеть почти на всей линии этой железной дороги в Ломоносовском районе Ленинградской области. Что же меня цепляет? У всех станций на этой линии есть какое-то имя — «Дубочки», «Мартышкино», «Калище», а тут просто — «68 километр». Почему? Закончилась фантазия у тех, кто придумывал названия? Или тут кроется какая-то загадка? Это магическое число? Или это какой-то шифр?
Можно открыть Википедию и все узнать. Однажды я так и сделала, но увы — ничего путного и не узнала.
29 июня 2021 года мы с моим псом Чико возвращались от ветеринара и проезжали мимо станции «68 километр». И когда за окном возникла загадочная платформа, я вдруг услышала, как меня кто-то позвал — вместо привычного «Станция 68 километр», «Сиксти эйт киломите», громкоговоритель сказал: «Сиксти эй!». А потом повторил: «Эй!» И совершенно неожиданно я взяла Чико за ошейник, и, растолкав каких-то хипстеров в тамбуре, мы выскочили с ним на платформу.
На этой станции нет билетной кассы, но есть какое-то подобие навеса — металлические столбики, на которых лежат куски шифера. К одному из столбиков прибит железный лист с расписанием. Расписание узнать не удается — почти весь текст выгорел на солнце. Чико не интересуется расписанием — он нюхает воздух. Я тоже вдыхаю полной грудью и чувствую какой-то странный запах, который напоминает мне что-то неприятное, но я не понимаю, что это.
Спускаемся по бетонной лестнице и оказываемся на тропинке, Чико бежит вперед, я иду следом. Минут через десять оборачиваюсь, чтобы посмотреть на станцию — она зависла над травой, точно летающая тарелка. Не знаю, где Тарковский снимал «Сталкера», но мне кажется, что я оказалась в его фильме. Достаю телефон — связи нет. Еще через пятнадцать минут мы увидели красный домик и такую же платформу, какая осталась за спиной. Окна и двери дома забиты досками. На стене табличка — «Пограничная территория. Проход запрещен». Еще одна табличка висит над платформой, надпись на ней закрашена, видно только первую букву — «К». Станция «К». Пытаюсь вспомнить, какие остановки мы обычно проезжаем, но не помню ничего на «К».
Была тайна названия «68 километр», теперь появилась еще одна загадка — тайна станции «К»! Здесь нет не только кассы, но и никаких намеков на расписание. Спускаемся с Чико с другой стороны платформы, и тут наступает тот самый момент, который в художественной литературе описывают словами «она почувствовала, как кровь стынет в жилах» — никакой железной дороги возле платформы не было! Только заросли крапивы и борщевика.
Я сажусь на горячий бетон платформы. Телефон все еще не работает — никаких признаков связи. Никаких признаков железной дороги! Узнала тайну, называется.
Ну ладно, если нельзя идти вперед, потому что исчезла дорога, наверное, можно попробовать вернуться назад? Спускаюсь с той стороны платформы, откуда мы пришли, еще раз смотрю на красный домик с заколоченными окнами — домик выглядит не таким пугающим, как мне показалось сначала, и я подхожу к нему ближе. Вокруг домика деревянная изгородь, тоже красная. Интересно, почему выбрали этот цвет? Красный — не самый популярный цвет в Питере и Ленинградской области. Можно даже сказать, что это редкий цвет для зданий у нас. Видимо, я задала этот вопрос вслух — такое со мной иногда бывает. И совершенно неожиданно услышала ответ:
— Так ведь Красная Горка!
Чико залаял. А я вцепилась в деревянную изгородь — наверное, у каждого человека есть какой-то предел напряжения, а потом наступает абсолютное спокойствие, я совсем не удивилась, а просто сказала:
— Да?
— Ну да! — Из зарослей травы поднялся человек в камуфляжной форме. — А я тут землянику собираю.
Чико перестал гавкать, земляничный человек выглядел совершенно по-человечески.
— А что это за станция, я заблудилась, — решила честно признаться я.
— Краснофлотск.
— А куда рельсы исчезли?
— Так она же закрыта давно, демонтировали. Вы как сюда попали?
Я рассказала незнакомцу всю историю. Мы посмеялись над моими фантазиями и любовью к тайнам.
— И все же, почему станция называется «68 километр», разве это не странно?
— Не знаю, — ответил мне земляничный человек, — вы пройдите по бетонке до форта, там музей есть, может, вам и расскажут.
Бетонкой мужчина называет узкую дорогу, которая начинается прямо за домиком. Краснофлотск, конечно! Я была здесь в детстве, но тогда нас привозили на автобусе, и все выглядело иначе. Получается, что сюда можно добраться не только по шоссе, но и на поезде. Идем с Чико по чистой и пустынной дороге, ветер опять приносит странный запах, но теперь, когда я перестала во всем видеть загадки, я понимаю, что это за запах — так пахнет болото Ярвенсуо, окружающее форт. Но есть и другая версия происхождения запаха. Во время войны здесь погибло огромное количество людей, и местные жители считают, что странный запах, который появляется даже в безветренную погоду, это запах крови, запах смерти.
Мы выходим на шоссе, я вижу признаки цивилизации — автобусная остановка, а возле нее информационный щит (тоже красного цвета): «Форт “Красная Горка”». Krasnaya gorka fort. Под названием карта. Эти места я знаю. Если пойти налево — выйдем к знаменитому форту, созданному более ста лет назад, а если пойдем направо — дойдем до поселка «Лебяжье». Мы идем в сторону форта. Вот среди берез показываются знакомые с детства орудия — корабельная артиллерийская установка, напоминающая динозавра-раптора, чуть дальше блестит брюхо гигантской крылатой ракеты, а еще дальше видно странную башню, похожую на гриб — это командно-дальномерный пост, с его помощью управляли артиллерийским огнем, но сейчас на нем лежат люди в купальниках. На пушке, мимо которой мы проходим, какие-то подростки играют в карты. На территории форта много ДОТов, но понять их первоначальную цель уже сложно — везде горы мусора, следы от костров, все стены в граффити. Одна надпись меня заинтересовала — я уже видела похожую, только на железнодорожной цистерне. Там было написано: «Желаем вам всем», а последнее слово было закрашено. Здесь я вижу такую же фразу, и последнее слово тоже закрашено. В прошлый раз я подумала, что закрасили похабщину. Но сейчас могу разобрать под слоем краски спрятанное слово. Там написано ПОМНИТЬ. Желаем вам всем помнить.
Я перечитала эту фразу несколько раз и, кажется, поняла, почему станцию «68 километр» так назвали. Нельзя ее было назвать никакими словами, есть вещи, которые лучше не называть. Но о них надо помнить.
Фото с сайта форта Красная горка

Жирона: сказочный город
Это и есть Жирона? Ведь путеводители обещали старинный красивый город, но когда выходишь с вокзала, то видишь только чисто функциональные здания и испытываешь некоторое разочарование. Кажется, в них нет никакой общей архитектурной идеи, все вразнобой. Офисы, склады, банки, жилые дома. Ладно, идем дальше — ведь это еще не центр, а там, наверное, будет интереснее.
А потом картинка вдруг резко меняется, и без всякого предупреждения оказываешься уже в старом городе. И такое ощущение, что это совсем другой город, не имеющий ничего общего с тем, привокзальным. Это место скорее сказочное и парадоксальным образом очень знакомое, хоть мы здесь впервые. Но объяснение найти нетрудно: в Жироне снимали шестой сезон «Игры престолов». Вот та самая улочка, где слепая, измученная Арья Старк просила милостыню на улицах Браавоса, а Бродяжка ее жестоко избивала. Хотя нет, это не та улица. Очень похожа, но не она — там должна быть дверь с закругленными краями, а тут такой нет. Ладно, идем дальше, нужная улочка еще, наверное, встретится. Местность холмистая, так что на нашем пути много лестниц, спусков и подъемов.
Заглядываем во внутренний дворик — похоже, это жилой дом. Но каково жить в таком доме? Он ведь не настоящий, он из Средневековья. Разве можно жить в таком доме и при этом ходить в джинсах, смотреть телевизор, наколачивать сообщения на смартфоне? Тогда уж надо зашнуровать покрепче корсет, надеть котарди с низким поясом из литых пластин и пером на пергаменте писать куртуазные стихи.
Идем дальше, на двери вывеска на каталанском — это отделение университета Жироны.
А потом узкие улочки кончаются как-то очень неожиданно, и вдруг оказываешься на площади перед Кафедральным Собором. О, здесь вообще все знакомо. Огромное величественное здание из серого кирпича. А вот и та самая гигантская лестница, где его Воробейшество объявил о новом симбиозе церкви и власти, и Джейми Ланистер был готов его убить, но вмешался Томмен, и Джейми пришлось отступить. Но почему лестница такая пустая? Где же рыцари в шлемах с копьями? Вместо них — только несколько туристов. Лестница состоит из девяноста ступеней, и, согласно поверью, каждая ступень позволяет очиститься от одного греха. То есть пройдешь всю лестницу — и минус девяносто грехов, неплохо.
На внешней стороне собора примостились страшноватые горгульи. Легенда гласит, что одна из них была когда-то ведьмой, которая кидалась в собор камнями, злобно выкрикивая проклятия. И в наказание ее превратили в горгулью.
Собор строился очень долго, потому в его интерьере смешались разные стили и эпохи, от готики до Ренессанса. Внутри собора темно и прохладно, после палящей жары снаружи уставший путник может здесь отдохнуть.
В каждой из многочисленных часовен по периметру собора — гробницы важных исторических фигур. Вот гробница графа Рамона Берингера Второго. Его брат-близнец Берингер Рамон был в плену у Эль Сида, испанского рыцаря, ставшего героем народных преданий и романсов. Когда Берингер вернулся из плена, его брат Рамон вскоре был убит на охоте при странных обстоятельствах. Как все считали, это случилось по приказу Берингера, не пожелавшего делить с братом власть и богатство. Спустя почти пятнадцать лет после трагедии, король Кастилии и Леона Альфонсо Храбрый решил разобраться в этой темной истории. Он завоевал Барселону и устроил Берингеру судебный поединок. Поединок Берингер проиграл, хотя и не погиб. В результате Альфонсо посчитал, что божественный суд свершился, и Берингер был признан братоубийцей и отправлен на пожизненное искупление грехов в Палестину. Такая вот игра престолов — не хуже, чем в фильме.
После посещения собора мы все-таки попадаем на ту улицу, где сидела Арья в лохмотьях. Сравниваем с кадрами из фильма — да, на этот раз точно она. Оттуда сворачиваем в один из боковых проходов и оказываемся в очаровательном садике с бурной растительностью и роскошным видом на горы. Чтобы было лучше видно, взбираемся вверх по какой-то лестнице и идем по узкому проходу. Куда он ведет, не очень понятно, но узкая дорожка заманчиво увлекает нас все дальше. Вскоре становится понятно, что мы идем по городской стене. Она все продолжается и продолжается, не видно ни конца ей, ни какого-либо способа сойти вниз. Очень хочется пить, солнце в самом зените, погода знойная. Когда наконец удается попасть обратно в город, первым делом покупаем много холодной воды в ближайшем кафе.
Позже наталкиваемся на еще одну достопримечательность Жироны — статую льва, висящую на столбе. Лев примостился довольно высоко, но к нему приставлена лестница. По ней всходят туристы, чтобы исполнить странный ритуал — поцеловать каменного льва в филейную часть. По легенде, если так сделаешь — то снова вернешься в Жирону. К тому времени мы уже очарованы городом, очень хочется побывать там снова, но мы надеемся, что удастся сделать это без столь экстравагантных ритуалов. Так что льву мы только машем издалека и идем дальше.
Вскоре оказываемся на улице Мух. Под вывеской с названием улицы — каменная муха. Это символ Жироны, уходящий корнями в турбулентную историю города. Жирона двадцать пять раз подвергалась осаде и семь раз завоевывалась. От одного из французских нашествий город спасли мухи. Произошло это так. Чтобы подорвать боевой дух горожан, захватчики вскрыли гроб Святого Нарцисса. Из него вылетел рой мух, и каждая из них смертельно ужалила по шесть французов. Вражеская армия пала. В память об этом удивительном событии на улице Мух стоит статуя ступни того самого Святого Нарцисса. Какую символическую роль играет именно ступня, мы пока не разобрались. Но, конечно, и тут не обошлось без легенды: если потереть ступню Нарцисса, то это принесет удачу. Мы так подумали, что удача лишней не бывает, а ногу потереть, вроде, не слишком обременительно — это все-таки не зад льва целовать. Так что потерли, чего уж там.
Хотя Жирона — город совсем небольшой, и в нем всего сто тысяч жителей, одного дня оказалось мало для того, чтобы все посмотреть. Не успели ни в музеи, ни в знаменитую Базилику святого Феликса (в которой, кстати, тоже снималась одна из ключевых сцен «Игры престолов»). Хотелось бы туда вернуться и продолжить знакомство с городом. Надеюсь, каменный лев не обиделся и препятствовать не будет.

Икша-Икша
Водонапорная башня должна была стать тем первым, с чего начался бы весь остальной город, как пышный круглый фонтан или какая-нибудь статуя. Но строители сместили ее с течения главной улицы, и Икша развалилась на плохо сходящиеся между собой кварталы и огороды.
Икш в России не так уж мало. Речка и деревня в Марий Эл, и вот эти еще подмосковные речка и городок у Савеловской железной дороги и Канала имени Москвы. С марийского переводится как «запруда». Видимо, и с древнего мерянского так же, хотя кто теперь скажет точно. На речке Мерянке в Долгопрудном который год стоит катамаран ангольской полиции: все в мире перепуталось, смешалось, забылось. И стало немного чужим, не своим.
Может быть, стоило поехать в другой город. Та же водонапорная башня оказалась сделанной из слишком узнаваемого советского кирпича, а старинный кирпич обнаружился лишь в одной стене дома на Садовой улице. Его добыли, разобрав руины монастырской мельницы, но теперь никто не скажет, какие именно несвободные люди. Пленные ли немцы, русские ли заключенные. Все же такие двухэтажные дома на два-три подъезда начали строить немцы, их, домов, много по России. Может быть, поэтому не было смысла ехать куда-то еще. Итак, Икша.
Как маленький театр в провинциальном парке. Станция-сцена внизу, а улицы поднимаются вверх зрительскими рядами. Их всего-то четыре или пять, на галерке немного дач и лес. Главная улица называется Школьной, а не Советской, как обычно бывает. Советская отходит от нее направо. Это первый ряд. Коммунистическая — ряд второй, тоже справа. Улицы с левой стороны — Заовражная и Садовая, причем с Заовражной по прямой попадаешь на Советскую. Или наоборот. Можно было что-то сказать об этом, но все, пожалуй, давно сказано.
С самой верхней улицы видна шагнувшая из перспективы водонапорная башня, шлюзы, колокольня за каналом и там же красные крыши неизвестного мне дорогого поселка. Но мало что еще видно за пышными липами и дубами. Этих благородных деревьев непривычно много, как будто сто лет назад в Икше уже не драли лыко на лапти и на другие забытые сегодня предметы.
Ширина улиц, не дороги, а застройки слева и справа, примерно равна ширине бараков. Наверное, здесь они и были. А сейчас их место занято домами-крепостями из современного кирпича совсем уж глупого красного цвета. Легко можно представить живущих в них серьезных мужчин. Это Советская.
На Коммунистической стоят деревянные дома с наличниками, и оттого сразу как-то много воздуха. На нижних углах наличников выпилено по три треугольника. Вместе с названием городка это все, что осталось от древнего народа. По-моему, элемент называется «утиные лапки», поскольку утка для финских язычников… что-то вроде Будды для буддистов. Пожалуй, так. У кого-то в огороде странной формы теплица и тут же стеклянный шатер, похожий на планетарий. У кого-то богатый урожай яблок. У всех роскошные палисадники.
На Садовой доска объявлений. Предлагаются удлинители, заборы разных видов, а также всех приглашают на встречу с местным священником в библиотеке. Церковь на Комсомольской строится заново. Готовый маленький купол валяется на зеленой лужайке. Дальше Дом культуры, глубоко внутри которого кто-то играет на ударной установке, памятник погибшим на войне. Имен мало, хотя это Подмосковье, а значит, многие должны были погибнуть в первые призывы. Заключенное население улучшило статистику икшанских потерь, его не призывали, но завидовать особенно нечему.
Руины вечерней школы для работников канала, у поликлиники афиша вечера поэзии «Отгремели раскаты войны», культурный центр в бывшем детском саду. В таких вот малых, детских масштабах сталинская архитектура больше похожа на кавказский курорт.
Надо бы остановиться. Все не то. Дело ведь не в зданиях, которые можно описать от фундамента до флюгера, а можно и забыть о них без особой грусти, не в следах древнего народа (а был ли он?), не в лагере заключенных и не во фронте за огородом. Важнее, что ничего не ушло, не исчезло: произошло наследование чего-то не зависящего от воли человека, как если бы по наследству можно было передавать плохую погоду. И роскошь жасминовых палисадников, и крепость каменных заборов, и даже священник в библиотеке не спасут от тяжести накопленного на маленьком холме у финской речки.
Маленькая «Ока» катилась под гору с выключенным двигателем. Так ее водитель-таджик экономил бензин. Он притормозил у одного из особняков, где что-то строил или ремонтировал, и по-хозяйски зашел внутрь. Залаяла собака. За особняком начинался овраг, но я туда уже не пошел, а еще дальше располагался то ли бордель, то ли в самом деле мотель для дальнобойщиков на Дмитровском шоссе.
Потом уже вспомню, что где-то в центре Икши видел заброшенный дом, едва ли не единственный. Забор упал под тяжестью разросшихся кустов, лопнули стекла, и сквозняки распахнули маленькие окошки русской избы. Но на подоконниках все еще стояли живые цветы, только какие-то странные. В электричке пойму, что это была обычная трава, семена которой забросило ветром в горшки. Человек вообще слишком много думает о себе.
Фото с сайта города Икша

Кострома
Я называю это косметичкой, ты — несессером.
Я беру два платья, ты — две пары кроссовок.
Ты держишь руль, я держу твою руку. Нас держит дорога.
Солнце, солнце, солнце.
По дороге в Кострому решаем заехать на Плещеево озеро. В Переславле ты сворачиваешь на какую-то боковую улицу, и мы останавливаемся у забора, с которого снято несколько секций. За забором песчаный берег и мелкая, прозрачная вода.
Я захожу по колено, ты куришь и улыбаешься.
— Я же обещал тебе в этом году море.
Дальше по берегу старые, как будто смыленные, пляжные скульптуры — узнаем только морскую звезду и осьминога.
На заборе граффити — улыбающаяся рыба, нарисованная несколькими линиями. На ногах-галочках она счастливо шагает на сушу — подальше от медленной воды, короткой памяти и нечувствительного сердца.
В Кострому въезжаем, затаив дыхание. Кострома всегда была где-то рядом — мы проезжали ее мимо, насквозь и вокруг, планировали поездку, но улетали то в Лондон, то в Денпасар.
Заселившись, мы идем пить пиво. Это традиция всех наших путешествий.
В ирландском пабе заказываем бельгийское. Вход в паб на боковой стороне белого, как будто сахарного домика. Арочные окна первого этажа почти вровень с землей.
Под зонтиками два столика. Улица стекает вниз, к закатной набережной. Потом нам кто-то расскажет, что это Молочная Гора. Раньше здесь стояли торговки с молоком и проливали, проливали, проливали его на землю.
Сейчас здесь течет медленная, сладкая, провинциальная нега. Она облизывает углы домов, липы и наши загоревшие плечи. В ней медленное время и развешенное во двориках белье. Малиновый звон — не звук, но состояние. Пыльные собаки под воротами. Чайки и далекая музыка с теплохода. Не-московская разреженность звуков. Наверное, если задаться целью, можно высчитать, сколько людей в городе должно быть, чтобы в нем завелась нега.
Нежный коэффициент.
За соседним столиком собирается мотоциклист.
Доверяешь городу — доверяй его людям.
Спрашиваю:
— Скажите, а где здесь еще можно погулять, чтобы старые дома и так же хорошо, как здесь?
Он улыбается:
— Везде.
В паб заходит человек с гитарой и в темных очках. Мы расплачиваемся, но заглядываем ненадолго внутрь. Музыкант уже сидит на подоконнике, не сняв очки.
— Ходит дурачок по небу…
Паб совсем маленький, все стены в табличках и картинках, как положено ирландскому пабу в любой стране.
— Ищет дурачок глупее себя.
Мы садимся на соседний подоконник и заказываем еще пива — каждый раз по одному бокалу на двоих.
— На небе вороны, под небом монахи…
Кроме нас только одна пара, за остальными столиками нарядные девушки по двое. Они с вызовом разглядывают подруг музыканта, с которыми он ходит курить. Без гитары и очков он совсем не такой крутой. Все подруги выше его ростом.
Я два раза переношу бронь ресторана.
У пристани дебаркадер, на котором снимали «Жестокий романс». Сейчас там ресторан и играет Маликов. Днем ставят песни из фильма.
Вода светлая и прозрачная, как радужка глаз влюбленного. Даже небо сейчас плотнее воды.
Мы живем в отеле «Островский» и ужинаем в ресторане «Гроза».
Официант рассказывает про охотников, которые запекали гуся в глине. Их шеф-повар вместо глины использует панцирь из черной смородины. Подается с репой, квашеной с облепихой, мочеными яблоками и соусом из гусиной печени. Под потолком клетка с толстеньким певчим кенаром Андреем Александровичем.
У тебя красивые руки.
Утром мы завтракаем на веранде и обсуждаем наш будущий дом. Он уже достаточно тщательно вымечтан. В сувенирной лавке покупаем птицу счастья со щепными крыльями. Не самую большую, но самую красивую. У нас обязательно будет много счастья.
За треугольниками старых домов квадраты пятиэтажек, на углу зеленый «Магнит». Мы разворачиваемся, чтобы не выйти из зачарованного круга, не выйти туда, где вместо густой неги жидкий спитой чай.
Промахнувшись переулком, мы все-таки цепляем кубик панельного дома. Балконы размером с птичьи кормушки. Точно посередине одного из них висят черные мужские трусы. Черные же прищепки симметричны, как лацканы смокинга.
Через несколько улиц лает невидимой собакой дом с резными наличники. Когда-то давно его покрасили в цвет сегодняшнего неба. На балконе сушится красный кружевной бюстгальтер и трусики.
Мы бесцельно бродим по городу. Я фотографирую улочки и дворики, ты иногда попадаешь в кадр.
Людей мало.
Городок в табакерке. Нет, не в табакерке — он как будто бережно выложен между двойными рамами старого деревянного окна, как закладывали яблоки на зиму.
Я тащу тебя в «Единственный в России музей цыганской культуры и быта». Название как вывеска передвижного цирка. На улице перед входом — чучело пластиковой цыганки с длинными черными ресницами. Сам музей — несколько комнат в полуподвальном этаже. Хозяин здоровается, берет с нас деньги, выписывает билетики и начинает экскурсию:
— Здравствуйте, дорогие гости!
Много игрушечных лошадей, фотографий и ярких тряпок. Одна из местных цыганок все ходит к хозяину с надеждой выменять одну из фарфоровых фигурок из его коллекции на платок. Дочери на свадьбу.
Богоявленский собор Анастасииного монастыря похож на гномью пещеру — высокий, узкий, в золоте.
Монахиня на входе говорит, что нам повезло друг с другом и нам надо повенчаться. Просит подать записку в Москве за ее умершего некрещеного родственника.
Главная святыня монастыря — икона Феодоровской Божьей матери, икона, которой венчали на царство Романовых. Две смеющиеся девушки под руководством монахини моют мраморную лестницу. Трудятся за любовь и семейное счастье.
У меня есть и любовь и счастье. Я прошу у Богородицы правильного пути и сил пройти по нему достойно.
В Ипатьевской слободе по улицам водят коня. А может быть, и не водят. Охранник закрывает перед нами дверь в обитель, мы пришли слишком поздно.
Ныряем под шлагбаум и идем вдоль монастырской стены, между четырнадцатым веком и шестнадцатым. Подножье стены заросло белыми сладкими цветами — в моем детстве их называли кашка. А ты не помнишь. Наверное, мальчики дают название другим вещам, чем девочки — чтобы, когда они вырастут, весь мир был назван.
Дорога заканчивается пригорком, над которым только небо. По линии раздела, как по канату, едет ребенок на трехколесном велосипеде. Я делаю фото — мальчик и наши тени на песочном склоне. Твоя тень ближе к небу.
Мы поднимаемся на вал. Здесь гуляют семьи с детьми и интеллигентные выпивающие — они приезжают на велосипедах и увозят свой мусор в аккуратно завязанных пакетах.
В сегодняшнем закате нет вчерашней прозрачности. Волга вспахана лодками. Мы мечтаем о доме на воде, выбираем лодку и строим маршрут от Москвы до Костромы. Больше всего нас волнуют шлюзы.
Во рву поют лягушки. Я считаю, что бас непременно крупен и бородавчат, ты ставишь на то, что он мелок и зелен.
Мы доходим до стрелки Волги и Костромы и поворачиваем обратно. Ты обнимаешь меня и подстраиваешься к шагу. У летящих чаек светится контур. Тень от моего платка — прозрачная.
На набережной у монастыря немолодой несвежий мужчина несет сумочку своей подруги. Подруга коренаста, у нее старческие ноги, каблуки, красное короткое платье в стразах и длинные розовые ногти. Спутник с ней очень нежен.
Белые стены монастыря наклонены в небо, по ним можно подняться без перил. Мы садимся в машину, и я включаю Гребенщикова.
Бьется солнце о тучи над моей головой.
Я, наверно, везучий, раз до сих пор живой…
Чайки рассаживаются по столбикам ограды через один, орут на нарушивших порядок.
Мне б резную калитку, кружевной абажур…
Ох, Самара, сестра моя;
Кострома, мон амур…
Фото с официального сайта города Костромы

Красное, белое
Красное
Поздним вечером у противоположного берега, где красный бакен, то есть правая сторона, если идти вниз по течению, бросил якорь рыбак на советском дюралевом катере. Все еще жара. Желтая с пунцовыми прожилками лампочка качается над ним.
У парапета беременная девушка в невесомом платье. Если бы не Клязьма и армяне, здесь было бы очень скучно, как во всех других новых районах и пригородах. Можно предположить, что городская скука и беременность как-то связаны. Среди армянских семей эта связь прослеживается четче. Рыбак, а также утки, чайки и бакен с ними девушке не интересны.
Садится самолет, как положено, с красным и зеленым огоньками на крыльях. Люди на набережной говорят о жаре. Обычно русский язык, плохой русский, как в плохом рэпе, недоступный для понимания армянский и немного узбекского. Знакомых нет.
Белое
Белый бакен далеко. Он качается над затопленным когда-то заливным лугом. Красный бакен еще дальше. За лугом текла Клязьма, а теперь над ней целое водохранилище, по которому проходят четырехпалубные теплоходы. Чаще пролетают небольшие дюралевые катера, еще чаще — дорогие яхты. Яхты красивые. И дорогие. Их много, дорогих и красивых яхт. Напротив стоит старая зеленая пристань. Зеленая от самой своей речной природы, а не потому что такая краска.
На мне новые красивые ботинки. Никак не научусь покупать вещи в интернет-магазинах. Хорошие, в общем, но лучше бы не покупал, но купил, и тоже хорошо.
Небо тоже белое, только над Лобней яблочно-розовое. Яблочно, да. Садится самолет, в это время в Шереметьево посадки (утром взлеты). Тоже спорное слово. Яблочные посадки. Это вот хорошо. Можно ли из слова «Лобня» собрать слово «яблоня»?
Армянские дети. Как будто на гулкие доски набережной высыпали ведро яблок твердого сорта Симиренко. Цмр-цнр-цкр…
Красное
Сидр по 64, как бы дешево. Платеж прошел, да, спасибо, вам спасибо, чек не надо, конечно… Вернемся на набережную. Что там с нашей, так сказать, политикой? Лучше смотреть на самолеты или на лодки, но есть еще непрерывный рабочий чат. Журналисты, эксперты, аналитики…
Ботинки все же дурацкие. Жмут в тех местах, где вообще не должны жать. Вот и вся наша политика.
Вот она, на яхтах, наша политика. И в самолетах на первых местах.
Загорелись фонари на бакенах. Раньше, у бабушки на Оке, мы воровали их с лодок и кое-как устанавливали на велосипеды. Плохие фонари, made in ussr. Тяжелые, неудобные, слепые. Вспомнишь детство, и вот опять «воровали».
Белое
На белом бакене зеленый фонарь, а на красном — красный. «Здесь дорогие квартиры, как в Москве», — говорит какой-то молодой муж соответствующе молодой жене. До конца променада им шагов триста пятьдесят. Дальше, за туями и, главное, забором, свадьба в армянском ресторане, русская. Но там, кажется, у всех уже есть квартиры, и слава богу.
Ресторан гремит музыкой, но все равно как-то тихо вокруг. Молчат утки. Садится самолет, его не слышно.
Так же неслышно внизу, под многими метрами воды из канала, течет себе маленькая Клязьма. Она движется слева направо, а течение водохранилища — справа налево. Не могу понять, нечто противоестественное. Но, видимо, так может быть, если позволяет инженерная мысль.
На лавочке русские школьницы обсуждают что-то такое, не очень интимное, но все же несколько будуарное. Кажется, одну из них мать не выпустила из дома полуголой, несмотря на жару. Обе смеются над этим. Армянские школьницы давно дома, мусульманские всегда одеваются, как им полагается. Их тоже нет на набережной, да и не было.
Остались русские взрослые и спящие на их руках младенцы. К берегу плывут две утки. Вокруг одной семь утят, вокруг другой два.
Красное
Это означает, что одна потеряла одного утенка, а вторая шестерых. Помню их, в конце мая плавали здесь совсем маленькие. Утят часто съедают крысы. Обычные крысы, не ондатры, они плавают не хуже ондатр, которых называют водяными крысами.
Проходит теплоход «Лебединое озеро». Надо же так назвать судно. Почему-то вспоминается, как тихо убрали расстрелянный троллейбус из музея современной России, оставили публике клоунский броневик и косолапую пушку. Где-то под эстакадой у Шоссе энтузиастов и сгнил этот славный троллейбус. Впрочем, это не имеет отношения к набережной над Клязьминским водохранилищем. Это, так сказать, наблюдение за внутренним пейзажем.
«Целуются все!» — кричит за туями тамада. Судя по музыке, жениху и невесте около тридцати лет. «Звери», старый «Мумий Тролль» и «Руки Вверх». Самое хорошее русское поколение, не имеющее никакого значения из-за своей малочисленности. Его уничтожат ОМОН и вера моего поколения в государственную пенсию.
Садится никому не интересный самолет. Огонек зеленый, огонек красный. Можно сказать, что садящийся самолет тоже часть внутреннего пейзажа, например, одиноко сидящего на набережной человека.
Белое
Сидр по 64, спасибо, чек не надо. Темнеет, и нет уже ни беременной девушки, ни будуарных старшеклассниц. Слева направо проходит теплоход «Тимирязев». Похож на движущуюся пятиэтажную хрущевку. По-своему неплохие дома, всегда теплые, хотя теплоход все же лучше. Он импортный, наверно, чешский, в этом дело.
Небольшая стайка лодок и маленьких яхт. Они возвращаются с Икшинского и Пироговского водохранилищ, где просторнее. Ни одной баржи за вечер. Суббота. Уже скоро воскресенье.
Красное
Музыка в ресторане окончательно сваливается в «Ленинград». Наблюдение за судами и самолетами все больше превращается в малоприятное созерцание внутреннего пейзажа.
Можно сходить в магазин и опять сказать этому татарскому мальчику, что чек не нужен. Мальчик едва не погиб от героина в Алтуфьево, так что теперь живет здесь с мамой, в соседней квартире. Здесь все же скучнее и лучше, наверно. Вообще татары как-то умеют жить чуть приличнее, чем остальные, со всеми их трудностями. Но можно и не ходить в магазин.
Справа налево проходит двухпалубный теплоход «Родная Русь». Тот же проект, что и «Булгария», и да сама Булгария — то же, что родная Русь, только для татар и чувашей.
Внешний и внутренний пейзажи сливаются в бессюжетном коллаже.
Белое
Армянский старик то появляется, то пропадает в темноте. Он поливает цветы и газон у маленького магазина, где работает продавщицей его жена. У нее можно купить трехлитровую банку с вареными раками или банку виноградных листьев.
У воды из шланга холодный запах утренних цветов. Июньское небо в Москве никак не может стать черным.

Московская, Московский, Москва
Вылетающие из Внукова ночью пассажиры видят в иллюминаторах странное оранжевое свечение. Его же в облачную погоду наблюдают жители верхних этажей столичного юго-запада. Это растет салат в теплицах агрохолдинга «Московский» в городе Московском.
Город Московский находится в городе Москве. Выдающаяся биография — до 2004 года это был поселок при бывшем совхозе, затем город, девять лет назад вошедший в состав Новой Москвы. И примерно тогда же он пошел в необузданный рост: к двум советским кварталам приросли три высотных района. Строили их на месте громадного тепличного хозяйства, от которого ныне остается все меньше — агрохолдинг переезжает, а ценную землю отдает под коммерческую застройку.
Но давайте по порядку. Московский начинается не здесь. Если не брать в расчёт деревню Передельцы, сгинувшую к концу 80-х, современный город начинается с крохотного района, прижатого к Киевскому шоссе — поселка Института полиомиелита. Маленький, из семи домов и детского сада, с трех сторон окруженный лесом и при этом до обидного шумный — рядом гудит шоссе, сверху ревут самолеты Внуковского аэропорта. Тут, посреди нехитрой советской застройки, оставлен от былых времен прелестный деревянный домик, в котором жили академик Михаил Чумаков с женой Мариной Ворошиловой. В институте по соседству они внедряли в массовое производство вакцину от полиомиелита. Теперь здесь делают третью российскую вакцину от коронавируса — чумаковскую. По поселку бродят деды с авоськами, а в единственном продуктовом нет сигарет — возможно, принципиально.
Удивительно, конечно, какие две великие миссии несет этот небольшой город, мало кому известный и почти незаметный — с Киевки его старую часть не видно, а новую, многоэтажную, легко принять за расползающуюся Москву. Две — я имею в виду и вакцины, и агрохолдинг. Насчет второго — ни капли иронии, в любом столичном магазине найдется салат «Московский». Не говоря уже о вакцине от полиомиелита. Сколько ее во мне: должно быть, дозы четыре. А сколько салата? Не сосчитать.
Дождусь, когда зайдет солнце, и над Московским встанет тепличное зарево. Под конец дня я уже буду ориентироваться в городе так, будто жила тут всегда. Вот улица академика Чумакова, казалось бы, одна из главных, но не парадная, а гаражная. Вот старый Московский, вот его эпицентр — дом культуры. Уцелевший в первозданном виде образец позднего совмода с поэтичными, но непонятными мозаиками, тропическими растениями внутри и пылающим на солнце витражом. В ДК энергичная библиотека, чемпионат по чтению вслух, на афишах — ВИА «Билет в СССР» с новой программой «Полет в ностальгию». Над ДК — низко плывущие самолеты. Перед — пустая широкая площадь с тонким слоем льда в серединке, который ковыряют лопатками малыши. А вокруг все та же нехитрая советская застройка — чем дальше от Киевского шоссе, тем выше. Аккуратные хрущевки с одинаковыми красными парапетами балконов, нежных оттенков брежневки, елки и сосны во дворах. Или вот — длинная девятиэтажка: на три четверти гостиница агропромышленного профсоюза, а на четверть жилой дом. Как это, интересно, когда соседи все время разные?
Тут старый Московский заканчивается, начинается новый Московский Новой Москвы. Улица Чумакова смыкается с улицей Атласова. Советская наука встречается с русской геополитикой, и на стыке их рождается девелоперское чудо — жилой район Первый Московский. «Камчатский Ермак» Атласов оказался тут в компании других русских землепроходцев: Никитина, за три моря ходившего; Хабарова, в честь которого Хабаровск; Лаптева — Харитона — в честь которого море; Москвитина, достигшего Охотского; и почему-то Бианки. Но истинный топонимический экстаз наступает на улице Московской в соседнем ЖК «Град Московский». Пишите письма: улица Московская, город Московский, Москва. Что символично, Московская улица продолжается широкой тропой, проложенной через лес до станции метро «Филатов луг», то есть прямиком в Москву.
Оба района высокие, плотные. Но в целом все не так уж плохо. Дворы здесь обустроены по последнему слову урбанистики, кофеен вдоволь, магазины, как говорится, в пешей доступности. Проворная бабушка распродает целую батарею домашних закруток, уставив ими всю уличную витрину «Магнита». Березовая роща обступает новостройки, на высоком берегу реки Зименки трое жарят шашлыки среди оттаявших собачьих какашек.
Другое дело — ЖК «Юго-Западный», первопроходец среди новостроек Московского. Весь он какой-то красно-песочный, обманчиво кирпичный, невероятно тесный. Вытесняющий. Возникает слишком уж поэтичное для этого места сравнение, будто тебя столкнули на дно Гранд-Каньона. Весь двор — детская площадка, остальное — парковка. Кто-то на втором этаже тоскливо и нестройно наигрывает на виолончели «Оду к радости» Бетховена.
На краю этой радости маленькая желтая церковь, похожая на сельсовет с колоннами. За ней пустырь, через него ходят в длинный, дугой изогнутый торговый центр. Он стоит на тонких корбюзианских ножках, сквозь которые проглядывают треугольные крыши теплиц. Чтобы увидеть теплицы целиком, нужно или проскочить под брюхом ТЦ, или долго-долго огибать его, а потом долго-долго плестись вдоль Валуевского шоссе. Вот они, сверкают на солнце: километр в длину, 800 метров в ширину и… на четверть разобранные.
Солнце медленно садится, а я брожу вокруг прудов неподалеку от торгового центра. Вот этот, узенький и загаженный — на его берегах и была когда-то деревня Передельцы, известная с XVI века. Совхоз «Московский» организуют в 1967 году — Москва требовала больше свежих овощей. Оборудование и теплицы купили у голландцев. «В марте 1970 года в совхозе-комбинате “Московский” собрали первый урожай тепличных огурцов», — пишет газета «Видновские Вести». В 76-м появятся шампиньоны. А салат в горшочках — безусловный бренд агрохолдинга — начнут выращивать в 1999-м. 15 лет назад гендиректор комбината Сидоров уверял журналистов, что никакого жилищного строительства здесь не будет: «Я займусь девелоперским бизнесом, только если придется слишком тяжело или не хватит денег на модернизацию всех старых теплиц». «Земля, на которой стоит “Московский”, — лакомый кусок», — говорят эксперты по недвижимости. И добавляют: «В этом месте есть смысл строить недорогие таунхаусы площадью 120-180 м2». Я смотрю на частокол из семнадцати- и двадцатипятиэтажек: таунхаусы, да.
Солнце село, а теплицы не загорелись. Только вдалеке, над лесом у деревни Валуево, видно слабое зарево — там растят клубнику. В десятом часу я покидаю Московский. Позже от Гали в инстаграме я узнаю, что свет зажигают ближе к ночи. Галя живет в большом оранжевом доме на краю «Града Московского», разводит чихуахуа и по ночам смотрит из окна на большие оранжевые квадраты. Она же прислала мне план застройки тепличного комплекса. Жалко, конечно. Такой вид.
Значит, пока есть еще время, варианта у меня два. Или заночевать в Московском, или посмотреть на него из самолета. Куда бы слетать по-быстрому, недалеко и недорого? О, Калуга, отлично. Тем более, что именно туда, под Малоярославец, переезжает часть агрохолдинга. Дешевый ночной рейс из Внукова, только лететь восемнадцать часов с пересадкой в Уфе и Кирове. Зато обратно на электричке.

На краю земли
(по воспоминаниям и заметкам)
16 августа
Петропавловск-Камчатский — весь в горочку, море холодное, люди… разные. Квартиры на Авито сдаются за космические деньги и все заняты, хоть объявления и не сняты. На солнце жарко, тучи и ветер заставляют натягивать капюшон. Говорят, август — самый кайфовый, теплый и стабильный месяц. Ну-ну.
В Центральной России, на Урале, в Сибири в августе зелень заматеревшая, темная и жестковатая. На тополях оседает пыль, листья взрослеют и не признают весенних нежностей. Камчатские деревья, напитанные влагой, водяной пылью защищенные от солнца, даже в августе полнозвучно зеленые. Верчу головой, хочу увидеть море, пока не получается.
Джетлаг, дико хочется спать. Хватило сил сходить в город, налопаться красной икры, запастись рыбой, докупить снарягу. Упаковать рюкзак. Нам выдали кошки, каски и ледорубы, потом еще закинут еды. Посчитала, даже если отдать альпснарягу, мой рюкзак будет весить больше двадцати килограмм. Писец котенку.
Утром вставать, а теперь, наоборот, не спится. Выхожу курить на крышу — из-за общей гористости верх и низ смешиваются. Днем было видно море, сейчас все в тумане. Белая тьма расползается от воды, на ночь забирает город себе. Само себе мафия.
То ли сегодня, то ли вчера, между одним сном и другим, успели дойти до моря. У него нет края, особенно здесь. Замершие корабли напряженными огнями пробивают тьму и все равно очень маленькие. Очевидно, что люди — авантюристы, ведь прокладывать путь через бескрайнюю соленую воду — мечтательное безрассудство. С другой стороны, скоро полетим на Марс.
Неподалеку лают собаки, уже не определишь, кто начал, заливаются кругом.
20 августа
Подъем назначили на четыре утра. Проснулась в темноте, хочется в туалет. Самое идиотское желание, когда ты в палатке, ночью, и даже спишь в водолазке.
Пока вылезала, напустила холода. И вымочила руки — все вещи рядом, в том числе наше пуховое гнездо, покрыты капельками воды. Та-а-ак… Без линз ни черта не видно, но почему-то под тентом светлая полоса. Неужели уже рассвет, а нас не разбудили?
Тент откинулся со скрипом, всей плоскостью сразу. И я вышла в снег. Похоже, он падал несколько часов. Наше убежище и палатки остальных участников придавило, стенки провисли.
Тихо и сумрачно. В свете фонаря вижу только черное и белое. Выступающие вулканические породы и снег. Река почти не отблескивает и разговаривает тише, упирается в стремительно нарастающий лед. Не то что других людей, даже животных нет. Евражки не шебуршат, никто не пытается стянуть шоколадку.
Стала скидывать снег с палатки. Он съезжал пластами, с детским каким-то звуком. Такой получался в детстве, когда в болоньевых штанах ехала с горки. Растяжки столько снега не держат, палатка слишком большая, слишком широкая, совсем не высокогорная. Подпираю тент ледорубом, меньше провиснет.
Для этой поездки заказали кучу снаряги, реально кучу. В общей сложности, мне кажется, тысяч на сто. И все равно не хватает вещей, чувствую себя не готовой. Потому что в программе пеший трек на две недели с лишним, в автономке, с высокогорными восхождениями. Перед этим я просидела полгода в карантинном одиночестве, почти без занятий спортом, без каких-то хитрых витаминок. Ни разу в жизни не пользовалась кошками и ледорубами и каску надевала много лет назад в пещеру. Вчера шел дождь, теперь снег. Август, да.
Первой вершиной на маршруте значился Острый Толбачик, кульминацией — Ключевская Сопка. Еще Камень, но про это я даже не думала. Википедия пишет, что «восхождения на вершину вулкана Камень совершаются с западной стороны и являются в силу крутизны склонов исключительно альпинистским мероприятием». Видела фотографии, он чертовски красивый. Равнобедренный, невозмутимый, опасный.
Из Москвы вылетели три ночи назад. Мониторы показывали, как самолетик пересекает Урал, Сибирь, приближается к Японии. За восемь часов до Петропавловска-Камчатского можно напробоваться вина, посмотреть пару фильмов, почитать и поспать. Когда я написала в рабочий чат, что путешествие все же будет, кто-то из коллег отреагировал набором эмодзи, поставив вулкан, краба и мишку. Я знала о Камчатке примерно столько же. И вот сейчас я на пути к первому вулкану, и нас заваливает мягкий летний снег.
Урылась в спальник ждать рассвета. Снег падал с шорохом, ледяной коркой замерзал на тенте.
Наверное, восхождения утром не будет. Но вдруг чудо! Если перестанет сыпать хотя бы к десяти, успеем.
To be continued

Один день в Переделкино
Когда приезжаешь в любое природное место из жаркой Москвы, уже чувствуешь отдохновение, а тут — Переделкино.
Выходит охранник. Улыбается: «Пожалуйста, пожалуйста, можете свободно перемещаться».
Мы и перемещаемся.
Сразу скажу, что Дом творчества в Переделкине — мечта писателя. При этом разруха здесь была ещё два года назад.
Двухэтажное компактное белое здание.
На столике у входа игра Эрудит. И шахматы. Шахматные часы made in USSR. Нажмёшь кнопку и переместишься куда тебе надо.
На втором этаже стоит бильярд. Непременно всем сообщают, что это тот самый, в который играл Высоцкий.
Библиотека, читальный зал. Интерьеры безупречные. Так и просятся в мой воображаемый журнал «Безупречные интерьеры шестидесятых». Здание тоже из тех времён. Написано, что оно было построено в 1966–1969 годах «силами треста “Мосэлектротягстрой”».
Вообще, это тот случай, когда автора, что называется, уважили.
Везде хочется сесть в кресло и писать. Конечно, что уж ты там накарякаешь — это на твоей совести. Пощадишь ли ты читателя, или выйдет из-под твоего пера что-то тягомотное, в любом случае устроители со своей стороны сделали всё, чтобы тишина окутала тебя, чтобы живой зелёный лист обрадовал (вокруг море цветочных горшков), чтобы тебе было хорошо. Что-то они такое ухватили из воздуха, воплотили и не ошиблись ни в одной линии, ни в одном дерматиновом широком кресле, ни в одной старой лампе и ни в одном цветочном горшке.
В Переделкино хорошо бы ехать без своих книг. В Доме творчества на втором этаже есть библиотека. От пола до потолка аккуратные книжные ряды, авторы по буквам. Есть здесь, конечно, работы местных писателей, и не всегда их имена сейчас известны. Мне жалко их. Старались, писали. Книгу тоже жалко. Ну что она стоит. Дай-ка я почитаю.
Но я, честно говоря, в принципе люблю литературу второго, третьего, пятого и десятого ряда. Это как если бы все пошли смотреть Эйфелеву башню, а ты завернул во дворик и нашёл сокровища какого-то мальчика из 1963 года — стеклянный шарик, пистон и пластмассовую ракету с фотографией внутри. Василь Козаченко, Вильям Козлов, Иван Козлов, Якуб Колас, Афанасий Коптелов — это только на «К» авторы, часть. Вот у Вильяма Козлова есть повесть «Волосы Вероники». Наверняка очень интересно (Волосы Вероники — это название северного созвездия).
Выходим из Дома творчества. Местный житель Василий рассказывает, что участки здесь теперь стоят 1 млн долларов, и если бы он мог, обязательно купил бы, потому что «Переделкино — это любовь».
На этой золотой земле то тут, то там попадаются старые дачи, в них живут потомки писателей. Ты смотришь на выцветшие дома, пытаешься почувствовать, что же тут было во времена интеллигентского расцвета? Крыши поросли травой, старые рамы скрипят. Вот в окне — старый железный утюг, а у дома тележка с книгами, но тут особая история — книжки продаёт виолончелист Илья Рубинштейн, такая вот факультативная культурная нагрузка. И эта дача стоит открыто, а обычно старенькие теремочки обнесены высоким забором.
Так, за забором дача, где жил Шпаликов, её сейчас реставрируют. Здесь в ноябре 1974-го он покончил с собой, и все ходят смотреть, понятное дело. В мае 1956-го года застрелился на своей даче Фадеев. Да, Переделкино не только любовь, бывали и муторные, нехорошие дни. Скольких прямо отсюда увезли на чёрном воронке. Бабель, Пильняк.
После писательской смерти дачу забирали, но вот в девяностые, говорят, некоторые приватизировали свои дома. Вообще же девяностые проехались по Переделкину, как и по всей стране. Начался процесс разрушения. Ну, и появились приметы времени, так сказать. В Доме творчества устроили ресторан «Солнце», он был шикарный — позолота, драпировки. Готовили, впрочем, хорошо. «Однажды мы пришли в ресторан “Солнце”, — рассказывает Василий, — и увидели, что на крыльце сидит невеста и плачет. Выяснилось, что со своим будущим мужем она познакомилась по переписке, когда тот сидел в тюрьме. Вчера его выпустили из зоны. Он перебрал, плюс пьянящий воздух Переделкино сделали своё дело. Он приревновал невесту к официанту. И стал всех бить — официантов, поваров. Торты там дорогие делали на заказ, покрушил и торты. Ресторан был закрыт, и больше он не открылся».
И вот это крушение жизни стало наползать на всё Переделкино. На въезде были куры, гуси, кролики. Упавшие заборы. Запустение и одиночество — творческое в том числе.
«А потом сюда пришёл Роман Аркадьевич Абрамович, — с видимым уважением говорит Василий, — и смотрите, как всё преобразилось».
На самом деле преобразилось, без дураков. Большой вкус, большие деньги. Золотой творческий поток вернулся в Переделкино, и то ли ещё будет. Повезло нынешним писателям-поэтам-переводчикам, для них с этого года открываются резиденции: подаёшь заявку на конкурс и, если выиграешь, будешь 21 день жить на всём готовом (тут же стоит отремонтированная гостиница. «Нюхайте, нюхайте, как пахнет! Всё новенькое!», — заходится от восторга администратор), будешь ловить летний золотой луч, нюхать всё новенькое и писать, писать.
Идём дальше. За глухим забором — Переделкино нетуристическое. Дача Грибачёва. Николай Матвеевич Грибачёв — писатель, а также председатель Верховного совета РСФСР, был им прямо перед Ельциным.
На собрании партийной группы правления Союза писателей в 1958 году Николай Матвеевич, а также Сергей Михалков и Вера Инбер выступили с требованием лишить гражданства и выслать из страны своего соседа по Переделкину — Бориса Пастернака. Теперь его дача — одна из самых больших драгоценностей. У дома огородик, картошка посажена, и что там ещё, кабачки, морковь. Это потому, что и сам Пастернак очень даже любил возделывать огород. «У нас полподвала своего картофеля, две бочки шинкованной капусты, две бочки огурцов», — писал он двоюродной сестре Ольге Фрейденберг. Даже фото есть: Борис Леонидович и лопата.
Грибачёв писал детские книжки. Например, «Заяц Коська и его друзья». (На самом деле, не только детские, но переиздаются лишь они).
Хозяева пускают нас в дом, и мы можем видеть, что за картину наблюдал Николай Матвеевич из своего окна.
Сейчас его дача перекрашена в фиолетовый цвет. Там живёт режиссёр музыкальных клипов. Снял, например, клип на песню Земфиры «Бесконечность».
У Грибачёва был большой участок, 0,5 га. Поэтому тут же ещё одна дача. Здесь живёт буддист. Везде развешаны тибетские молитвенные флажки. Пока буддист на даче, у дома всегда горит костёр.
Лесной участок, корабельные сосны, тишина, а вечером солнце пробивается сквозь листья, подсвечивает их. «Ой, ну что вы, — говорит местный житель Василий, это он привёл нас сюда. — Вы же видите: здесь нужно жить, творить, любить».
Разговоры про русский космизм. Чай с молоком в гранёных стаканах.
Режиссёр ставит нам клип Земфиры «Бесконечность». Он смотрит его вместе с нами, и я вижу, как опять срабатывает это: когда человек наполняется творчеством, он становится очень красивым, вот прямо физически преображается.
Поёт Земфира, лето, солнце подсвечивает листья. На участке Пастернака растёт картошка.
И так продолжается творчество.
Фото с официального сайта Переделкина

