Май 2021
Мастерская «Литмастерство»
Мастерская «Страшно перечесть…» Елены Холмогоровой
Мастерская Young adult
Мастерская аудиовизуального перевода
Мастерская рассказа Майи Кучерской
Мастерская рецензии и критики
Мастерская сторителлинга
Мастерская травелога Дмитрия Данилова
На фронт
Поэтическая мастерская CWS
А кто же еще?
Арт-кафе
Аспирант
В чём же соль?
В четыре руки
Дом 28, строение 3
Заблудший
Запах хлорки и первой любви
Злой человек
Клетка
Кораблик в бутылке, привезенный из Саутгемптона
Кривая дорога
Кумир
Любовь по-турецки. Этюд в феврале
Люди из «России»
Марина
Мать должна умереть
Между небом и землей
Настоящий масон
Находка
Небесная подкова
Нинин дом
Новость
Перед Пасхой
Пока падает снег
Потрясение
Просто посидим
Прощание по-английски
Самсара
Собака по кличке Аджика
Стихийные бедствия, воображаемые и настоящие
Стрела
Хлебец
Юля — это я
От отца
Поцелуй на Карловом мосту
Сейчас

Гузель Яхина: «Многие истории о голоде для нас сегодняшних совершенно непонятны»
Роман «Эшелон на Самарканд» — один из немногих современных художественных текстов, затрагивающих тему голода в Поволжье. Книгу Гузель Яхиной обвиняли и в плагиате, и в мифологичности сюжета, и в очернении истории. Впрочем, как и всегда… Мы поговорили с писательницей и узнали, зачем ей понадобилась сказочная фабула и кто, по ее мнению, несет ответственность за голодную трагедию 20-х.
Вы работали со страшной темой. Были ли эпизоды, после которых хотелось закрыть все источники и никогда больше не возвращаться к историям про голод?
Много таких моментов было. Не то чтобы мне хотелось закрыть и отложить, но было некое оглушение от всего того, что происходило всего сто лет назад. Здесь можно назвать едва ли не каждый текст, который я читала. Была, к примеру, «Книга о голоде» 1922 года врачей Василевских. И это, с одной стороны, совершенно невыносимое чтение, потому что они очень подробно рассказывают о болезнях голодающих, об использовавшихся суррогатах с градацией от более или менее съедобных к несъедобным совсем, включая песок, глину и прочее. Есть там и очень подробное описание того, что чувствует умирающий от голода человек, со всеми фазами и стадиями от голодного истощения до предсмертной эйфории. Но для меня эта книга все-таки взгляд науки, и она облегчает восприятие.
Еще одна «Книга о голоде», изданная в том же самом 1922 году, состоит из разных частей, среди которых литературные тексты о голоде, написанные самими голодающими. Это рассказы, пьеса, стихи о голоде. В этих текстах поражает не то, что описывается, не сюжетные повороты, а общее ощущение безумия. Понятно, что это писали люди в несколько смещенном психологическом состоянии, что голод «насыщал» тексты вот этим ароматом безумия.
Среди моих источников было издание «Советская деревня глазами ВЧК ОГПУ НКВД». Это сборник документации внутренних органов, в который вошли докладные записки, отчеты, рапорты по итогам инспекций. И, казалось бы, совершенно сухие документы, но в них тоже рисуется страшная картина. Есть отчеты об убийствах на почве голода, о самоубийствах, о каннибализме.
Есть книга «Голгофа ребенка», в ней, среди прочего, есть истории о ранних детских беременностях. Меня шокировал эпизод о том, как девочка 15 лет родила ребенка, и, не зная, что с ним делать, сожгла его, а золой постирала белье. Таких вещей там много. Очевидно, что в то время ценность человеческой жизни была совершенно иной, а ценность детской жизни стремилась к нулю.
Многие истории о голоде для нас сегодняшних совершенно непонятны. Что ни возьми — все совершенно нечеловеческое, от чего хочется отвернуться, с одной стороны, с другой — когда начинаешь в это погружаться, невозможно отвернуться, потому что ты уже не можешь оставить внутри себя то, что впустил. Забыть про это тоже нельзя.
Вы описывали предсмертный бред Сени Чувашина, отталкиваясь от второй «Книги о голоде»?
Дыхание смерти и дыхание безумия от этой темы очень сильно в принципе. Будь то фотографии, отчеты или поэзия голодающих. Что касается Сени Чувашина, в мемуарах Аси Давыдовны Калининой я прочла про мальчика из-под Пензы, который сошел с ума от того, что его мучали кошмары с преследующей его вошью. Это были буквально два-три предложения, а я из этого вырастила героя.
Мне показалось важным описать хоть одну смерть, изначально их было две, но на вторую не хватило душевных сил. Погибнуть должна была еще и девочка Пчелка, которая воображает, что она ест мед. Очень долго я искала тональность, в которой это стоит написать, и пыталась понять, с чем в конце концов останется читатель, что я говорю о ребенке. И мне показалось важным эту смерть построить так, чтобы ребенок победил. Пусть эта победа — единственная в его жизни, пусть мы, как читатели, понимаем, что это голодный психоз и предсмертная эйфория, когда за несколько мгновений до смерти наступает химически обусловленное состояние счастья. Мне показалось, что если мальчик погибнет в этом состоянии счастья и осознания собственной силы, то с моей стороны это будет дань уважения герою. Через это я пробовала больше подключить читателя к детям.
«Сеня Чувашин», «Пчелка», список имен-кличек в конце. Вы знаете, как зовут каждого ребенка в вашей книге?
У меня была задумка называть всех детей. Эшелон вывез из Казани 500 человек, и 100 из них по дороге умерло. Изначально я хотела перечислить и умерших, и доехавших до Туркестана, и тех, кто прибился по дороге. Но я поняла, что из огромного именного списка, который я составила и распечатала, мне будет сложно вычеркивать собственной рукой тех, кто будет умирать. Я не смогла. Поэтому нескольких перечислила, а все остальные остались такой безымянной массой, которую Деев с фельдшером хоронят вдоль железной дороги, а по именам называю только тех, кто остался жив.
Еще был момент, связанный с детьми и с темой детской смерти. В романе есть глава «Чертова дюжина» — это первые смерти, которые происходят на глазах Деева и в которых он, возможно, виноват, по крайней мере он взял их в свой эшелон, не сумел выкормить. Я не знала, как мне к этой главе подступиться, и в итоге себя обманула: написала некий финал, и в этом финале рассказала про тех лежачих, которые остались живы. Вопреки реальности, ожиданиям взрослых и прогнозам они прожили достаточно долгую жизнь. Я придумала и вставила этот кусочек в конец главы. И к этому абзацу шла всю дорогу. Рассказывая о тех, кто умер, я шла к тем, кто остался жить. Так глава была написана, осталась в тексте, а уже на этапе редакторской правки, когда мы шлифовали текст с редактором, чуткая Галина Павловна Беляева заметила, что это вставной абзац и его надо бы убрать. Мы его достаточно аккуратно вырезали, и в конечном варианте текста его нет, но без него я не знаю, как бы написала эту достаточно тяжелую главу о смерти тринадцати детей.

По этому же принципу вы убрали и эпилог о судьбах выживших детей? Я знаю, что эпилог был написан раньше, чем закончен роман, были ли герои, судьба которых поменялась во время работы?
Да. Ну вот про Пчелку, которая должна была умереть, я рассказала. Есть в романе мальчик, о судьбе которого я хотела бы чуть больше рассказать. По задумке, Грига Одноух влюбляется в детского комиссара, начинает оказывать ей знаки внимания, ревновать Белую к Дееву. То есть это такая детская влюбленность во взрослую женщину, но когда я начала прописывать эту линию, мне показалось, что она, пожалуй, утяжеляет текст, и ее пришлось убрать.
В одной из рецензий вас укоряли в том, что вы не дали детям голоса…
Я думаю, что детям я голос все-таки дала. Были придуманы маленькие детские истории, то, что хотелось высветить в коллективном герое — детях, но я их обозначила буквально парой предложений. Можно было бы как-то расширять их, но мне показалось, что этого достаточно. Например, история Борзого и Бурлило, мальчиков-близницов, которые ждут поворота на Персию, или про мальчика по кличке Карленок, который считает, что его родители на Юпитере. Это, кстати, совершенно реальная история. Единственное, что поездов на Юпитер крестьяне всерьез ждали в дореволюционные голодные годы. В журнале «Этнографическое обозрение» была напечатана статья о том, что люди собирались на вокзалах, чтобы как-то попасть на эти поезда. Я посчитала, что это можно включить, перенеся события на пару десятилетий по шкале времени. Вот какие-то такие детские судьбы. Я их порою не расширяла, а сконцентрировала до нескольких предложений.
У главных героев-взрослых есть живые прототипы?
Нет, все герои вымышленные. Другое дело, что я, конечно, размышляла о прототипах. В образе Деева изначально мне хотелось зашифровать образ Матвея Погребинского — основателя детской коммуны для беспризорников в Болшево, но позже я от этой идеи отказалась. В образе Белой тоже нет никаких тайных посланий, но глава про путешествие комиссара в Чувашию основана на главе из мемуарной книги Аси Давыдовны Калининой «Десять лет работы по борьбе с детской беспризорностью». Ася Давыдовна действительно спасала детей, вывозя их на таких эвако-эшелонах, какой описан в романе, и носила кличку «Мать чувашских детей», поэтому кусочки ее биографии есть в биографии Белой, но нет никаких прототипов.
А если перейти на взрослых. Рассуждения Деева очень напоминают монолог Иешуа из «Мастера и Маргариты» о том, что все люди добрые, а злыми они стали просто потому, что другие добрые люди их обидели. Вы держали это в голове, когда писали роман?
Именно Булгакова в голове я не держала. Но понятно, что в том, как рассуждает Деев, есть явные христианские мотивы. Мне хотелось подчеркнуть этот контраст: он рассуждает как христианин, но при этом он богоборец и отвергает религию. Их монолог с фельдшером перед тем, как начинает рожать корова — это совершенно христианский текст: «Пусть бы нашелся такой человек, хотя бы один на земле, кто никогда не сотворил бы ни единого злого поступка. И шел бы этот человек по миру, творя только добрые дела, а остальные бы глядели на него и грелись о его добродетель».
У меня не было задачи делать какие-то аллюзии именно на Иешуа, но, конечно, была в голове вообще вся христианская этика, христианское мировоззрение.
Главная сюжетная форма романа — форма путешествия античного героя. Одиссея, в которой герой выходит в странствие, чтобы совершить большой подвиг
А вообще какие-то аллюзии, не надуманные читателями, есть в вашем романе?
Я понимала, что главная сюжетная форма романа — это форма путешествия античного героя. Одиссея, в которой герой выходит в странствие, чтобы совершить некий большой подвиг, а по дороге совершает еще несколько маленьких. Можно сравнить роман и с волшебной сказкой, в которой Иван-царевич, или Иван-дурак, если угодно, идет куда-то за большой целью и по дороге встречает множество второстепенных персонажей и совершает много разных подвигов. Это, конечно, держалось в голове, и я делаю отсылки к разным сказкам. Среди прочего Деев несколько раз называет себя дураком. А так, конечно, это форма героического мифа, и я очень надеюсь, что эта форма придает определенную динамику повествованию. Вот приключение, вот разные станции этого приключения. Во-первых, эта форма помогает преодолеть тяжелые эпизоды, а во-вторых предполагает некий не самый тяжелый конец, не обязательно счастливый, но не безысходный.
Еще мне кажется, что мифологичность обогащает текст. Есть ощущение существования истории одновременно и в реальности, и в неком мифологическом измерении. Всем этим мне хотелось облегчить читателю продвижение по этой непростой теме.
Конечно же, можно говорить об отдельной мифологии детского мира. Он всегда мифологичен, а детский мир 20-х годов прошлого века так и вовсе. Он был полон фантазий, словотворчества, мифов и ритуалов, так как дети пытались что-то противопоставить ужасному миру. И это «что-то» — была такая детская спайка, которая ощерилась против сообщества взрослых. Это я тоже стараюсь в тексте показать, опираясь на источники, конечно. Ритуальные словечки или словесные формулы: «Будет скоро дадено, не штымпу и не гадине, а тебе», или, к примеру, подробное описание ритуала при одалживании какой-то вещи тоже из источника. Обряды, традиции, странные представления, сказки, мифы — я старалась их показать.
Расскажите об этих источниках?
Что-то было вычитано в книгах и газетах той эпохи, которыми я пользовалась. Описание одалживания вещи я просто взяла и литературно обработала. Какие-то моменты я все же позволяла себе придумывать, опираясь на сложившееся представление о психологии тех детей, почерпнутого, опять-таки, из источников. Ну, к примеру, фарт. Понятно, что тема фарта и везения — это одна из главных тем в криминальном и детском мирах, потому что детский мир 20-х плотно примыкал к криминальному. Поэтому частично это придумано, частично построено на основании выводов, которые делали воспитатели тех лет.
А текстов о тех детях осталось много. Кроме «Республики ШКИД», которую все знают, есть еще книга Сорока-Росинского «Школа Достоевского». Или сборник текстов о том, как основывалась Болшевская коммуна, история которой стала сюжетом для фильма «Путевка в жизнь». Есть много информации про то, как дети себя вели, какие психологические феномены у них возникали.
Вы сказали о психологических феноменах. Дети тех лет очень сильно отличаются от современных, вы сами сказали, что детский мир был крепко связан с криминалом. Не возникало ли у вас отторжения собственного коллективного героя — детей, неприязни к ним?
Конечно, эта неприязнь может появиться. Когда смотришь на эти фотографии или читаешь про то, что эти дети делали… Ведь они только звались «детьми». Это были какие-то странные искалеченные существа, почти что взрослые, просто в маленьких тельцах. Они курили, пили, кололись, занимались сексом и грязно ругались. Они могли подличать, могли убивать. Но я, конечно, говорю, о настоящих беспризорниках, а не о тех, кто недавно осиротел и попал в приемник. Это действительно порой очень неприятные персонажи. И момент отторжения, конечно, возникал. Но при этом я понимала, что они — производное того страшного времени, того, что с ними случилось, того, что они оказались на улице. Если бы они не провели большую часть своей коротенькой жизни среди бродяг и убийц, они совершенно точно были бы другими. Поэтому мне не хотелось их показывать такими, какими я их сейчас описала: убийцами, наркоманами или абсолютно тупыми (другого слова не могу подобрать). Одна из социальных сестер в дневнике описывала то, что делали мальчики. Это явно была женщина с образованием, тонкой душевной организации, и вот она пишет, что у нее больше никого нет, кроме этих мальчиков, а они вчера лягушек мучали. Так меня это тронуло. А ведь это мальчики, которые мучают не только лягушек, они мучают и убивают друг друга. Но нельзя было их показывать такими зверятами, мне хотелось их все-таки показать детьми.
Вы сказали, что проблемы с хлебом начались и до революции. Какова ваша историческая позиция? Голод 1920-х — это стечение обстоятельств или преступление Советской власти?
Есть факты, и эти факты общеизвестны. С одной стороны — это трагическое стечение обстоятельств, да. Ситуация с хлебом была тяжелой еще до 1917 года, но при этом все, что добавил 17-й год и большевики, только ухудшило эту ситуацию. Ответственность за то, что происходит в стране, всегда несет ее правительство. А так как большевики взяли власть в свои руки, ответственность за голод несут они. Сам голод, несомненно, был вызван стечением обстоятельств, но ключевую роль, на мой взгляд, сыграла политика продуктового террора, которую проводила советская власть. Действия власть имущих фактически оставили крестьян без еды и лишили людей всяческого стимула этот хлеб выращивать. Поэтому да, мне кажется, голод 20-х это одно из преступлений советской власти.
Когда вы работали над романом, вы понимали, что для читателя вы становитесь первооткрывателем темы голода?
Еще на примере своей первой книги я поняла, что исторический роман часто выполняет роль учебника истории. Для меня это было странно. Когда я писала «Зулейху», мне казалось, что я говорю о вещах, давно и широко известных, что я никому не открываю ничего нового, а просто рассказываю свою историю о событиях, которые давно известны каждому школьнику. Но потом выяснилось, что какие-то люди узнали о раскулачивании из моих книг. Поэтому во время работы над вторым и третьим романами я понимала, что для кого-то эта книга расскажет об исторических событиях, о которых человек не знает. Хотя мне кажется, что тема голода 20-х — это тема, о которой в постсоветской России говорили достаточно много.
С другой стороны, литературных текстов об этой теме очень мало, и это я понимала. В искусстве о голоде 20-х сказано немного и сказано очень мало правды. Среди честных произведений искусства о голоде 20-х для меня на первом месте фильм Шухрата Аббасова «Ташкент — город хлебный». Я, как человек с кино и сценаристикой в анамнезе, в первую очередь думаю о кинематографических произведениях. Для меня этот фильм — единственный, который честно рассказывает о голоде 20-х. В скобках отметим, что нужно смотреть не односерийную версию, которая вышла в 60-х, а полную режиссерскую, с хроникой. Если говорить о литературе, то «Солнце мертвых», о котором я уже говорила. Понятно, что «Ташкент — город хлебный» — это изначально текст Неверова. В других произведениях голод все же составляющая ситуации героя, а не основная тема. Поэтому мне казалось, что об этом нужно рассказать.
«Зулейха открывает глаза» частично основана на рассказах вашей бабушки, «Дети мои» посвящен одному из ваших дедушек, есть ли семейные корни у «Эшелона на Самарканд»?
Другой мой дедушка с отцовской стороны был беспризорником и был спасен на одном из таких эшелонов. Он был вывезен в Туркестан, провел там несколько лет, а потом вместе с другими детьми вернулся в Красную Татарию. После этого он прожил долгую полнокровную жизнь и был убежденнейшим коммунистом, считая, что советская власть его спасла, дала ему образование и вообще все. Про путешествие дедушка не рассказывал практически ничего, но я знала с детства, что такие поезда были и на них спасали детей, что половина пассажиров умирала по дороге, а половина все-таки выживала, поэтому тема эвакуационного поезда была в памяти. И изначально, когда я задумывалась о романе, мне хотелось сделать этот поезд одним из воспоминаний уже взрослого человека. Но позже я поняла, что стоит сделать поезд главным местом действия. Потому что поезд, дорога предполагает динамику, некий интерес читателя, который может уравновесить тему. И поезд стал главным. А дедушку звали Загреем.
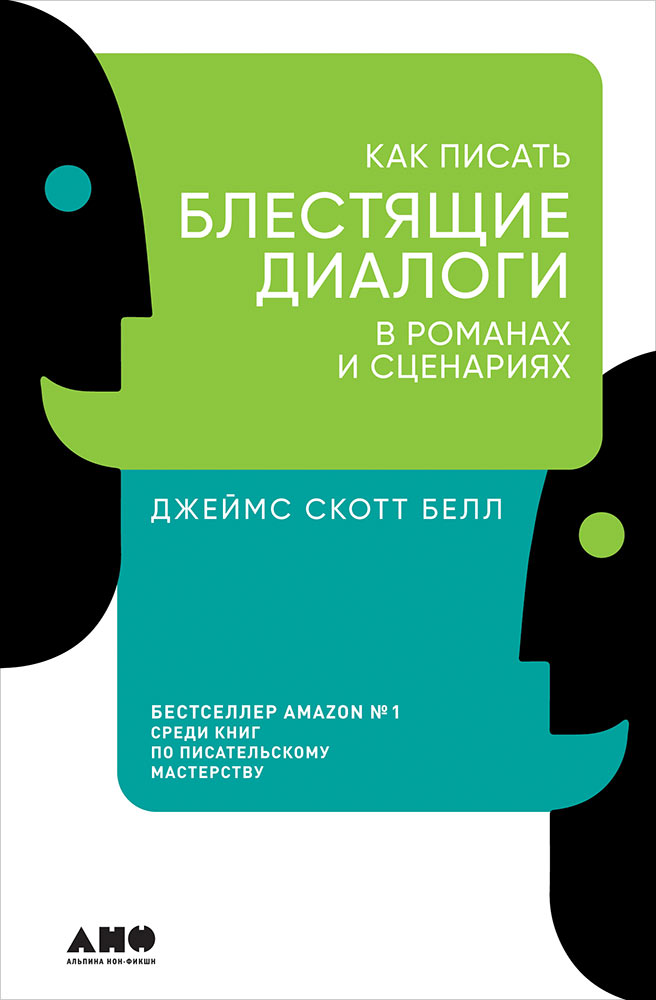
Как писать блестящие диалоги в романах и сценариях
В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга «Как писать блестящие диалоги в романах и сценариях» писателя и лектора Джеймса Скотта Белла. Для создания первоклассного рассказа, романа, пьесы или сценария необходимы не только четко сформулированная идея и выстроенный сюжет, но и достоверность и убедительные персонажи. Добиться этого помогают диалоги. Предлагаем прочитать фрагмент книги и разобраться с тем, что вообще такое хороший диалог.
Что такое диалог
Наиболее удачное, на мой взгляд, определение диалога дал известный драматург и сценарист Джон Говард Лоусон, внесенный в «черный список» во времена маккартизма 1. В своей книге «Теория и практика создания пьесы и киносценария» (Theory and Technique of Playwriting)2 Лоусон утверждает, что драматический диалог всегда должен быть «сжатием и растяжением действия». Речь, поясняет Лоусон, «порождается энергией, а не инерцией». То есть драматическая речь «служит, как и в жизни, для расширения границ человеческих поступков; она упорядочивает действия и служит их продолжением. Она также усиливает действие. Та эмоция, которую испытывает человек в какой-то ситуации, возникает из его понимания масштаба и смысла этой деятельности».
Если автор воспринимает речь как действие, то он не напишет вялый, пассивный диалог. Речь как действие напоминает вам, что герои художественной литературы произносят что-либо для того, чтобы продвинуть свои интересы.
Но что, если мой персонаж говорит о пустяках? Что, если он просто убивает время?
Тогда вы должны знать, зачем он это делает.
Он почему-то нервничает? Что-то скрывает? Пытается утаить правду?
Должно быть что-то, иначе диалог просто занимает место в повествовании.
Каждое слово, каждую фразу герой произносит потому, что надеется: это приблизит его к цели.
Иными словами, у него есть некий план действий. Когда-то я состоял в совете директоров, заседания которого проводил один из членов правления. Первое, что он делал, садясь за стол, — просил предоставить ему «список вопросов для обсуждения». Он изучал все предложенные варианты, решал, какие из них соответствуют теме повестки дня, и затем расставлял их в порядке важности. Это всегда помогало избежать большой потери времени на совещании.
То есть первый секрет отличного диалога заключается в том, чтобы у каждого персонажа в каждой сцене был собственный план действий. Затем противопоставьте эти планы друг другу.
Представьте, что вы пишете роман об избалованной красавице с Юга. Время действия — накануне Гражданской войны. В этой истории красавица (пусть ее зовут Пэнси) решила выйти замуж за некого джентльмена.
Но есть одна проблема. Только что стало известно, что этот джентльмен собирается жениться на другой женщине. Теперь Пэнси нужно действовать быстро, чтобы не потерять свою настоящую любовь.
Она строит план. Скоро будет большой прием-барбекю в доме родителей этого мужчины. Пэнси решает уединиться с ним и заставить его объясниться в любви.
Вот как Маргарет Митчелл выстраивает сюжет романа «Унесенные ветром» (и ей хватило здравого смысла переименовать свою героиню в Скарлетт).
Итак, вернемся к сцене барбекю. Скарлетт приводит своего идеального мужчину Эшли Уилкса в библиотеку. И что же дальше? Она говорит, используя слова как сжатие и растяжение действия. У нее есть план, и она не медлит, а сразу выпаливает: «Я вас люблю!»
А каковы планы Эшли? Как господин с Юга с безупречными манерами, который придерживается общепринятых норм поведения, он должен сразу же прекратить такого рода разговор. Он любит Скарлетт, но не может сказать об этом или позволить себе долго размышлять о чувствах. Поэтому герой пытается непринужденно пошутить:
— Вам мало того, что сегодня вы уже завоевали здесь сердца всех мужчин?
Но Скарлетт не отступает. «Эшли, Эшли, скажите мне, вы должны мне сказать, не дразните меня! Ведь ваше сердце принадлежит мне? О, мой дорогой, я лю…»
Эшли прерывает это излияние чувств, положив ладонь на ее губы. Теперь начинается нешуточная борьба. Вот диалог из этой сцены без нарративных фрагментов3:
— Вы не должны говорить так, Скарлетт! Не должны. Вы этого не думаете. И вы возненавидите себя за эти слова и меня за то, что я их слушал!
— Никогда, никогда! Я люблю вас, и я знаю, что и вы тоже… Потому что… Эшли, но вы же любите меня, любите, правда?
— Да, люблю… Скарлетт, расстанемся и забудем навсегда то, что мы сейчас сказали друг другу. — Нет, я не могу. Зачем же так? Разве вы… разве вы не хотите жениться на мне?
— Я женюсь на Мелани. Сегодня отец должен объявить о нашей помолвке. Мы скоро поженимся. Мне следовало сказать это вам, но я думал, что вы уже знаете. Я полагал, это известно всем… не первый год известно. Я никогда не думал, что вы… У вас столько поклонников. Мне казалось, Стюарт…
— Но вы же сейчас, минуту назад, сказали, что любите меня.
— Дорогая, не вынуждайте меня говорить то, что может причинить вам боль.
Скарлетт продолжает говорить, пытаясь убедить его, что ее любовь лучше, чем любовь Мелани. Но он не поддается, и она меняет тактику:
— Я буду ненавидеть вас до самой смерти!
Когда это не помогает, она умолкает, решая вместо сжатия и растяжения действия сделать решительный жест. Она дает Эшли пощечину.
Он выходит из комнаты.
Скарлетт в сердцах разбивает фарфоровую вазу, бросив ее на мраморную каминную полку. Мужской голос произносит: «Это уж слишком».
Это тот прохиндей из Чарльстона, Ретт Батлер! Во время сцены с Эшли он лежал незамеченным на диване4.
— Достаточно неприятно, когда твой послеобеденный сон нарушают таким обменом любезностей, какой я вынужден был услышать, но зачем же еще подвергать мою жизнь опасности?
— Сэр, вы должны были оповестить о своем присутствии.
— В самом деле? Но ведь это вы вторглись в мою обитель…
— Сэр, вы не джентльмен.
— Очень тонкое наблюдение. Так же как и вы, мисс, не леди.
Персонаж Ретт Батлер привносит в сцену другую цель и некий элемент иронии: он хочет сбить со Скарлетт спесь, а она, разумеется, не поддается. Это первый и самый важный пример блистательного диалога: ясно показать, к чему стремится персонаж в конкретной сцене и в чем состоит цель конфликта. Прежде чем начнете писать, потратьте минуту на то, чтобы набросать, чего хочет каждый герой в каждом эпизоде, даже если это, как однажды сказал Курт Воннегут5, всего лишь стакан воды.
Что не является диалогом
Диалог — это не разговор, взятый из реальной жизни, а стилизованная речь, с помощью которой автор, через своих героев, достигает определенной цели. В этом заключается принципиальная разница. Наша задача — не просто запечатлеть реальность в своем произведении. Мы не снимаем документальную хронику.
На самом деле мы воспроизводим нечто, кажущееся реальностью, для того, чтобы создать желаемый эффект.
Обычная речь часто бывает путаной и скучной.
Речь вымышленная не путается (разумеется, если у героя нет серьезной причины постоянно говорить без умолку).
Диалог — это не информационный канал. Его нельзя воспринимать как легкий путь донесения до читателя каких-либо сведений, также не стоит с его помощью проповедовать взгляды автора на мир. Можно сообщить это по-другому, ненавязчиво — дальше в этой книге я расскажу, как это сделать.
Итак, вот основа для отличного диалога. Он строится между двумя персонажами, каждый из которых преследует свою цель. Неважно, насколько малы или велики их устремления, но, если они конфликтуют между собой, диалог получится. Позвольте мне доказать это на примере отрывка из одного великого фильма всех времен «Все о Еве» (All About Eve) (1950). Это история стареющей бродвейской дивы Марго Ченнинг (которую сыграла Бетт Дейвис) и ее подопечной Евы Хэррингтон (Энн Бакстер). Закадровый текст великолепно читает рассказчик — язвительный, остроумный и влиятельный критик Эддисон ДеВитт (Джордж Сэндерс получил премию «Оскар» за эту роль). В одной из первых сцен фильма Марго устраивает вечеринку в своей просторной нью-йоркской квартире. Она зла на ДеВитта: он намекал на то, что актриса уже старовата для своих ролей. Это становится причиной их противоборства — они обмениваются колкими репликами. ДеВитт пришел на вечеринку с хорошенькой молодой женщиной, мисс Касуэлл, которую в фильме играет Мэрилин Монро (и это один из самых ярких, характерных для нее образов). Она в его власти — Эддисон знакомит ее со знаменитыми продюсерами и при этом спит с ней в обмен на покровительство в театральном мире. Здесь, на вечеринке, ДеВитт не хочет, чтобы девушка производила впечатление слишком уж бестолковой особы, поскольку это может повредить его репутации в светском обществе. Он беспокоится о том, что мисс Касуэлл может запросто поставить его в неловкое положение, и старается избежать этого. Задача мисс Касуэлл — снискать расположение окружающих, но она не понимает, что едва ли не каждая ее реплика вульгарна и бестактна. А какова задача Евы? Нет, я не хочу все испортить, рассказав вам о Еве. Вероятно, вы сможете разгадать, чего она хочет добиться, с помощью следующего диалога:
МАРГО (Эддисону). Я отчетливо помню, что заметила ваше имя в списке гостей. Что вы здесь делаете?
ЭДДИСОН. Дорогая Марго. Вы были незабываемым Питером Пэном — вам нужно снова его сыграть. Вы помните мисс Касуэлл?
МАРГО. Не помню. Как вы поживаете?
МИСС КАСУЭЛЛ. Это потому, что мы с вами незнакомы.
ЭДДИСОН. Мисс Касуэлл — актриса. Выпускница театральной школы Копакабана. (Он замечает Еву, спускающуюся по лестнице.) О… Ева.
ЕВА. Добрый вечер, мистер ДеВитт.
МАРГО. Я не имела понятия, что вы знакомы.
ЭДДИСОН. Нас наконец-то официально представили друг другу. До этого момента мы встречались только случайно…
МИСС КАСУЭЛЛ. Так, как вы встретились со мной, — случайно.
МАРГО. Ева, это старая подруга матери мистера ДеВитта — мисс Касуэлл, мисс Хэррингтон. Эддисон, я давно хотела познакомить вас с Евой.
ЭДДИСОН. Только твоя врожденная нерешительность не давала тебе упомянуть об этом.
МАРГО. Вы слышали, что она очень интересуется театром?
ЭДДИСОН. У нас это общее.
МАРГО. Тогда вам нужно поговорить об этом.
ЕВА. Я боюсь, мистеру ДеВитту это покажется утомительным.
МИСС КАСУЭЛЛ. Вы его не утомите, милая. Вы даже не начнете говорить.
ЭДДИСОН. Подойди ко мне, дорогая. (Мисс Касуэлл подходит, и он показывает пальцем.) Это Макс Фабиан. Он продюсер. Иди и сделай для себя доброе дело.
МИСС КАСУЭЛЛ. Почему они всегда похожи на несчастных кроликов?
ЭДДИСОН. Потому что они и есть. А теперь иди. И сделай его счастливым.
Этот прекрасный сценарий Джозефа Манкевича хорош с начала до конца, потому что все персонажи преследуют свои интересы. И они находятся в таких обстоятельствах, что каждый из них может в любой момент вступить в конфликт с другими.
Таков главный секрет построения блистательного диалога.
Но есть еще множество способов добавить в него блеска.
- «Черный список» Голливуда был составлен в 1940–1950-х гг. В него вошли деятели культуры и искусства США, которым запрещалось заниматься профессиональной деятельностью из-за их политических взглядов. — Здесь и далее примечания редактора, если не указано иное.[↑]
- Лоусон Джон Г. Теория и практика создания пьесы и киносценария. — М.: Искусство, 1960.[↑]
- Далее цит. в пер. Татьяны Озерской. — Прим. пер[↑]
- Далее цит. в пер. Татьяны Озерской.[↑]
- «Я говорил своим студентам, что созданные ими персонажи непременно должны испытывать потребность в чем-то, даже если это просто стакан воды. Даже персонажам, парализованным бессмысленностью современной жизни, нужно время от времени водички попить» /Kurt Vonnegut. The Art of Fiction No. 64 // Paris Review. 1977. No 69/.[↑]

Необычные творческие упражнения для стимуляции воображения
Чаще всего «творческий процесс» — это сидеть на стуле и долбить по клавиатуре. В какой-то момент это может стать слишком однообразным и будничным.
Писательница Мелисса Донован обнаружила на практике, что когда нужно активировать воображение, то изменение привычной рабочей экосистемы — это лучший способ найти свежие идеи. Она поделилась некоторыми своими идеями с порталом Writing Forward, а мы перевели эти упражнения.
Если вы чувствуете себя в тупике, то попробуйте для начала иначе расположить свое тело. Уберите стул, отойдите от стола и попробуйте встать у конторки или сесть на пол напротив кофейного столика. Создайте себе новую обстановку: возьмите ежедневник на улицу или установите в гараже белую доску, чтобы устроить там мозговой штурм. Лягте на живот прямо на траве, нацарапайте, вырежьте или нарисуйте слова и позвольте окружающему миру и различным инструментам в вашей руке направить ваше воображение в нужном направлении.
Сейчас я хочу поделиться с вами несколькими упражнениями, которые могут помочь вам стимулировать воображение. Я предлагаю вам использовать ваше тело, окружающие вас предметы и первые попавшиеся под руку инструменты для того, чтобы найти вдохновение. Попробуйте парочку и затем решите, подходят ли они вам. Уделите себе 20-30 минут, чтобы у вас было достаточно времени, и посмотрите, что выйдет из этого.
Творческие упражнения
1. Увеличьте масштаб. Возьмите огромный ватман и расстелите его где-нибудь — на траве или на полу. При помощи разных ручек и карандашей испишите весь лист. Используйте огромные или, напротив, крошечные буквы.
2. Цветные маркеры. Упаковка цветных маркеров не ударит по вашему бюджету, а при их помощи можно сделать предыдущее упражнение еще более эффективным. Раскрашивание слов в разные цвета может подарить вам оригинальную свежую идею, так что используйте маркеры в своих записях в блокноте, на отрывных листках и даже в черновиках.
3. Листки для заметок. Попробуйте написать отдельные части вашей истории или стихотворения на отрывных листках для заметок. Ограничьте себя несколькими словами (в поэзии) или одной-двумя строчками (в прозе). На каждом листке напишите строчку из диалога или описание какого-то простого действия (вроде «она пошла к двери»). Крошечное пространство вынудит вас выбирать слова более осторожно. Когда вы закончите, то можете склеить все листки вместе, чтобы получился грубый черновик будущего сюжета. Вы также можете пронумеровать все листки и задать им определенный хронологический порядок.
4. Используйте мел. В большинстве детских магазинов продаются большие упаковки толстых мелков, которыми удобно размечать тротуар и проезжую часть. Это любимое занятие детей. Попробуйте написать стихотворение или кусок малой прозы таким мелком. Если вы захотите затем использовать этот текст, не забудьте сфотографировать его, прежде чем смыть.
5. Пишите стоя. Есть много способов писать стоя. Например, вы можете встать у стойки и просто писать в вашей записной книжке. Или же попробуйте писать на плоской вертикальной поверхности: прислоните бумагу к стене, двери или окну и позвольте себе писать все, что придет в голову. Вы можете также использовать мольберт или доску.
6. Лягте на траве. Главный секрет состоит в том, чтобы лечь прямо на траве. Не используйте коврик или полотенце. Почувствуйте прямой физический контакт с травой или любой другой средой, к которой вы не привыкли. Если трава слишком сырая или грязная, то попробуйте лечь на песок или даже на тротуар (хотя готова поспорить, что последний ГОРАЗДО грязнее травы). Самое важное — быть за пределами квартиры, лежать и писать.
7. Нарисуйте ваши слова. Вам не нужны для этого специальные краски и кисти: подойдет самая дешевая школьная акварель. Вы можете вернуться к первому упражнению и использовать для этого большой ватман. Нарисуйте слова вашей истории или стихотворения вместо того, чтобы писать их. Если захочется — вдруг вы почувствуете себя художником! — то снабдите их визуальными образами.
8. Винтажные средства. Используйте кисть, перо, перьевую ручку с чернилами (да, их все еще производят) или просто качественную авторучку — и узнайте, каково было быть писателем сто или двести лет назад. Иногда полезно помнить, что величайшие авторы в истории писали свои произведения именно так, макая перо в чернила: от Шекспира до Джейн Остин и Эмили Дикинсон. Если смогли они, сможете и вы!
9. Царапать на пастели. Это старый трюк, который очень любят дети. Закрасьте при помощи пастели (мелков или карандашей) весь лист бумаги. Можете закрасить его сплошным цветом, радугой, пузырями или полосами: как вам пожелается, это не имеет значения. Когда вы закончите, то пройдитесь по всему листу черной пастелью так, чтобы все окрасилось в ровный черный цвет. Теперь вы можете ногтем (или любым острым объектом, например скрепкой или монеткой) царапать что угодно на черном фоне. И вуаля — ваше письмо окрасится во все цвета радуги, скрытые внизу.
10. Амбидекстрия. Вы правша? Пишите левой рукой. Левша? Используйте правую. Сначала это получится неуклюже, но если вы сконцентрируетесь, то сможете написать что-нибудь членораздельное непривычной рукой. (Да, я знаю это, потому что я сама делала многие из этих сумасшедших вещей. Вы думаете, я просто выдумала все это?)
11. Останьтесь у компьютера. Окей, вы хотите придумать что-нибудь новое, но не можете оторвать себя от любимого компьютера? Это не проблема. Попробуйте печатать белый текст поверх черного фона. Или ярко-зеленым на темно-сиреневом. Увеличьте ваш текст или, наоборот, сделайте его крошечным. Пишите полужирным или курсивом. Найдите какие-нибудь необычные шрифты. Попробуйте, например, рукописный шрифт или полужирные шрифты разных размеров.
12. Наденьте свои слова. Все, что вам нужно — это хороший маркер (а лучше несколько цветных) и дешевая белая футболка. Постелите ее на что-нибудь твердое и начните писать. Хэй, если когда-нибудь вы станете знаменитым писателем, то эта футболка будет стоить миллионы!
13. Нарисуйте граффити. Вы можете купить рулоны бумаги в художественных или даже бытовых магазинах. Прикрепите их к стене. Для этого подойдет любая клейкая лента, и лучше всего делать это на воротах гаража или на длинной стене коридора. Этот способ позволяет собрать все воедино: вы стоите и пишете на огромной бумаге, используя вертикальную поверхность — и, как бонус, вы можете оживить окружающее пространство при помощи маркеров и красок.
14. Вспомните детство. До этого я несколько раз упоминала кисти и краски. Теперь попробуйте рисовать прямо пальцами (уверена, что для этого понадобится очень большая бумага). Вы, вероятно, испачкаетесь, так что оденьтесь соответствующим образом (вы можете надеть ту футболку, на которой уже написали свой текст). Опять же, это весело делать вместе с детьми.
15. Резьба. Вы удивитесь тому, на скольких разных предметах можно вырезать: на дровах, на старой свечке, на вашем кухонном столе. Шучу, не портьте стол. Вырезание слов замедляет письменный процесс, так что вам придется хорошенько обдумать каждое ваше слово и даже выбранные вами грамматические конструкции. Используйте нож, шило или любой другой острый предмет, чтобы настрогать себе слова.
16. Обувные коробки. У вас есть какая-нибудь старая обувная коробка под рукой? Как-то я написала вместе с подругой целую историю внутри обувной коробки. Много лет спустя она нашла ее и показала мне. История получилась отличная!
Я уверена, что есть какое-нибудь научное обоснование, почему такие сумасшедшие упражнения подогревают наше воображение. Я не ученый, но я точно знаю, как заставить мое воображение работать на полную мощность. Я сама попробовала многие из этих странных упражнений и прекрасно помню, как они помогли мне стимулировать мысли в самых разных направлениях. Почти всегда я приходила к какой-то идее, которая иначе никак не пришла бы мне в голову.
Так что попробуйте парочку сами. Дайте себе 20-30 минут, чтобы полностью погрузиться в упражнение, и посмотрите, что из этого выйдет.

Яна МКР: «Я хочу, чтобы поэзия стала попсой»
Сегодня в нашей поэтической рубрике Яна Мкр, 29-летняя автор известного в сетях стихотворения «А полюбят тебя обязательно за другое». Кто сказал, что на поэзии невозможно заработать? Толстовки с этой фразой страшно популярны и отлично распродаются. Билеты на концерты Яны сметают, а еще до выхода новой книги стихов предзаказ был таким, что издательство «Эксмо» срочно сделало допечатку.
На интервью Яна пришла в толстовке с вышивкой белым по черному «Поэзия — мертвый жанр». Собственно, так начинается предисловие сборника «Стой и свети».
«Мне говорили, что поэзия — мертвый жанр. Что никто не будет читать мои стихи, что я занимаюсь ерундой. А сейчас ты держишь эту книгу в руках…»
Кто-то поморщится, мол, фу, инстаграм-поэзия — это не поэзия. Но Яна настаивает, чтобы ее поэтом и не называли. А мы, в свою очередь, решили поговорить не совсем о непоэзии, а о путях успеха: Яна, как тебе удалось?
1. Как выпустить книгу в «Эксмо»
Яна, как тебе удалось выпустить поэтическую книгу в «Эксмо»?
Мне раза три писали из издательства, но каждый раз был затык. Они говорили, ой, а может, у тебя есть кто-то еще знакомый из поэтов? Давай издадим вас вместе. Я спрашивала: ребята, а зачем вы тогда выходите на меня, если хотите групповой сборник? Но потом нашлась девочка-агент, которая сказала: Яна, я все сделаю, все пробью, издадут только тебя. И не обманула.
Ты вообще ожидала, что будет огромный предзаказ и допечатки?
Нескромно звучит, но да. Подписчики постоянно спрашивали: где книжка. И я точно знала, что если издамся, то как минимум тысячу штук продам. Проблема была с издательством, есть же стереотип, что стихи не продаются. Я даже планировала опять сделать самиздатом, как две мои предыдущие книги, но не хватало времени.
Ты, конечно, в курсе, что большие поэты считают твои стихи попсой?
Конечно. Поэты не считают меня поэтом, они думают, что я телка. Им на меня плевать. Но мне не нравятся все эти люди в черных водолазках, которые не разрешают дышать на своих выступлениях. Они скучные, и их скука убивает жанр. Я вообще за то, чтобы поэзия стала попсой. В этом направлении жанр двигают не скучные люди, а, например, Ах Астахова, Юля Соломонова, Вера Полозкова, Ес Соя, Катя Султанова… Одни девушки, заметь.
2. Как заработать на поэзии
Яна, как тебе удается зарабатывать на поэзии?
Стараюсь всунуть поэзию везде, где только можно.
На толстовку?
Почему же, не только на толстовку. Спортивные костюмы со стихами, например. Я тут познакомилась с девочкой-ювелиром, она кольца, кулоны делает с моими цитатами. Кольца со словами «стой и свети», «встань и иди» расходятся, как пирожки. Сейчас же кириллица вообще в моде. Даже «Баленсиага» выпускает украшения с кириллицей.
Мне кажется, «встань и иди» не твоя цитата…
Есть такая книга, «Воруй как художник». Читала? Она про то, что велосипед изобретать не нужно. Пользуйся тем, что есть.
А на книге стихов много заработала?
Нет, кстати, совсем мало. Если бы мы издавали самиздатом, заработали бы миллион. А так — очень немного. Но я не жалею, у меня по поводу книги был незакрытый гештальт. Хотелось, чтобы меня опубликовало большое издательство.
3. Как получить звездных подписчиков
Как тебе удалось сделать так, что на тебя в Инстаграме подписались Шнур и Баста?
Шнур уже отписался. Он раньше мне лайки ставил, комментировал. А с тех пор как женился — отписался ото всех. А с Бастой — просто чудо какое-то. Сначала на меня подписалась Лена, его жена, ей понравилось мое стихотворение. А через неделю — Баста. Я обомлела и потом долго не хотела ничего выкладывать в Инстаграм. Он же мой кумир с детства. Помнишь, как у Веры Полозковой: «У меня к нему детство, детство неизлечимо»…
4. Как стать успешным блогером
Как тебе удалось продвинуться в соцсетях?
Инстаграм сегодня — лучшая площадка для продвижения поэзии. И я хорошо понимаю, как она работает. Два месяца у меня были помощники по Инстаграму, и я поняла, как его продвигать. Надо постоянно комментировать, снимать разговорные сторис… Наверное, если бы я следовала этим советам, у меня было бы еще больше подписчиков. Но мне скучно. Вообще, продвигаются те, кто поддерживает человека. Нужно говорить: все окей, ты отличный. Даже если у тебя какая-то проблема, все равно это хорошо. Сейчас такая повестка. Да, я заигрываю с аудиторией. Так сложилось, что моя аудитория сформирована из девочек. Они пришли, например, от стихотворения «А полюбят тебя обязательно за другое», поэтому я не могу им сразу писать про говно, кровь, волосы.
Какие волосы?
Не знаю, какие-нибудь.
Подмышечные или с ног?
Я не знаю, говорю условно.
Поэтесса Сола Монова говорила, для того, чтобы подвинуться в Инстаграме, нужно быть моложе 30 лет, иметь красивое лицо и есть не больше чем на триста килокалорий.
Я согласна с ней. Но та же Сола Монова этому правилу не следует. Ей сорок один, кажется, хотя она выглядит все равно круто. И на ее картинки действительно залипают подписчики. Как сказал один стэндапер, «я Соломонову не читал, я на ноги смотрел». К сожалению или к счастью я не такая красивая девчонка, на чьи фотки в Инстаграме залипнут мальчики. Поэтому, скорее, беру текстами. Но даже если и картинками, то мне это тоже лестно. Люблю эстетику, люблю дорогие рестораны, удобства… Я вообще хочу, чтобы поэтов перестали ассоциировать с фриками.
Тебе нравится Сола Монова?
Крутая, мы знакомы с ней лично. Я понимаю, что Юля стебется в своих стихах. Когда слушаю ее, мне смешно икс два, потому что она стебется над теми, кто ее слушает. А аудитория при этом ее обожает. Каждая думает: нет, это не про меня, а про мою соседку. Слушая Солу Монову, я поняла, что в нашей стране правду можно сказать только через смех.
5. Как стать автором для толстовок
Как тебе удается писать так, чтобы цитаты разлетались по толстовкам ?
— Я не специально. Теорией стихосложения я не владею, какие рифмы, какой размер — не знаю. Просто начинаю что-то писать, долго разгоняюсь и прихожу к мысли. Как правило, когда перечитываю, понимаю, что вся первая часть не нужна, а главное заключено в последних двадцати строчках. Их и оставляю, а все, что наверху — убираю.
Ну ты прям по Чехову…
Я не знаю, по кому, я плохо училась. Сама пришла к выводу, что надо отсекать лишнее. Вот и все.
Когда ты пишешь, уже понимаешь, какая фраза пойдет на толстовку, какая на колечко, какая на футболку?
Вообще нет. Мне иногда обидно бывает. Например, пошла в народ фраза «стой и свети», а мне-то казалось, что в этом стихотворении гораздо круче была другая: «Все равно какого ты цвета, роста, пола, взглядов и вероисповедания. Твоё дело — чистое, естественное сияние».
Я хотела бы быть более прагматичной и уметь прогнозировать. Так я была бы гораздо успешнее.
Ты переделываешь стихи?
Очень редко. И пишу быстро. Как-то в Краснодаре спрашивали: приходят ли к вам стихи во снах. Да что во снах. На унитазе приходят. Знаешь, как хорошо в туалете пишутся стихи!
6. Как сделать так, чтобы не надоело
Как тебе удается так долго писать для Инстаграма? Хочется ведь чего-то серьезного.
Я понимаю, про что ты говоришь. Но я делаю так. Напишу, например, десять стихов про то, как все ок, а потом выкладываю то, что мне по-настоящему хочется. Это как аллергия. Я, например, сильный аллергик, и мне в больнице вводят аллерген. Мне плохо, больно, но по логике когда он осядет и накопится в организме, я больше не буду так остро реагировать на цветение. Вот со стихами то же самое. Не все люди готовы сразу к серьезному. Недавно у Дудя вышло интересное интервью с художником. Он сказал: «Некоторые люди думают медленнее, чем ты. Дай им такую возможность». Я стараюсь давать.
У тебя есть любимые поэты?
Слушай, я не верю девчонкам, которые говорят, что их любимый поэт — это, например, Бродский. Они просто не могут его понять, он же вкладывал разные пасхалки в стихи. Сама я очень боюсь стать поэтом в черной водолазке, который говорит, что он пишет для умных или суперглубоких. Хуже непризнанного гения нет ничего. Для меня гений — тот, кто пишет просто.
Что ты читаешь?
Мне было лет 16-17, когда кто-то посоветовал почитать индийского философа Ошо. Мне показалось, что это очень круто. Потом я перечитала Кастанеду. Я училась в МГУ на факультете мировой политики, там у нас была история мировых религий. Она мне очень нравилась. Люблю книгу «Просто дети» британской певицы Патти Смит, у нее и стихи неплохие. Не люблю хиппи, но мне близка культура битников: Керуака, Берроуза. Обожаю Америку шестидесятых… Это мой любимый промежуток истории. На днях я смотрела фильм «Убей своих любимых» про Аллена Гинзберга, как поэты того времени относились к писательству… Мне понравился этот бунт: «Я буду делать то, что мне нравится». И я хочу так же.
7. Как не стесняться быть такой, какая есть
Раз так, то у меня последний вопрос. Как тебе удается быть такой естественной?
Ты имеешь в виду, такой глупой?
Да, ты не боишься говорить глупости и такие вещи, за которые тебя в поэтическом обществе просто четвертовали бы.
Давай расскажу последнюю историю. Мой дядя был женат на известной оперной певице. И однажды мы всей семьей пошли ее послушать. В антракте нас познакомили с людьми, с которыми она общается. А надо сказать, что мои родители далеки от оперной музыки. Они спортсмены. Я молчала и думала: не дай бог что-то скажу не так, лучше буду есть канапе. А мама моя — смелый человек. Она подошла к одному дяденьке и спросила: «Вы все говорите «Макбет», «Макбет». А что это?» Мне вдруг стало так стыдно, я готова была сквозь землю провалиться. Но тот человек, у которого она спросила, вдруг запросто ей ответил: «Знаете, как я вам завидую. Я бы дорого отдал, чтобы в осознанном возрасте это услышать». Он совершенно просто и без снобизма сказал это… А потом нас все время опекал, подсказывал, говорил что-то интересное. Так я сделала вывод, что не надо бояться выглядеть неуместно. Если не боишься — всегда будешь выглядеть уместно.
А полюбят тебя обязательно за другое. Подборка стихотворений Яны МКР
А полюбят тебя обязательно за другое За то, что чужому и невдомек Самое, что есть у тебя простое Будет для кого-то и шарм, и шелк Родинка, ямочка или дурной акцент Станет кому-то чудом, почти пророчеством То, что ты и не видел так много лет Кого-то спасает от серого одиночества И полюбят тебя обязательно не за то Не за то, над чем ты всегда стараешься Но как ты ходишь, как снимаешь с себя пальто Может, как ты плачешь, но, скорее, как улыбаешься Как грызешь колпачок от ручки, ловишь такси Или волос отводишь ладонями от лица Как ты ноешь с утра, как не знаешь, куда идти И как в фильмах болеешь за подлеца Может, вдруг ты зевнешь на важной какой-то встрече И сконфуженно сморщишь лоб И тебя полюбят. Именно в этот вечер Не за что-то. А вовсе наоборот
***
Детство кончится, как лето в столице Раз — и проснулся по горло в снегу Детство еще иногда тебе снится Только вот дальше идти одному Деревья не кажутся больше до неба Страшно теперь совсем за другое Раньше боялась, что с горки не съеду Или в саду не доем второе Ну а теперь страшно доесть Страшно в горку не поместиться Любимое блюдо теперь — месть А раньше с компота могли напиться И детство не хочет у нас спросить Сдает во взрослую жизнь без слов А время отлично умеет лепить Из маленьких ангелов мудаков Хотя об одном читали сказки И мой крокодил, как и ваш, с гармошкой И солнце желтым было в раскраске И песню пели все про Антошку! С площадки недавно я убежала Казалось, прошла большая минута Вернулась. Ребят позвала, видно, мама... А горок и не было тут как будто
***
Я хочу туда, где я сплю и ем И людей веселит мой смех Я хочу туда, где из всех проблем Выбор куклы — сложнее всех Я хочу туда, где я молодец Что пошла, улыбнулась, села Я хочу туда, где один конец: Подлецов побеждает фея Я хочу туда, где любая боль Лечится зеленкой и шоколадом Спирт на ватке — единственный алкоголь И где врать никому не надо

Мастерская «Литмастерство»
Весной 2021 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в летнюю мастерскую «Литмастерство». Представляем работы стипендиатов.
Конкурсное задание
Всем хорошо знакома классика букваря: «мама мыла раму». Ну, мыла и мыла, а что было дальше? что было до? чья это мама? зачем она моет раму? Возьмите эту фразу за основу и напишите отрывок в одном из трех жанров: ужасы, фантастика или эротика. Важное условие: фраза должна стать не просто отправной точкой, а центральным сюжетом вашего текста.
Объем: до 2 000 знаков с пробелами (да, это должен быть небольшой текст).
Мария Зылёва
Мама мыла раму
— Привет, дядь Саш.
Спина за кухонным столом не шелохнулась.
«Опять нажрался и уснул», — подумала Лена и прошмыгнула в тёмный коридор. Шаг, второй… Перед ней возникло бледное лицо матери.
— Лена?! Почему ты не улетела?
— Мам, рейс отменили, погода нелётная. А что случилось?
— Саша умер.
— Столько пить — давно пора… Ты уже позвонила в полицию? Давай я?
— Подожди. Сначала надо его положить.
— Куда?!
— В кровать. Он же там умер. Пусть там его и найдут.
— Но он же на кухне?!
— Так надо. Помоги.
Лена обошла труп и заглянула ему в лицо. Один пустой глаз смотрел на люстру, другой — в тёмное окно. На полу стоял таз с мутной водой.
— Мама, что тут произошло?!
— Некогда, потом объясню.
Была полиция и похороны. Поминки мама запретила. Они просто жили дальше, будто его и не было вовсе. Только мама перестала спать. На четвёртую ночь мама не заперла дверь, и Лена заглянула в её комнату. Грязной тряпкой мама мыла раму. Из рамы смотрел отчим — одним пустым глазом на люстру, другим на окно. Вдруг он моргнул.
— Вот и хорошо, вот ты и снова дома, — констатировала мать.
У Лены подкосились ноги, скрипнула старая половица. Мама быстро задёрнула фотографию куском ткани — как попугая в клетке, и оглянулась.
— Мама?!
— Пойдём на кухню, там всё расскажу.
Прошла вечность, пока закипел чайник.
— Маму мою помнишь? Она очень отца моего любила. Когда он помер, не смогла она смириться и сделала обряд: усадила его тело за стол, еды поставила и сфотографировала, не поминала и каждый день протирала раму той самой водой, которой тело омывали. Тёрла и тёрла против часовой стрелки, пока время назад не повернула. И остался он с ней. Говорить не мог, всё смотрел на неё из рамы и плакал. От горя мама дом подожгла и сгорели они вместе. Я всегда такой любви боялась, потому и жила с теми… кого не жалко, что ли. А этот, он заслужил клетку, всю жизнь нам с тобой испоганил. Не могу я его пока отпустить, не рассчитались мы, пусть повисит, подумает.
В соседней комнате беззвучно выматерился дядя Саша. Лена встала и включила везде свет.
Ольга Микулик
Мама мыла раму. Уже неделю она часами мыла раму, но красный пигмент въелся в пористое дерево. Ирина Павловна мыла раму машинально: чтобы успокоиться, себя занять, подумать. Куда пропали Катя и Люба? Как они вышли? В тот вечер квартира была заперта изнутри, а окна на девятом этаже закрыты на шпингалеты.
— Если нарисовать на зеркале тринадцать ступенек и вовремя их стереть, она не успеет выйти, — сказала Люба, вынимая из маминой сумочки красную помаду.
— Ок. А как мы поймем, что она идёт? — Катя всегда поддерживала подругу в мистических экспериментах, так, «ради прикола».
— Ну, в интернете говорят, мы услышим шаги, как будто каблуки наступают на стеклянные ступеньки.
Девочки принесли из коридора большое зеркало и поставили его напротив окна. Стекло отразило зеркало, зеркало отразило стекло. Люба нарисовала красной помадой тринадцать черточек, вертикально, каждую друг под другом.
— Свет нужен? — Катя потянулась к выключателю.
— Да, оставь, так совсем темно будет, я не успею стереть.
Когда Катя услышала первый звук, она замерла. Да быть того не может, слуховые галлюцинации, — подумала девочка, — это ведь просто шутка, интернет-прикол и не больше. Не поворачивая головы, Катя посмотрела на подругу и по застывшему взгляду Любы поняла — она тоже это слышит. Шаг, шаг, шаг, тихий смех. Снова шаг.
— Быстро неси тряпку, нужно стереть ступеньки. — Катин голос хрипел, слова углами застревали в горле.
— Мама, — позвала Люба, ноги и руки не слушались. — Аамамаа!
Катя замешкалась, затем быстро подползла к зеркалу и начала стирать помаду дрожащей рукой. В это время Ирина Павловна лежала в ванне, в наушниках «Король и шут» пел баллады. Она так ничего и не услышала.
Когда из-под двери потянуло холодом, Ирина Павловна встала, вытерла распаренное тело, накинула халат и вышла из ванной. Дома никого не было. На кухне стояло зеркало с красными разводами, оконная рама и стекло были расчерчены красными линиями, на полу валялся золотистый тюбик любимой помады и новенькая карта дамы пик.

Мастерская «Страшно перечесть…» Елены Холмогоровой
Весной 2021 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в летнюю мастерскую Елены Холмогоровой. Представляем работы стипендиатов.
Конкурсное задание
Напишите двухчастный этюд (не более 3 000 знаков с пробелами), в котором будут два действующих лица и ситуация, круто изменившая их судьбы, сначала глазами одного, потом другого персонажа.
Карина Гукасян
Существо и психичка
Марина плелась домой своим обычным маршрутом. В голове, как обычно, занозой сидели проблемы и способы их решений, не давали покоя маячащий на горизонте ЕГЭ у старшего, репетиторы, страх перед армией, успеваемость младшего и конфликт с его классной руководительницей, отсутствие отца в жизни детей, сломанная машина, надоевшая стабильная работа, а главное, ощущение полного одиночества и безрадостности бытия.
Почти у самого дома из тёмной арки вынырнула фигура существа, которое частенько, в любое время дня и ночи, Марина встречала на своём пути. Существо это не только нагло стреляло у прохожих сигареты своим охрипшим, почти мужским голосом, но и выглядело просто омерзительно: худая, длинноногая, спортивная из-за постоянной ходьбы туда-сюда, с задницей как орех, со здоровым цветом лица и полным отсутствием стыда и совести. Не успело оно произнести своё обычное «сигаретки не найдётся?», как Марина неожиданно для самой себя взорвалась и начала орать что-то на весь двор. Существо замерло, повисла тишина, и в этот момент Марина почувствовала, что земля уходит из-под ног, и рефлекторно схватилась руками за существо.
Очнулась она на чужой кровати, в чужой квартире оттого, что чужие детские ручки прикладывали к её голове мокрое полотенце. Марина присела. Перед ней девочка лет пяти моргала голубыми глазами и улыбалась.
— Не волнуйтесь, вы не умрёте, вас спасла и притащила сюда моя мама.
Марина встала и направилась на звук голосов. На кухне пахло едой, у плиты орудовал подросток лет семнадцати, а за столом сидело существо.
— Мама, тётя ожила, я её вылечила!
— Молодец, а теперь собери своё барахло, засунь в стиралку и сама не забудь помыться. А мы с тётей посидим и выпьем, да ведь?
— Я не… — начала было Марина.
— Ты да, — продолжили за неё, — тебе надо!
Марина опрокинула стопку, сморщилась и закусила огурцом. Она была в шоке — её дети до сих пор не способны были даже бросить в тумбу свои грязные носки и намазать маслом бутерброд, а эти загружают машинку, готовят… У такой-то бабы!
И дабы развеять опасения она вдруг спросила, не поступает ли куда-нибудь сын. Ответ убил.
— Да хрен его знает, куда-то там собрался, программист он, видите ли. По мне, так уж лучше в армию, хоть места будет побольше в этой клетухе!
В коридоре послышался шум, кто-то зашёл в квартиру, волоча за собой мешок и пыхтя.
— А вот и ещё один, сидит на моей шее, объедает моих детей и тащит в дом всякий хлам!
Марине совсем поплохело. Существо не было одиноко, у неё есть мужик!
Из ванной вышла девочка, обёрнутая в полотенце.
— Мама, я хочу сказку! — пролепетала она.
— Ну и читай!
— Мне нечего, у меня не осталось больше сказок, а старые я знаю наизусть.
Марина вспомнила, как до десятилетнего возраста читала детям перед сном и как заставляла с боем читать хоть по страничке своего младшего сына, и впала в депрессию.
После третьей рюмки она поняла, что живет как-то неправильно, попрощалась и качаясь пошла к выходу, предварительно отдав существу пачку своих сигарет.
На следующий день она позвонила на работу, сказалась больной, забронировала билет в один конец до любимого городка на берегу моря, дала напутствия детям, прикрепила магнитом к холодильнику список дел и несколько кулинарных рецептов и покинула дом. С собой у неё был маленький чемоданчик, желание разобраться в себе и вспомнить, чего она от своей жизни хочет, а ещё пакет с детскими сказками, которые по дороге она решила занести одной маленькой умной девочке.
***
Наташин день проходил как обычно, по одному и тому же маршруту, с одной и той же целью — докопаться до максимально возможного количества людей под предлогом стрельнуть сигарету. Делала она это по какой-то инерции, где-то глубоко внутри зная, что на то есть очень серьёзная причина.
Обычно люди отворачивались, отрицательно мотали головой, реже давали сигаретку.
Но этим промозглым мартовским вечером её неприятно и грубо отрезвили. Виновница стояла перед ней, вся аккуратная и причесанная, и орала благим матом что-то о том, почему бы ей не устроиться на работу, как все те, кто въебывает на благо своих детей и лезут из кожи вон. Вместо того чтобы так же грубо ответить, Наташа вдруг вспомнила, что не курит. А ещё свою последнюю работу, связанную с ипотечным кредитованием в одном из ведущих банков. А ещё через долю секунды эта орущая психопатка вцепилась в неё руками и начала стекать вниз. Когда Наташа поняла, что это обморок, она не думая схватила её в охапку и потащила за угол, домой, благо жила Наташа рядом, на первом этаже. Там она бросила психичку на кровать, а сама плюхнулась на табуретку на кухне.
У плиты стоял красивый парень. Неужели это её сын? Она помнила его милым мальчиком лет двенадцати и часто забывала, что с тех пор прошло уже пять лет. А Алиса, которая только появилась на свет… О каких сказках она говорит, ей не может быть пять!
Пять лет назад случилось то, почему Наташа не хотела больше жить настоящим, отказывалась смотреть на детей и заполняла пространство бессмысленными вещами и действиями. Она заставляла себя не помнить, и притом довольно успешно.
Психичка очнулась, вид у неё был кошмарным, белое пальто делало её какой-то жалкой, на лице был испуг. Наташе казалось, что та смотрит на неё и её детей с брезгливостью и отвращением, а тут ещё, как назло, притащился Сергей с мешком какого-то говна. Да и сам Сергей был когда-то подобран ею на какой-то помойке, правда, Наташа не помнила зачем.
Психичка, похоже, опьянела и собралась уходить. Уже на выходе она отдала Наташе пачку сигарет. Потом Наташа ещё долго сидела на кухне и смотрела на эту пачку. Сын уговаривал мать пойти прилечь, аккуратно тряс за плечо, предлагал чаю. Из комнаты прибежала Алиса пожелать спокойной ночи и поцеловать. А Наташа смотрела на пачку сигарет до тех пор, пока её не прорвало, пока не вывернуло наизнанку вместе с грузом и болью прошлого.
Она вспомнила вдруг, как сильно любила мужа, как он любил её и детей, как сильно мучился от рака, как всё-таки дожил до рождения дочери и как оставил её одну в этом ужасном и бессмысленном мире.
Она смотрела на сигареты и ревела. Да, она не курила, курил когда-то её муж, возможно, поэтому она их стреляла. Когда же всё это началось? Почему?
Неожиданно для себя она проснулась и впервые за долгое время посмотрела на своих детей. В их глазах было столько любви и столько тоски по любви матери. Ей стало больно и стыдно, но при этом она чувствовала себя счастливой.
Завтра, как только дети уйдут в школу и сад, она выкинет на хрен дядю Сережу со всей его помойкой, разгребет дом и начнёт разгребать свою жизнь, по чуть-чуть каждый день, небольшими шажками.
Именно за этим занятием и застала её психичка, появившаяся на пороге с пакетом детских сказок в руках.

Мастерская Young adult
Весной 2021 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в летнюю мастерскую литературы Young adult. Представляем работы стипендиатов.
Конкурсное задание
В славянской мифологии куда ни сунься — везде подстерегает нечистая сила. В бане — банник, в овине — овинник, в лесу — кикимора, а анчутка везде, даже в суп может забраться, если не накрыть его крышкой. Но вот на месте леса — дома и улицы, вместо бань — ванны и душевые кабины, а что такое овин, вообще мало кто помнит. Как выжить нечисти в этом новом мире?
Напишите историю (до 3 000 знаков с пробелами) о потустороннем существе в большом городе. Единственное условие: вашему герою 16 лет.
Роман Белов
— Ты что! Что за ужасы! — закричала волосатая рука, и что-то спрыгнуло с Алиной кровати. Только бы никто не проснулся! В комнате ещё человек шесть, а мама на смене.
— А-узу би-ллахи, — повторила она шёпотом.
— Перестань! Надо не так! К добру или к худу! К худу или к добру! Чумная! — Это после грохота на ковре. Запахло пылью.
— Ты кто?
Нет ответа. Зашуршало что-то и стихло. Айла — хотя, может быть, теперь и просто Аля, — завернулась в одеяло и молилась, пока погружалась в сон. Там снова была война, и грохот поездов за улицей Нансена звучал сквозь дремоту взрывами боевых снарядов. Дома горели, и она уже не узнавала, где чей. Они менялись, искажаясь угольными останками, прыгали между гор и за ними, объятые пламенем, и Але хотелось кричать, но она не могла. Яркая вспышка света — это огонь налетел и на неё, и… Аля снова проснулась.
Никакого огня. Это фары проезжавшей машины осветили комнату общежития без штор. Аля не могла двинуться, едва дышала, но она видела и слышала. Что-то рядом снова зашуршало, а потом замурлыкало, как кот. Аля стала вслушиваться в этот забытый звук, а потом через него проступили слова.
— К добру, милая… к добру… только без страшных слов, ладно?
Аля попыталась кивнуть, и оцепенение вмиг сошло. Тело задрожало, словно её вынули из холодной реки. Аля обхватила себя руками.
— Ты кто? — повторила свой вопрос почти неслышно. — Шайтан?
— Я домовой.
— Кто? — Аля не знала такого слова. — Как джинн?
— По-твоему, наверное, как джинн. Только в горшке жить не смогу.
— А где тогда?
— В доме. Где заметят. И примут. Ты примешь?
— Это не мой. У меня дома нет.
Аля сказала это так легко, что испугалась. Поборола слёзы. Сейчас опять начнёт трясти.
— К добру… — Джинн-домовой зазвучал совсем рядом.
Аля протянула руку и потрогала жесткую, как у дворовой собаки, шерсть.
— К добру, — прошептала она. Сон упал на неё, как пуховое одеяло.
В поездах, проезжавших той ночью Ростов, на плацкартах и в купе просыпались люди. Стук колёс, сопровождавший их сон, пропадал на несколько минут. Потом поезда опять начинали размеренно греметь, и пассажиры спокойно засыпали обратно.
Артем Красин
Аракуш
Аня стояла перед зеркалом в ванной комнате. Обычно Аня заметила бы новый прыщ на толстой щеке. Обычно Аня посетовала бы на дуралеев мамку с папкой, родивших на свет такую несуразную её — с раскосыми ханскими глазами и славянским щедрым мясом под ними! В шестнадцать лет обычно было бы залиться слезами по многим другим поводам. Но сейчас был случай, когда даже слёзы запутались как детсадовцы на параде, и не знали, куда и по какому поводу им нужно бежать. «Уродка шизофреническая!» — прошептала Аня. Можно было бы открыться родителям, но, как назло, в эти выходные Аня была одна. Родители улетели на Алтай на похороны бабушки Карлагаш, маминой мамы.
Всё началось с утра. Выходя из метро, Аня вдруг услышала согласный гул. Высокий и противный звук, будто в какофонии метро кто-то запустил на автомобильной колонке на полную громкость писк комара в душной летней комнате.
Бииииззз… зииииб.
Аня посмотрела на пустеющую платформу. На краю платформы в окружении пульсирующей черноты стояла девушка, напряженно вглядывавшаяся в глубину тоннеля. Вокруг неё вился рой, похожий на точки вантаблэка, наклеенные концептуалистом на уже не вполне соц-, но реалистическое полотно метро. Аня вздохнула, собралась с силами и подошла. Рой взметнулся и утёк в темноту, когда она спросила:
— Здравствуйте! Вам нужна помощь?
— Не, всё нормально, спасибо, — тусклым голосом ответила девушка и резко перестала ждать поезда, зацокав каблуками к противоположному выходу.
«Вот же ты дура… Так от тебя все на улице начнут бегать, если ты со своими глюками к каждому прохожему подходить начнёшь», — вновь утонула в стыде Аня, перекручивая в голове день, и, кажется, строгая воспитательница Печаль всё же построила детсадовцев по парам, так что слёзы уже готовы были политься ручьём. Но вдруг над самым ухом Аня вдруг снова услышала «бииииззз-зззиб» и быстрее, чем даже успела подумать, прихлопнула наугад источник звука.
Ладонь ощутила вдруг не жёсткий хитин, а… пух? Аня собрала в кулак прихлопнутое существо и развернула ладонь перед собой. На ладони спинкой к Ане лежала чёрная птичка. В голове вдруг замелькала и как-то сама перевелась на русский бабушкина сказка: «А с гор Уч-Сумер по весне спускается несчётное число чёрных птиц. Русские говорят: «Сумерки спустились», но самих птиц не видят. А имя им — аракуш, горюн-птицы, летят они на человеческие печали и грустные мысли, ими и питаются. Мы, кам, шаманы, можем их отгонять, но беда тем сёлам и городам, где нет своего шамана, будут те птицы вечно нести туда печали».
Аня смотрела на тельце, затаив дыхание, потом повернула ладонь, чтобы взглянуть поближе. У птицы была круглая головка и человеческое лицо, искажённое застывшим плачем. Большие щёки, закрытые алтайские глаза, чёрная смоль волос, изо рта вытекла капелька бурой крови. Аня смотрела на Аню.
Аня взвизгнула и отбросила трупик на пол. Едва коснувшись плитки, он рассыпался чёрным пеплом, лицо исчезло, а на вершине кучки остался лежать миниатюрный череп, будто с китайского браслетика.

Мастерская аудиовизуального перевода
Весной 2021 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в летнюю мастерскую аудиовизуального перевода. Представляем работы стипендиатов.
Конкурсное задание
Вам нужно выполнить перевод двух видеороликов, опираясь на шаблон и инструкцию. Для удобства вашей работы сделаны скрипты видео. Все материалы лежат здесь. Видеоролик 1. Видеоролик 2.
Елена Одегова
FREE GUY
| Таймкод | Персонаж | Реплика |
|---|---|---|
| 00:02 | Парень | Доброе утро, Голди. |
| 00:03 | Парень | Меня зовут Парень. Я живу в Свободном Городе. У меня есть всё, что мне нужно. |
| 00:11 | Парень | Кроме одного. |
| 00:13 | Полицейский | Эй! |
| 00:15 | Парень | Эй, извините! |
| 00:19 | Парень | Эй, приятель, ты когда-нибудь думал о том, что существует что-то другое? |
| 00:22 | Полицейский | Другое что? |
| 00:23 | Парень | Ну, отличное от дня сурка. |
| 00:26 | Полицейский | Не, ни разу не думал. |
| 00:27 | Парень | Сегодня всё будет по-другому, Голди. |
| 00:29 | Парень | И на что мы там смотрим? |
| 00:32 | Девушка | Кто ты такой? |
| 00:33 | Парень | Мы же столкнулись с тобой вчера на улице. |
| 00:34 | Девушка | И как ты меня нашёл? |
| 00:35 | Парень | Я ждал снаружи, у поезда-убийцы. |
| 00:38 | Девушка | Парень, мне нужно тебе кое-что сказать. |
| 00:40 | Девушка | Даже не знаю, с чего начать. Этот мир — видеоигра. |
| 00:45 | Парень | Я тебя хочу поцеловать. Это же странно, да? |
| 00:47 | Девушка | Послушай меня. Ты — не существуешь. |
| 00:55 | Киз | Стой, кто тебя поцеловал? |
| 00:56 | Милли | Парень. |
| 00:58 | Киз | Но такой кнопки же нет. |
| 01:00 | Милли | А он вот нашёл. |
| 01:01 | Титры | От создателей Дэдпула |
| 01:03 | Парень | Приятель, если мы не существуем… Значит ли это, что всё, что мы делаем, бессмысленно? |
| 01:07 | Полицейский | Я сижу тут с моим лучшим другом, пытаюсь ему помочь справиться с трудностями. Если этого нет… |
| 01:13 | Полицейский | Тогда что же есть? |
| 01:15 | Парень | Милли, я знаю что этот мир всего лишь игра. Но этот мир и эти люди — это всё, что у меня есть. |
| 01:21 | Джо | Спасибо, Парень. |
| 01:22 | Геймер | Кто этот парень? |
| 01:23 | Алекс Трибек | Это персонаж из видео-игры “Свободный город”. Он привлёк к себе внимание, будучи хорошим парнем. |
| 01:29 | Парень | Ухху! |
| 01:30 | Конкурсантка | Кто парень в голубой рубашке? |
| 01:32 | Алекс Трибек | Именно так. |
| 01:33 | Алекс Трибек | Кто же он или она на самом деле? |
| 01:35 | Антуан | Этот мудак теперь рулит в игре, чувак! |
| 01:39 | Антуан | Мне без разницы, даже если он чертов Арнольд Шварценвейдер, уничтожить его! |
| 01:46 | Парень | Всё под контролем! |
| 01:47 | Титры | В декабре |
| 01:48 | Девушка | Парень, через пару дней игра вырубится. |
| 01:51 | Девушка | Ты и весь город, всё исчезнет! |
| 01:54 | Парень | А что если мы спасём его? |
| 01:58 | Титры | Миру был нужен новый герой |
| 02:05 | Парень | Было круто? Ощущения — супер! |
| 02:06 | Титры | И он получил отличного парня |
| 02:07 | Парень | Мы можем изменить этот мир. Но нам нужно бороться вместе. |
| 02:11 | Полицейский | Я даже не понимаю, что сейчас тут происходит! Но я в полном восторге! |
| 02:14 | Парень | Представляешь, я в первый раз в жизни за рулём! |
| 02:18 | Девушка | Зря ты это раньше не сказал! |
| 02:20 | Парень/Девушка | Правда? / Ну да! |
| 02:23 | Титры | Главный герой /Отличный парень |
| 02:25 | Геймер-девушка | Мы любим тебя, мужик в голубой рубашке! |
| 02:28 | Парень | Спасибо! Следите за… |
| 02:31 | Парень | Симпатичные ребятки, да? |
| 02:33 | Титры | 11 декабряГлавный герой /Отличный парень |
THE NEVERS
| Таймкод | Персонаж | Реплика |
|---|---|---|
| 00:07 | Мужчина | Она пришла три года назад. |
| 00:10 | Мужчина | Сила, превосходящая силу богов. |
| 00:16 | Мужчина | Это одержимость, а не… |
| 00:20 | Мужчина | Дар. |
| 00:21 | Титры | Новый сериал от HBO |
| 00:22 | Пенанс | Миссис Тру? |
| 00:23 | Амалия | Мисс Адэйр? |
| 00:24 | Амалия | Быть одарёнными не недостаток. |
| 00:27 | Амалия | Эта война — полицейские, пуристы… |
| 00:30 | Амалия | У нас нет недостатка в недругах. |
| 00:33 | Пенанс | Миссис Тру и я, мы тут, чтобы помочь вам. |
| 00:35 | Джордж Торнс | Мы не хотим больше кровопролития. |
| 00:39 | Амалия | Джентельмены. |
| 00:41 | Амалия | Поговорим цивилизованно? |
| 00:49 | Сванн | Ужас и очарование идут рука об руку. |
| 00:54 | Женщина | Одарённые не являются угрозой. |
| 00:55 | Мужчина | Я так понял, вы на стороне одержимых. |
| 00:59 | Амалия | Мы не считаем себя одержимыми. |
| 01:06 | Амалия | Мы — часть чего-то большего. Порой приходится чем-то жертвовать. |
| 01:22 | Титры | Сверхъестественные В апреле |
Любовь Евтина
FREE GUY
| Таймкод | Персонаж | Реплика |
|---|---|---|
| 0:01 | Малый | Доброе утро, Голди. |
| 0:02-0:06 | Малый | Меня зовут Славный Малый. Я живу в Славном Городе. |
| 0:07-0:08 | Малый | У меня есть всё, что мне нужно. |
| 0:11-0:12 | Малый | Кроме одного… |
| 0:13 | Малый | Эй! |
| 0:15 | Малый | Извините! Эй! |
| 0:19-0:20 | Малый | Дружище, ты не думал, что в мире есть что-то больше? |
| 0:21 | Бадди | Больше, чем что? |
| 0:23-0:24 | Малый | Чем всё, что мы делаем каждый день. |
| 0:25-0:26 | Бадди | Никогда об этом не думал. |
| 0:27-0:28 | Малый | Сегодня всё будет иначе, Голди. |
| 0:29-0:30 | Малый | На что это мы тут смотрим? |
| 0:31 | Милли | Ты кто? |
| 0:32 | Малый | Мы как-то пересекались на днях. |
| 0:33 | Милли | Как ты меня нашёл? |
| 0:34-0:36 | Малый | Я ждал снаружи около поезда-убийцы. |
| 0:38 | Милли | Малый, надо поговорить. |
| 0:39-0:41 | Милли | Не знаю, как сказать тебе об этом. |
| 0:42-0:43 | Милли | Но мир вокруг – это видеоигра. |
| 0:45-0:46 | Малый | Я хочу тебя поцеловать, может, это странно. |
| 0:47-0:48 | Милли | Послушай, ты не настоящий. |
| 0:55 | Кейс | Стой, кто поцеловал тебя? |
| 0:55 | Милли | Малый. |
| 0:57-0:58 | Кейс | Но такой кнопки нет. |
| 0:59 | Милли | Ну а он её нашёл. |
| 1:00-1:05 | Малый | Дружище, но если мы не настоящие, значит, всё, что мы делаем, неважно? |
| 1:06-1:10 | Бадди | Я сижу здесь и пытаюсь поддержать своего лучшего друга в сложный момент. |
| 1:11-1:13 | Бадди | Если не это по-настоящему, то что тогда? |
| 1:14-1:16 | Малый | Послушай, я знаю, что этот мир — просто игра. |
| 1:17-1:19 | Малый | Но и он, и все люди в нём — это всё, что у меня есть. |
| 1:21 | Мужчина | Спасибо, Малый. |
| 1:22 | Телеведущая | Что это за парень? |
| 1:23-1:28 | Телеведущий | Этот персонаж игры „Славный Город“ выделяется своими добрыми поступками. |
| 1:29 | Малый | Воу! |
| 1:30 | Участница шоу | Кто такой этот парень в голубой рубашке? |
| 1:31-1:35 | Ведущий игры | Действительно, кто же это на самом деле? |
| 1:36-1:37 | Антуан | Этот придурок испортил мне всю игру, чувак! |
| 1:38-1:42 | Антуан | Да будь он хоть Арнольд Шварценвейдер, убери его! |
| 1:46-1:47 | Малый | Мы просто молодцы! |
| 1:49-1:50 | Милли | Малый, через 2 дня игру выключат. |
| 1:51-1:53 | Милли | И ты, и ведь город – всё перестанет существовать. |
| 1:54 | Малый | А что, если мы всех спасём? |
| 2:05-2:06 | Малый | Скажи, круто было? По-моему, очень. |
| 2:07-2:09 | Малый | Мы можем изменить весь мир, но надо бороться за это вместе. |
| 2:10-2:11 | Бадди | Я даже не понимаю, что происходит, но мне нравится. |
| 2:13-2:15 | Малый | Это первый раз, когда я вообще за рулём. |
| 2:17-2:18 | Милли | Зря ты сейчас это сказал. |
| 2:19 | Малый | Да? |
| 2:20 | Милли | Ага! |
| 2:25-2:26 | Геймерша | Мы любим тебя, парень в голубой рубахе! |
| 2:27-2:28 | Малый | Спасибо! Аккуратнее там… |
| 2:30-2:31 | Малый | Они были милыми. |
THE NEVERS
| Таймкод | Персонаж | Реплика |
|---|---|---|
| 0:06-0:08 | Мужчина | Эта история началась 3 года назад. |
| 0:09-0:11 | Мужчина | В мир пришла сила, превосходящая Бога. |
| 0:16-0:20 | Мужчина | Те, кому достался этот дар, неуязвимы. |
| 0:21 | Пэнанс | Миссис Тру? |
| 0:22 | Амалия | Мисс Адэйр? |
| 0:24-0:25 | Амалия | Если человек одарён, это не изъян. |
| 0:26-0:28 | Амалия | Сейчас война — вокруг полиция, пуристы… |
| 0:29-0:31 | Амалия | Достаточно людей, которые нас ненавидят. |
| 0:32-0:34 | Пэнанс | Миссис Тру и я здесь для того, что помочь. |
| 0:35-0:36 | Джордж Торнс | Новые жертвы нам не нужны. |
| 0:38 | Амалия | Джентльмены. |
| 0:41 | Амалия | Договоримся мирно? |
| 0:48-0:51 | Суэн | Ужас и восторг идут рука об руку. |
| 0:53-0:54 | Женщина | Одарённые не представляют опасности. |
| 0:55-0:57 | Мужчина | Я полагаю, вы и сами одарены. |
| 0:59-1:00 | Амалия | Мы не считаем себя одарёнными. |
| 1:04-1:05 | Амалия | Мы часть чего-то большего. |
| 1:06-1:08 | Амалия | И оно требует жертв. |

Мастерская рассказа Майи Кучерской
Весной 2021 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в летнюю мастерскую рассказа Майи Кучерской. Представляем работы стипендиатов.
Конкурсное задание
Выберите один из этих предметов: бумажный стаканчик с кофе, очки, чемодан, варежка, маска, яблоко. Опишите его так, чтобы это описание вызвало острую эмоцию, одну из следующих: восхищение, гнев, смех, отвращение, изумление.
Уложитесь, пожалуйста, в 500 знаков с пробелами.
Виктор Гавристов
Очки нашли рядом с телом. Мужские. Убийцы. Дешевая пластиковая оправа искривлена. Левая дужка в разболтанном креплении торчит выше правой. Левша. Правая линза — мутная, покрытая жирной пленкой — растертые грязным платком глазные выделения. Левое стекло треснуто через центр, запылено до непрозрачности, с прилипшей ресницей. Не видит слева. По ободу липкая и вонючая смесь жира, пыли и крошек. В шарнире оборванный волос. Заушники засалены. На прижимной планке фрагмент отпечатка пальца. Попался.
Екатерина Дабкене
Варежка висела на ветке. В отличие от своих соплеменников, потерянных и нацепленных на сучок сердобольными прохожими, эта не выглядела ни одинокой, ни жалкой. Напротив, очень даже самодостаточной. Песочная, плотная, покрытая нежным пухом, она красовалась среди листвы. Даже жалко, если хозяин её найдёт и заберёт к скучающей дома сестре. Да только… Ты посмотри! Нашлась хозяйка… Маленькая, шустрая, в чёрных «очках». Птичка ремез юркнула в гнездо через дырявый «большой палец». Вот тебе и варежка…

Мастерская рецензии и критики
Весной 2021 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в летнюю мастерскую критики. Представляем работы стипендиатов.
Конкурсное задание
Напишите рецензию на книгу, фильм или сериал, вышедшие не ранее 2020 года.
Объем от 1500 до 3000 знаков с пробелами.
Эльнар Гилязов
Адания Шибли. Незначительная деталь. No Kidding Press, 2021. Пер. А. Голиковой
Книги про палестино-израильский конфликт выходят на русском языке не то чтобы часто: можно вспомнить документальный комикс «Палестина» Джо Сакко, с израильской стороны — размышления левого интеллектуала Амоса Оза или же экзистенциальные зарисовки Этгара Керета. Но тексты «с той стороны баррикад», то есть с палестинской стороны, найти достаточно сложно, тем более такие, которые бы говорили о женской стороне опыта в этом конфликте. На этом фоне выглядит достаточно уникальным событием то, что российское издательство No Kidding Press, которое концентрируется именно на женском (и квир-) письме, взялось за выпуск романа палестинской писательницы Адании Шибли «Незначительная деталь».
Структурно книга Адании Шибли состоит из двух частей. В первой широкими мазками рассказывается история об арабской девушке, которую летом 1949 года находят израильские солдаты, они насилуют и убивают её. Вторая же часть уже ведётся от лица рассказчицы (неотличимой от автора) — она палестинская девушка, которая живёт в современном Израиле. Она узнаёт об истории, рассказанной в первой части, и становится буквально одержима ей: она старается найти документы и свидетельства об этой девушке, едет на место преступления. Здесь повествование сшивается в единое целое: мы видим во второй части детали, которые наполняют первую — это и фрагменты быта солдат того времени, и история места, и воспоминания о том периоде. На это также работает система повторяющихся образов и лейтмотивов, обе части книги словно сообщающиеся сосуды, которые взаимно дополняют друг друга.
Как известно, историю пишут победители. В контексте книги Адании Шибли это можно понимать двояко. Во-первых, написание истории как победного нарратива, который оправдывает все жертвы. С этим рассказчица сталкивается постоянно — в музее выставлены только военная техника и форма израильских солдат, а исторические нарративы повествуют о событиях только с израильской точки зрения. Во-вторых, это зачистка физического пространства от любых намёков на прошлое. Рассказчица постоянно видит это буквальное стирание прошлого, но сам ландшафт и какие-то незначительные детали тут и там позволяют увидеть следы людей, которые были здесь раньше, и следы прошлых преступлений.
Адания Шибли делает то, к чему призывал Вальтер Беньямин, — написать историю проигравших. Но так как палестино-израильский конфликт ещё не закончен, то она сама является проигравшей, этой самой незначительной деталью, которая, скорее всего, будет погребена нарративом истории победителей, потому что на это намекает финал романа — рассказчицу тоже убивают израильские солдаты, как и героиню первой истории. И написать эту книгу — это тоже достаточно беньяминовский шаг, попытка выпрыгнуть из потока «большой» истории и застолбить право на свой голос и свою историю. Это, конечно же, придаёт её тексту сильное экзистенциальное звучание, особенно если учесть, что всё это она смогла продемонстрировать всего на 128 страницах небольшой по формату книжки — что, конечно же, виртуозно.
Иван Цуркан
Мир без людей: «Гунда» Виктора Косаковского
Вот свинья и ее дети, копошащиеся в вольере среди соломы. Вот обыкновенная курица, нерешительно, впервые ощупывающая лапой траву. Или стадо коров, медленно бегущих вдоль опушки леса. Пыль, зной, мошкара, шум ветра: объемное и многомерное звучание черно-белого летнего дня.
Гунда — имя свиноматки, живущей на ферме в Норвегии. Виктор Косаковский — российский документалист-эмигрант, ещё в советском детстве ставший убежденным вегетарианцем, а в последнее десятилетие по разным причинам снимающий свои ни на что не похожие фильмы исключительно в Европе и по всему миру. Идея вроде бы предельно простого (но на деле бесконечно сложного) фильма-наблюдения за животными появилась у него еще в 1997 году, а рабочими названиями были «Извинения» и «Троица». «Извинения» — потому что только за 2020-й год человечеством было убито около полутора миллиардов свиней. «Троица» — потому что кроме Отца, Сына и Святого Духа есть ещё Свинья, Корова и Курица. И сложно сказать, какая из этих двух троиц на самом деле важнее.
В «Гунде» нет того, что можно было бы назвать сюжетом. Основополагающий принцип кинематографа Косаковского «показывать, а не рассказывать» здесь, как и в предшествующей «Акварели» (2018) — масштабной документальной фреске о бессилии человека перед лицом водной стихии — доведен до предела. Тем нагляднее контраст: от громадных ледников, водяных тайфунов и необозримого Байкала — к тому, что под ногами, к бесстрастной и в то же время очень человечной фиксации жизни животных, предназначенных на убой. Резкая смена масштабов. Не сымитированная жизнь. Тонкая граница между статикой и динамикой. Животные — не актеры, поэтому никогда не знаешь, чего ждать в следующий момент.
93 минуты фильма Косаковского (смонтированные, к слову, из шести часов отснятого в Норвегии, Испании и Великобритании материала) — это непрерывный набор длинных, почти статичных планов с плавным и неспешным движением камеры, как правило, находящейся возле земли, на уровне глаз животных. Это кино, снятое не про них, а с их точки зрения. Никакой спекуляции, сопроводительных титров, закадровой музыки или авторского комментария. Несмотря на то, что за кадром ощущается незримое присутствие человека, напрямую он на экране так и не появится. Поэтому — только бессловесное всматривание, чистое наблюдение и созерцание. А ещё — опровержение привычных стереотипов. Да, свинья, валяющаяся в грязи — это тоже поэзия, это может выглядеть прекрасно и эстетично. Единственное средство приукрашивания действительности, тонкое и нюансированное ч/б, служит здесь главным образом очищению кадра от всего лишнего; способствует универсализации происходящего до особых, возвышенных масштабов, при которых герои-животные становятся полноценными художественными образами, но не теряют личной конкретики.
В некоторые моменты это зрелище оказывает совершенно гипнотическое воздействие, почти вводя в транс. Особенно в сценах с рапидом, когда коровы величаво бегут, позвякивая колокольчиками на шеях, а экранное время словно замедляется и густеет на глазах (снималась «Гунда» в новаторском формате 96 кадров в секунду, а затем переводилась в 48). Или же когда стайка настороженных куриц, одна из которых — одноногая, совершает побег на волю из оставленной на земле клетки. Конечно, это кино о свободе. Если угодно, даже политическое высказывание — и не только об экологии, а вообще шире — о в корне неправильном и несправедливом устройстве мира.
Но главное, «Гунда» — уникальный зрительский опыт, который требует полной перенастройки привычной нам «человеческой» оптики и самой сути зрительного нерва, решительного отказа от знакомого и понятного способа смотреть кино («я — офтальмолог, вставляющий линзы в глаза», говорит Косаковский, сам выступивший оператором). Фильм, дающий возможность увидеть, например, зевающую свинью — или же всмотреться в жужжание мух, облепивших морду (лицо?) коровы. Урок сочувствия и сопереживания живым существам, на котором никто и не думает тебя чему-то учить. В конце концов, наглядное доказательство того, что животные способны мыслить, чувствовать и страдать. Того, что у них есть душа, а значит, есть мясо — это убийство.

Мастерская сторителлинга
Весной 2021 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в летнюю мастерскую сторителлинга. Представляем работы стипендиатов.
Конкурсное задание
У вас два варианта, выберите один.
- «Просто бесит». Напишите об истории, которая вам ненавистна, будь то «Ромео и Джульетта», история Наташи Ростовой и Пьера Безухова или сюжет фильма «Довод». Что именно вас раздражает и что сделало бы ее хорошей для вас? В форме эссе постарайтесь раскрыть причины вашей ненависти или абсолютного равнодушия и дайте возможность читателю встать на вашу сторону. До 3000 знаков с пробелами.
- Расскажите об истории, которая вас не отпускает: о какой-то ситуации, которой вы были свидетелями или которая случилась с вами, о новостной заметке или сюжете из Тик-тока. Расскажите, как все было и почему эта история вас тронула. Подумайте, каким мог бы быть рассказ о ней. До 3000 знаков с пробелами.
Виктория Григорьева
«Мешала отдыхать». В Москве девушку-промоутера убили за громкую рекламу.
Новостной заголовок
Мы привыкли к информационному потоку, и нас мало что трогает. Но услышав эту новость, я заплакала. Я представила девушку, которая хотела заработать, мерзла на улице январскими днями и без конца повторяла один и тот же текст о шубах, заставляя себя не обращать внимание на недовольные крики жильцов из окон. Страшно нелепая смерть, подобно громкоговорителю, усилила для нас, чтобы мы услышали, негромкие истории таких людей.
И у меня получился такой рассказ.
Его уволили с работы, и он пил уже много дней. По утрам он просыпался с мучительной головной болью и тошнотой. «Шубы, дубленки! Распродажа, низкие цены!» — кричал парень в рупор на улице. Мужчина закрывал голову подушкой, но продолжал слышать назойливый голос. Это был голос врага, который его пытал.
После первой рюмки становилось легче. Выпив еще немало рюмок, он начинал чувствовать в себе силу. «Мужик я или кто? Надо пойти заткнуть этого козла». Но на мороз выходить не хотелось. Он продолжал пить, ненавидя и кляня «зазывал». «Вы все сдохнете, твари. Шубу купи, бля. Да, сейчас побежал покупать жене шубу. Второй месяц без работы сижу. Не я ей шубу, а она мне жратву покупает теперь. Из-за вас, тварей, я перестал быть мужиком. С работы вылетел. Подачки у жены прошу. Это всё ваша, бля, рыночная экономика», — говорил он, обращаясь к невидимому врагу.
Однажды, возвращаясь от приятеля и увидев парня-зазывалу на прежнем месте, он подошел к нему и высказал ему всё, что думает. Парень ничего не ответил, как будто его собеседника не существовало. Это привело мужчину в ярость. Он поднялся в свою квартиру, пил и ходил взад-вперед по комнате. Ярость росла в нем. «Ты на меня как на дерьмо смотрел, ты за это ответишь. Я тебе докажу, что я мужик. А то, я вижу, все соседи недовольны, все только говорят, и никто ничего не делает. Не мужики они». — С этими словами он открыл сейф и вытащил охотничье ружье. Он уже очень много выпил и чувствовал себя не в реальности, а будто во сне. В этом сне шла война, и надо было палить по врагу. Подойдя к окну, он увидел фигуру с громкоговорителем, только голос из него теперь доносился не мужской, а женский. Это привело мужчину в секундное замешательство, но машина его ярости уже разогналась, и он не мог ее остановить. Он несколько раз выстрелил, послышался крик, и «громкоговоритель» замолчал.
«Я мужика собирался убить. Не женщину», — скажет он потом следователю.
…Начиналась ее смена. Она взяла у парня громкоговоритель, и тот предупредил ее: «Тут пьяный шатается. Только что тут ругался и угрожал. Главное, на таких не реагировать. Я так и сделал. Он успокоился и ушел».
Девушка постояла минуту молча, прежде чем приступить к работе. Она думала: прошлый год был плохой. Сначала умерла любимая собака, потом от инсульта умер отец. Но этот год будет лучше. Она нашла работу, хоть и временную. Да, приходится мерзнуть, январь в этом году холодный. Но надо потерпеть. Этот год будет лучше…
Ульяна Киршина
В шесть лет со мной случилась история, за которую я все еще хочу попросить прощения. И не могу найти в себе силы.
С Лесей мы жили в соседних подъездах. Я была «книжным ребенком» и не очень любила гулять во дворе, мне хватало соседа-ровесника Ярика. Его окна были напротив окон Леси, и иногда мы втроем играли в «мимов» через стекло. Когда я периодически все же появлялась во дворе, Леся явно пыталась подружиться со мной. Я с ней играла неохотно. Однажды во дворе кроме нас никого не было, Ярик уехал к бабушке, и я весь день играла с Лесей. Мы то носились во дворе, то бежали ко мне — попить воды, перекусить, поиграть в кукол… Возвращались на улицу — и так по кругу. Ближе к вечеру мне надоело играть во дворе, мне разрешали гулять по всему нашему военному городку. А Лесе — нет. Тогда я просто… сбежала. Когда мы выходили из моей квартиры, я быстрее нее побежала по лестнице и спряталась за домом… Я слышала, что она звала меня. Но не вышла, а, подождав чуть-чуть, ушла играть в другом дворе. Вернулась через пару часов. И тут же наткнулась на Лесю и ее злое: «От тебя я такого не ожидала». Конечно, мне досталось от родителей — Леся искала меня и дома, думала, вдруг я вернулась. Папа даже не злился, а скорее был разочарован. У него были очень высокие моральные ожидания от себя и от окружающих, он из породы, иначе не скажешь, советских офицеров, для которых честь превыше всего. Мне было стыдно, но я так и не нашла в себе сил попросить прощения. С Лесей мы играли только в общей дворовой компании, в гости ко мне она больше не приходила. Через несколько месяцев мы пошли в один класс. Потом еще ходили вместе на дополнительный английский. Мы учились в разных университетах, но вместе оказались на студенческом балу. Наши парни оказались однокурсниками. Расстались мы с ними тоже одновременно. Обе вышли замуж за военных с разницей в пару месяцев. Причем с мужем я познакомилась, когда возвращалась со встречи с Лесей. Она пригласила нас на свадьбу, но мы не смогли приехать. Разница в возрасте наших старших сыновей — три недели, младших — несколько месяцев. Когда мы обе приезжаем с детьми к родителям, наши дети играют вместе. Мы общаемся, даже дружим, но не настолько близко, как могли бы. Иногда я думаю — может, это из-за моего «побега» в детстве? Помнит ли она? Я каждый раз собираюсь попросить прощения, но так и не решаюсь, эгоистично надеясь: «Она, наверное, уже и забыла». И мучаюсь от этого «непрощения».
Рассказ об этом писала бы от первого лица, себя взрослой. Начала бы как мы наблюдаем за нашими играющими во дворе детьми. Вспомнила, как именно мы познакомились. Как иначе тогда выглядел двор, мы и мир. Несколько раз я-героиня пыталась бы извиниться, но что-то мешало: то моему ребенку нужна помощь, то ее ребенок хочет на качель, а там очередь… Дети бы тоже то ссорились, то мирились. Я-героиня попутно вспоминала бы всю эту историю из детства. Конец оставила бы оборванным на фразе: «Знаешь, давно хотела сказать… А помнишь…». Но не открыла: получилось извиниться или нет.

Мастерская травелога Дмитрия Данилова
Весной 2021 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в летнюю мастерскую травелога Дмитрия Данилова. Представляем работы стипендиатов.
Конкурсное задание
Напишите текст о собственном путешествии. Вы свободны в выборе стиля, направления, интонации. Идеально, если вы сейчас отправитесь в небольшое, даже полудневное путешествие, и напишете текст (можно фрагмент) на основе этого опыта.
Объем до 5000 знаков с пробелами.
Дмитрий Лукьянов
Было же слово пурга, и имело оно почти тот же смысл, что метель, но только сильнее и равнодушнее к человеку… Пурга! На чувашском языке — «щил-тэман», буквально «ветер с метелью». Продувается огромное поле, а здесь все поля огромные, свистит ветер в столбах, на которых летом держатся плети хмеля, полон ветер снега. Из пурги может выскочить заяц: все для русской литературы, до смешного, но вот так и есть.
Есть еще, правда, подогрев сидений, климат-контроль, АБС, другие какие-то системы, совсем не литературные. При всем этом не так уж важно, чем отличается пурга от метели или даже от просто осадков. Лишь легкая неуверенность на снежных наносах, короткий мат вслед рыбакам в смертельных «Жигулях», бесстрашно и пьяно пошедшим на обгон в темноте.
После свадьбы, где был гостем из Москвы, предстояло вернуть чувашские платья и хушпу, эти женские шлемы-шапки, пожилой актрисе. Она приходилась дальней родственницей моей жене, впрочем, кажется, как и все остальные чуваши. Жила где-то в глубине республики, выступала в главных чебоксарских театрах, держала пару коров. На стене хлева — расчерченное по линейке расписание. В такой-то месяц появится теленок, а в другой вылупятся гусята. Впрочем, не знаю названий чувашских месяцев. Читал где-то, что их тринадцать, потому что такой календарь больше подходит для работ на земле. Правильнее было бы сказать «для того, чтобы работать землю», но эти слова сейчас там же, где «пурга».
У русских нет сравнимого отношения к земле. Наверное, имеется что-то другое. А здесь, хотя и живут на широком течении Волги — в плохую погоду не видно берегов — стремятся вглубь, в свои деревни по краям полей. От Чебоксар, как пальцы от ладони, расходятся шоссе. В Вурнары, там мясоперерабатывающий завод, в Канаш с его уютным железнодорожным вокзалом, в Алатырь, где нет ничего интересного, в бедный Мариинский посад, который легко полюбить.
Я ехал по Аликовскому шоссе к актрисе в Сирикассы — по указательному пальцу, если считать большим пальцем выезд на федеральную трассу в Москву. По пути в деревне Ишлеи, я знал, можно купить гуся, копченого сома или просто хорошей колбасы, потом будет пасека на южном склоне оврага, а на другом склоне — светлое, как облако, кладбище, на котором нет других деревьев, кроме берез. Потом ферма, менты за поворотом, чистенькое Аликово с деревянной детской площадкой у больницы. А потом, как оказалось, одна пурга.
В темноте и одновременно в сверкающем снеге Сирикассы было не разглядеть. Но что может быть в чувашской деревне? Небесные бело-голубые избы, будто в пику тяжелому красно-желтому флагу республики, но красно-желтые магазин и автобусная остановка. Нескладные новые коттеджи, трактор в сугробе, собака. Актриса в белом от снежинок платке загнала пса во двор. Маленькая женщина с крупными руками, валенки — заводские трубы.
— Сывлах! — смеется она сквозь снег.
— Что? — говорю. — Что?
Я отдал ей платья и хушпу, поблагодарил, отказался зайти, хотя, конечно, хотелось бы сесть у печки, выпить самогона и закрыть глаза минут на пятнадцать. Ночной снег — самый слепящий.
Еще чуваши варят домашнее пиво, легкое и горькое. Мне не очень нравится, но, может быть, от того, что пьют его в жару на сенокосе, а в моей жизни не было сенокосов. Хотя… и пурги тоже не было до поездки к актрисе, и живого зайца, а он вдруг выскочил на шоссе — бескомпромиссно белый-белый, смешной-смешной…
Елена Матвеева
Охота в Беринговом проливе
1
Почти неделю над Уэленом висел туман. Почти неделю зверобои не выходили на промысел. Невидимое за белой плотной пеленой, тяжело вздыхало море. Наверное, я с большим нетерпением, чем кто-либо другой, ждала ясного дня: старый добрый эскимос Тагьёк пообещал взять меня на морскую охоту.
Каждый день приходила я к нему в косторезную мастерскую. «Коо» — «Как знать», — отвечал он на мой вопросительный взгляд. И кивал на окно, за которым в густом молоке тумана нельзя было разглядеть даже соседний дом.
Туман исчез неожиданно, уполз куда-то, словно его и не бывало. Ночью я проснулась от яркого желтого света, заливавшего гостиничный номер. Прямо напротив окна, в низком, усыпанном крупными звездами небе, висел круглый желток луны.
Чуть свет я прибежала на берег. И оказалось, вовремя — охотники сталкивали вельбот на воду. Уэлен еще спал, когда, разрезая носом тугую воду, лодка вышла в море, направляясь к мысу Дежнева, традиционному месту охоты уэленских зверобоев.
Был конец августа. Время бархатного сезона на теплых морях. Здесь же чувствовалось: скоро зима, в любой день в воздухе могут закружиться белые хлопья. Дул несильный, но холодный ветер. И если бы не заботливый Тагьёк, прихвативший для меня тулуп, плохо пришлось бы мне под ледяными порывами.
Вельбот шел своим курсом вдоль Чукотского побережья. Хаос камня, головокружительные отвесные скалы, глубокие узкие ущелья, пенные стремительные водопады… В распадках лежал снег, не успевший растаять за короткое полярное лето.
Огромный птичий базар на прибрежных черных скалах недалеко от Уэлена оглушил нас криками тысяч птиц. Потревоженные шумом моторов, они слетели с насиженных мест и, опустившись на воду, что есть сил колотили крыльями, крича на разные голоса. Брызги летели во все стороны, сияли и переливались в лучах солнца. Наш вельбот быстро миновал птичье царство, и его возмущенные хозяева успокоились, вновь заняли на скальных выступах свои наблюдательные пункты.
Я еще не успела прийти в себя от увиденного, а уже новое зрелище — лежбище моржей. Издали увидела я рыже-буро-коричневые туши, лежащие вплотную друг к другу. Мы видели, как выбравшемуся из моря могучему моржу, чтобы расчистить место себе и своей спутнице, пришлось пустить в ход длинные мощные клыки. Потревоженные им звери ткнули обидчика такими же сильными клыками, рявкнули и опять уснули, уронив головы на бока соседей. Заметила я и маленького моржонка, задумавшего пробраться к воде прямо по спинам сородичей. Не повезло ему: разбуженная неуклюжим малышом сердитая моржиха шлепнула его ластом. Он, обиженно хрюкая, заспешил к матери, которая на мелководье шелушила ластами ракушки, доставая из них моллюсков. Неподалеку два молодых моржа спорили за право улечься у большого черного камня.
Интересных сценок можно было бы подсмотреть немало! Но вельбот резко повернул в открытое море. Охотятся местные жители гораздо дальше. Берегут покой лежбища. Иначе уйдут моржи и не вернутся сюда никогда.
Вельбот шел быстро и легко. Тагьёк в бинокль высматривал добычу. Его друг, черный от полярного солнца эскимос Вакат, сидел на руле. Кроме них в лодке два молодых зверобоя — Михаил и Леонид. Их обязанность — обеспечить бесперебойную работу моторов.
Низко над нашими головами проносились утиные стаи. То ближе, то дальше появлялись китовые фонтаны — киты играли. Неожиданно у самого борта выныривала любопытная нерпа…
2
Как тут не вспомнить сказки бабушки Эмун, старейшей жительницы Уэлена, о том, что морские животные — родственники, братья северного народа. Чукчи и эскимосы уверены в этом и всегда бережно относятся к животному миру своих холодных морей. Нет у морских охотников азартной страсти — подстрелить любого зверя, попавшего в поле зрения. Охота для них не потеха — работа, четко спланированная с учетом потребностей села.
Тагьёк подал сигнал: внимание! Прямо по курсу, покачиваясь на волнах, высунув из воды усатую клыкастую морду, спал морж. Выключив моторы, пошли к нему на веслах. Ох и хитрым оказался этот старый матерый морж! Быстро проснулся, почувствовав приближение людей — ушел вглубь. Но Вакат, безошибочно определив его движение под водой, направил вельбот туда, где он через несколько минут вынырнул. Этому охотники учатся с детства.
Прогремел выстрел. Тагьёк стремительно метнул гарпун. Пых-пых — надувной мешок из нерпичьей шкуры — заплясал на воде, не давая убитому моржу затонуть. Взять моржа на воде чрезвычайно сложно. Подстрелить его — полдела: одно мгновение — и убитый зверь затонет. Мастерство гарпунера в том, чтобы загарпунить животное моментально — как только прозвучали выстрелы — ни секундой позже.
Следующему моржу в море удалось от нас уйти. Зато сразу же на берегу заметили другого. Огромный зверь лежал недалеко от воды на гальке, подставив солнцу рыжий с сиреневым отливом бок и жирный загривок весь в шишках-нашлепках. Вельбот неслышно ткнулся носом в берег. Но морж-шишкарь услышал. Вскинул голову, выставил вперед мощный длинный клык. Вместо второго торчал обломок. Видно, не единожды клыки были его оружием. С поразительной для гигантских размеров и веса легкостью зверь бросился к воде. А когда охотники отрезали дорогу к отступлению, он, издав страшный гортанный крик, вдруг стремительно повернул к ним. Михаил и Леонид, оказавшиеся прямо перед разъяренным зверем, не растерялись. Меткими были их выстрелы. Тагьёк подвел итог: «Неплохо оморжились»,— сказал, цепляя очередную тушу к вельботу.
В языке у эскимосов нет понятия — «убить зверя». По поверью, их не убивают — они сами приходят к человеку в гости. Про охотника говорят: «онерпился», «оморжился».
Обратный путь занял немало времени. Но вот показался уэленский маяк. Возвращение зверобоев с добычей всегда волнующее зрелище. Издавна повелось: встречать их на берег приходят все, кому нужно мясо, кожа. Нас тоже уже ждали…

На фронт
О, я помню, помню, когда я увидела их! Это было вскоре после того, как он ушел на фронт. Надо же, я до сих пор так отчетливо это помню, хотя та война давно закончилась…Мне было очень удобно наблюдать за ними. Я сидела в углу старого дивана с высокой спинкой, а тусклый зимний свет, падавший в окно, удачно прятал мою фигуру от посторонних глаз.
Они были за столиком напротив, он — спиной ко мне, она — вполоборота, почти в профиль. Кафе было заполнено такими же, как они, — солдаты, медсестры, встречи, объятия… Я терпеть этого не могла. Но какие они были красивые! Их разговор с самого начала казался мне странным. Может быть, потому, что до меня долетали только обрывки фраз, а может быть потому, что это и разговором-то назвать сложно. Так, «шепот, робкое дыханье», или как там еще пишут в стихах? Я долго смотрела на них, а они, поверите ли, только друг на друга: ни хохот, ни шум, ни толпа — ничто их не тревожило.
Поразительно. Потом… Не знаю, что он ей сказал, только глаза ее после этих слов стали такими… Она смутилась, это я точно поняла! И еще она долго молчала. Знаете, этак странно, заглядывая ему в лицо и снова отводя взгляд в сторону. Время все шло, и я уже устала было ждать, а потом она снова посмотрела на него, и взгляд уже не отвела… А он, он… Знаете, вдруг прикоснулся к ее щеке, и лицо ее легло к нему в ладонь, как птица — верно и кротко. И столько нежности было в ней… Я никогда бы не подумала, что моего брата могут вот так любить — по-моему, он всегда был только заурядность, а тут… Я даже смутилась, что со мной бывает очень редко!
Помню, как сейчас: он склонился к ней и тихонько поцеловал в лоб. Так на ночь целуют детей. И она, она, знаете, будто расцвела — улыбнулась так просто и что-то ему сказала. А потом они исчезли: меня отвлек шум за окном, и когда я взглянула на столик, за которым они сидели, их уже не было. Ушли. Что с ней стало, не знаю. А брат домой не вернулся, сказали — «пропал без вести».

Поэтическая мастерская CWS
Весной 2021 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в летнюю поэтическую мастерскую. Представляем работы стипендиатов.
Конкурсное задание
Сделайте одно из заданий на выбор:
- Взяв за основу известное стихотворение классика, попытайтесь поспорить с ним и не согласиться. Так, Дмитрий Быков* в стихотворении «Да, подлый муравей, пойду и попляшу» не согласился с басней Крылова «Стрекоза и муравей», и в его прочтении муравей оказался полным негодяем, обрекшим стрекозу на смерть. Попробуйте проделать подобное.
- Придумайте новый куплет к песне группы Сплин «И лампа не горит» так, как если бы он там был всегда.
- Послушайте песню JONY «Комета». В текст песни автор вплел стихотворение Пушкина «Буря мглою небо кроет». Попробуйте сделать что-то подобное: напишите свое стихотворение, обрамив им известное четверостишие.
- «Прикупила пачку «Астры» и букет мимозы». Продолжите стихотворение.
- «Не всем мой ключ гремучий пить особый вкус ручьев моих», Саят-Нова. Взяв за эпиграф строчки (или, возможно, начав с них), продолжите стихотворение.
* * *
Екатерина Агеева
Не всем мой ключ гремучий пить: особый вкус ручьев моих!
Не всем мои писанья чтить: особый смысл у слов моих!
Саят-Нова
*** Подходит ко мне мужик после поэтического вечера, уже на фуршете, и спрашивает: «Вы начинающая?» А мужик, знаете, ну такой, полный и с бородой, не то из писателей, не то из фотографов. Можно было, конечно, подумать, что из художников: есть пара пятен масляных на футболке. Но это пятна всё-таки от бутербродного масла, которое тут, на фуршете. И я задумалась: Кто же я? Почти успела вступить в клуб Курта Кобейна, но до сих пор в журналах ни слуху ни духу. Была на двух курсах для начинающих, на трех — для продолжающих, вошла в альманах отстающих (благо, что не отсталых) и даже в финал слэма заканчивающих. Скоро уже и конкурсы с возрастными ограничениями захлопнут передо мной свои двери, сборники и призовые фонды. Ограничивают, суки, намекая на пенсию. Литераторы как военные: дослужился до премии (Драгомощенко, Белого или «Поэзия») — и на покой. Соврала мужику, значит, что не пишу, что пришла сюда просто с подругой. А мужик сам, оказывается, вообще шахматист. Перепутал аудиторию. Наклонился ко мне и тихо так говорит: «Белые начинают и выигрывают». И я думаю: слава богу, я как раз совсем не умею в рифму.
Виктория Маркова
«Не всем мой ключ гремучий пить особый вкус ручьев моих»
Не всем мой ключ гремучий пить, Особый вкус ручьев моих, Сочатся талою водой Быть может, мертвой? Иль живой? Почерк Мой почерк не создан для гладкой бумаги, Он волнами не ложится, Не стелется, Не кружится, А рвется и мечется. Его не держит линия, Он отскакивает, как мяч, Пускается вскачь, И колется, И злословится. Руку ровней держи! Не дребезжи! И пиши, пиши, пиши! Слова тяжелы, Как кирпичи, И строят, и строят, и строят, Меня замуруют! Мой почерк, как ветра порыв, Как клякса от грязной ветки! На красоту бедный, Ногу не тянет, Из слов дух выбивает! И я скребу по странице, Ручки раздавлен шарик, И буквица чернится, Рука синится, Мама сердится, Я — смеюсь! Позиция ровная, голова светлая… Позиция ровная, Голова светлая, Лишь позвоночник кривой, Но это мелочи, Все это лечится, Лишь бы не быть хромой. А я хромаю На обе пятки Мне прострелили их по весне, Ржавые гвозди На детской площадке Стреляли по мне. Солнце било по переносице, Резала лезвием буква Е, Куртка брата на мне не сносится Сносится буква Лэ. Грязными пальцами По белой блузочке, Вытяну нить из шва, Выпущу бабочку, Что так старательно Мама ко мне при-ши-ла. И дымом черненьким, Дышу легонько, Только ржавеет рот, Пульки из пластика, Дырки в ластиках, Две тысячи четвертый год. Позиция шаткая, Голова кружится, Лишь позвоночник прямой, В рекламе сказали — Это не лечится — Быть мне теперь такой!
*Признан иноагентом на территории РФ

А кто же еще?
Я сделал еще один шаг назад и уперся лопатками в холодную стену. Вытянул перед собой рукопись, как будто она могла меня защитить. Они стояли полукругом напротив меня, как группа захвата, загнавшая в угол вооруженного рецидивиста. Я невольно скосил глаза вниз, ожидая увидеть на груди пляшущие зеленые точки лазерных целеуказателей. К моему удивлению, точек не было.
В центре стояла Синекдоха в косынке с пионерским узлом. В правой руке она держала топор, в левой — лапу рыжего котика. Под распахнутой телогрейкой виднелась замызганная футболка с надписью «Графоман тропу не товарищ!»
Слева от Синекдохи стояла Гипербола в белоснежной майке-алкоголичке, спортивных шортах и с веслом, похожим на молодую секвойю, в левой руке. На шее у нее висело потертое махровое полотенце размером с простыню, а в правой руке она держала ведерный пластиковый стакан, из которого периодически шумно всасывала какую-то пенящуюся гадость. На шее и руках ее ветвились вспухшие синие вены, как великие сибирские реки Иртыш и Обь в период весеннего ледохода.
Справа расположились две близняшки Анафоры, одетые в одинаковые джинсы классического цвета индиго и проклепанные хромом кожаные косухи. Они держали руки на плечах жмущейся к ним Литоты. Левая Анафора положила левую руку на правое плечо. Правая Анафора положила правую руку на левое плечо. Из-под коротенького розового платьица Литоты торчали некогда белые бесформенные хлопковые трусики. На худеньких коленках расплылись кляксы полузаживших ссадин. По обеим сторонам головы торчали две тоненькие косички цвета слоновой кости, как будто у новорожденного слоненка ни с того, ни с сего за ночь выросли крошечные бивни, и по этому поводу счастливая слоновья семья обвязала их кончики куцыми коричневыми бантиками.
Единственный бык-производитель в этой честнóй компании — Перифраз, в балетном трико и расшитом камзоле, пританцовывая, периодически вставал на полупальцы.
Во втором ряду я разглядел Катахрезу, сестру Синекдохи Антономасию и ее мать Метонимию.
Ирония стояла с краю. Голова ее была слегка опущена. На меня она не смотрела. С покаянной улыбкой она теребила подаренный мной золотой браслетик, надетый на тонкое запястье.
В воздухе отчетливо запахло грозой. И я не имею в виду тот вызывающий легкое тревожное томление запах свежести, что распространялся над Нарвской заставой и сулил молодому парню, пусть и краткосрочную, встречу с любимой. Я говорю о едком хлорном запахе концентрированного озона, убивающего все живое. Рот наполнился кислой слюной.
Голос Синекдохи треснул в тишине, как расколовшаяся весенняя льдина. И тут же лед тронулся, загомонили все. Я вспомнил детство, путь в школу через сосновый лес, когда снег уже почти сошел и начал чернеть, а воздух полон криков грачей, только что вернувшихся с дальней турецкой дачи и весело скандалящих, обустраиваясь на летних квартирах. Грачи кричали мне сверху:
— Куда ты лезешь?
— Прустом себя возомнил?
— Слава Набокова тебе покоя не дает?
— Писал бы себе про пюре, так нет, блядь, романтичности ему захотелось!
— Рожденный ползать писать не может!
Слова врезались в грудь, как резиновые пули из травматического пистолета.
Синекдоха подняла топор и двинулась на меня, таща за собой упирающегося котика. Гипербола покрепче перехватила весло двумя руками.
Я заорал и проснулся.
Наволочка была мокрой насквозь. Сердце ухало Бухенвальдским набатом, поставленным на ускоренную перемотку. Я натянул синие трусы, воткнул ноги в тапочки и пошел на кухню, к холодильнику.
Потянул дверь, и на меня сошла ледяная лавина баночек с детским овощным пюре.
Я заорал и проснулся.
Ущипнул себя за щеку и вскрикнул от боли. Вставать было страшно. Хотелось свернуться в клубок и лежать так сотни, да что сотни, тысячи лет. Или хотя бы до звонка будильника.
Я пошел на кухню, сварил в турке кофе, бухнув три ложки с горкой. Кофе, конечно, сбежал. Налив остатки в чашку, я притулился к кухонному столику и открыл ноутбук. Перечитал три раза этюд про ребенка, кидающегося детским овощным пюре: единственный, который получил более-менее положительную рецензию на литературных курсах. Вздохнул. Хотелось романтики и образного письма, хотелось написать «Лолиту» или, на худой конец, «Темные аллеи», а не вот это вот все. Может, ну ее, эту литературу? Доконает она меня. Потянул мышкой файл и бросил его в корзину к остальным.
Потом закурил, сделал глубокую затяжку, выпустил струю дыма, вернул файл из корзины и сказал вслух сам себе:
— А кто же еще напишет твой роман?

Арт-кафе
Что за мода: куда ни посмотришь — наткнёшься на «арт» с дефисом. Боже мой, тут есть ещё и арт-бутерброд! Захлопываю синюю книжку меню с названием арт-кафе и отодвигаю её подальше.
— А мясо-то есть какое-нибудь? Такое, что быстро готовится: у меня только тридцать минут.
Девочка-официантка бормочет что-то про ростбиф.
— И без крови! — подчёркиваю я. На кровь я сегодня насмотрелся, когда оформлял место происшествия.
Девица разворачивается и, через пару шагов переходя на бег, спешит на кухню по длинной дорожке, мимо столов. За этими столами по одному сидят пять хипстеров — разложили свои телефоны, планшеты, чаёк, кофеёк под картинами… Живут, как на другой планете. А кто-то пашет денно и нощно!
Картин здесь очень много, и все ужасные. У окна, над моим диванчиком, сияют золотыми рамами три портрета — издалека они напоминали нормальную живопись, а вблизи оказались отвратительными. У женщины в белом сильно вытянутая голова, а длинная шея сломана в шестом позвонке. Художник почему-то выбрал тот момент, когда жертва ещё не почувствовала боли и улыбается. Оба мужских портрета впишутся на доску «розыск» как родные. Худой парень с огромным воротником больше похож на карманника. А вот полный барыга c мутными глазами смотрит чуть в сторону и явно что-то скрывает. У него вид смирившегося мученика. Вот он шею женщине в белом и свернул.
Морщусь и отворачиваюсь. Вдоль противоположной от окон стены на белых постаментах выставлены мраморные головы. Только не говорите мне, что и это ценные экспонаты! Ближе всего ко мне находится голова старика. Я читаю имя автора в квадратике за стеклом: скульптор Абрикосов. Серёга Питерский и Михайло Жуть одобрили бы Абрикосова, а мне оторванная от тела голова красивой не кажется. Как не кажется красивым и разложенный между столбами металлолом. Мой взгляд останавливается на женском теле без рук и ног, с налётом зелёной плесени. Слава богу, расчленёнка не мой профиль!
Смотрю на часы. Официантка ловит мой взгляд и исчезает на кухне. Если через пять минут не принесёт ростбиф, пойду её искать. Включаю таймер и кладу мобильник перед собой. Лаковая столешница испещрена чёрными точками, будто погрызена жучком, но эти шрамы на дереве тоже покрыты лаком, так что это имитация. Кто испортил мебель, зачем? Ну что за идиоты!
В окне лениво белеет облачный день. Даже солнце светить как следует не хочет. Машины еле ползут, перемешивая бурую жижу, пешеходы пробираются по сугробам… Выгнать бы из этого арт-кафе на улицу всех любителей искусства и вручить каждому по лопате.
— Привет, пап! — слышу я и оглядываюсь.
Надя — дочура, отобранная у меня бывшей женой, — стоит рядом с моим столиком, и что-то увесистое оттягивает её плечо.
Вскакиваю и обнимаю свою крошку. Такая хрупкая и до плеча уже достаёт! Боже, а ведь ей уже семнадцать. Отодвигаю Надю и рассматриваю хорошенько: глазища, острый подбородок, кожаные брюки. Похудела — только щёки, когда она улыбается, такие же пухлые, как у пятилетней. Поверить трудно, что от такой ведьмы, как моя бывшая, родилась такая тонкорукая весёлая лапочка.
— Как у тебя с деньгами? Мать из того, что я пересылаю, хоть что-нибудь тебе отдаёт?
Надя беззаботно отмахивается:
— Да всё нормально. Не начинай. Честное слово, когда вы ругаетесь, то напоминаете двух капризных детей.
— Ладно-ладно. Садись, расскажи, как жизнь.
Дочка размещает громадную прямоугольную чёрную сумку на диванчике и садится напротив, опираясь руками о сиденье, — вот и в детстве любила так устроиться и раскачиваться. Она и сейчас наклоняется вперёд и только открывает рот, как появляется официантка, ставит передо мной сковороду с громадным куском мяса и рапортует:
— Ваш ростбиф! Извините, что он долго готовился.
— Да ладно, — говорю я. — Только дайте нам ещё одни приборы.
Перед Надей быстро сервируется стол, и я перекладываю половину ростбифа на её тарелку. Моя девочка, хихикнув, накидывается на мясо — она всегда ела с отличным аппетитом, не то что жена с её диетами.
— Что там у тебя? — Я киваю на чёрную сумку.
— Картина, — радостно говорит Надя. — Я увлеклась живописью, и это кафе покупает у меня картину.
— Ух ты! Ну-ка покажи.
— Нет, сначала ответь, на что похоже шкворчание сковородки? Я как-то жарила яичницу, закрыла глаза и задумалась: что напоминает звук?
Так и вижу, как Надюха жарит яичницу, закрывает глаза и прислушивается. Вот в этом она вся!
— Яичницу спалила?
— Ага, — смеётся она.
— Ты ж моя прелесть! А как тебе такое сравнение: помехи в рации.
— Ну пап!.. А из природы?
— Не знаю.
— До…
— Дождь?
Дочка взвизгивает и подскакивает на диванчике. Она быстро вытирает пальчики салфеткой и расстёгивает сумку.
Припевая: «Па-па-па-пам!», Надя извлекает на свет картину. На ней очень даже точно нарисованная сковорода блестит медным боком, переплетаются нити дыма, а на заднем плане ливень исчертил полосами окно.
— Я тоже подумала про дождь! А потом написала и сковородку, и ливень — пусть друг другу подпевают.
Даю пять, хлопая по подставленной ладошке. Ощущение такое, будто только что распутал сложное дело. Нет, лучше.
— Правда здесь здорово? — спрашивает Надюха и замечает портреты над столом. — Какой женский портрет в стиле Модильяни!
— Отличный! — соглашаюсь я, жуя мясо. — Специально расположился рядом.
— А те статуи! Тебе какая больше приглянулась?
— Мне? Бронзовая женщина, наверное. Она напоминает… — морщу лоб, — подскажи!
— Венеру Виллендорфскую, фигурку из каменного века, — ликует Надя.
— Точно! — поддакиваю я.
Чёрт, а она разбирается во всей этой фигне.
— Круто, что ты меня понимаешь. Слушай, пап, поговори с мамой. Она против того, чтобы я поступала в художку. Говорит, это не профессия.
Задумчиво жую. Дилемма. Не хочу соглашаться с бывшей, да и выступать против моей крошки тоже не хочу.
— Надя! Вижу, ты принесла её! — Статная высокая женщина подходит к нашему столу. Я заметил, что пока она шла, все хипстеры за столиками поднимали головы и уважительно с ней здоровались.
Дочка знакомит меня с хозяйкой кофе. Та, кивнув, берёт в руки картину…
Сейчас как расстроит мне Надюху.
— Мы рады, — произносит женщина, — что эта работа попала в нашу галерею. — Она поворачивает голову ко мне: — Вы отец творчески одарённого ребёнка! Спасибо вам за дочь.
Редко не знаю, что ответить, но тут теряюсь. Чёрт, а это приятно, когда хвалят твоего отпрыска. Эта женщина, похоже, эксперт, и раз она говорит, что у меня талантливая дочь, то так и есть.
— Пожалуйста, — задумчиво киваю я. А что? У Надюхи всегда коробки карандашей быстро кончались, и покупал новые карандаши я, значит, я развивал её талант и имею право на благодарность.
«Отец творчески одарённого ребёнка…» Вот ведь не случайно я оказался в арт-кафе. Коллегам не понять — они посмотрят на портрет дамы в белом и начнут придираться к пропорциям. Но есть же такое понятие, как видение художника. Вот сколько в этой женщине энергии, жизни, и плевать, что шея у неё сломана. А парни на портретах — да, уголовники, но на них же ощущается налёт вечности. Налёт вечности. Да… Вот стол для того и подпорчен, чтобы чувствовалось, что время над ним поработало: может быть, сам Леонардо за ним обедал. А что касается Венеры… Нет, боже, она ужасна. Но пусть будет. Искусство должно пробуждать разные чувства, и ужас тоже. Надо быть терпимее!
Надя собралась упорхнуть от меня. Отпуская, я целую её в весёлые щёчки:
— Беги-беги, колокольчик. Звони почаще. А с матерью я поговорю. Что за глупости, отличная профессия и очень тебе подходит.
Провожаю Надю и хозяйку кафе взглядом. Хорошие здесь люди, культурные, сразу видно, ребёнка не обидят, плохому не научат. Опять же, не засмеяли её «сковородку», а решили повесить на видное место.
Расплачиваюсь и обещаю официантке прийти снова. Шикарное место: Модильяни, Венера, а главное, картина дочуры. На что похоже шкворчание сковородки… Только очень чувствительная неординарная девочка задумается над таким вопросом. Ведь крошка ещё, а умничка — видит красоту простых вещей. Яичница и ливень — прямо моя жизнь в двух словах.
Я, кстати, тоже всегда рисовал пистолеты на полях тетрадей, и получалось очень точно.

Аспирант
Он родился уродом. У него были заячья губа и волчья пасть. И когда он пронзительным криком растянул в гримасе до носа разорванный рот и обнажил зияющее дыркой нёбо, сознание матери не отключилось, а отчётливо зафиксировало момент и на протяжении всей жизни проигрывало его под видом кошмарного сна.
Первую операцию мальчику сделали в шесть месяцев, за ней последовала вереница остальных. В шесть лет он перенёс последнюю и получил лицо, с которым ему предстояло жить. Врачи посоветовали отдать ребёнка в спорт, и родители привели сына в шестиметровый бассейн, обустроенный в подвале жилого дома каким-то фанатом-пловцом, там же и повесившимся после обвинения в педофилии несколькими годами спустя.
В десять лет он занялся профессиональным плаванием. Три раза в неделю садился в воняющий бензином ЛАЗ, ехал двадцать три остановки, бегом пересекал сквер, ехал на троллейбусе еще десять и через полтора часа входил в двери олимпийского бассейна открытого типа. Зимой вода в бассейне из-за слабой циркуляции прогревалась только у вдувающей кипяток трубы, остальные пятьдесят метров лежали друг на друге разными климатическими пластами – от ледяных до просто холодных. И если добавить к этому яркую ощущениями пробежку по обледенелому резиновому коврику от и до раздевалки и саму плохо отапливаемую раздевалку. Представить непросохшее мальчишеское тело, дрожащее в мёрзлом троллейбусном брюхе и еле отогревающееся в автобусном, втиснутое седьмым в задний ряд из шести ухабисто-трясущихся посадочных мест, то можно не осуждать его физическое отвращение к холоду и к любой воде, кроме льющейся из горячего крана. И понять, почему никакие моря и океаны не заставят его войти в их воды по доброй воле. И лишь однажды, идя на поводу у каприза привезенной им в тропический рай женщины, знающей о его прошлом с погребённым там заживо КМС, он вновь разрубит ненавистную водную гладь руками и великолепными гребками исполнит для неё короткий показательный заплыв.
Но тогда он этого не знал.
Он сидел в учебном кабинете кафедры и внимательно наблюдал за читающим его доклад профессором умными темно-карими глазами, глядящими на мир оценивающе и спокойно. Он был выше среднего роста, имел широкую сажень развёрнутых плеч, мощные руки с крупными, удивительно гармонично скроенными ладонями, упрямый, разделенный бороздой подбородок и жесткий, редко улыбающийся рот, от середины верхней губы которого полз толстый кольчатый червь шрама. Полз, но так никогда ни на йоту не сдвинулся с определенного раз и навсегда судьбой и челюстно-лицевыми хирургами места, только похудел и побледнел со временем.
Молодой человек не был озлобленным, но и дружелюбным его тоже назвать было нельзя. Многочисленные операции хоть и выправили лицо до принятых в обществе стандартов, восстановить беглость речи полностью не смогли. И будучи начитанным, образованным собеседником — разговаривать он не любил. Особенно с малознакомыми. Не оттого, что комплексовал по этому поводу, нет, комплексы отжили, горько отплакав своё, еще в младших классах. Он просто не хотел лишний раз беспокоить мир своими неловкими речевыми оборотами. Впоследствии эта ущербность даже сыграет ему на руку и придаст своеобразный шарм, сделав невозможным определение страны, которой принадлежит он сам и его странный гортанный акцент. В свои двадцать три года он был подающим надежды младшим научным сотрудником и счастливым мужем первой институтской красавицы, уже чуть-чуть беременной старшим из двух его сыновей, которая десять лет спустя полюбит другого мужчину и предложит развод.
И он, оставив жену, страну и науку, отправится туристом в Нью-Йорк, где и останется, вступив на путь, полный бюрократических препон, легализации. Его новым местом работы станет морской порт на Ред Хуке, где из кандидата наук он превратится в грузчика с непостоянным, зависящим от удачливости нелегала, заработком, а домом — крошечная студия, снятая в недрах Бруклина, с уже живущим там под обоями плодовитым семейством клопов. Монотонно бубня бессонными ночами трудно выговариваемые английские слова, он начнет медленное восхождение к воспетой кинофильмами американской мечте, тщательно стирая из памяти всю прожитую им до этого жизнь. Своего младшего сына он вновь увидит подросшим на одиннадцать лет юношей, встретив в аэропорту JFK, а старшего — еще тремя годами позже, получив наконец возможность вернуться в родной город, навестить ушедшую в веру мормонов мать и просидеть без слёз несколько часов на могиле умершего без него отца.
Но и этого тогда он тоже не знал.
Молодой аспирант терпеливо ожидал рецензию преподавателя, а тем временем кто-то там наверху окончательно утвердил на роль его второй жены совсем еще юную кандидатку, худенькую долговязую девочку, прилежно выводящую в прописи важное предложение про моющую раму маму. И складывающим мозаику из разрозненных человеческих жизней понадобится еще двадцать семь лет, чтоб соединить две эти судьбы в одну, подстроив им нескорую случайную встречу.
Улетев в Америку, он расстанется с родиной и семьей, а она, перестав быть по-детски круглой отличницей, по-женски округлится в коленях и бёдрах, объявит бунт лицемерию директрисы перед РОНО и, бросив перед выпускным десятый, уйдёт вместе с отчисленной по беременности подругой в вечернюю школу, прервав тем самым скучную цепочку профессорской династии предков. Убедив в своей правоте больную лейкозом мать, она устроится в диспансер санитаркой, станет рокершей и блондинкой, попробует портвейн из банки и травку, вскроет вены, сделает пару абортов и, потерявшая от любви к заезжему шахтеру голову, променяет сибирскую юность на замужество на Дальнем Востоке.
И пока он будет встречать в своей жизни других женщин и строить свой собственный бизнес, она, познав радость материнства, горечь измен и трясущую пьяными кулаками ревность, оставит покинутый счастьем брак, продаст выменянную когда-то на иркутское жилье квартиру и, собрав в дорогу маму, кошку и первоклассницу дочь, отправится на поиски счастья в окольцованный мостами город.
И однажды, в очередной канун праздника всех влюбленных, он увидит на сайте знакомств её победившее в глупом конкурсе красоты фото, залюбуется им и длинно напишет. И то ли по воле праведника Валентина, то ли по прихоти интриганки судьбы, но «красавица» ему сразу ответит. И спустя месяц он торопливо войдёт с купленным в транзитном аэропорту Цюриха букетом в здание Пулково-2, приблизится к высокой женщине в синем пальто, поцелует её в уже ставшие родными за двадцать восемь случившихся между ними писем губы и спросит, какой ресторан в её городе самый лучший. Она смущенно пожмёт плечами, и он сам сделает выбор, а потом пожалеет о нём, заметив, как оробела его спутница под чопорным взглядом метрдотеля, не зная, с какого прибора начать.
И сбывшимся вскоре летом, оплатив её дочке путёвку в гурзуфский лагерь, а маме — отдых в санатории рядом, он увезет её в голубеющую морем и грёзами Грецию, где будет учить разбираться в устрицах, вилках и винах, и под ночной стрёкот цикад читать наизусть Пастернака, чувствуя на своей груди солёное, бегущее из серых глаз, неверующее в явь, счастье.
В силу ряда причин, они на долгие годы останутся каждый в своей стране, и охватившая их пылкая страсть друг к другу породит еще более безрассудную — к путешествиям, несметное количество которых помешает им, уже будучи глубоко женатыми, иметь в Америке собственный дом, приличную машину и хоть какие-то сбережения на старость. Любовь, распятая на два континента, наполненная пронзительным, балансирующим на острие чувств счастьем, бросающая их в объятия друг друга в аэропортах стран всего мира, постепенно опустошит его банковский счет, согреет на склоне лет и станет лучшим временем прожитой им жизни.
Но и этого, конечно, он тоже не знал.

В чём же соль?
В школе Ассоль задали сочинение, но в раскрытой тетради ни словечка не появилось. «Как сочинять, — рассуждала она, — когда тут такое важное дело?»
Утром на кухне звякнули кружки и разбудили её; родители собрались завтракать. Слушала Соль сквозь полусон их разговор и услышала, как папа спросил: «В чём же соль?» Тогда вопрос девочке особенно интересным не показался и дремала она себе дальше (вдруг сон волшебный привидится?) А теперь, когда дома никого не было, только о нём Соль и думала, рисуя кружки на полях черновика.
— В чём, в чём? В солонке, конечно! Помнишь её, Миша? Такой смешной старичок в шляпке, под которой соль прячется, — говорила она с сидящим на столе плюшевым мишкой. — Никак не пойму, зачем папа спросил? Он же сам этого старичка к нам привёл. Неужели забыл?
Слезла Соль со стула и зашагала по комнате.
— А вдруг он спросил про меня? Ведь я тоже Соль. Но по утрам я всегда в своей комнате…
Она прыгнула на кровать, перекатилась, взлохматив непослушные волосы. Взвыла метель, девочка поёжилась и вздохнула: «До чего всё неясно».
Вдруг от окна донеслось звонкое тук-тук. «Кто же там? Птичка бедная в тепло просится?» — подошла Соль посмотреть и ахнула. По стеклу, сидя на летающей тросточке, стучал маленький — размером с солонку — трясущийся старичок.
Ассоль немедля гостя впустила, и он со свистом влетел внутрь, слез с тросточки, смахнул с себя снег и поправил галстук-бабочку.
«Такой маленький. Будто игрушечный! Вот бы потрогать», — протянула Соль руку к старичку, а тот добрым низким голосом говорит:
— Здравствуй, девочка! Я Лордомоним.
Отдернула руку Ассоль. По весне у неё горло болело, мама вызывала врача.
— ЛОР на дом к нам? — тихонько спросила она.
Он качнул головой и повторил:
— Лорд-о-мо-ним.
Вспомнила Соль сказку, которую с папой читала. Про забавного английского лорда, который плохо слушал своего короля и путался, выполняя его поручения.
— Поняла! Вы как король, но чуть-чуть ниже?
— Простите мне моё хвастовство, — он приподнял подбородок, — но я выше самого короля.
«Важный какой!» — Соль пригладила волосы, присела и, наклонив голову, приподняла платье.
— Меня зовут Соль. — Она улыбнулась, но не дедушке, а его тросточке. — Скажите, а вы всегда так летаете?
— Только по самым важным делам.
— Правда?
— Чистейшая. Вот и сегодня. Видите ли, мне нужна…
— Волшебная шляпа, — шепнула она, но заметив хмурый взгляд, закрыла ладошками рот.
— Мне нужна помощь. Я решаю неясности в волшебной стране, и остались самые трудные.
— Путешествие! Вот Тина обзавидуется! — представила Ассоль, как гордо зайдёт в класс, как расскажет о своём приключении, как удивится Тина-Кристина и поймёт, что у неё приключения гораздо скучнее.
Но вспомнив про школу, Соль оглянулась на стол, а там тетради, учебники, атлас, пенал.
— Похоже, не выйдет, — грустно сказала она.
— Не беда. — Лордомоним стукнул тросточкой, и ручки, вылетев из пенала, сами зашуршали в тетрадях.
«И правда, волшебник!» — подумала Соль и вновь начала приглаживать волосы.
— Позвольте мне.
Вновь стукнула трость, и Ассоль увидела в зеркале новое атласное платье и заплетённые в косу пряди. Красуясь, она спросила:
— Скажите, а когда мы вернёмся?
— Как вам удобно. Нужно только проснуться. Просыпаетесь, милая, и вы у себя дома.
Вздохнула Соль, села за стол, щёки подперла.
— Придумала! — и вырвала из тетрадки листок. — Напишу записку, чтоб родные не потеряли. Куда мы отправимся, дедушка?
— В Омонимию.
— Простите… Кому не мил я?
— О-мо-ни-ми-я. Страна, где на любой вопрос есть точный ответ.
«Значит, и на мой есть!» — решила она и записала: «Ушла с Лорд-на-дом-к-нам в О-мне-не-мил-ю решать важный вопрос. Скоро вернусь, Соль».
— Готово! — Она весело взмахнула тетрадным листом.
Стукнула тросточка, и комната в мгновение сменилась зеленеющей полянкой, вокруг неё выросли липы. Вой метели превратился в свист тёплого ветра, и его лёгкий порыв выхватил из рук девочки большой липовый лист. Запорхали над её головой любопытные бабочки:
— Какое платье, какая коса! Красавица!
Впору было удивиться, но Соль, улыбаясь, ничуть не смутилась: «В мультиках животные всегда говорят».
— Вот мы на месте. Заметили, как здесь солнечно и тепло? — Лордомоним поправил свою бабочку. — Это наш король. Всё неясное запретил… Вот только трава подросла.
Собрался он наколдовать косу, чтобы скосить траву, но с другой стороны полянки раздались громкие голоса. Спорили двое зверей. Пригляделась к спорщикам Соль: «Ёжик с длинным носом — ехидна. В учебнике видела. Иголки какие страшные и большие! А это хорёк. Какой милый! И шёрстка, наверное, гладкая. Только глазки недобрые. Может, ехидна обидела? А что это у них на столике? Шашки? Звери в шашки играют!»
— Ехидна, Ласка, — сказал Лордомоним. — Добрый день. Это моя помощница, Соль.
Девочка смутилась, что перепутала ласку с хорьком, и низко поклонилась.
— Лорд! — зыркнула Ласка. — Решите уже, кто из нас самая ласковая.
— Зачем, Ласка, я учил вас в ласку играть? Если в игре победила, то и в споре тоже.
— Так Ехидна жульничает!
— Неправда! — и они вновь начали спорить.
— Тихо! — приказал Лордомоним.
Все тотчас замолчали.
— А как играть в ласку? — робко спросила Ассоль.
Лордомоним на неё посмотрел и к спорщицам обратился:
— Вот как поступим. Самой ласковой та будет, кто нашу гостью научит.
— Тогда я начну, — ответила проворная Ласка. — Идём, милая.
Они расставили фишки, сделали первые ходы, и…
— Я победила!
— Как? Ничего не поняла! Какие башенки в шашках?
— Не в шашках, а в ласке, глупышка! Повторяй за мной. Тогда, может, сможешь сравняться.
«Ах, какая!» — нахмурилась Соль, но, промолчав, начала вторую игру.
— Опять победила! Тебе учиться и учиться. Будешь такой неумехой, никто любить тебя не будет.
Покраснела Соль от обиды.
— Мама, и папа, и сестрица будут!
— Не вредничай, — усмехнулась Ласка. — Иначе и они разлюбят.
— Не разлюбят! — крикнула Соль и чуть не расплакалась. Её нежно, пряча иголки, обняла Ехидна.
— Не слушай её. Давай я тебя научу.
— Я ещё не закончила, — зашипела Ласка, но отступила, заметив грозный взгляд Лордомонима.
Ехидна начала свой урок. Робела Соль перед колючей учительницей, но вскоре заулыбалась.
— В ласке мы берём шашки в заложники. Смотри. — Ехидна напала на белую фишку ученицы и положила её под свою. — Вот и башенка вышла. А теперь ты нападай на неё, — и Ассоль другой белой фишкой атаковала башню учительницы.
Ехидна сняла с башенки верхнюю чёрную шашку и положила её под напавшую белую.
— Молодец! Взяла меня в заложники. Теперь у тебя и башенка есть, и первую шашку ты освободила. Понятно?
— Да! Спасибо большое! — сказала Ассоль и повернулась к Лордомониму. — Дедушка, вовсе не ехидная тётя Ехидна. Совсем наоборот. Так хорошо объяснила!
Он широко улыбнулся.
— Наконец-то и эту неясность решили!
— Вот ещё! — рыкнула Ласка и прыгнула к девочке, но Соль выскользнула из её лап. А старичок не успел увернуться. Толкнула его Ласка, упал он и сломал свою тросточку.
— Беги, Соль! — крикнула Ехидна.
Соль побежала, и Ласка помчалась за ней. Долго они бегали по лесу. Обернулась однажды Ассоль, не увидела Ласки и вдруг — бах! — чуть не ударилась лбом о прозрачную стенку. Присмотрелась и поняла: забежала она в стеклянную банку.
— Попалась, негодная, — хихикнула Ласка, крышкой банку закрыла и одним движением подняла её с боку на донышко. — Теперь, будь ласкова, посиди смирно. За водой сбегаю и посмотрим, как ты растворишься.
Сказала и убежала.
«Не растворюсь я. Я утону!» — Попробовала Соль до крышки допрыгнуть, не смогла и заплакала ненадолго.
— И как мне потом, плаксе такой, перед Тиной похвастаться? Нечего хныкать! Растворюсь ещё от собственных слёз. — Она вытерла глаза. — Нужно просто проснуться. Но как? Если я не встаю… — Соль схватилась за бока, — сестра меня щиплет!
Ущипнула себя — не проснулась. Ущипнула сильнее — не вышло.
— Просыпайся, Соль, просыпайся быстрее, — твердила она, и тут её осенило. — Надо просыпаться!
Забегала Соль от стенки до стенки. Зашаталась банка, а тут и Ласка с ведром прибежала. Увидела она, как банка на бок упала, как крышка слетела и как наружу Соль кубарем выкатилась и исчезла.
***
Ассоль открыла глаза, подняла со стола голову. Она в своей комнате.
— Смогла! Просыпалась! — вскочила она, уронив укрывавший её плед. Рядом рассмеялась сестра.
— Не просыпалась, глупенькая, а проснулась. Будь грамотной. А будешь путать, никто тебя не поймёт.
— Вера, мне такой сон приснился!
Сестра погладила Соль по растрёпанным волосам.
— Расскажешь обязательно. После ужина. Мама с папой уже ждут.
— Они тоже приехали? — и убежала из комнаты встречать родителей да поглядеть, как там солонка в форме старичка.
А Вера подняла плед, заглянула случайно в тетрадь и прочла: «В чём же соль?»
— И кто же такие сочинения задаёт? — посетовала она, а потом улыбнулась. — Интересно, Соль догадается? Я ведь ей только что подсказала.

В четыре руки
Всë вышло тогда хрестоматийно, как гамма, сыгранная на пианино: начавшись с «до», она бегло коснулась всех клавиш — белых и чёрных — и снова вернулась. В «до».
Катя обожала дедушку. Он был большой и добрый. Мастерски чистил руками апельсины, которые отвечали ему фейерверками брызг, рассказывал длинные сказки. Не давал никому в обиду, жалел, когда Катю ругали. Любил. Не переделывал.
Катя училась в шестом классе, когда случилась беда: дедушки не стало. Остались мама, папа, бабушка и пустой дедушкин стул на кухне. Сразу после похорон Катя уселась на него и долго не хотела вставать. Стул стал единственным местом в доме, с которого было не видно, что дедушки нет.
Катя вспомнила об этом сегодня. Ей за тридцать. И вот уже целых пять минут она свободна. Или одинока.
Последний разговор в коридоре — бессмысленный. Катины слёзы — бесполезные. Севины руки, которые никак не могли определиться, с какой силой обнимать и успокаивать Катю теперь, когда всё закончилось.
— Я хочу, чтобы ты остался.
— Я так не могу. Будет только хуже.
Катя закрыла дверь. Вернулась на кухню, села за стол. Машинально сжала руками безжизненно-холодные бока кружки с остывшим чаем. Оперлась на неё, как на последний буёк перед бесконечностью моря, который даёт шанс переоценившим себя пловцам скопить силы для возвращения к берегу.
Полгода назад Сева «свалился на Катю с неба». Вынес её из огня мелких неприятностей, они разговорились и с тех пор не могли остановиться.
Катя была из тех, кто, сжав тонкие губы, сражался с ежедневником, пытаясь до отвала накормить его делами, как ответственная мать пичкает капризного малыша кашей. Её не пугали дела. Она вообще ничего не боялась, кроме высоты и отношений.
Сева утверждал, что после развода ещё долго не женится. Приправлял это увесистым «Не-не-не!», что сулило идеальную дружбу.
Когда Сева приезжал в гости, вместе с ним приезжали пакеты с едой, ужин, разговоры по душам и предложение что-нибудь посмотреть. На кино у Севы был исключительный вкус.
В один из вечеров Сева давал «Легенду о пианисте» — историю о виртуозе, который всю жизнь провел на корабле и даже однажды стоял с чемоданом у трапа, но так и не сумел сойти с него в жизнь с её пугающей бесконечностью пространства и выбора.
Пока Сева настраивал звук, Катя выключила свет, уселась с ногами на диван и впервые задержалась взглядом на его спине. Она заслоняла экран и Катины страхи. Катя взглядом пробежала по клеточкам Севиной рубашки снизу вверх до воротника, который касался его тёмных волос… И тут заметила, что в комнате они всегда были не одни: из-за угла дома в окна второго этажа невежливо заглядывал фонарь.
Сева, сдержанно улыбаясь сомкнутыми губами, наконец-то откинулся на спинку дивана и положил на колени большую подушку. Дождался, пока Катя устроится на ней и, слегка помешкав, замкнул руки на груди.
Происходящее на экране было пронзительно, как музыка, которую влюблёнными в каждую клавишу пальцами извлекал из рояля главный герой. В доме напротив под неё трепетали неисправным светом подъездные окна.
Сева не смотрел кино. Он смотрел на Катю. Она иногда глубоко вздыхала и по-детски, чуть приподняв плечо, обнимала подушку. Еë шею закрывали волосы, а одна непослушная прядка касалась щеки и норовила зацепиться за длинные Катины ресницы. Сева несколько раз заносил руку, чтобы это предотвратить. И наконец одним пальцем неловко заправил выбившуюся хулиганку за Катино ухо.
А потом вдруг сразу как-то порывисто положил целую ладонь ей на плечо.
«Как хорошо, что в комнату смотрит фонарь! И совсем не неловко», — пронеслось в Катиной голове. И она опять вдохнула Севин запах.
Его рука так весь фильм и пролежала на Катином плече. И только в самом финале Севины пальцы сыграли на нëм что-то отчаянно нежное.
Последний кадр фильма разнес в клочья зрительские надежды на счастливый конец.
А Катя… Катя бессовестно улыбалась.
С того вечера между Катей и Севой всё умножилось на два. Сева появлялся в два раза чаще, помогал в два раза больше. Катя неистово хвалила Севу и с удвоенным упорством твердила, что они друзья, а сама… Сама, волнуясь, ждала каждой встречи, огорчалась, когда Сева не приезжал. И вдвоем с фонарем пересматривала Севины фильмы.
Постепенно вместе с Севой в Катином доме стали появляться ещё и завтраки. Дом наполнялся запахом печёного сыра на горячих бутербродах, травяного чая, музыкой из колонки и Севиной суетой. Потом Сева сосредоточенно вёз Катю на работу. Почти всегда молча. На светофорах изучал её невыспавшееся лицо и держал своей слегка шершавой и прохладной ладонью её за руку. Катя тайком от самой себя думала: «А может, это он?»
А вслух называла его героем.
Сева смущался и говорил, что никогда такого о себе не слышал. И рассказывал, как бывшая жена сомневалась, что его руки берут начало там, где надо. И что от каменной стены у него разве что отсутствие эмоций.
— И ведь делал же то же самое!
Дзеньк! Пальцы, наигрывающие мелодию в душе Кати, на мгновение оступались на клавишах.
А Сева зачем-то добавлял:
— Даже после развода старался. Для неё и ребёнка.
Еще один смазанный такт.
Однажды по дороге на работу Катя спросила:
— Сев, почему ты так много всем помогаешь?
— Чтобы им было хорошо. И тебе.
— А тебе?
— Мне хорошо, когда другим хорошо.
Катя запнулась: рядом с ней вроде сидел Сева. Но при этом его сильно не хватало. Функции были, а человек… Старался! Катя решила дальше не спешить с отношениями.
Сева тоже, оказывается, ждал.
Когда бывшая жена позовёт обратно.
И она позвала.
Вчера.
Сева прямо сейчас возвращался на свой привычный корабль. Так и не рискнув окончательно сойти с трапа.
Взгляд Кати оторвался от чая, прошёл по столу, обогнул Севину чашку. Задержался на пустом, как-то невнятно отставленном стуле напротив. Эта пустота была осязаема, причиняла боль. Не давала перевести взгляд.
Катя вдруг встала, обошла стол и села на Севино место.
Боль стала тише. Обида съёжилась. И Катя вздрогнула: много лет назад на том самом дедушкином стуле маленькая девочка вовсе не делала вид, что пустоты нет.
Она заполняла пустоту собой.
Тогда и сейчас у неё было всё, чтобы снова наполнить свою жизнь — она сама.
Катя выпрямилась и обвела кухню взглядом.
С этой стороны она на неё никогда не смотрела.
А Сева? Сева через месяц снова стоял у трапа.

Дом 28, строение 3
День 1400 — круглая дата, решил продолжить записи. Петрович опять забаррикадировался у себя, сколько раз я жалел, что не поставил питьевой фильтр, в нашем подъезде такой есть только у него, достался от прошлых хозяев квартиры. Теперь мы все ходим к Петровичу. Из-под крана тоже можно пить, но на вкус вода мерзкая, кипячение не помогает. И вот опять у Петровича то ли паника, то ли депрессия, то ли белая горячка, может, и все вместе. Пойду позову Марину Евгеньевну — психолога из двадцать седьмой. Если и у нее не получится договориться, придется ломать.
День 1401. В утренней доставке опять не было бинокля, уже раз десять заказывал, пишут — извините, товар повышенного спроса, ждите следующую поставку. Хочу посмотреть на Садовое кольцо, маленький кусочек виден вдалеке между домами, иногда кажется, там что-то происходит.
В шестой опять крики и мат, если б не карантин, баба Шура со второго этажа уже бы полицию вызвала, а может, и скорую. Надеюсь, успокоятся.
Какая же все-таки удивительная клубника, никак не могу привыкнуть, что она всегда идеальная, и цвет, и запах, и вкус.
День 1402. Опять забыл заказ на завтра бросить в ящик. Надо дежурного сделать, чтобы ходил и всем напоминал. Казалось бы, никто не работает, интернета нет, связи нет, чем все так заняты? Профессор, понятно, статьи пишет, полковник — мемуары, а остальные? А я?
До сих пор не понимаю, как правительству удалось так быстро организовать нашу карантинную жизнь, смутного времени, считай, не было. Только заработали сирены, все заголосили, забегали, а потом бац — дом замурован, мы на карантине, всё приносят роботы. Удивительная эффективность, никогда за правительством такого не замечал. И где эти роботы раньше были, почему о них никто не слышал? По телику много говорили про это, но кто же телику верит.
День 1403. Сегодня моя очередь преподавать, неохота, но это как бег, надо начать, потом втянешься. В свободной квартире во втором подъезде мы сделали школу. Многие жильцы преподают, кто что знает. Я — компьютерную грамотность для младших, старшие уже сами всё умеют. Сейчас у нас четырнадцать детей от пяти до шестнадцати лет. Ни одного ребенка на карантине не родилось. Профессор говорит, так и должно быть: когда появляется угроза выживаемости всего вида, отдельные особи перестают беременеть.
День 1404. М.Е. считает, что с моей неустойчивой самооценкой нужно фиксировать свои достижения, даже самые небольшие. Попробую. С чего бы начать?
Сходил к М.Е., говорит, нужно записывать только достижения периода карантина. Оставлю разворот для этого, нет, лучше страницу.
- С чердаком хорошо получилось. Все боялись открывать, вдруг что, а я взял и сорвал пломбу. Теперь «мы» — это не только первый подъезд, но и второй, то есть весь дом 28, строение 3. Познакомились, ходим туда-сюда, собрания проводим.
- Хотел в том же пункте записать, но пусть больше побед будет. Благоустроили чердак, не я сам, но я всех уговорил, недели две потратил. Свет провели, стулья и столы принесли. И тренажеры — никогда не забуду, как мы их по лестнице тащили, лифты же не работают.
- Второе место по шахматам на домашнем чемпионате! У нас всего семь человек играют, но новичок только я. Год назад учебники заказал, читаю, осваиваю.
- Бегаю каждый день. Сначала спускаюсь на первый, потом добегаю до пятого, по чердаку во второй подъезд, вниз, оттуда наверх и обратно. Иногда десять раз повторяю, до карантина я бы так не смог. Беговую дорожку на лестницах начертил Саша из двадцать второй, чтобы не толкаться. Хорошо, что мы перезнакомились и научились как-то общаться. Не сразу и не все, но всё-таки.
- Чуть не забыл, я же рану на ноге Петровичу зашил, зачем он стул на стол поставил и как оттуда упал, я не спрашивал, но вид был ужасный, залил все зеленкой и сделал. Это был реально подвиг, я сам был цвета зеленки до вечера.
- И еще, я не думаю о маме, об Оле, о том, как раньше было. Когда-нибудь же это закончится, тогда и буду думать, сейчас нельзя, а то тоже стул на стол поставлю.
День 1405. Сегодня опять телик заработал, дикторы — все та же парочка, которую чаще всех показывают. Оба во всем синем, мужчина в костюме, девушка в обтягивающем платье. Пару лет назад была короткая передача про них: он работал техником в телестудии, а она была журналистом-стажером, ну то есть девочкой на побегушках. Когда объявили локдаун, у них только-только первое свидание состоялось, но решили вместе запереться, видимо, удачно прошло. Сделали на чердаке студию, на крыше роботы спутниковую антенну поставили. Вещают все четыре года и при этом всегда выглядят немного по-дурацки в своих элегантных шмотках, а у мужчины еще и выражение лица никогда не совпадает с текстом.
Говорили, как обычно, об успехах: окончательно всё научились производить без людей, не нервничайте, всем хватит. Главное, не забывайте каждый вечер список из восьми пунктов в ящик класть, а утром получать все стерильное, обработанное от заразы. Лекарств по-прежнему нет, а вот в вакцине продвинулись, скоро приступят к испытаниям, добровольцев просят согласие на участие положить в ящик.
Какое-то неприятное чувство после этой передачи, понятно, что все это уже много раз говорили — и про вакцину, и про добровольцев, и про не нервничайте, — но что-то беспокоит.
День 1406. Вчера никак не мог заснуть и вдруг понял, что не так с передачей. Дверь в студию и мансардное окно всегда были с правой стороны от стола, за которым парочка сидит, а вчера оказались слева. Долго думал, но так и не понял, как это возможно.
День 1407. Я решил выйти наружу! Со мной Саша из двадцать второй и полковник. Риск, конечно, огромный, я это понимаю, стопроцентная смертность — приговор, да и приказ нашего прекрасного правительства расстреливать всех, кто пытается выйти, тоже никто не отменял. Но я чувствую, что-то не так, и невозможно дальше просто сидеть на месте и ничего не делать. На собрании весь дом нас поддержал, похоже, все это чувствуют.
День 1417. Решили, что это будет разведка, в идеале — добраться до Садового. Профессор нарисовал «выкройку» наших почти космических скафандров. Стало понятно, что распределить заказ деталей на три скафандра между жильцами так, чтобы он не выглядел подозрительно, не получится. Придется делать один. Тянули жребий, я выиграл, был уверен, что так и будет.
Буду выходить через наружную лифтовую шахту, оба лифта стоят на пятых этажах, двери плотно замурованы (когда и кто это сделал?!). Неделю пытались их раздолбить, работали все, даже старшие дети, наконец, на четвертом этаже получилось. Придется спуститься по канату до второго этажа, потом выломать стеклянную стенку шахты и прыгнуть вниз. Нервничаю, но не сильно.
День 1419. Сегодня!
Последняя запись. Все позади. Несколько дней не мог заставить себя писать, а сегодня решил, что издам свой дневник как фантастический рассказ, и дело сразу пошло.
Когда я, наконец, выломал стену шахты и прыгнул в своем дурацком скафандре вниз, мое падение длилось долго, как у Алисы. А потом я плавно и очень мягко опустился прямо в кресло, чьи-то руки сняли с меня шлем. К этому моменту я уже так устал бояться и ничего не понимать, что хотел просто дождаться конца.
Вокруг было темно и тихо, мое кресло освещал слабый луч. Потом я услышал голос. Я рад приветствовать землянина на нашей планете, произнес он. Ваше испытание закончилось успешно, вы объединились, преодолели страх, пожертвовали покоем, рискнули и вышли. А главное, сделали это в отведенный срок, меньше чем за четыре ваших года. Вы достойны быть принятыми в Галактическое содружество. Мы будем помогать всем землянам, и через два тысячелетия вы войдете в новую безгранично прекрасную жизнь.
Не волнуйся о доме, после паузы продолжил голос, четыре года назад мы его целиком перенесли на планету, где наши экспериментаторы проводят испытания. Мы все вернем назад, болезни и карантина не будет. Все всё забудут, но если хочешь, лично тебе мы можем оставить память. Я кивнул.
У меня только один вопрос, сказал я, а что бы произошло, если бы мы не уложились в этот срок? Ты не хочешь этого знать, сказал голос твердо, и я поверил ему. Не хочу.

Заблудший
Калат поджал хвост и продолжал сидеть в прихожей. Полярная ночь подходила к концу, небо становилось каждый день светлее, пришло время собирать вещи. Марк сложил всё в рюкзак, вернул книги в библиотеку и прибрался в комнате, оставил только умывальные принадлежности и теплые носки, чтобы положить их в последний момент. Его работа была окончена, а все записи уже давно лежали в боковом кармане рюкзака. Оставалось дождаться ледокола, который заберет его отсюда. Этой ночью он захотел обойти станцию в одиночестве, попрощаться с местом. Но в начале же прогулки обнаружил знакомую собаку у самого входа. Это был Калат. Марк пустил его внутрь и накормил, оставив на ночь в прихожей.
На следующий день, после завтрака, с собакой надо было погулять. Он надеялся увидеть Таната, хозяина собаки. Чукча Танат жил в поселении, которое находилось в двадцати километрах от ближайшего города, до которого, в свою очередь, от станции было ещё пятнадцать километров. Марк не мог позволить себе сейчас отправиться к нему. Только надеяться, что Танат сам придет за своим Калатом.
На прогулке Калат ходил вокруг Марка, иногда замирал и вглядывался в ещё черный горизонт. Таната так и не было видно. Собака завертелась у ног, поскулила и посмотрела в глаза Марку.
— Что ты хочешь мне сказать? — нагнулся над собакой Марк. — Где твой хозяин?
Калат продолжал смотреть в глаза, немного наклонил морду вбок, гавкнул, крутанулся и отбежал на несколько метров от Марка. Ветер усилился и заглушил вой. Марку пришлось закрыть лицо руками от налетевшего снега, а когда волна холодного потока прошла, собаки уже не было видно. Марк огляделся, несколько раз позвал Калата, но безрезультатно. Он подвернул рукав куртки и взглянул на часы. Время дойти до города ещё было. Танат не раз привозил им оленину и теплые вязаные вещи, помогал довезти припасы на санях и в самую скверную погоду провожал до станции. Было бы правильным хотя бы постараться найти его собаку, подумал Марк, тяжело вздохнул и отправился в сторону города. Мысли о том, что с Танатом могло что-то случиться, Марк гнал от себя. Танат был молодым и крепким чукчей, прекрасно разбирался на местности, о его непробиваемом здоровье и выносливости постоянно говорили на станции. Марк вспомнил о первом рукопожатии с Танатом, ему тогда показалось, что руку сжимают десятки ремней, а пальцы не разгибались ещё некоторое время. Нет, представить, что что-то могло случиться с таким человеком, было невозможно. Скорее, собака могла чего-то испугаться и убежать. Найти её и оставить у кого-нибудь в городе, чтобы потом передали хозяину, план был такой.
Дорога до города проходила вдоль береговой линии. Лёд уже дал трещины, и было проще понять, где проходит эта граница. Марк вспомнил, как в дни, когда только приехал со своей первой экспедицией, спрыгивал на ещё крепкий лёд и забегал, насколько хватало смелости, к линии горизонта, а потом пытался рассмотреть очертания станции на берегу. Всё ради ощущения этого открытого, белоснежного пространства вокруг, где в абсолютной тишине слышно было только свое дыхание и стук сердца, а где-то вдалеке, за станцией — весь мир, вся остальная жизнь. На обратном пути скрип снега под ногами смешивался с шуршанием одежды и в голове возникали мысли о том, на какую мелодию это похоже, торжественную или грустную, спокойную или весёлую. Так продолжалось недолго, пока эти вылазки не заметил руководитель экспедиции. Строгий выговор за нарушение дисциплины и двойное дежурство перебили желание повторять подобное ребячество.
Марк подходил к городу, и ему показалось, что между зданиями пробежала собака. Для себя он решил — церемониться не собирается, подойдет и возьмёт на руки, слушаться она его явно не хочет и рядом идти не будет. Легче донести. Оставался вопрос, кому он отнесет собаку. Единственным человеком, которого он мог попросить о такой услуге, была Майя. Хозяйка кафе «Причал» в центре города. Когда станционная еда уже не лезла в горло, он приходил сюда. Сейчас он усмехнулся, ведь поругать еду на работе было лишь причиной прийти в кафе. Конечно, приходил он ради Майи. Ради её кофе, хлеба, сыра, да чего угодно, что она поставит на стол. Ради её приветствия и вопроса о делах на станции. Кажется, она обиделась, когда он не написал ни строчки и ни разу не позвонил между своей второй и третьей сменой, когда уезжал домой, когда хоронил родителей и решался приехать на станцию штатным специалистом и больше уже не уезжать. Потом он уезжал, и не раз, но каждый раз писал и звонил. Она больше не обижалась. Встречала в кафе, расспрашивала о работе, вкусно кормила. А затем вышла замуж. За какого-то человека из городской администрации. С ним он не познакомился, но в кафе продолжал приходить, может, чуть реже, продолжал рассказывать о работе, а Майя продолжала слушать. Да, он попросит её приютить собаку на время.
Марк остановился в центре города, напротив кафе «Причал», и попытался вспомнить, какое сегодня число. Кафе было закрыто только по праздникам и двадцать четвертого февраля, в день рождения Майи. Не мог же он забыть о её дне рождении. Он решил уточнить дату у прохожих, но, как назло, рядом никого не было. Он прошел несколько улиц и понял, что не слышит ничего и никого. В городе была тишина, почти как тогда, когда он стоял на замерзшем море, вдали от станции. Нарушил молчание вой, протяжный и низкий. Калат сидел у прозрачной стелы, которая похожа была на ледяной конус и сообщала, что в этом месте начинается город. Марк подошел к собаке, которая не двигалась с места и пристально смотрела на него. За её спиной стоял человек в тёмном меховом комбинезоне с торчащей из-под капюшона шерстью, расшитом переднике из ровдуги и в темно-коричневых перчатках. Он снял одну из них и достал сухой старческой рукой из кармана курительную трубку.
— Ты пришёл, — обратился старик.
— Это ваша собака?
— Это мой келе. — Старик закурил. — Он наконец нашел тебя и привел сюда. Но теперь тебе пора идти.
— На станцию, вы имеете в виду? — Марк присматривался то к собаке, то к человеку. — Да, верно, за нами уже должны прислать скоро. Я просто думал, что это собака моего знакомого. Увидел её вчера на улице.
— Мой келе тебя проводит, друг мой.
— Это не обязательно. — Марк посмотрел на собаку, которая продолжала за ним следить, не отворачиваясь. — Хотя я буду только рад компании. Кажется, что уже вечность ни с кем не общался. А его, случайно, не Калат зовут?
Но старик уже отвернулся и шел по направлению к выходу из города, в противоположную сторону от станции. Марк посмотрел ему вслед и прикинул, что должно быть в молодости это был обладатель больших плеч и крепкой спины, это можно понять даже спустя годы. Собака негромко поскулила и направилась в сторону станции. Марк пошел за ней, и когда проходил закрытую дверь кафе «Причал», постарался ещё раз вспомнить, что же сегодня за день.

Запах хлорки и первой любви
Игорь сказал: «Больше нет сил помнить, какая ты на самом деле. Пожалуйста, дойди до врача». И ушел. Закрыл за собой грузную скрипучую дверь. Ручка дернулась вниз, вверх. Оксана слушала, как стучат его ботинки на лестнице — тише с каждым тактом, так, наверное, гаснет канонада в конце битвы.
Когда все смолкло, она вернулась в ванную — до чесотки, до красноты смывать грязь, которая поднялась в воздух, пока Игорь вытаскивал вещи из шкафа. Полоскать мыльным раствором горло. Выйти посвежевшей, новой, притвориться, что проживаешь версию утра два-ноль, где все чисто, а значит, ничего не случится.
Они подружились в восьмом, когда Вера Михална крякнула: «Якушев! На пятую парту, к Олейник». Он был какой-то прямой, негнущийся: жилистый, долговязый подросток с рябым лицом. Ходил в растянутых свитерах старшего брата. Она — круглая, оливковая, с плавными коленками, черными кудряшками, белыми брюками-юбками. Его прогулы, трояки, сигареты в подворотне за школой странным пазлом сложились с ее пятерками, стихами про любовь, сольфеджио.
С выпускного сбежали вместе: сидели на набережной, пили вино из горлышка, орали пьяными голосами «Учат в школе, учат в школе, учат в школе». Фальшивые ноты разносились по водной глади, но кто заткнет этих двоих, они же с лентами через плечо. Когда наконец поцеловались, стало ясно: во взрослую жизнь — так же, за одной партой.
Институты, сессии, съемные квартиры, студенческие пьянки, секс в субботу утром, ее взяли ассистентом редакции, его — помощником юриста, «Кто сегодня моет посуду», «Может, котенка заведем?» В день, когда собирались подавать заявление в загс, позвонила мать Оксаны. Отец. Бактериальный менингит. Думали, простуда. Не хотели беспокоить. Похороны во вторник. Приезжай как сможешь.
«Распространенные причины бактериального менингита: менингококк, гемофильная палочка, золотистый стафилококк… признаки развиваются стремительно… гнойный экссудат… затрудняет отток спинномозговой…» Статьи-близнецы из интернета так и не ответили на вопрос, что случилось, но Оксана штудировала их ночь за ночью. Одни и те же фразы кочевали по текстам и оседали в мыслях, как стишки, заученные еще в младшей школе.
Игорь зашивался на работе, мать пила валидол и не выходила из комнаты. Гроб, место на кладбище и костюм покойному искала Оксана. Перебирала отцовские вещи, плакала и чихала. Сколько же пыли собрали эти вешалки, обувные коробки, крошево из журналов, клубки из носков, спутанные провода, ржавые инструменты. Возвращаясь домой из родительской квартиры, Оксана на всякий случай протирала мебель раствором хлорки.
На сороковой день пришла с поминок и выкинула половину своего гардероба — не могла смотреть, как брюки-юбки-свитера пылятся на полках. На помойку отправились и любимые джинсы Игоря в пятнах хозяйственной краски, и антикварные тарелки, доставшиеся от бабушки, и пластиковая елка с антресолей, и все гвозди, шурупы, саморезы, отвертки, молотки, что были дома. Когда Игорь переступил порог после двенадцати часов в душном коридоре суда, Оксана — красная, с опухшими глазами, — зубной щеткой драила ламинат в прихожей.
«Я хотел тебя поддержать, понимаешь?! Но я больше не могу! Где не скандал, там тупое правило! Я не робот, чтобы отмывать кафель до трех утра, я живой, и ты живая, и тебе нужна помощь, но моей не хватает, — кричал Игорь полгода спустя, с каждым словом выжимая остатки сил. Они ругались всю ночь, и теперь он метался от шкафа к тумбочке, кидал вещи в спортивную сумку. — Пожалуйста, дойди до врача».
Его голос едва просачивался сквозь шум воды. Оксана уже полчаса мыла руки. Кожа на них была тонкая, прозрачная, с трещинами. Оксана хотела, но не могла выйти в комнату, обнять эту тощую спину, признать: нет, он не должен дышать хлоркой каждое утро, и надевать в туалете одноразовые перчатки, и ставить кроссовки носками к двери, и ужинать из пластиковой посуды. Это чушь, прихоть, не повод рыдать и гулко стучать лбом о стену.
Ей мешал мир, который был одновременно вне Оксаны — в спорах плесени на плитке, кислом запахе борща у вытяжки, пятнах собачьего дерьма у входной двери, — и внутри, в потемках души. Там он прятался под землей, в папином гробу, красном, деревянном, обитом бархатом. Он рвался наружу, натягивал мрачный туман из мыслей на небо, и в этом тумане Оксана гнила заживо. Сотни ритуалов были магическими маячками, обрядами, которые боролись с неотвратимым, ниточкой вели из темноты в какую-никакую, но все же жизнь.
В папину годовщину она не пришла на кладбище, не ответила на звонки мамы. Набрали Игоря — не знает ли чего. Игорь нащупал в кармане ключи и помчался на Астраханскую, 17 — в дом, который оставил на нем запах хлорки и первой любви.
Голая, Оксана сидела на полу ванной и неотрывно следила за барабаном стиральной машины, где крутились последние джинсы и футболка. Ждала, когда закончится цикл «90 градусов», чтобы запустить его заново, с теми же вещами. Увидев Игоря, вжалась в угол между умывальником и стеной, как затравленный котенок сфинкса, заплакала.
Он опустился на колени, обнял это маленькое, холодное, шершавое существо с непривычно острыми локтями, коленками, ребрами, поредевшими кудрями. И услышал вой. «Я не мо… могу, вы… выйти, я не могу, помоги, мне, мне, пожалуйста, помоги, я не могу», — повторяла она сквозь рыдания, перекрикивая стук стиралки. Этажом выше рычали и визжали собаки.
Через час Оксана, молчаливая, испуганная, уехала на скорой в его джинсах и свитере.
Ее выписали из стационара полтора месяца спустя. Был конец февраля, но наглое солнце уже нагревало, как сковородку на медленном огне, серое крыльцо психиатрической больницы, заставляло персонал и пациентов прикрывать глаза рукой, отдавать честь грядущей весне. По асфальту ручьями бежал вчерашний снег, догонял Оксану, просачивался сквозь замшу зимних ботинок, менял холод, не покидавший с папиной смерти, на мокрое, живое тепло. Она уносила с собой стопку рецептов и телефон психотерапевта.
Игорь забежал на майских — навестить, вернуть ключи. Квартира встретила запахом рассольника и звуками соседской дрели. В ванной стояла корзина с грязным бельем, на подоконнике росли кактусы.
— Они тебя не раздражают? Земля, грязь… — Он кивнул головой в сторону глиняных горшков, пока Оксана наливала суп в тарелку.
— Немного. Но мне приятно, что живые существа в доме есть. И психотерапия помогает. Я сейчас с собой договорилась: комната — «чистая зона». А на кухне можно мусорить, кактусы выращивать, даже гостей принимать. Да-да, гостей. Маму, девчонок с работы. Они свои, все понимают. Не обижаются, когда я их обувь переставляю.
— Сами уже не переставляют?
— Мое… состояние… не обязывает других делать те же странные вещи.
Она замолчала. Эта девушка, похожая на прежнюю Оксану. Или все-таки не похожая? Когда-то пухлые подростковые щеки остались впалыми, руки постоянно двигались, словно отдельно от туловища: поправляли салфетки, ставили в ряд перечницу и солонку, разглаживали складки на юбке. Оксана села напротив, посмотрела прямо на него.
И заплакала.
Игорь подскочил, задел локтем тарелку, суп разлетелся брызгами по полу. Оксана дрогнула, но не двинулась с места. Он снова обнимал ее, как тогда, на полу ванной, и так же приговаривал:
— Ну, ну, все хорошо. Будет, будет. Все хорошо.
Он ушел через пару часов. Прощаясь, держался за холодную дверную ручку, чтобы унять едва уловимое головокружение от мускатного запаха геля для душа — ее запаха. Вернуть баланс.
Уже в лифте Игорь нащупал в кармане шершавую металлическую поверхность. Опять забыл вернуть ключи.

Злой человек
Лев вышел на охоту. Пригладил гриву вокруг лысины, поправил галстук на животе, опустил руки в карманы серых брюк со стрелками. Алексей Александрович, директор строительной фирмы, головной — и единственный — офис которой базировался в Южном Чертаново, шел по узкому проходу между столами под потолком Армстронг, поглядывая на своих будущих жертв поверх фикусов, кактусов и подвявшего алоэ. Все, на что падал свет потолочных ламп из магазина «Империя Люстр», — были его владения. А также кухонька в конце коридора направо и туалет, М и Ж в одном, налево.
Галина не успела спрятать помаду.
— Галя, если бы каждый раз, вместо того, чтобы нанести боевую раскраску, ты находила нам нового клиента, то мы бы уже застроили Москву настолько, что «Сапсан» стал бы пригородным поездом.
Сосед Гали хрустнул сушкой.
— Ты знаешь, Сережа, что акула дышит, только когда плывет? А если остановится — задохнется, поэтому она всегда в движении. Знаешь, это я к чему?
— Нет, Алексей Алекс…
— К тому, что со стороны кажется, что если ты перестанешь жрать, ты задохнешься. А где Семенов?
Никто не хотел отвечать, пришлось Варе:
— Он у врача. У него же нашли какое-то образование…
— Явно не высшее… Я так мало плачу, что тебе не хватает денег на более длинные юбки? — И, пока Варя смущенно прятала ноги под стол, добавил: — Я уезжаю по делам, сегодня уже не вернусь. Еще перекурю, поэтому не уходите сразу, сделайте вид, что до конца досидели.
На улице он подошел к своей машине и закурил. Она у Алексея Александровича была большая, надежная. Не понтоваться, а чтобы удобно было и служила хорошо. Чтобы такую выбрать, надо прочитать много обзоров, посоветоваться с соседом по гаражу, махнуть на его мнение рукой, ведь он лучше «Логана» за всю жизнь и не водил ничего, съездить в автосалон и там сменить пару консультантов, потому что не каждый может ответить на все важные вопросы.
Алексей Александрович открыл дверь, поправил газеты на коврике, сел. Достал из подлокотника заглушку ремня безопасности и вставил в разъем своего кресла, чтобы не пищало ничего, когда поедет, а то больно раздражает этот звук, но как выключить — так за год и не разобрался. Умные эти япошки, но наш брат умнее: всего триста рублей, и едешь спокойно.
Докурил сигарету, бросил, аккуратно закрыл дверь и поехал.
На дорогах были одни бараны. Напокупают прав и гоняют, как у себя в ауле. И пешеходы пару раз, глаза не разув, выбегали на переход прямо перед машиной. Алексей Александрович один раз даже почти открыл окно, чтобы накричать, но передумал — если у них глаз нет, то ушей и подавно.
Поставил машину в гараж и по дороге к дому даже не поздоровался с охранником — Алексей Александрович был полностью занят воображаемой готовкой. Знал, как надо выложить салат, какие фрукты разместить в вазе сверху, в какое блюдо положить рыбу и куда поставить, чтобы она казалась не обязательным угощением, но, если что, легко было дотянуться.
Жена дома недостаточно суетилась.
— Если бы мы были индейцами, твое имя было бы не Света, а Погонщик Раненых Черепах! Почему картошка еще только варится, она же любит охлажденную! Хлеб не нарезан! Это точно цельнозерновой? Другой не ест. И почему язык все еще на столе?! Срочно убери, она же веган… вегетарианец. Или кто там?
— Она сейчас ест рыбку, Леша, успокойся. И еще из метро не вышла, время есть.
— Ест рыбку? Хорошо, тогда положи ее не на дальний край стола, а в центр. Пирожков, может, больше выложить? Квашеной капустки давай положим, но не из магазина, а от Таньки. И тарелку надо с котятами, из другой не любит.
— Успокойся, она и моя дочь, я помню. Вынеси картошку на балкон, успеет остыть.
Он побежал с картошкой. Хоть бы успела остыть. Снял рабочую одежду, она не любит, когда по дому не в домашнем ходят, фэншуй какой-то, наверно. Он торопился, надо было еще красиво руколу разложить и огурчики порезать обязательно вдоль, кружочками не любит.
Когда он приказывал жене причесаться (а то там грачи птенцов выращивать могут), раздался звонок в дверь. Алексей Александрович стал цвета квашеной капусты от Таньки. Вышел в коридор, сделал глубокий вдох, пригладил волосы. Открыл дверь. Вот она, высокая, стройная, брови, как всегда, хмурит. Его красавица, его умница.
— Здравствуй, товарищ Катенок! Добро пожаловать домой.
— Привет, па. — Катя подставила одну щеку, вторую, потом нос. Поморщилась, вытерла.
— Долго ехала? Голодная?
— Я всегда долго еду, вы же почти в Подмосковье. Из Вены в Братиславу быстрее доехать.
— А почему без шапки?
— Потому что мне двадцать пять.
— Ну, скорее за стол! Там салатик, рыбка, картошечка сварена.
— Ну, какие углеводы на ужин? У меня же твои гены, — она посмотрела на папин живот, — мне и на обед не стоит.
Пока Катя мыла руки, Алексей Александрович снял ее пальто с крючка и повесил на вешалку, прошел на кухню, быстро спрятал пирожки в холодильник. Катя села, указала на салат.
— Не заправленный?
— Он же не машина, — рассмеялся Алексей Александрович, но, увидев ее нахмуренные брови, перестал.
— Что нового?
— Ничего.
— А на работе? Проекты есть?
— Есть.
— Денежек хватает? Может, надо чего? Ну, на глупости всякие.
— Я не делаю глупостей.
— Нет, конечно, нет! Я про штучки, там, девичьи, на развлечения, на духи…
Провел руками по коленям. Что еще спросить, он не знал, поэтому интересовался, как Кате еда, что еще положить. Она лишь утвердительно или отрицательно мычала. Зазвонил телефон в спальне, он побежал ответить. Это была Варя с работы — не помнила, где ключ от двери. Он рассказал, где ключ, а также что у золотой рыбки — и той память лучше. И мозгов больше. Когда бросил трубку, услышал, что дочь с женой о чем-то оживленно болтали на кухне. Поспешил туда, но они тут же замолчали. Сел на табуретку. По тарелке с котятами стучала вилка.
— Останешься ночевать?
— Не, я домой.
— Не домой, а в ту квартиру. Дом твой тут.
Катя закатила глаза. Допили чай, посуду помыть он ей не дал. Оделась, проводил ее до лифта, опять поцеловал в щеку, вторую, в нос. Зашел в квартиру, в коридоре стояла жена и молча смотрела на него.
— Вот, надо было тебе эту картошку варить! Она же веган, не ест углеводы!
И пошел мыть посуду.

Клетка
Автобус выплюнул Артёма на пустынную улицу. Справа тянулся длинный бетонный забор в выпуклую клетку. Он привычно пересек дорогу и остановился, закурил. Ковырнул намерзшую за ночь ледяную корку на луже и не спеша двинулся вдоль серого бетонного бока вперед. Дойдя до калитки с синей вывеской ПНИ, он остановился. Докурил сигарету, немного постоял, вдыхая холодный утренний воздух, и нажал кнопку звонка. Тяжелая железная дверь загудела и лязгнула, пропуская Артёма. Он пошел вперёд по асфальтовой дорожке, ведущей к темнеющему зеву еще спящего организма, который три раза в неделю заглатывал его, сутки переваривал в своем чреве, и полуразъеденного отпускал обратно, до следующего раза.
На открытой веранде у входа сгрудились коляски и ходунки. Артём поправил те, что мешали проходу, и нажал на металлическую панель домофона. Пасть раскрылась и втянула его, смрадный запах сразу ударил в лицо. Нутро воняло гниющей, недоразложившейся плотью, едой и дерьмом. Слабаки ломались здесь, на входе. Артём устоял, задерживая дыхание. За полгода работы привыкнуть так и не смог.
— О, альтернативная служба, — скалясь, процедил дежурный охранник, — пришёл заботиться о психах. — Он повернул к Артёму журнал, кинул поверх него ручку, тот вписал свою фамилию.
— Слышь, Михалыч, — продолжал охранник, скрестив руки на груди и развалившись на стуле, — люди добрые дела делают, а ты только о жрачке и думаешь. — Он заржал. — Иди-ка спроси кухню, когда завтрак?
Артём выпрямился.
— Значит, ты сегодня дежуришь, — нахально буравля глазами, спросил охранник.
— Я, — коротко отрезал Артём, — увижу у женского отделения ночью — вызову полицию.
Охранник, приторно улыбаясь и кривя рот, молча выдал алюминиевую ручку-ключ ко всем дверям в здании.
— Вот сучонок! — услышал Артём в спину и не поворачиваясь пошёл в санитарную.
ПНИ действовал на всех по-разному, но внутри менялся каждый. Персонал, входящий через служебный вход, наполнялся силой власти над колонией больных. Преображение прекращало действовать, как только работник оказывался снаружи, выбираясь из бетонного бока в свою обычную серую жизнь. С больными происходило иначе. Тысячу заключенных внутри подопечных ОН не выпускал, цепко зажав в своем плену, перемещая с этажа на этаж, из одной палаты в другую. Пока, наконец, отобрав остатки разума и достоинства, не бросал их окоченевшие голые тела в холодный подвал.
Артём поздоровался, переоделся. Синие штаны и рубаха без рукавов, поверх белый халат, резиновые черные шлёпки. Рабочая униформа болталась на нем как на пугале. Он сжал в кармане дверную ручку и пошел в отделение лежачих.
Коридорная кишка первого этажа смердела еще сильнее. Вонь стояла в проходе, не выветривалась, не отмывалась. В четвертой палате уже шёл завтрак. Артём подошёл к бойкой коротко остриженной санитарке Галине, средних лет. Она кормила старика Борисова.
— Давай, дед, давай, — приговаривала Галя, перемешивая в тарелке кашу, масло, хлеб, раздавленное яйцо, залитые сверху какао, — давай. Обритый наголо старик настырно сжимал половину рта.
— Вот зараза, — сказала санитарка подошедшему Артёму, — ты ж у меня не один тут, мне всех накормить надо. — Она настойчиво надавила ложкой на сухие стиснутые губы. — Будешь артачиться, я сейчас зонд поставлю, — пригрозила строго Галина.
— Он так не любит, — сказал Артём, — давай я.
Галя смерила его циничным взглядом.
— А как он любит? Без году неделя, а туда же. Тоже мне — адвокат Горошек. Да ему все равно. Он не человек уже — растение. Зачем мы в них жизнь поддерживаем, непонятно. Они никому не нужны. На, развлекайся. — Она вставила тарелку в его протянутую руку. — Я тогда пойду, раз ты сам тут, — многозначительно выделяя «сам», сказала она. — Может, успею Мишку в школу проводить.
Артём кивнул, и она вышла из палаты. Он отнес тарелку к тележке раздачи, взял чистую, положил кашу и кусочек масла, вернулся к кровати. Приподняв изголовье, поправил подушку.
— Давайте завтракать, каша очень вкусная. Сегодня рисовая. Моя бабушка говорила, что от нее вырастешь сильным.
Артём поднес ложку к губам, остановился.
— Давайте ложечку, — приговаривал он и ждал, — одну.
Старик слушал его молча, все еще сжимая губы. После инсульта речь к нему так и не вернулась. Потом разжал, и Артём аккуратно наклонил ложку — вот и хорошо.
Он переходил от кровати к кровати, кормя, умывая, разговаривая. После завтрака шла обработка пролежней, переворачивание. Потом обход врача, прием лекарств и влажная уборка. Шестеро лежачих больных проживали свой день под его руководством. Он был их руками, ногами, языком. Укрыв всех шестерых в палате одеялами, Артём проветрил. Включил радио, присел. Первая волна усталости разлилась по телу.
В палату заглянула старшая сестра Валентина.
— Ну, как дела, служба? Идут?
Артём кивнул.
Валентина двинулась дальше, а Артём пошел за коляской. Высадил в неё молодого Яблокова с ДЦП, закрепил ремнями, повёз катать по коридору, в котором уже пахло щами. Яблоков мычал и вертел головой. Слюна стекала на его футболку.
К середине дня многоэтажный монстр выпустил из себя два контейнера с медицинскими и бытовыми отходами и весёлую стайку медработников, выбежавших покурить. Артём не пошёл, не хотел оставлять своих без присмотра. В обед начался второй режимный круг: кормление, переворачивание, сон, обход. На помощь пришла медсестра Марина. Управились. Бесконечно тянулся день. Артём нанизывал блеклые одинаковые бусины часов на леску суточной смены.
К вечеру его перекинули на второй пост. Сменщица дежурной с поста у надзорной палаты заболела, попросили заменить. Здесь лежали ходячие, но потенциально опасные, требующие постоянного присмотра.
— Неушкину тошнит сегодня весь день, — сдавала смену бесстрастная медсестра из Твери, — все мне тут уделала, идиотина. Наверное, от таблеток, но их не отменяли, поэтому проверяй, чтобы она их проглатывала. Кретова — в обострении, всех кроет по матери, орёт макакой. Если задурит — привязывай к кровати. — Она окинула взглядом его тощую фигуру и сравнила с тучным, центнером весом, телом Кретовой. — Или звони дежурному психиатру, пусть уколют. Остальные — под седативными, все время спят. Выпускай только в столовую, туалет и в душевую вечером. И построже с ними. Неушкина пусть сама за собой убирает.
Артём кивнул, присел на стул. Начинался вечерний цикл. Сопровождал в столовую, раздавал таблетки, мыл пол, открывал и закрывал душевую. Здесь работы было меньше, и в свободное время вспоминалась бабушка. Сначала улыбающаяся, с тарелкой горячих сырников, которую она ставила перед ним, пододвигая сметану и варенье. А потом уже беспомощная, испуганная, потерянная в палате интерната, куда ее отправили и куда он пришел только раз и больше не ходил. Он гнал от себя эти мысли, уворачивался, хватаясь за швабру, переставляя стаканчики для таблеток, листая фейсбук и инстаграм.
Чавкнула в палате упавшая на линолеум рвота. Кислая вонь смешалась с повисшим в коридоре запахом подгоревшей молочной каши и оставленных с вечера в углу использованных памперсов, заполнила коридор, полезла в ноздри. Артём вздрогнул и проснулся, поднял голову со стола на посту и уткнулся носом в рукав. Халат за смену пропитался запахом йода, хлорки и щами, которыми в обед плевался Нагатин. Пустой желудок санитара резко сжался, противная волна перекатилась к горлу. Сдерживая тошноту, Артём поднялся со стула и быстро пошел мимо палат к лестнице. Дёрнул окно. Оно не поддалось, наглухо забитое гвоздями, и он стал подниматься вверх в поисках другого. Или форточки. На самой верхней лестничной площадке окна и вовсе не было, только дверь — низкая, неаккуратно обшитая листами жести. Он потянул ее на себя, и она легко открылась. От неожиданной уступчивости он пошатнулся и на секунду потерял равновесие, уткнувшись плечом в стену. В лицо ударил свежий, влажный, пахнущий весной воздух. Он глубоко вдохнул, закашлялся. Пьянеющий от бодрящей прохлады, чуть покачиваясь, он подставил воздушному потоку всего себя, уставшего и опустошенного. Отдышавшись, вглядываясь в живое черничное утро в дверном проеме, он шагнул ему навстречу.
Прямоугольник крыши был мокрым. Ветер обдувал его со всех сторон, морщинил лужи. Город издали подмигивал огнями, звал, пританцовывал. Там была другая жизнь. Она билась, как живое сердце, и здесь было слышно ее тихое эхо. Артём замер. Многоэтажный больничный организм гудел под его ногами, ворочался, тяжело дышал, просыпался, ощущая утренний голод. Высматривал по палатам добычу, выделял соляную кислоту, источал порции смрада. Нескончаемое животное существование продолжалось. Новые жертвы ждали своего часа. А он сбежал, вырвался, ушёл. Он вдруг почувствовал легкость, и ему захотелось сделать что-нибудь глупое. Колесо, например. И он сделал, а потом еще прошелся на руках и, запыхавшись, присел на корточки, оперся на стену у двери. Детская улыбка повисла на лице. Было что-то праздничное в утренней тишине, в свежести и внезапной свободе. Как будто все хорошо, и бабушка жива, и эту свободу он, наконец, заслужил.

Кораблик в бутылке, привезенный из Саутгемптона
Ох и дорого бы дал Андрей, чтобы кто-нибудь хотя бы раз посмотрел на него так, как смотрел сейчас Артёмка на простенький кораблик в бутылке, стоявший на полке среди других дешевых сувениров в магазинчике на автовокзале в Саутгемптоне.
Соревнование «кого Артёмка больше похвалит» началось ровно в том момент, как Андрей с Ксюшей решили развестись. Андрей, очень тяжело перенесший желание сына остаться с мамой, с тех пор из кожи вон лез, чтобы ребенку хотелось больше времени проводить с ним, чем с Ксюшей. Вот и в этот раз, узнав, что Артёмка с мамой на новогодние праздники едут в Египет, он решил, что летом отвезет сына не куда-нибудь, а в сам Его Величество Лондон.
Ни Ксюше, ни самому себе, конечно же, признаться в этом он не мог. «Официальная» версия выглядела так: Андрей, который очень любил Англию и все английское, решил наконец съездить в Лондон. Ну и почему бы не взять с собой сына? Сможет зато потом на уроках английского сказать, что был в той самой «зе кэпитал оф Грейт Бриттн». Но одного взгляда на программу, которую составил Андрей (гостиница у вокзала Паддингтон, студия съемок Гарри Поттера, музей мадам Тюссо с экспозициями по «Звездным войнам» и «Мстителям», самый большой в мире магазин игрушек, самый большой в мире магазин «Лего», самый большой в мире магазин «Дисней», спектакль «Алладин» в Вест-Энде и прочая, прочая, прочая… — программа буквально трещала от мест, попасть хотя бы в одно из которых было мечтой каждого ребенка. Куда там несчастной колонии со своим морем, рыбками, аквапарками, да пусть даже и пирамидами со сфинксами, точно уж не интересными маленькому ребенку, против величественной метрополии, было достаточно, чтобы рассеять любые сомнения, для кого на самом деле было это путешествие.
И даже поездка на день в Саутгемптон, который вряд ли можно встретить в списках “must see” для путешествующих по Великобритании с детьми, возникла по той же причине. Артёмка очень любил футбол, и Андрей пообещал сводить его на матч. Купить билеты на лондонские команды Премьер-лиги не получилось. Идти на команды рангом пониже не соответствовало величественности замысла. Сайты «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и прочих «Ливерпулей» тоже пестрели сплошными “soldout”… Все, что удалось — это достать два билета на игру скромного аутсайдера «Саутгемптона». Но Андрей этому даже обрадовался. Он представил себе поездку по Англии с плавными зелеными холмами за окном, изредка разбавленными строгими аристократическими поместьями. От самого названия Саутгемптон веяло доброй старой Англией. А его расположение на побережье обещало, как минимум, приятные прогулки по набережной, а может быть и покупаться удастся, а может даже и ощутить дух Генри Моргана, Джеймса Кука, капитана Флинта и прочих легендарных личностей, отплывавших из местного порта.
Даже день переезда из Лондона в Саутгемптон был образцом отдыха, максимально напичканного впечатлениями. С утра, наскоро позавтракав и оставив вещи на ресепшен, они отправились на вокзал, откуда поезд увез их в колыбель британской монархии — величественный Виндзор, из всех многочисленных достопримечательностей которого в тот день их интересовал только «Леголенд». Моросил небольшой дождик, но в этот день он оказался весьма кстати — его силы хватило, чтобы напугать большинство желающих посетить парк и заставить их остаться в этот день дома, избавив тем самым Андрея с Артёмкой от стояния в многочасовых очередях, которыми так пугали отзывы о «Леголенде» в интернете. Но чтобы испортить впечатления от аттракционов — дождик был слабоват.
Сперва Андрей еще тешил себя надеждой, что они смогут за день обойти весь парк. Но в конце концов он понял всю авантюрность этой затеи, и остаток дня они просто решили кататься на том, что понравилось больше всего. Сильнее же всего Артёмке понравились гигантские качели в форме пиратского корабля. Раз за разом взмывали они ввысь, замирали на долю секунды с остановившимися сердцем и дыханием, чтобы тут же ухнуть вниз через незаметные то ли из-за скорости, то ли из-за страха струйки дождя. К вечеру дождь усилился, желающих покататься стало меньше — и последние несколько раз им даже не приходилось выходить из кораблика, чтобы отстоять в очереди за новой порцией полетов.
Накатавшись до дрожащих ног и закрытия парка, они вернулись на поезде в Лондон, наскоро перекусили в Макдональдсе, забрали из гостиницы вещи и едва успели на автобус. В Саутгемптон прибыли уже за полночь, и из автобуса в такси, и из такси в номер Андрей переносил сомлевшего от впечатлений, дороги и позднего времени Артёмку уже на руках.
В первой половине следующего дня планировались прогулки по городу, а ближе к вечеру — футбол. Но Саутгемптон подкачал… В нем, практически полностью заново отстроенном после войны, как позже прочитал Андрей, не было практически ни капельки английского. Ни знаменитых домов красного кирпича с подъездами-квартирами, ни аристократических особняков с чопорными колоннами… На стоявших в порту яхтах уместно смотрелись бы какие-нибудь топ-менеджеры «Роснефти», а вот представить на них капитана Флинта — ну совсем никак не получалось… В такой атмосфере даже пабы выглядели, как обычные бары, а съеденные на обед фиш-энд-чипс на вкус оказались просто рыбой в кляре с картошкой фри…
Посмотрев все нехитрые достопримечательности, Андрей с Артёмкой решили вернуться в гостиницу отдохнуть перед футболом. Срезая путь, они обнаружили за респектабельными новостройками развалины какого-то здания, и Андрей предложил немного поиграть в войну. И следующие два часа они забрасывали друг друга гранатами, стреляли друг в друга из палок, подобранных под ближайшим деревом, и в зависимости от обстоятельств превращавшихся то в винтовки, то в пулеметы, а то и в тяжелую артиллерию, брали друг друга в плен, запирали в подвале и коварно из этого подвала сбегали… Приближавшееся время матча заставило одну из сторон искать перемирия, но Артёмка ни в какую не хотел уходить. Мирный договор удалось заключить только на условиях, что после футбола они пойдут домой той же дорогой и поиграют еще.
А на следующее утро они возвращались домой. Автобус в Лондон, поезд в аэропорт, самолет. Опасаясь, что потом может не хватить времени, Андрей решил в ожидании автобуса купить сувениры друзьям и родственникам. Они пошли в сувенирный магазин, где, среди бесчисленных копий «Титаников», магнитиков, красных телефонных будок и другой разнообразнейшей ерунды, стояли те самые невзрачные кораблики.
Увидев, как сын смотрит на них, Андрей наклонился и сказал:
— Ну если он тебе так нравится — давай купим?
— Ой, давай! Ты же знаешь, я всегда мечтал о кораблике в бутылке. Я его поставлю на полку, и когда буду на него смотреть, буду вспоминать эту нашу поездку, этот город (напишешь мне потом его название?), и как мы с тобой тут играли в войнушку.

Кривая дорога
Оксанка прыгала на одной ноге вокруг круглого стола, стараясь наступать только на золотистые полосы света, льющиеся из окон жаркой июньской веранды.
За столом, согнувшись над плотным белым листом ватмана, сидел темноволосый молодой человек в очках. Редкие юношеские усики неуверенно пробивались над его верхней губой. Он держал в руке перо и медленно выводил тушью на листе ватмана четкие линии.
— Вадик, а что ты рисуешь? — Оксанке не хотелось отвлекать брата, но очень не терпелось. — Это что, карта?
— Это моя курсовая, не мешай.
— А мы гулять пойдем? А на речку пойдем? А мы сыграем с тобой в Алибабу? — Оксанку щекотало счастье.
— Я сказал тебе, не мешай. — Брат недовольно сдвинул брови.
Девочка повисла на столе. «Вот дом, и вот дом. А это что за кривая дорога?» — ткнула пальцем в длинную неровную линию. Задела неловким движением бутылочку с тушью, та опрокинулась, и большое блестящее пятно расплылось по бумаге, побежало извилистыми черными реками.
— Ой…
Брат вскочил, больно схватил Оксанку за руки и потащил ее к входной двери.
— Ты что наделала! Я же тебе говорил, не мешай!
Он вытащил Оксанку на крыльцо.
— Иди отсюда, иди на дорогу играй.
Гулко и зло хлопнула дверь. Оксанка сумела не заплакать, растерла кулаком обидную мокрую влагу возле глаз, вышла за калитку и пошла по улице, протянувшейся между садовыми участками.
Там, где заканчивались двухэтажные деревянные домики, начиналось поле. Над медовым разнотравьем куполом раскинулось бесконечное небо. Куда-то вдаль уходила притаившаяся в высокой траве дорога. Ходить сюда без взрослых Оксанке пока не разрешали. Вернуться назад? Но злой червячок обиды на старшего брата шептал Оксанке прямо в ухо — потеряйся, исчезни, пусть они испугаются и тебя поищут.
К тому же на поле, размахивая игрушечными автоматами, бегали мальчишки. У большой песчаной ямы развевался на палке потрёпанный флаг, похожий на носовой платок великана. Оксанка остановилась и стала наблюдать. Эти мальчишки были старше Оксанки на год или на два и никогда не брали ее в свои игры.
Один из них крикнул Оксанке: «Эй, а ты что здесь делаешь? Не видишь, у нас тут война. Уходи отсюда!» Другой мальчишка, Юрка — его Оксанка хорошо знала — посмотрел на девочку сверху вниз, по-взрослому почесал подбородок и вдруг сказал: «О, идея! Нам же немец нужен! Будешь играть с нами!» Юркина голова была перевязана свернутой в жгут тряпкой, как у раненого, но не потерявшего отваги бойца. Стянув повязку с головы, Юрка затянул узел на Оксанкиных запястьях.
— Ребя, я немца поймал!
— В плен ее, ура! — обрадовались ребята.
Юрка подвел Оксанку к краю песчаной ямы — давай туда. Оксанка, зажмурившись, съехала по песку на сухое скрипучее дно.
— Признавайся, где немецкий штаб? Какое у вас вооружение? Хенде хох! Гитлер капут! — Мальчишки дурачились на краю песчаной ямы, на желтый сарафан осыпался песок.
— А пытать мы ее будем? — спросил один из них и бросил сверху на Оксанку пучок травы.
— Посидит здесь без воды и еды два дня, — сказал Юрка важно, — сама расколется.
Они постояли еще пару минут у края ямы и вдруг заскучали.
— А мне отец из города змея привез! — сказал один мальчик. — Давайте сгоняем за ним и запустим!
И они убежали.
— Я тоже хочу змея запускать! — закричала Оксанка.
Но ей не ответили, голоса ребят быстро стихли, и Оксанка осталась одна. Она попыталась освободиться от тряпки, которой ей связал руки Юрка. Узел был затянут по-мальчишески крепко. Тряпка терла запястья, на руках образовалась белая полоса. Оксанка попыталась развязать узел зубами, ткань оставляла во рту противный соленый привкус. Наконец, тряпка поддалась и серой мертвой змеей упала на песок под ногами.
Оксанка стала выбираться из ямы. Края ямы были выше Оксанкиного роста, и стоило ей продвинуться вверх на несколько сантиметров, как песок под новыми красными сандаликами осыпался, и она снова сползала вниз. Она попыталась цепляться за тонкие корни, но они, не выдерживая даже небольшого Оксанкиного веса, обрывались, не желая служить опорой.
«Ладно, — подумала девочка. — Сейчас они вернутся и вытащат меня».
Она уселась на дно ямы и стала ждать, уставившись в яркое воздушное озеро над головой. Смотрела, как проплывающие в этом озере облака меняют свои очертания, превращаясь в сказочных существ из ее снов — вот дракон, вот говорящий слон, а это ангел с бабушкиной открытки.
Синее июньское небо потихоньку меняло свой цвет. Вначале из лазурного оно стало белесым, затем потемнело, приобретя свинцово-лиловый оттенок. Когда на Оксанкино голое плечо упали первые капли дождя, она снова стала пытаться выбраться из плена.
Вадик закончил чертить, убрал инструмент и вышел за калитку. Над садоводством повисли серые перины туч, на дороге было пусто и тихо.
С неба упала тяжелая мокрая капля.
На соседнем участке пятеро мальчишек сидели в штабе, сколоченном из старых досок. Один из них забрался с ногами на стол.
— Эй, пацаны, вы не видели девочку? Маленькую такую, в желтом сарафане?
Мальчишка на столе обернулся: «Не, мы с девчонками не играем!» — спрыгнул на землю и заговорщицки шепнул своим товарищам:
— Ребя, мы же про пленного немца забыли!
— Да выбралась она уже, дура она, что ли, так долго в яме сидеть?
— А может и дура, она же девчонка.
«Дяденька, дяденька!» — закричал Юрка. Но Вадика у ворот уже не было.
Поднялся ветер, и вдруг резко, как по приказу полкового командира, по листьям деревьев, по гравию на дороге забарабанил теплый дождь. Дождь заливал Вадику очки, скользкими змейками затекал за шиворот, мочил волосы. Вадик выскочил в поле, увидел мальчишеский флаг на палке — мокрый и глупый.
«Оксана!» — кричал Вадик. В поле никого не было. Юноша повернулся и кинулся назад в садоводство. В ушах белым шумом гудела одна мысль — потерялась. Стало почти темно, в окнах садовых домиков там и тут загорались огни. Над деревьями коротко сверкнуло лезвие молнии, и через секунду небо загрохотало, загремело, заполняя мир до самого горизонта запахом электричества.
Вот улица, еще одна, может, стоит вернуться? В очередной раз выкрикнув имя сестры, Вадик споткнулся, очки в дешевой оправе соскочили с носа, упали под ноги. Юноша наклонился, вытер стекла о рубашку. По дороге навстречу ему бежал мальчик. Вода стекала по тонким светлым волосам. «Дяденька, я знаю где она! Мы посадили ее в яму».
Ветер на поле трепал синий от влаги флаг. Дождь почти стих, и птицы, радуясь, что гроза миновала, пели ясными высокими голосами. Похожий на туриста мужчина шел по кривой дороге сквозь высокую траву в сторону автобусной остановки. За руку он держал маленькую девочку в желтом сарафане.

Кумир
В этот особенный вечер мы с Настей смотрели на улицу из окна кафе сквозь яркие лампочки гирлянд, как будто по ту сторону телевизора. Улица была оживленная: повсюду сновали люди, то и дело натыкаясь друг на друга и решая, кому из них пропустить другого. Восточный мужчина с огромным рекламным плакатом на груди и пачкой листовок в руках зычным голосом приглашал ознакомиться с ассортиментом цветов в ближайшем магазине. Рядом с ним прогуливалась туда-сюда хмурая женщина с огромной колонкой, из которой сообщалось о выгодных скидках на консультации в юридической фирме.
Настя лениво потягивала кофе, поглядывая на суету за окном, но моя чашка была почти нетронута, и я то и дело оборачивалась на дверь, когда звонил (или не звонил) входной колокольчик. Настю явно забавляло мое поведение, она с улыбкой наблюдала за мной, и когда я в очередной раз дернулась на звон, сказала:
— Да не волнуйся так, она придет. Сама знаешь, у нее ребенок, вот и задержалась. Да и вообще она всегда опаздывает, — добавила она куда-то в сторону, — и пей уже свой шоколад, ты уже месяц как хотела его здесь попробовать.
Я рассеянно взяла в руки чашку, горячий шоколад остыл, но разве можно думать о шоколаде, когда предстоит едва ли не самая важная встреча за весь год.
— Настя, ты не понимаешь, это же Ника. Я и представить себя не могла, что буду вот так сидеть с ней в кафе и болтать о пустяках. Ты видишь ее куда чаще и знаешь куда ближе, и не можешь понять, как тебе повезло.
Настя поджала губы, скрывая улыбку, и набрала воздух, чтобы сказать что-то, как мне показалось, назидательное, но тут опять зазвонил колокольчик. Я почти машинально обернулась и в этот раз не зря. Конечно, это была Ника. Она влетела вместе с морозным воздухом с улицы, как будто сама была этим самым ветерком.
Ника была идеальна абсолютно во всем. Она жила той жизнью, какую я всегда желала, но какой никогда не достигну. У нее был идеальный муж — высокий смуглый красавец, который дарил мои любимые цветы и готовил сырники по утрам. У них был замечательный ребенок, который одновременно смешил и ставил в тупик своими вопросами, обожал кататься на самых быстрых и страшных аттракционах и трогательно целовал маму в нос перед сном. Ника обладала отменным чувством стиля, ее гардероб был безупречен, я пыталась копировать ее стиль, но не могла угнаться за переменами ее настроения: то она появлялась в образе роковой красотки с красными помадой и маникюром, в короткой кожаной юбке и длинных сапогах, демонстрируя тонкую талию и округлые бедра, но не успевала я выйти из салона, любуясь красными ногтями, как она уже выкладывала сториз в уютном костюме и шерстяных носках, свернувшись на диване с чашкой чая и идеальным пушистым шпицем по кличке Нарцисс. И я срывалась в магазин за точно такими же толстовкой и пледом. Даже в своих проблемах Ника была идеальна: решала их легко и непринужденно, как будто смахивала пылинки, а не лечила весь день ребенка с высокой температурой.
Я одновременно с завистью и удовольствием следила за ее жизнью в Инстаграме с утра до вечера, а Ника охотно делилась всем, что с ней происходит. У нее было все, я же довольствовалась съемной квартиркой, очень узким кругом близких друзей и скучной личной жизнью в полном одиночестве.
Тем временем Ника подлетела к нашему столику и чересчур крепко обняла Настю. Они о чем-то щебетали, вернее, говорила одна Ника, а Настя только кивала и улыбалась своей полунасмешливой улыбкой. Я завороженно наблюдала, как Ника то и дело вскидывает руки, рассказывая о чем-то, а ее рыжие локоны с идеально небрежной укладкой подпрыгивают в такт. На секунду мне показалось, что ее нос и фигура были крупнее, чем по другую стороны камеры, а помада немного смазалась, но в это время Настя назвала мое имя.
— Моя подруга, кстати, твоя большая поклонница, — сказала Настя, подмигивая мне. Мои щеки заалели.
— Ой как здорово, я так рада знакомству, — щебетала Ника, поглядывая в зеркальце и поправляя локоны, — подписчики часто ко мне подходят, ужасно трогательно, как мой блог важен для них. Кстати, можем сфоткаться, если хочешь.
Я не успела ответить что-то вразумительное, как она уже открыла камеру на телефоне, и мы сделали несколько кадров. В процессе Ника умудрилась руководить нашими движениями, сообщить, что здесь готовят ее любимый кофе и похвастаться новой сумочкой, и второй такой же, которую она собиралась разыграть среди подписчиков.
— Кстати, ты тоже можешь выиграть, вот будет здорово, — обратилась она ко мне, выкладывая новую фотографию.
У меня кружилась голова от ее энергии. Ника перескакивала с одной темы на другую, не умолкая. Говорила она в основном о себе, но ее обаяние настолько покорило меня, что я готова была снова и снова слушать ее истории.
— Как Мироша, как его успехи с английским? — удалось вставить Насте, которая часто занималась с ее сыном.
Ника неопределенно махнула рукой.
— Да малыш чудо какой способный, все схватывает на лету. — Настя поджала губы, а я вспомнила, как она рассказывала, что язык Мирону дается плохо.
— Он остался дома с папой. Олег только из командировки вернулся, столько игрушек ему привез. Жаль, что завтра опять улетает. А я сегодня вся в делах: фотосессия для контента, шопинг, встреча с вами.
— Как жаль, что тебе не удалось перенести дела и провести этот вечер с ними, — вырвалось у меня.
Ника замолчала и посмотрела на меня, широко распахнув глаза с густыми длинными ресницами. Именно этот ее взгляд почему-то запомнился мне наиболее ярко в нашем коротком знакомстве.
— Да-да, мы и правда последнее время редко видимся… — неуверенно проговорила она, но, спохватившись, продолжила своим мелодичным голосом: — Он вернется всего-то через неделю, обязательно что-нибудь устроим.
Через пару часов Ника вспомнила, что обещала заскочить к своей старой знакомой, тоже известной в Инстаграме и, расцеловав нас, упорхнула за новым контентом. Как только закрылась дверь, мне ужасно захотелось прилечь и выключить все звуки вокруг. Настя внимательно смотрела на меня.
— Ну как? — спросила она.
— Как цунами, — медленно ответила я.
Настя кивнула:
— И так каждый раз, когда я прихожу к ним заниматься. Конечно, если они с мужем не орут друг на друга так, что невозможно сосредоточиться. А если ее не слышно и не видно, значит, она лежит с мигренью, что бывает каждые пару месяцев по несколько дней подряд. Понимаешь, к чему я?
— Да, пожалуй, я отпишусь от нее. А как зовут ее подругу, к которой она уехала? Ника сказала, она тоже известный блогер, значит, должна быть у нее в подписках…
Настя закатила глаза и глубоко вздохнула, но я этого уже не видела, потому что погрузилась в новый поиск.

Любовь по-турецки. Этюд в феврале
Наконец-то наледь на крыльях сбили. Долго прыскали на крылья какой-то ядовитой жидкостью. Это от нее, наверно, такой резкий и горький привкус в горле? Но входной люк же задраили? Странно.
Пилоты в кабине тихо переговариваются и пьют кофе, пассажиры терпеливо ждут.
За окном минус восемь. Оглушенная сном и холодом Москва вмерзает в ночь, как камень в придорожную снежную грязь.
Взлетаем. Самолет натужно вытягивает вверх, а снизу, из черноты, снова и снова прорывается свет бесконечных холодных огней и своим ледяным острием ранит глаза до слез.
На самом деле все отлично складывается. Просто мне нужно улететь из города. Командировка. Следующую неделю проведу в Турции. И вернусь. Только в другую квартиру. Вещи я перевез, деньги оставил на холодильнике. Ты уже дома, ты все поняла, и ты не звонишь.
Уже в воздухе успеваю быстро набрать коллегу, подтверждаю время завтрашней встречи в Анталии. И выключаю телефон совсем, ждать больше нечего. Потом осматриваюсь.
На соседнем сиденье расположился моложавый турок пенсионного возраста: по-детски светлые голубые глаза, обожженные солнцем морщины ровно лежат на лице в молчаливом согласии со списком законченных дел и прожитых дней. Седые кудри на голове, довольно редкие. Костюм серый, осенний какой-то.
— Бритиш? — спрашивает он меня, услышав английский. Но по-английски он не говорит, похоже. А я по-турецки. Ладно, беседуем дальше.
— Трудни! — объясняет он про свой русский язык. Значит, никак нам не договориться. Странный тип. Как же он по миру движется, вроде не в деревне у себя сидит, а сказать не может ничего?
— А живешь-то ты где? — спрашиваю я его для поддержания разговора. — Живешь где, Мехмет? Стамбул? — Я тычу в него пальцем.
— Маит! Так Анталия, так Алания, так Маит. — Он взмахивает ладонями три раза — и я понимаю. Курортная зона, значит.
— А что в Москве? Зачем приехал? — от нечего делать допытываюсь я. И в самом деле — ни по-русски, ни по-английски он ни слова. В мозгу рисуется картинка, где турок и какой-то старый друг (азербайджанец?) сидят за столом, скупо, по-мужски улыбаются друг другу, бутылка водки в руке, стаканы.
— Друг, — соглашается он. — Друг: жен-cи-на.
И все становится на свои места. Вот она — сила жеста в межполовом общении: там, где есть мужчина и женщина, там слов не надо. Ничего не надо, когда любовь.
В руках у него появляется записная книжка. Каждое слово аккуратно обведено не меньше двух раз. Разноцветными ручками. Старается. Губы шевелятся, когда он водит по словарю негнущимся, задубевшим от работы пальцем, которому больше пристало ковыряться в брюхе трактора или приглаживать саженцы в помидорном парнике. Там, где жарит солнце.
Я отвлекаюсь. Принесли поднос с едой: гречневая каша с мясом. Прошу стюардессу налить красного вина. Спасибо, девушка! И еще раз, пожалуйста! А когда перестаю выковыривать возрастную говядину из гречи, замечаю его руку: Мехмет аккуратно покромсал свое единственное яблоко и протягивает одну дольку мне и еще одну — девушке на соседнем сиденье.
И я опять задумываюсь про него и про женщину, которая дала ему это вот самое яблоко. Про женщину где-то в Москве, которая принимала его, странствующего бедуина любви, однажды засмотревшегося на турецкое солнце через белокурые поблекшие ее локоны. А может, она молодая? Да нет, нет у него на руках перстней с бриллиантами, да и не пойдет такой к молодой.
Я лениво думаю: ну зачем это им? Они же старые. И как они общаются вообще? Секса тоже, наверное, нет уже. Ни поговорить, ни трахнуться. Вот и вся любовь.
Но вот он постучал, она быстро подошла и открыла дверь где-то в своей квартире, где-то там, в покрытом обледенелой коркой городе. Обняла, целует его морщины. Он покряхтел, а сказать-то не может ничего. А ведь, наверное, тоже — скучал. Наверное, хочет сказать, как без нее пусто стало жить. Невмоготу, так что даже в холодную Москву поедешь! Может, хочет сказать, как любит. Не волнуйся, Мехмет — она и так знает! Женщины они такие. Все знают: хочешь верь, хочешь не верь.
Ты же ведь знаешь. Но почему ты так мучаешь меня? Что тебе в моей боли, и почему тебе всегда так мало моей любви, которая больше, чем сама жизнь моя?
Пора, однако: мы идем на посадку. Я встаю и медленно продвигаюсь к выходу, но потом поворачиваюсь к нему и улыбаюсь: до свидания, Мехмет! До свидания, дорогой, привет Амуру, что же он так с нами шутит, старик?!
Он поднимает глаза на меня, и губы его шевелятся.
— Ря-ни-те-бя-бо! — Ласково кивает мне на прощание.
Я застываю и разворачиваюсь к нему головой, потом всем телом — что это? О чем это он? Заговорил еще на одном языке, которого не знает? Решил обратиться ко мне на норвежском? Рагнарек какой-то — проносится у меня в голове, чур меня…
— Ря-ни-те-бя-бо! — Он продолжает кивать. И тоже улыбается.
— Храни тебя Бог! — подсказывает чей-то участливый голос с заднего сиденья.
Я молчу. Вот оно как. Больно. Дышу. Значит, Богу все же есть дело до меня?
Я внимательно гляжу в его голубые, почти детские глаза и медленно киваю в ответ и ему, и Богу, и всему большому миру разом:
— Спасибо! Спасибо, отец! И тебя!..
А потом семеню по коридору на выход: сзади уже напирают нетерпеливые соотечественники.

Люди из «России»
Семейство Бляхеров поселилось в доме по улице Бассейной сразу после строительства, вложившись в кооператив «Россия». По всему, начиная с фамилии, это были выдающиеся люди.
Для двухкомнатной квартиры Бляхеров было многовато — четыре взрослых человека разговаривали громко и одновременно. Бляхеры не шумели, они шумно жили: в квартире на четвертом этаже постоянно что-то гремело и бряцало. По вторникам, четвергам и субботам весь этот гвалт смолкал. В эти дни старшая дочь Ася репетировала дома. За это соседи прозвали Бляхеров «фортепиано с оркестром». Про жизнь этих людей было известно абсолютно все, потому что скрывать им был нечего.
Мамаша Берта Бляхер перевезла в новую квартиру проигрыватель, запах папирос и дух своей прежней коммунальной жизни. Деление на частное и общественное для нее было условностью. Она не стеснялась подняться к соседям в одном бюстгальтере и комбинации, чтобы, например, одолжить спичек. Учительница Полякова из квартиры напротив розовую комбинацию видела чаще других. Берта считала ее подругой, поэтому без приглашения появлялась у нее в дверях, рассказывая с середины какую-нибудь историю про далеких знакомых. Она всегда приносила с собой шоколад, который в доме Бляхеров не переводился. Берта работала в районной поликлинике, и набор «Ассорти» она в шутку называла конфеты «Медицинские».
По утрам она могла одновременно говорить по телефону и диктовать уходящему мужу список покупок куда-то в пролет лестницы. Это было неспроста: Михаил Аронович Бляхер был чудовищно рассеян. На заседание кооператива он прибегал в двух шарфах: один был намотан на шею, другой торчал из рукава.
Кроме того, Бляхер-старший очень любил общаться, но не очень это умел. Встречая соседа, он обязательно делился своими тревогами. А тревожился Михаил Аронович почти постоянно: новости по телевизору, кассирша-грубиянка, аномально теплая зима — все это он стремился обсудить. Разговор, точнее, монолог, занимал минут двадцать. Избежать или ускорить его было невозможно — Михаил Аронович придерживал собеседника за пуговицу на рукаве или за лямку рюкзака и, не поднимая глаз, погружался в размышление.
Случалось, что Бляхер-старший спешил на автобус и прошмыгивал мимо, не здороваясь и, скорее всего, даже не замечая соседей. Никто не обижался. Напротив, жители третьего подъезда по-соседски заносили то потерянные очки, то оброненные перчатки. Все знали, что Бляхеры не запирают дверь, поэтому находки оставляли в прихожей, где иногда их встречал сам Михаил Аронович и рассказывал последние тревожные новости.
И все же самым любопытным членом семьи был их сын — Алик Бляхер.
Алика в доме знали все, но никто не мог сказать, сколько ему лет и где он учится. Найти его можно было либо во дворе, либо в маленькой комнате в глубине родительской квартиры. В центре комнаты на паркете стоял раскладной туристический стол, покрытый газетой. На нем высилась пыльная кучка винтиков, два мутных объектива, десятки черных цилиндров для пленки и сама пленка, которая рыжими кудрями свисала с зеленого стола. Швейными булавками к обоям были пришпилены фотографии разнообразных закатов и собак, еще был мутный куст сирени и черно-белый портрет бывшей одноклассницы. На полу стопками лежали напечатанные снимки, а также учебники по фотографии и оптике. Летом стол затягивало пушистой пылью, как и все в комнате Алика. Сюда он возвращался только поспать, о чем говорила дорожка от двери до тахты, протоптанная между книгами. Берта никогда не заходила в эту комнату. Она, как и положено, обожала сына, но это выражалось не в чрезмерной опеке, а в уважении. Когда Алик, нагулявшись, возвращался утром домой, она делала радио потише и шла к соседке. «Ребенок спит», — поясняла она в дверях шепотом. Берта никогда не ругала сына, хотя жалобы на Алика поступали регулярно.
Он был страшно вспыльчив и поэтому драчлив. Как-то во дворе его вытащили из очередной потасовки — обидчик якобы назвал Бляхера жидомасоном. «Кто такие масоны, не знаю, поэтому ногами не бил», — объяснялся тогда Алик. Его маленькая фигура торпедировала любые скопления людей — от драки до первомайской демонстрации. Он вообще легко начинал дела, для которых органически не подходил. И никогда не добивался в них успеха.
Однажды ему понадобилось повесить подарочный кортик. У соседа он осведомился, как это лучше сделать. Тот объяснил, что в хрупкой гипсолитовой стенке нужно просверлить дырочку, вставить деревянный чопик, а в него забить гвоздь.
Весь день по дому раздавались глухие удары молотка. Этому никто не удивился — обычное дело. Вечером Алик пришел к соседу со словами: «У меня встали часы. Посмотри». Вместо чопика в стену был вогнан толстый брусок от детского конструктора, а в него — громадный гвоздь для кровельных работ. Гвоздь был настолько длинным, что пробил хилую стенку и вошел в механизм часов, висевших в соседней комнате. Свой кортик на гвоздь Алик все-таки повесил: «Для баланса».
Семейство Бляхеров уехало в Израиль в начале 1990-х. Короткие новости об этих людях сводились к тому, что Алик сидит без работы. Устроившись продавцом в тихий магазин фототоваров, он умудрился подраться с покупателем. Его сестре с работой тоже не очень везло. Впрочем, относительно трудоустройства на новой родине Ася философски замечала: «Я — музыкальный работник. Слава богу, все остальные в семье не стоматологи, а то что бы мы там делали, в этом Израиле».
После отъезда Бляхеров жизнь кооператива «Россия» стала тише и скучнее. Никто больше не угощал шоколадом, не рассказывал новостей и не давал советов на все случаи жизни. Никто больше не дрался во дворе. Музыки тоже было не слышно.
В квартире Бляхеров поселилась Тамара Ильинична, суетливая немолодая сплетница. Она уведомила о своем переезде всех соседей и начала шумный раздражающий ремонт. Фанерную входную дверь, которую поставили еще при строительстве, заменила железная. Жители третьего подъезда были недовольны — на лестнице два или три месяца стояла пыль. Около бывшей квартиры Бляхеров громоздился строительный мусор: паркетные доски, куски обоев и старые неисправные часы с пробитым механизмом.

Марина
Дождь прекратился поздно вечером. Плотно стоящие дома по обе стороны улицы нависли тёмной стеной, закрывая редких прохожих от порывов мокрого ветра.
Майор Коробов вышел из местного пункта полиции, где много лет прослужил участковым, и направился в сторону своего дома. Шёл не спеша — дома его никто не ждал: ни жена, ни кошка, никакая другая живая душа, так уж сложилось. Шёл, как видавший виды корабль в океане, по внутреннему компасу, бороздя родные с детства улицы, мешая влажный воздух с табачным дымом и ковыряясь в прожитой жизни.
Удивился, что не заметил прихода осени. Понял, что не хотел замечать. Потому что хоть жмурься или слепым прикидывайся, а шестьдесят стукнуло, Николай Михайлович, получите и распишитесь. И пускай на службе ты как рыба в воде, и в двадцати трёх домах своего участка с каждым гражданином знаком, по повадкам определяешь, с кем выпить можно, а с кем только «побеседовать» при свидетелях, а все одно — выкинут через неделю на пенсию, торжественно и с почетом, после тридцати пяти лет безупречной службы, всучив подарок на прощание — супер-удочку «для лучшей рыбалки в твоей жизни, Михалыч». Вчера доложили, обрадовали заранее — зачем старика сюрпризами волновать. И неважно, что «старик» этот фору любому даст и ещё не один год послужить готов, а все равно за спиной возраст перетирают: сколько можно стриптизить и дай дорогу молодым.
Майор прибавил шагу — дождь снова накрапывал — подумал, что рыбалку никогда не любил, а ляпнул просто так, чтобы отстали. Надо было про пасеку врать, может, улей с пчёлами подогнали бы, в деревне всё пригодится. А куда деваться на пенсии? Только в деревню — пчёл разводить.
Майор вспомнил себя совсем молодым и полным сил в центральном парке, где прогуливал школу и ходил на свидания с будущей женой; у булочной на углу, радующей по утрам запахом свежеиспеченного хлеба; под светом уличных фонарей, горевших чуть ярче, когда, усталый, возвращался домой после службы, и понял, что не представляет, как променять родные стены на деревенскую жизнь.
Дома в городе стояли так плотно, что опирались друг на друга натруженными каменными боками не один десяток лет. Время от времени их укрывали реставрационные леса, и по ним лениво ползали маляры и штукатуры, заделывая трещины и раны городских долгожителей. Но свежевыкрашенные какой-нибудь зелёной или темно-розовой краской они не молодели, а становились похожими на выживших из ума бабушек, густо замазанных тональным кремом и нацепивших яркие бусы на свои морщинистые шеи. Счастливые владельцы квартир радостно тратились на дорогие ремонты, но, покидая свои чистые послеоперационные коробки, сбегали по стоптанным ступеням лестниц в поношенные подъезды. Внутренностям этих зданий не мог помочь ни один хирург, а смерть одного спущенной петлей потянула бы исчезновение соседних. Поэтому их латали, склеивали и лечили, надеясь на совесть рабочих и мастерство строителей.
Справа по улице в глубине подвального окна пятиэтажного дома вспыхнуло светлое пятно и исчезло.
Михалыч остановился. Дом «подопечный», 33-й номер. Вчера только замок «с секретом» на подвал вешал.
Сердце сжалось, как птенец перед полетом, стало холодно, и небо, как назло, затянулось тучами. В темноте и сырости вспомнился фонарик, оставленный на рабочем столе, а свет в этом подвале месяц как не работает — строители одно лечат, другое ломают. Если патрульных вызвать, и никого не найдут, то «снова Анискин разбушевался» — завтра во всех сплетнях родного участка.
Майор заскользил по липкой земле к подвальному окну, присел, складываясь вчетверо, — рост метр девяносто не в помощь — и вгляделся в темноту за стеклом.
Не заметив ничего подозрительного, решил, что поймал свет проезжающей машины, и чтобы в подвал попасть с другой стороны дома, надо полквартала обойти, поэтому чёрт с ними, с бомжами, завтра проверю.
Он поднялся и взял курс к своему дому.
Рано утром выходя из ведомственной поликлиники, Михалыч достал сигарету, — кровушку сдал, терапевта навестил, можно начинать жить.
Завертелась входная карусель, привезла белый халат.
— Николай Михайлович! — замахала бумажкой молодая симпатичная медсестра, стройно цокая каблучками. — Вы направление забыли! Нина Ивановна ругалась.
Михалыч зажал сигарету в кулаке и виновато закивал:
— Приду-приду! Спасибо от меня передайте доктору!
— Передам. И что курите, тоже передам!
Она погрозила ему пальцем, улыбаясь янтарными глазами, и уехала на карусели.
Майор подождал, пока двери перестанут вертеться, закурил.
В груди отозвалось давнее, больное: Михалыч представил, что дочка его такой же выросла, с глазами-огоньками, а может, еще лучше, если бы в Машку пошла. Сколько лет прошло? Двадцать?
Двадцать пять.
Горло перехватили воспоминания, как нашёл жену после дежурства в больнице без детской реанимации с чужим лицом на сырых простынях, немую от горя и уже без живота — и закашлялся.
Звонок мобильного повис спасательной веревкой — Денисов, смена молодая, в затылок икающая, снова просить чего будет. Без году неделя участковый, а сам вечно на больничном.
— Михалыч! Где тебя носит?
— Анализы сдавал, — нехотя отчитался майор, отстраняясь от телефона: в нем что-то грохнуло, а надрывный детский плач обозначил семейное утро молодого участкового.
Майор поморщился, а Денисов загундосил:
— Выручай, Михалыч! Я отгул взял, а в отчетах по вчерашнему на Лесной — наш косяк. Завтра буду, чесслово!
Молодёжь нынче шустрая — серчал без злобы майор, двигаясь в сторону УПП, — и работают, и учатся, и детей рожают. Начальниками «на раз» становятся. Раньше пока ботинки не стопчешь — премию не получишь, а сейчас у всех Турции-Шмурции, дачи, а ты за свои четыре стены плесенью держишься. Правильно, что Машка ушла — неперспективный, откуда ни смотри.
К обеду майор все бумажное выправил, комар носу не подточит. Решил было отдохнуть и пройтись, да гражданка из 14-го залетела и с порога начала, что сосед сверху рубит ей дыру в потолке, а у неё давление, скорая вчера приезжала. Накатала третье заявление за месяц и ушла. Значит, вечером с ответным прискачет «козёл с верхнего этажа». Денисов говорит, что это у них ролевые игры такие, мол, пенсионеры развлекаются. Вот пусть завтра сам и разбирается, психиатр хренов.
Может, и хорошо, что пенсия. Рыбалка — верное дело. Воздух, экология.
Снова Денисов звонит. И что ему не гуляется?
— Михалыч, тебе уже доложили?
— А должны были? Ты ж теперь участковый, — нахмурился майор, прислушиваясь к сердцу: съёжилось, как вчера.
— В 33-м труп в подвале. ППСники на месте. Свидетели даже есть. Сходи, Михалыч, ты всех знаешь.
— Наши или залётные? Мрут как мухи. Я третий замок за месяц…
— Не, Михалыч, там не бомжи. Ребёнок.
Майор аккуратно выключил телефон. Сердце разжалось и ухнуло вниз.
— Мари-и-на!
Марина остановилась на красный свет светофора и оглянулась.
Кому кричат? Голос незнакомый. Нет, точно не мне.
Дождалась зелёного и вместе с остальными пешеходами перебежала улицу.
Самостоятельной Марина стала давно. Как только мама заболела, так сразу и повзрослела. Во втором классе, когда маме назначали процедуры в больнице, ей приходилось возвращаться домой из школы одной. Путь близкий, и улица тихая — с одним маленьким переходом. Марина и обеды научилась в микроволновке разогревать, и посуду за собой мыть. Даже свои длинные косы наловчилась заплетать ровно и аккуратно. В любом деле главное — захотеть, и тогда все получится. Не паникуй, матрос, говорила мама, держи парус по ветру и слушайся капитана. За капитана у них в семье мама — папу Марина плохо помнила, а ещё раньше главной дома была бабушка.
Дорога занимала минут пять, но если постоять у витрины цветочного магазина и поразглядывать удивительные фиолетовые цветы, то и в десять не уложишься. Марина зазевалась и почти провалилась в лужу.
Это же не лужа, а целое море! Как будто на асфальт вылили бочку акварельных красок. Там плавали и синее небо, и облака, похожие на осенние цветы из-за солнечного света, и кирпичное здание с острыми башенками. В луже даже купались птицы, низко пролетающие над улицей!
Солнце вынырнуло на секунду, увидело свое отражение и снова спряталось за облачный цветок, а на горизонте настоящего неба появились тёмные грозовые тучи. Марина поспешила домой.
Мимо ларька с булочками, откуда запахом ванили дразнились румяные слойки, она пробежала, не повернув головы. Сейчас налево, потом пройти два дома и…
Ох! Опять он!
Марина вжалась в тень на стене.
На лавочке недалеко от ее подъезда сидели два человека. Один из них, толстый и лысый, в грязных штанах и кедах без шнурков, громко доказывал что-то другому — седому лохматому старику с бородой и острыми коленками.
Седого Марина видела еще вчера. Он лопал булку, запивая чем-то из бутылки, а заметив Марину, вытаращил свои огромные глаза и выронил хлеб. Потом протянул к ней трясущуюся руку и захрипел.
Зачем они здесь сидят? Им негде жить? Мама объяснила как-то, что бомжи — это люди, которым не повезло в жизни, но сейчас Марина этому не верила — слишком они страшные и неприятные.
Стараясь не смотреть на лавочку, она быстро добежала до двери и нырнула в свой подъезд.
Не заметили! Скорее бы оказаться дома!
Марина хотела проехаться на лифте, но потом передумала — лучше пешком, потому что лифт может остановиться или вовсе не поехать. Старый у них дом, ничего не поделаешь.
Она вздохнула: лестничные пролёты долгие, длинные. На широких ступенях уместилась бы целая лошадь. Она представила себя верхом на лошадке и прыснула: вот бы каждый день так подниматься по лестнице на свой третий этаж!
Где-то хлопнула дверь: сквозняки хозяйничают? Иногда Марине казалось, что квартирные двери наблюдают за ней своими дверными глазками. А те, у которых их нет, подслушивают через замочные скважины. С одной развалюшной дверью она даже здоровалась — за ней никто не жил, и Марине было её жалко.
На втором этаже встретилась баба Нюта, соседка и «ровесница дома», как шутила мама. В теплую погоду она выползала из своей квартиры «за хлебом» в длинном платье с кружевом по нижней юбке, опираясь на трость с блестящим набалдашником в форме бульдожьей головы, которая выглядывала из-под скрюченных пальцев хозяйки и просилась на волю. Если старушка не пользовалась лифтом «для моциону», то полдня спускалась по лестнице, а потом столько же времени поднималась к себе на второй этаж.
Дома Марину удивил яркий свет по всей квартире. Она вспомнила, что сегодня приезжают гости — туристы — и останутся на несколько дней.
Марина задержалась в коридоре — мама что-то объясняла по телефону — помахала ей рукой и спряталась в своей комнате.
Гроза напугала темно-лиловыми тучами и огненными стрелами. Марине не мешал дождь, она прислушивалась к стуку компьютерных клавиш в маминой комнате. «У меня скучно-интересная работа», — жаловалась мама после таких бессонных ночей, зато работала дома и ездила в своё «Бюро технического перевода» лишь «в случае крайней необходимости».
Марина почти уснула. Под осторожными шагами несколько раз недовольно скрипнул паркет в коридоре, осторожно открылась дверь, и вошла мама. Первым делом распахнула форточку, впустила свежий воздух, звуки ночного города, и присела на краешек Марининой кровати.
— Гроза была, как весной, помнишь, Мариша? Когда на каруселях катались и спрятаться не успели. Забежали под козырёк кафешки. Молнии во все небо! Зато мороженого наелись.
Марина улыбалась.
Мама забралась с ногами на кровать. На фоне стены бледные пятна лица и рук двигались отдельно от её худенького тела. «Как две сестренки!» — восторженно говорили им знакомые, после чего мама долго ходила хмурая.
— Не обижайся на меня, Мариша, что я комнату сдаю, ладно? Завтра ещё книг тебе куплю. Хочешь о лошадях? Я видела в новом магазине…
Днем во дворе на Марину налетела тетенька с огромной собакой на поводке. Собака тянула веревку изо всех сил, ошейник резал её жилистую шею, но она все равно лаяла и хрипела, хрипела и лаяла, невоспитанно заявляя о своём желании погулять.
Марина только успела отскочить в сторону, как вдруг услышала:
— Это ты?
Старик с бородой!
Сначала увидела его грязные кроссовки под широкими потрепанными штанинами и подумала, что это великан на ходулях, но потом ходули сложились пополам, голова опустилась ниже, и Марина разглядела его лицо в зарослях нечесаных волос: за белой спутанной бородой не было видно губ, а по широкому лбу стекали капли пота.
Борода вдруг зашевелилась, и появился рот. Он дернулся и захрипел:
— Ты Масловых? С третьего этажа?
Марина испуганно кивнула.
Тогда старик склонился еще ниже, а из круглых, закрашенных красными чёрточками глаз выглянул такой страх, что Марина замерла, не смея пошевелиться. Руки старика запрыгали по засаленному пиджаку, пересчитывая оставшиеся пуговицы, а потом неожиданно потянулись к Марининому лицу.
Марина зажмурилась и бросилась к своему подъезду.
Оказавшись дома, услышала голоса вчерашних гостей: сначала детский, а потом женский, громкий и резкий.
— Степа, не капризничай!
В комнате Марину ждал большой альбом о лошадях.
Сумерки остались в городе, дома потемнели и насупились. Ветер искал место для ночлега. Где-то хлопали незакрытые балконные двери, напоминая, что не дело спать на сквозняках, можно простудиться.
На кухне за круглым столом под большим абажуром мама Марины угощала чаем свою гостью — молодую круглолицую женщину, которая, уложив спать пятилетнего сына, мечтала о спокойном вечере с задушевными разговорами, а пока накрывался стол, оглаживала шустрыми глазами непривычно-зелёные стены комнаты и зацепилась за лепнину на потолке:
— Я интересуюсь, если вы не против: квартирку-то сами покупали?
— От родителей осталась.
Мама Марины разливала чай.
— Вот бы мне так свезло, — не отлипала от потолка гостья. — Хоромы!
— Дом старый, ремонт нужен, а продавать — рука не поднимается.
— Зато в центре! — Женщина взяла из вазочки самое большое печенье. — Мы со Стёпкой за день все посмотреть успели. Он ещё в зоопарк хотел, да так находились, что сил нету. Упёртый, как евойный папаша.
Она размазала счастливую улыбку по румяному лицу и выдохнула крошки печенья:
— Недалеко зоопарк-то? Были с дочкой? Это ж её фотография в вашей комнатке? Вы уж простите, я зашла, глянула — больно хорошенькая девочка.
Гостья подула в чашку, вытянув губы трубочкой, и, сделав глоток, округлила глаза, — то ли от горячего, то ли от любопытства.
— Дочки, — отвела взгляд Маринина мама.
— Я так и подумала. Вкусная у вас выпечка. Покупная?
Она заглотила печенье, но, заметив что-то в лице квартирной хозяйки, перестала жевать и нехотя отставила чашку.
Мода нынче — без еды обходиться — никому не нужная, и хозяйка — жуть какая худая. Если болеет чем, тоже плохо, хоть бы не заразиться.
Женщина поёрзала на стуле и решилась:
— А сейчас где дочка?
Мама Марины молчала.
— Развелись, что ли? Папашка ребёнка себе отсудил?
Мама Марины покачала головой — нет, дело не в этом, — и тихо ответила:
— Мариши нет больше. Несчастный случай.
Гостья открыла рот.
За окном закричали. Через секунду раздался смех, взорвалась петарда.
— Горе-то какое, — прошептала женщина, обхватив щеки мягкими крупными ладонями.
Мама Марины сначала не шевелилась, а потом рассказала, как дочка возвращалась домой после школы, как услышала орущего котёнка в подвале соседнего дома и пошла его спасать.
Здесь голос у неё пропал, а потом вернулся — тихий и поломанный:
— Там лестница старая. Темно.
— Не спасли? — искала её глаза гостья сквозь купол света над столом.
— Год прошёл, а я Маришу отпустить не могу. В комнату к ней постоянно хожу, советуюсь, как раньше. Книги покупаю. Она про животных любит…
— А управляющая? Почему у них там не заперто?
— Сказали, бомжи ночью взломали. Участковый наш, дядя Коля, себя винил, говорил — не доглядел. Прощения просил.
— Значит, вину свою чует, — подобралась гостья. — И полиция виновата! Она должна была…
— Я никого не виню. Дядя Коля болел потом долго, с сердцем плохо. Видела его недавно — седой весь, худой. Еле ходит.
Мама Марины поднялась из-за стола:
— Уже не виню.
Чай остыл. Ночь просочилась сквозь шторы, залегла плотными тенями по углам и залепила потолок темным.
— Мама!
В дверном проеме маялся Стёпа.
— Мама, я описался, — засопел мальчик и на всякий случай захныкал. — Я шёл в туалет, а там…
— Что «там», Стёп? Я говорила — нельзя столько сока!
Женщина подхватила его на руки и понесла в ванную.
— Я видел девочку! — уткнувшись в мамину шею, громко шептал Стёпа, стараясь убедить её в своей невиновности, а заодно и тётю на кухне, показать, что он уже большой и знает, как себя вести. — Она побежала туда, к двери. И помахала мне рукой. Вот так!
— Что ты выдумываешь? Нет здесь никого. Не вертись лучше!
— С косичками! — не сдавался мальчик.
В ванной комнате что-то упало, полилась вода и заглушила недовольство мамы.
— Не слушал я взрослые разговоры! — прокричал Стёпа и сразу успокоился.
Город затих. Одинокие светлые пятна робко догорали на стенах домов. В воздухе из ниоткуда появились белые хлопья. Крупные, неуклюжие, совсем непохожие на снежинки, они роились, как живые создания. Пролетая мимо окон, заглядывали в квартиры, спрашивая, не рано ли прилетели, и не получив ответа, продолжали опускаться все ниже и ниже, чтобы приземлившись, тут же растаять.
Внизу по пустынной улице в тихом свете фонарей неторопливо двигались две фигуры: седой высокий старик вёл за руку девочку с двумя длинными косичками. Девочка прыгала через лужи и что-то увлечённо ему рассказывала.

Мать должна умереть
— Да пусть она сдохнет! Что, что ты можешь знать? Я жить хочу, понимаешь? Сидит там, никак не соглашается квартиру разменять, Косте жить негде, женился. Зачем ей этот Невский? Хватит! Семьдесят пять лет прожила — достаточно! Отец умер в восемьдесят два — молодец. И ей пора. Не смей ничего говорить, ты не знаешь про мое детство, каково мне было, про пятерых ее мужей и говорить не буду. Актриса, блядь, она! Да мне плевать на себя и на детей своих плевать, они стыдятся меня, просят в школу не приходить.
— Пожалеть ее? За что? Простить? Ну и что — мать, я ее просил? Все жить, говоришь, хотят? Ей-то зачем? Не мое дело? Я из-за нее жить не могу, она мешает мне!
— Думаешь — твой сын будет лучше? Он еще больше станет тебя ненавидеть, увидишь, так тебе и надо — заслужила, всю жизнь тебе от него что-то надо, самая умная наша!
Все это он кричал, размахивая куриной ногой на бечевке, поправляя грязные сползающие очки, тряся небритыми щеками. Обида лезла из складок седого затылка, оттягивала ворот безразмерной футболки.
Друг мой. Единственный, пожалуй, человек, которого я принимала целиком — смысла исправлять, спасать, бороться — не существовало. Друг с восемнадцати лет. Был длинный, худой, талантливый, красивый. Синеглазый. Гонял в футбол со школьными друзьями — умниками из хороших семей. Пел и играл на пианино — до сих пор, впрочем, играет. Фанат Битлз, все альбомы. Пел «дремлет притихший северный город, низкое небо над головой». Мы и сейчас с первого аккорда затянем хоть во сне. Девушек было — все восхищались, одна краше и умнее другой. Женился как-то нелепо, назло, скоро — на москвичке, она и родила в Москве. Мать его в тот день, выйдя на лестницу, произнесла нам в пролет парадной — «Света родила». А, — сказал девятнадцатилетний Боря, не споткнувшись, не задав ни одного вопроса. Он любил другую. И сейчас, думаю, цепляется — как за мечту. Маша, с улицы Восстания, летучий смех, светлые волосы, берлинская печь белая в гостиной. Потом попалась одна приезжая — нежная, тихая, с черной косой, под брюками гольфы — он задирал штанину, она краснела до слез. Родители не позволили — иногородняя. Позарится на жилье. Жаль.
Был у него рекламный бизнес, прочный, денежный. Женился. На простой, хочется сказать, бабе, так он и говорил всегда — ты ж деревенская. Некрасивой, снулой. Скупала все леопардовое, толстела, спала. Она терпеть не могла его мать, мать ее — взаимообразно.
Сгубил его покер. Вояжи по Америке, турниры в Лас-Вегасе. Сначала пришлось продать флигель отца, потом долю в бизнесе. А баба оказалась хорошая, добрая, вместе они лет двадцать. Двое детей — странных, нервных, диковатых.
Квартира матери на Невском мрачная, захламленная. Огромная открытая лоджия со сводчатыми потолками, старинными рассохшимися шкафами, треснувшими от старости и одиночества фарфоровыми блюдами фабрик Гарднера да Кузнецова, не заносимыми на зиму в дом. Большую часть жизни мы собираемся там: майский день рождения, много цветов, шашлыки жарим прямо на террасе, куча друзей, дети играют как могут в футбол и бадминтон. Из окна, выходящего на Невский, наблюдаем шествие Бессмертного полка. Все наваливаются друг на друга, опасаясь выдавить древние рамы, дети распластаны по подоконнику, машут флажками и кряхтят. В прихожей стоят деревянными солдатами рамки с фотографиями прадедов. Боря играет на пианино — что тебе снится, крейсер Аврора… И дети послушно и серьезно поют. Имя кошки меняется от степени безумия и литературных пристрастий матери — Бродский, Алиса, Чехов, Алекс. Сегодня кошку зовут так-то, церемонно заявляет она входящим. Мать к нашим налетам относится снисходительно. Красит губы — все мимо — фиолетовой помадой, обливается протухшими сладчайшими духами и исполняет песни собственного сочинения. Кто-нибудь подыгрывает на гитаре, все хранят уважительный вид, и только сын да старший внук кричат «заткнись, актриса, это никто не хочет слушать, стыдно!» Мать вытаскивает альбомы. Там схоронена ее артистическая карьера, черно-белая молодость, стрелки на глазах, красота, пляжи Прибалтики, маленький Боря, талантливые и безымянные сокурсники. Я всегда смотрю (всех давно знаю) и целую ее в висок, где вмятина от операции. Пятерых мужей, кстати, Боря придумал. Муж был один, строгий. В диване у него был сейф, там скрывался настоящий пистолет, деньги и коньяк. Избранным мать дарит чудовищной расцветки вафельные полотенца — сама подшивает. Меня одаряет Викторией Токаревой в бумажных обложках. У нее всегда припрятана водка, пьет ее она из чашки — чай, мол.
И вот сидит он, Борис, и впервые в жизни вместо легких нелепых разговоров наших с непонятной для посторонних игрой слов, с хохотом до икоты — тихо орет. Прерываясь на покер в телефоне. Боря, поговори с нами, — говорим мы ему. Вы не понимаете, это важно — я могу выиграть две тысячи рублей. Он давно уже работает таксистом. И обещает встать на ноги, взяться за ум, стать миллионером и купить яхту. Вы поедете со мной? Стаскивая очки, по-детски протирает нещадно кулаками глаза. Много пьет и снова ругается.
А я, выпрямив в оцепенении спину, смотрю на него и вижу своего сына через двадцать-двадцать пять лет. Огромного, так и не повзрослевшего, ведущего со мной беспощадную войну уж десять лет, сроднившегося с диваном, пестующего свои обиды — лишь бы не жить. Вынеся себе оправдательный вердикт «во всем виновата мать».
Вспоминала, как ждала его, выстраданного.
Первый Мед, Петроградская сторона. Высокие потолки, сумрак в углах, зеленоватый. Рябил и колыхался, словно водоросли. Широкие прохладные лестницы, надежные перила. Гулкие лязгающие лифты. Побудь еще со мной, мальчик, неведомый, только мой, поживи во мне. Здесь так спокойно, весь мир вроде рядом, но чуть в стороне, а тут хорошо, поверь — нетревожный шум листвы,стремительные тени, я с небольшим своим животом словно в скорлупе, на ней изысканно прописано высокое небо, процарапаны черным небрежно и мастерски птицы, растушеваны белесо облака. Давай еще погодим, еще одно целое, уже не страшно.
Я видела его — прозрачной белизны младенца, сердитого, насупленные бугорки вместо бровей, инопланетная голова. Яйцом. Был он диковат и нелюдим, имел горячий затылок, во мне не нуждался, на руки не просился — терпеть не мог. Вызывал уважение своей отстранённостью и недовольством. Засыпая, уморительно закатывал глаза в разные стороны. В три месяца стал усыплять себя заунывными руладами. До двух лет был лыс и молчалив — потом обзавёлся херувимскими кудрями и заговорил длинными фразами. Голосом счастливого муравья. Ходить начал — футболку на кулак, для пущей уверенности, второй рукой от волнения крутит, ноги расставит, отвага в глазах, смеётся — и понёсся. Подпрыгивая. Чувствовал мое настроение — спиной. Любил мандарины, раскатывать тесто, играть кастрюлями.
Меня по-прежнему волнует — где мой мальчик, хохочущий хрустально, запрокидывая голову, с нелепыми узкими пятками, с которых всегда сползали носки, с тонким шрамом на виске, с его поцелуями, страхами, нежными двумя родимыми пятнами — на затылке и под коленкой, разодранными ссадинами, обгрызенными ногтями — где он? Уверена, в неведомой закольцованности времени так и остался тем Бармалеем, Луковкой, Капитаном сорняков. Как если смотреть в калейдоскоп — вот-вот цветные кусочки стекла сложатся, нет, не то, чуть-чуть повернуть, и в этой мерцающей перспективе рассмотришь, догонишь, схватишь, рассмеешься счастливо. Он никогда не смотрит детские фотографии, а раньше вообще прятался, плакал и говорил — не надо, мне его жалко. Мне тоже. И я страшно по нему скучаю. Ничего не могу поделать — скучаю. И вот ему двадцать четыре, он вдруг закончил магистратуру, защитил диплом, нашёл работу, поехал в Лондон.
Что я могу сделать? С беспомощной любовью к ним ко всем — чем помочь?
Ушли мы скомканно, всем было неловко. Под утро — в час, когда утро встает над Невой — я написала ему. Как взрослая — обстоятельно, терпеливо.
Он ответил мне через два часа — «мать должна умереть».

Между небом и землей
Матвей сидел за столом и, чуть склонившись над тарелкой, медленно и не торопясь, с ювелирной точностью выковыривал белые рисинки. На самом краю тарелки возвышалась горсть луковых комочков. Плов остыл, но Матвей не замечал этого. Он привык жить, не замечая ничего. Внезапная потеря родителей и пережитый ад из боли и чувства вины — не успел сделать или сказать главного, — и в нем что-то сломалось, он стал близоруким ко всему.
Матвей вложил свой небритый подбородок в левую ладонь, а сжатой в правой руке вилкой тихонечко раскидывал рисинки, как будто освобождая их из плена луковых ошметков. Прошло еще несколько минут — в разных частях тарелки образовались два одинаковых холмика. Нет, это были уже не просто кучи остывшего невкусного ужина — сейчас это были две армии, два войска, и Матвей знал, на чьей он стороне. «Белые смелые!» — рефреном прозвучало в голове, по-мальчишечьи задорно, откуда-то из прошлого: где ему восемь, где он ходит первым, демонстративно и вслух, и часто обыгрывает отца — тот, разумеется, за черных и исподтишка поддается. Матвей обожал эти партии, а особенно — после каждой восторженно и громко шлепать своей маленькой пятерней по отцовской, такой большой и надежной.
Вдруг защемило. Матвей вилкой сгреб и лихорадочно размешал поле боя на тарелке, встал и стремительно вышел на балкон. Он не включил свет, не закурил, не открыл окно — просто смотрел сквозь и куда-то вдаль: теплом светящиеся огонечки незашторенных квартир, разбросанная вдоль дороги гирлянда из фонарей и мигающих фар, если прищуриться и приглядеться — все плакало. Пошел дождь.
На экране было полдесятого. Матвей выключил звук телефона, стащил покрывало с кровати и лег, вторую подушку он крепко прижал к груди и заснул.
Матвей шел мимо автобусной остановки — отсюда он уезжал в школу, здесь же с пацанами они втихаря курили и вырисовывали маркером самые дерзкие строчки песен. На старом тополе блекли давно выцветшие объявления, а пух своей рваной ватой прятал годами копившийся на обочине мусор: бычки, фантики, кожурки, жвачки. Бабушка Нюра сидела на табуретке с тазиком семечек, под которым торчали свернутые из газет кулечки. Матвей подошел, он начал рыскать по карманам, но карманов не было, бабушка протянула пустой конвертик, Матвей развернул — это была черно-белая страница местной газеты, сбоку на полях он увидел написанную синей ручкой свою фамилию и старый адрес — размашистым и очень знакомым почерком почтальонши тети Оли. Матвей хотел о чем-то спросить бабулю, но ее уже не было. Матвей оглянулся, он помнил все вокруг — каждый кустик, каждый бугорок, каждую ямку — здесь он учился кататься, а потом и гонял на велике. Матвей остановился у чертовых ворот, так они называли проход под столбами буквой Л на развилке трех вытоптанных тропинок. Матвей решил пойти по центральной и уже скрестил пальцы, но замешкался и обошел столб справа. Навстречу мчался мальчишка в кепке, надетой задом наперед, в его руке мотался игрушечный пистолет. Матвей словно узнал себя, он выставил ладонь, чтоб тот, в кепке, при встрече мог дать пять, но вдруг пистолет выстрелил — Матвей почувствовал укол пульки и рухнул. Сделалось тихо-тихо, точно он находился под водой и шум перестал быть шумом. Мальчишка побежал дальше, а Матвей лежал на траве — ничто больше не тревожило, не было страха и беспокойства. Впервые за несколько лет ему было хорошо. Он прищуривал глаза и с удовольствием рассматривал сверкающие сквозь ресницы лучи — солнечный узор, как в калейдоскопе, менялся. Откуда-то послышался кашель — «Это мамин!» — Матвей всегда запросто угадывал маму по одышке и кашлю, и еще по мелодии — она всегда что-то напевала. Матвей подскочил и обернулся: мама стояла в своем любимом цветастом платье, она улыбалась, в уголках ее глаз Матвей узнал букет самых родных морщинок, он целовал маму в эти морщинки, когда клянчил что-то, а клянчил он часто.
— Ма, а что дальше? Что мне делать?
— Пойдем домой, папа чай черный заварил, он там с Васькой воюет — бандит опять ворует все со стола.
— Васька вернулся? Наш Васька? Я ж его искал. — Матвей начал задыхаться, он говорил быстро, взахлеб, от волнения сбивался и не успевал дышать. — Мы же тогда все подвалы обошли, я думал, он бросил меня.
— Вернулся, конечно! Куда он денется! Загулял Васька, видать.
— Видаа-ать! О-ох, Васька красава!
Матвей шел за мамой, он увидел родительский дом, открытую калитку и старую деревянную чистилку рядом, и Ваську на ней. Из окна махал отец и что-то кричал про остывший чай. Матвей хотел подбежать, но ноги болели так, как если бы Матвей шел на глубине и сражался с волнами. Мама была впереди, и Матвей пытался взять ее за руку, но не мог поймать.
— Мам, подожди меня! Помоги! Я не могу один.
— Матюш, ты можешь, смотри какой ты большой стал. Папа говорит, что прямо дед вылитый, Матвей Семёныч, Царствия небесного.
— Ма, а это что? Не небесное?
— Это земное, Матюш! Это ж дом! Вот ты переехал и забыл нас. Совсем забыл.
— Ма, не забыл, я скучал! Только поздно понял, дурак! — Однажды ему позвонил незнакомый голос и сообщил об аварии, Матвей тогда не поверил, сбросил, думал, что мошенники, но голос перезванивал и повторял про столкновение, про встречку, про лоб в лоб. — Мамочка, я так скучаю!
— Ты там голодным не ходи!
— Не хожу, у меня внизу кафе круглосуточное. Ма, я ж квартиру купил в высотке, с огромными окнами, от пола до потолка, тебе понравилось бы.
— Ты, Матюш, почаще мой их! Так и дышится легче! «Как унывать начнешь — бери тряпку и мой окна!» — твоя бабушка все любила повторять.
— Ма, мне плохо. Я один совсем.
— Матюш, мы же здесь. Мы всегда с тобой. Жаль, телефонов нет, но ты письма пиши, их приносят.
— Ма, что делать мне?
— Живи, Матюш, как хочешь! Помнишь, ты всегда сразу красками рисовал, без черновиков, вот так же живи ярко и смело. Ничего не бойся!
— Ма, я скучаю!
— А ты Ваську забирай — веселей будет с этим хулиганом!
Кот прыгнул маме на руки, потом залез на плечо и посмотрел на Матвея и будто его тоже узнал, Васька вскочил ему прямо на голову.
— Вот ты бегемот, какой тяжелый ты, Васька! Аж шею свело!
Матвей попытался стряхнуть кота и отчаянно потряс головой. Он слышал, как засмеялась мама, и он сам засмеялся. Васька никак не скидывался, он громко замурлыкал.
Будильник вибрировал под подушкой. Матвей открыл глаза. За огромным витражным балконом белыми хлопьями медленно опускался снег. Матвей лежал и улыбался — окно было чистое.

Настоящий масон
Николай Сергеевич всю жизнь коллекционировал пульты дистанционного управления. Эта страсть завладела им в молодости, когда он увидел первый в своей жизни пульт. В универмаг, куда он заглянул, чтобы купить радио, завезли новенькие «Горизонты» с примитивными пультами, которые подключались по кабелю. Николай Сергеевич был совершенно очарован идеей управления телевизором на расстоянии. Он не задумываясь заплатил за это чудо все свои сбережения и, абсолютно счастливый, поволок покупку домой на санках, которые одолжил у соседа.
Жил наш герой один, в маленькой и солнечной двухкомнатной квартирке, доставшейся ему от отца. Отец давно уже умер, а о матери своей Николай Сергеевич вообще ничего не знал. Отец привез его в крошечный дальневосточный городок совсем ребенком, откуда-то с севера. И никогда не рассказывал ни о своей прежней жизни, ни об обстоятельствах появления сына на свет. Женой Николай Сергеевич не обзавелся — женщины пугали его, казались вздорными, непредсказуемыми созданиями, которые требовали к себе слишком много внимания. Оба коротких романа юности закончились для него горьким унижением. Из-за второй девицы пришлось даже перевестись в другой НИИ, что стоило ему больших душевных сил и целой карьеры.
Николай Сергеевич совершенно не тяготился своим одиночеством. Даже наоборот — по-настоящему счастливым он бывал только наедине с собой. Поэтому уход на пенсию стал для него праздником, началом новой замечательной жизни. Редких знакомых и приятелей, которых ему удалось как-то собрать за годы работы и вялого, для галочки, увлечения шашками, он к старости растерял. Возможно, дело было в его страшном занудстве, но он догадывался, что истинная причина кроется в их женах. Они, кажется, подозревали, что именно он воровал их пульты, когда приходил в гости на очередной юбилей или поминки.
Николай Сергеевич никогда не брал чужие пульты, только свои. Дело в том, что он довольно быстро обнаружил удивительные свойства некоторых из них. Большинство пультов были совершенно бесполезны, но единичные, редкие экземпляры узнавали в нем своего хозяина и сами шли в руки. С помощью этих пультов он мог управлять многими людьми и явлениями.
Первым таким пультом был тот самый, с кабелем, от «Горизонта». Николай Сергеевич случайно выяснил, что этот ПДУ регулирует не только громкость телевизора, но и уровень шума, издаваемый мерзкой болонкой, живущей этажом выше. Ее вечное тявканье уже много лет сводило его с ума. А теперь он приходил домой с работы и выключал звук у собаки — как же, оказывается, просто решались многие его проблемы.
С тех пор он искал «свои» пульты повсюду: в гостях, в универмагах, а потом и в магазинах, на рынках и развалах, на помойках и барахолках. Каждый найденный пульт сразу сообщал ему, для управления каким явлениям создан. Николай Сергеевич приносил находку домой, приклеивал к ней скотчем ярлычок с названием и любовно паковал в целлофановый пакетик. В квартире все полки, а потом и стены были забиты пультами, дававшими своему владельцу власть над большинством процессов на Земле.
Николай Сергеевич мог снизить уровень озлобленности их старшей по подъезду — тощей и вечно всклокоченной ведьмы с первого этажа, которая таскалась за каждым жильцом, постоянно требуя то взносов на ремонт домофона, то тишины. Мог выключить дождь. Он даже управлял политикой президента, переключая каналы с миротворчества в жарких странах на борьбу за скрепы внутри населения. Он контролировал скорость роста своих ногтей и волос, замедлял процесс скисания молока и мог легко отключить у себя в голове неприятные мысли или воспоминания.
Жизнь Николая Сергеевича была полна забот. Утром он включал восход солнца, проверял и корректировал, если нужно, скорость вращения Земли. За завтраком слушал по радио новости и вносил необходимые изменения в геополитическую обстановку в мире. Потом он шел изучать ситуацию в городе и фиксировал в блокнот все проблемы, требующие его вмешательства, чтобы дома, после обеда, исправить их. Вечер у него был посвящен серьезным бедам, терзающим человечество — расширяющаяся Сахара, вымирающие виды животных, незаслуженно забытые гении, малярия и многие другие сложности, информацию о которых он черпал из старых подшивок научно-популярных журналов, купленных на барахолке.
В таком плотном расписании прошло много лет. Николай Сергеевич самоотверженно посвятил себя заботам о планете и совершенно не следил за собственным здоровьем. Он не заметил медленно растущего на шее зоба, а когда пришла жгучая, непереносимая боль, было уже слишком поздно — рак щитовидной железы с метастазами в мозг, неоперабельный. На этот случай не нашлось ни одного подходящего пульта, а на поиски Николай Сергеевич уже был не способен, он едва мог ходить. Он отказался от госпитализации, не мог оставить свой домашний контрольный пункт. И вскоре тихо умер ночью в своей квартирке. В последние его часы ни морфин, ни специальный пульт не могли унять в нем щемящего, удушающего беспокойства о судьбе оставляемой им Земли.
А на следующий день с самого утра начала оглушительно тявкать болонка. И недовольная жизнью старшая по подъезду пошла трезвонить в квартиры соседей, требуя немедленно скинуться на ремонт детской площадки во дворе.

Находка
Ноги с трудом вырывались из вязкого песка, поэтому Андрей двигался медленно, внимательно оглядываясь по сторонам. В море, много лет назад названном Японским, проходил путь кораблей. Временами они виднелись вдалеке тусклыми чёрточками, словно нацарапанными на горизонте. Иногда течение прибивало к берегу выброшенный за борт мусор. Мальчишки часто подбирали и уносили домой интересные для них вещи. Алюминиевые банки из-под напитков. Промокшие сигаретные пачки. И даже вполне пригодные целлофановые пакеты с иностранными надписями. Вот почему Андрей сразу приметил добычу.
Холодные воды Тихого океана, словно играя, выбрасывали на берег зелёный шар, а в следующую секунду забирали его обратно. Отломив от дерева длинную ветку, мальчик выловил находку. Он с удивлением вертел в руках неизвестный фрукт, размером и формой напоминавший вытянутую грушу. Тёмно-зелёная кожура была усыпана светлыми пупырчатыми веснушками, отчего на ощупь напоминала молодой огурец. Андрей поднёс фрукт к носу и втянул воздух, но ничем особенным тот не пах, лишь слегка отдавал йодом. Сбросив рюкзак и достав нож, он разрезал плод и обнаружил большую косточку, размером с добрую сливу. Внутренность состояла из бледно-зелёной массы, напоминавшей подтаявшее масло.
Что делать с находкой, Андрей решил почти сразу. Он сунул её в карман и двинулся дальше. Нужно было торопиться.
Каждый шторм выносил на берег деревья. Высыхая, они превращались в отличное топливо. Уголь покупали осенью, но его запасов хватало лишь до апреля. Поэтому дедушка отправлял Андрея собирать топляк, чтобы прогревать дом весной. Рядом с деревней давно уже всё попилили на дрова. Идти нужно было до дальней косы, на которой деревьев ещё было достаточно.
Несмазанные петли скрипнули, и ветер со злостью захлопнул за Андреем дверь. Отряхнув сапоги от песка, он сразу прошёл на кухню. Брошенный рюкзак брякнул поленьями и бесформенно развалился на полу.
— Замёрз, наверное? — спросила бабушка, звякнув чайником о плиту. — Давай, за стол садись.
— Пусть руки сначала вымоет, — неожиданно сурово сказал дед, не поднимая глаз. Он сидел за столом и копался в поломанных часах.
— Деда, ты не поверишь, что я сегодня нашёл. — Андрей вертел руки под носиком крана, старательно оттирая грязь.
— Не поверю, — перебил его дед. — Дрова хоть сухие принёс? Или дымом придётся дышать, пока не угорим.
— Не угорим, — торопливо ответил внук. — Прошёл сегодня до самого мыса и допилил старый топляк, вон, даже мозоль натёр. — Он сунул руку деду под нос, но тот не оторвался от шестерёнок. — Так знаешь, что у меня есть? Это как ягода, только большая. Из Африки, наверное, или Сингапура. Я в холодильник до завтра положу.
Андрей устроился за столом напротив старика. На тарелке лежала горка ещё тёплых блинов.
— Опять мусор всякий собирал? — рассердился дед, наконец посмотрев на него. — Ходишь, как беспризорник после войны, и гадость всякую домой тащишь. Вот возьму и выкину все твои находки в выгребную яму. Посмотрю, как ты за ними полезешь.
Белый, в сметане, блин повис в руке. Андрей никак не мог понять, что случилось, пока он ходил за дровами. Неожиданно его взгляд остановился на конверте, подписанном знакомым почерком, брошенном на полу. Ему хватило нескольких секунд, чтобы сообразить.
— Деда. — Он подошёл к старику и обвязал руками шею. — Она не приедет завтра. Да?
Грубоватые пальцы, ковырявшие механическое нутро при помощи маленькой отвёртки, остановились.
— Не приедет. Некогда ей.
Бабушка подошла сзади и поцеловала внука в макушку.
— Ты не расстраивайся. В следующем месяце у неё точно получится.
Андрей, пару раз громко шмыгнув носом, вдруг полез рукой в глубокий карман штанов. Он достал оттуда две половинки неведомого зелёного фрукта.
— Это вам. Он внутри мягкий, я ножом сковырнул, чтобы посмотреть.
Вначале они жили во Владивостоке вдвоём с мамой. Под «началом» Андрей понимал тот возраст, с которого он себя помнил. А это где-то лет с четырёх. Хотя самые ранние воспоминания — это отдельные кадры. Первый кадр — мама склонилась над ним и тревожно трогает рукой раскалённый лоб. В следующем она тащит за собой санки, так рано, что на улице ещё темно. Андрей сидит в них закутанный и подвязанный шарфом, не в силах пошевелиться. А вот ещё — детский садик и маленький мальчик в костюме грузина, с набитым бумагой патронташем поёт песню про семью разных народов могучей страны.
И только годам к семи память соединяет события в более длинные сюжеты. Началось всё с появления в доме дяди Вадима, его нового папы. Настоящий папа — Гена — был моряком. Однажды он отправился в плаванье и не вернулся. Но это было до начала воспоминаний, поэтому ни в одном кадре папа Гена не присутствовал.
Мама Андрея любила. Да и дядя Вадим, которого он называл только так, наверное, тоже. Не проявляя особой теплоты к пасынку, он никогда не повышал на него голос и тем более не поднимал руку. На каждый день рождения дарил подарок. Но на этом их отношения заканчивались. Дядя Вадим переселился в комнату к маме, а Андрей переехал на кухонный диван.
Но ещё сильней жизнь Андрея поменялась после того самого слова. Мама и дядя Вадим посадили его перед собой и сообщили, что завербовались на Север. Сперва Андрей подумал, что они стали разведчиками, потому что слышал похожее слово в фильме про шпионов. Но потом ему объяснили, что оно означает.
— Ну, успокойся, пожалуйста. — Мама гладила его, уткнувшегося в диван, по голове, шее, спине, словно это они были причиной слёз. — Ты знаешь, как бабушка с дедом обрадовались, что ты будешь жить у них? А я буду приезжать к вам в отпуск. А письма писать — каждую неделю. Заработаем на новый кооператив и снова будем жить вместе. И у тебя появится собственная комната. Ты же мечтаешь о ней?
Мама правда приезжала почти каждый год, кроме того случая, когда они с дядей Вадимом уехали отдыхать в Сочи. И каждый раз за несколько дней до её приезда у Андрея в животе появлялось странное чувство. Словно кто-то щекочет его внутри холодной рукой.
Через несколько лет, оказавшись в своей первой заграничной командировке в Сингапуре, Андрей Геннадьевич снова увидел тот самый фрукт из далёкого детства. Авокадо лежали зелёными пирамидами среди гор из бананов и манго. Ему хотелось привезти несколько штук для мамы взамен того, что так и засох в холодильнике, не тронутый стариками. Вот только мамы уже три года как не было.

Небесная подкова
— Ты посмотри, что эта псина делает. Ну гад, поймаю — получишь. Стой, а ну, грабитель блохастый, стой, говорю тебе!
Круглая тетка в ватнике, пуховом платке и валенках засуетилась между картонной коробкой с ледяными окорочками и убегающей собакой дворянской породы. В зубах псина держала синие куриные ноги.
Предновогодний рынок был усыпан бриллиантовым снегом. Среди елок, мандаринов, жареных пирожков и палаток с контрафактом, лавировал вместе с «добычей» пес.
Из динамиков страдал Юра Шатунов: «Белые розы, белые розы, беззащитны шипы…» Тетка смачно сплюнула, шмыгнула носом и визгливо спросила у бомжеватого прохожего:
— А ты чего тут отираешься у кур. Или бери, или мимо чеши давай.
Мужчина остановился, с улыбкой вдохнул мороз, достал из кармана деревянную подкову с бечёвкой, подмигнул и протянул ее продавщице:
— C наступающим, красавица, не хмурься, светись.
Тетка хмыкнула, скрутила губы трубочкой и задергала курносым носом. Морщинки около глаз распрямились и стали похожи на крошечные солнечные лучи. Она сняла рукавицу, взяла за веревку подкову, и она закачалась, как детская мечта. Тетка стала разглядывать резной рисунок и спросила у мужчины:
— Ишь ты, какая мудреная вещица. Спер, небось, малахольный? Но ить какова подкова — точно от Сивки-бурки. Тебя как звать-то, дядя?
Мужчина запрокинул голову к небу, прищурил один глаз, ответил:
— Николаем меня звать, красавица. А подковку я сам сделал. Люблю запах сосны и дуба, они детством и лесом пахнут. Подковка-то волшебная, ты ее у входа над дверью повесь — она тебе счастье в дом обязательно принесет. Ей богу, красавица. С душой ведь сделана.
Тетка подула на подкову и ласково коснулась ее сучковатой поверхности. Потом спрятала в карман, бросила в пакет два тощих окорочка и крикнула уходящему мужчине:
— Эй, Коля, на вот тебе, к Новому году от меня кой-че. Ну, в общем, бери. Бери, да не мнись, я тоже от чистого сердца, и тебя с праздничком, кхе-кхе.
Мужчина нерешительно взял в потрескавшиеся пальцы куль с куриными льдинками:
— Ну, дай бог тебе здоровья и мира, красавица. Дай бог тебе мыслей светлых и дней ясных, как глаза твои тальковые.
Тетка поправила выбившиеся волосы и хохотнула:
— Скажешь ведь, красавица. Ну, и тебе, Колья-Николай, не хворать.
Наблюдавший картину дед в каракулевой шапке и с остренькой бородкой прокашлялся и спросил скрипучим голосом:
— Мадам, позвольте полюбопытствовать, это лирическое представление еще долго тянуться будет? Мне бы кило куры. К столу новогоднему успеть, так сказать, блюдо организовать. Время, мадам, летит, понимаешь, мчит. Вы слышите, курятинка нужна мне!
Тетка опять примерила хмурое выражение и хотела огрызнуться, но нащупала в кармане подкову. И молча начала класть бедра на весы.
Когда продавщица рассчиталась с покупателем в каракуле, Николай уже исчез. Она сняла перчатку, достала подкову, похожую на крошечную радугу, вспомнила о елке в деревенском доме деда и бабки. Там над входной дверью тоже когда-то висела подкова, только настоящая, медная, с трещинкой. Дед смеялся, что когда-то одной левой гнул их, а вот эту оставил для бабуси. На казачье уютное счастье.
Николай вышел в ворота рынка яблочного цвета. Прошел несколько метров в сторону застывшей стройки. Огляделся, нырнул в обитый фанерой и дерматином вагончик, потом позвал:
— Фимка, Фима-а, ты здесь, бродячая душа?
В ответ услышал шкрябающие звуки и быстрое, неровное дыхание. Тогда Николай продолжил:
— Ну я это, я. Выходи, свои ж дома, хорош опасаться. Я обед тебе праздничный раздобыл — гляди. Ну где же ты, Фимушка?
Из-под деревянных досок показалась серая взлохмаченная псина. Та самая, которую тетка не сумела остановить. Собака радостно завиляла свалявшимся хвостом, подпрыгнула и уперлась лапами в грудь Николая, а потом лизнула его в нос. Мужчина засмеялся и одной рукой потрепал собаку за холку, а другой показал окорочка:
— Такие новогодние чудеса, Фимка. Вот видишь, божья милость и доброта человеческая не оставляют нас. Красавица одна нам новогодний стол организовала. Хорошая женщина, румяная, сердечная, правда, подзамерзла, душа детская.
Пес радостно взвыл, крутанулся, а потом исчез за фанерной коробкой. Через секунду он уже тыкал в куртку Николая синими ногами кур.
Мужчина присел на матрас, что стоял на кирпичах, и молча заплакал. Слезы заскользили по глубоким морщинам, которые резали его смуглое лицо. Фимка тут же лизнул Николая в щеку, а потом, положив свой подарок рядом, сам же зарыл морду в коленях хозяина.
На город упали сумерки и окрасили снег дымчатой тайной. Николай прижался к псу и сказал:
— Вот зажгу керосинку, Фимка, и такой с тобой ужин справим, самый что ни на есть новогодний. Две души — уже компания. А за подковки наши еще выручить успеем. Не все ведь в мире на продажу. Вот кроху счастья дай человеку, глядишь, он засветится, озарится, отогреется сердцем. Все мы дети божьи, Фимка, во всех нас любовь живет, дай ей только на свет выйти, расправить крылья, зазвучать. Правду говорю, верная ты голова?
Пес протяжно зевнул, перевернулся на спину, заерзал, ветер ворвался в незапертую бытовку и пробежал по висевшим вдоль стены деревянным радугам. Они, ударяясь друг о друга, музыкально застучали, зацокали.
Николай встал, зажег керосиновую лампу и прикрыл двери:
— Вот и ветрушка нам спел, пожелал счастья, праздник вдохнул. Ничего, Фимка, живы будем — не помрем! Зима добрая к нашему брату бродячему. Сколько еще дорог, сколько радуг раздать надо.
В небе сквозь облепиховые звезды прокрался месяц. Николай улыбнулся желтому страннику сквозь окно и сказал собаке:
— А вон и небесная подкова засияла. Не одни мы, Фимка, весь мир с нами, куда бы мы ни отправились.

Нинин дом
Нина купила квартиру.
Сначала копила деньги. Потом выбирала. Ипотеку просила. Очень просила. Ей сначала дали много бумажек на подпись, а после — немного денег.
В день покупки нотариус шуршал плотными страницами договора и улыбался. Все руки друг другу пожимали. Нина перебирала связку ключей в кармане, а потом вдыхала металлический аромат на пальцах.
Квартира была просторная, светлая. Соседи — благообразные, в родинках, с запахом старости. А Нина пока была со здоровыми суставами и без вислого подбородка. По утрам на работу ходила, по вечерам в баре пила, по ночам в Тиндере встречи назначала.
Дом был снаружи стандартным таким, симметричным. Внутри — необычным. А именно, в подъезде справа и слева уходили вверх две одинаковые лестницы. А и Б их называли, чтобы не путать. Нина жила на лестнице А и к «бэшкам» никогда не заглядывала.
***
Очередным утром перед работой Нина выгребала из почтового ящика буклеты: заказ пиццы и суши, быстрозаймы. «Убила бы», — подумала она.
— Зачем же убивать? Надо, чтобы они всю жизнь мучались по мелочи. Как мы, да? — Рядом с Ниной стояла вторая Нина. Та же самая, но другой человек. Один человек, но раздвоенный.
— Привет от «бэшек». — Нина Б скомкала рекламу и выкинула в корзину.
— Но…
— Не в конюшне. — Нина Б быстро вышла на улицу. Железная дверь подъезда захлопнулась.
Наша Нина сначала решила, что это с похмелья галлюцинация. Потом — что, может, зеркало повесили. «Бред», — подумала она. Но на улицу не пошла и решила подняться по лестнице Б.
Первый этаж. Второй. Третий. Квартира 25. Как у Нины. И дверь обтянута бордовым дерматином. Ручка только целая. У Нины А она была отломана.
Нина повертела ключ в руках.
— Бред, — повторила вслух и вставила ключ в замок.
***
Дверь открылась. Внутри все было точно так же. Только стены не белые, а серые, и все, что у Нины А стояло справа, у Нины Б было слева.
Нина отправила сообщение: «Сегодня не приду. Заболела».
На столе — открытый ноутбук. Конечно же, с паролем. Но раз все было такое же, но чуть-чуть другое, то пароль не Ойлюли12, а Айнанэ13. А так как Нина А была такой же, как и Нина Б, только чуть-чуть другая, то ей не составило труда пароль этот подобрать.
На экране — файл:
«Если вы это читаете, то меня уже нет. Жизнь выжала, в схватке с жестокостью и равнодушием мира я проиграла. Не вините никого, а особенно — Володю. Просто я такая родилась и чувствую, что я лишняя».
Нина покрылась потом, ноги стали мягкими в коленях. «Здесь тоже должен быть домик для вина». Так у Нины шкаф назывался с алкоголем. Шкафчик был. Но вместо вина стоял коньяк. Пойдет. Прямо из горла. Громкий глоток. Тепло. Стало легче.
Дверь открылась, и в квартиру — к себе домой — зашла Нина Б.
— Слава богу! — Нина А и правда радовалась, что ее двойник живая.
— Ну, привет.
— Я… Я прочитала записку. Он недостоин тебя! Столько других мужчин, которые тебя полюбят.
— Нина. — Нина Б вздохнула по-шекспировски. — Хорошо, когда у тебя есть свобода выбирать, с кем спать или не спать. Решать, что надеть с утра, какую еду заказать. А у меня свободы воли нет. Ты полюбила говнюка. И я. Кажется, что я делаю выбор, а на самом деле его уже сделала ты. Я всегда странно себя ощущала, но поняла почему, только переехав в этот проклятый дом.
— Не понимаю. Я это ты?
— Точнее, я твой эрзац, суррогат. — Нина Б села в кресло. — Маргарин — эрзац-масло. Цикорий — эрзац-кофе. Я — эрзац-Нина. Вроде, то же самое, но чуть-чуть другое и всегда на вторых ролях. Заменитель такой. Ты не представляешь, какие мне усилия приходится прилагать, чтобы хоть какие-то решения оставлять за собой.
— Бред. У меня есть хороший психотерапевт.
— Не в психотерапевтах дело.
— В деньгах? Я тебе дам!
— Нина, твоя чувствительность тебя погубит. Надо иногда и голову включать.
Нина А вспыхнула, закинула черную сумку на плечо и направилась к двери.
— Я тебе помочь хочу. Не хочешь — пойду тогда.
Нина Б вскочила и отрезала Нину А от двери.
— Ну, подожди! Прости меня, ладно?
— Слушай, я не виновата. Я даже не знала, что ты существуешь.
— Конечно-конечно. Знаешь что? Давай забудем и просто пообщаемся. Ты же мечтала о сестре-близняшке?
— Ну да.
— Вот и я о том же! Это же «Жди меня» какое-то. А мечтала ли ты о подруге, которая будет все-все понимать? Я же аж твои мысли читаю.
— Иногда так сложно поделиться своими чувствами.
— Ну! Сегодня праздник же! Мы нашли друг друга, наконец. Индийское кино какое-то, а не унылая жизнь. Сейчас как будто музыка заиграет и все танцевать начнут, да?
Нина Б мягко взяла за руку Нину А. Та рассмеялась.
— А давай и мы станцуем, м? — Нина Б ухватилась крепче и потянула Нину А на середину комнаты.
— Ай! — Нина А продолжала улыбаться, но уже напряженно.
Нина Б перехватила свою копию за плечи и начала кружить по комнате.
— Как на Нинины именины
Испекли мы каравай!
— Вот тако-о-ой высоты!
— Хватит, отпусти!
— Вот тако-о-ой нижины!
(Ногти впивались в плечи)
Пой со мной! Ну!
— Что за бред?!
— Вот тако-о-ой ширины!
Вот тако-о-й…
У!
(Выпихнула на балкон)
Жи!
(Второй толчок)
Ны!
(Нина перевалилась через перила и упала на асфальт).
Снизу донеслись крики людей, увидевших тело. Тонкий звон в ушах прерывался карканьем ворон. Нина, единственная и неповторимая, открыла ноутбук, на стикере написала пароль и прикрепила его на экран.
— Ох уж эта несчастная любовь. Ну, еще напиться, это да. Но кончать-то с собой зачем?
Нина взяла черную сумку и достала паспорт. Серый штамп сообщал место регистрации: ул. Валдайская, дом 11, лестница А, кв. 25. Бутылка коньяка драматичным пятном разлилась по кухне, как будто свобода воли вернулась в эту квартиру, и эрзац-вещи заменили на вещи реальные.
Наша Нина взяла с пола оброненный телефон и написала: «Уже лучше. Приеду после обеда».

Новость
Бывают на свете люди беспечные, воздушные. Их жизнь легко перетекает от одного дня к другому, и даже случись какое-то печальное событие, они стараются побыстрее его забыть. Пенсионерка Зоя принадлежала совсем к другому типу людей: радовалась она осторожно, с оглядкой, страдала же вдумчиво и глубоко.
Долгая жизнь ее была непростой. Детей не было, и когда пятнадцать лет назад муж внезапно ушел к молодой любовнице, она осталась одна. Может, из-за этого характер ее ухудшился — от каждого нового события она ждала одних только неприятностей, и потому пыталась предугадать свое будущее до мелочей.
Недоверие к государству, полученное по наследству, и маленькая пенсия вынуждали Зою выращивать овощи на загородном участке и продавать их у метро «Измайловская».
По утрам на кухне она любила пить кофе с конфетами и просматривать на старом компьютере новостной портал «Журнал.ру». По мнению многих, он отдавал провокационной желтизной, но именно там Зоя находила подтверждение своим мрачным прогнозам, и однажды увидев заголовок «Пенсионеров с “левыми” доходами сурово накажут», ни капли не удивилась, а даже наоборот, с удовлетворением подумала: «Ну вот и оно».
Это самое «оно» пока еще не оформилось во что-то конкретное в ее сознании, но уже не сулило ничего хорошего. Сердце ее забилось быстрее, она отложила надкушенную конфету и, не прочитав статьи, ушла в соседнюю комнату. Там, тускло поблескивая крышками, как золото Форт-Нокса, стояли сто десять заготовленных на продажу банок хрена. Она закусила губу — воспоминания об изрезанных пальцах и ведрах пролитых слез перемежались у нее в голове с воображаемой криминальной сводкой: «В ходе обыска у престарелой москвички обнаружены нелегальные товары. Полицейские задержали закоренелую спекулянтку».
Нервно шагая туда-сюда по коридору, Зоя вспомнила про Аркадия, и как ни старалась, больше ничего придумать не смогла. Она вышла на лестничную клетку, потопталась у соседней двери, но потом со вздохом все же надавила на кнопку звонка. В глубине квартиры затюрлюлюкало. Когда спустя долгих полминуты Аркадий открыл дверь, Зоя оказалась совершенно не готова к разговору.
— Гора?! — удивился Аркадий.
— Зоя Александровна, — зачем-то представилась пенсионерка.
— Я вижу, что не Магомед. Что привело вас в край наживы и обмана?
— Кхм, — смутилась Зоя и, переняв шекспировские нотки, вдруг заспешила: — Несет молва во все квартиры, что вы, о благородный сэр, в своем прелестном магазине достигли никому из смертных недоступной, огромной высоты в коммерческих делах.
— Чего несет молва? — растерялся Аркадий. — Что вы несете?
— Несу пенсионерский крест, — сникла Зоя и тихо сказала: — А также обладаю неограниченным количеством свежайшезаготовленного хрена на продажу.
«Бедная старушка, кажется, совсем спятила», — подумал Аркадий и сухо сказал:
— На что же мне сдалась эта хреновая продукция? — И язвительно добавил: — В моем никчемном магазинишке, торгующем, как мне говорили, всякой тухлятиной?
Пенсионерка только и могла, что лепетать в ответ:
— Вы могли бы взять… Реализация… За комиссию… Меня органы того… — отведя в сторону взгляд, сбивчиво рассказала она свое дело. И в конце опять жалобно добавила: — Комиссия, — и посмотрела ему прямо в глаза.
Тот помолчал и сказал по-деловому:
— Несите сто банок, пока не передумал. Денег не возьму — не по-соседски это.
Зоя радостно встрепенулась и, не до конца еще веря такой удаче, поспешила в свою квартиру.
— В который раз на те же грабли я ступаю, — пробормотал ей вслед Аркадий.
Когда с переносом было покончено, Зоя сложила оставшиеся банки в свою клетчатую сумку-тележку и поспешила к метро. Не доходя до станции, она услышала, как Роза Петровна, старший научный сотрудник на пенсии, завывает нараспев:
— Горяча-я кукуру-за!
Зоя встала рядом, снисходительно поздоровалась и выложила на принесенную с собой картонку свой скудный ассортимент. Торговля пошла лишь тогда, когда она снизила цену вдвое. Удивленная этой щедростью Зои, Роза Петровна скептически отнеслась к ее объяснениям:
— Темная ты баба, Зоя! Сокрытие улик карается законом и не отменяет содеянного. Тем более по предварительному сговору.
— Много ты понимаешь, по сговору, — передразнила ее Зоя. Однако настроение испортилось, она сунула в сумку две непроданные банки и поплелась по 3-ей Парковой улице в сторону Измайловского бульвара.
«Не посмеют, — думала она. — Как можно законы взад поворачивать?» Но тут же, бледнея, признавала очевидное: «Посмеют! Повернут!» По всему выходило — надо идти сдаваться. Явка смягчает наказание.
«Был бы человек, а свидетели найдутся». — Дойдя до бульвара, она повернула направо. «Вот Аркашка. Аркашка в два счета расколется, спасая свой магазин, а уж эта “Кукуруза Петровна” и подавно, — развивала она свою мысль. — Пойду к участковому. Он хоть и сволочь, но своя — знакомая». Зоя свернула на 4-ую Парковую в сторону Первомайской и лишь потом углубилась во дворы.
Пункт полиции находился в старом кирпичном здании. Окна первого этажа были зарешечены. Внутри ощущалась затхлость заброшенной библиотеки. Участковый сидел за столом и читал книгу О. Генри «Благородный жулик» в черном переплете.
Слушая Зою, он думал о том, как надоели ему эти вездесущие взбалмошные бабки. Он счищал их с улиц чуть ли не каждый день, а они снова и снова вырастали как плесень. «Надо бы проучить», — решил он и пошел в атаку:
— Твое антиобщественное поведение мне давно поперек горла. Ответишь по всей строгости.
— Замять бы, — испугалась Зоя и выставила банки на стол.
— Замя-я-ть? Давай посмотрим. — Участковый перелистнул несколько страниц и начал монотонно читать вслух, водя пальцем по книге: — Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти, влечет наложение штрафа в размере до двух тысяч пятисот рублей.
— Неповиновение? Когда?
— Говорил вам с Петровной не стоять у метро?
— Говорил.
— Стоите?
— Стоим, — понуро созналась Зоя.
— Неповиновение. — Он удовлетворенно поднял вверх указательный палец. — Читаем далее. Продажа устройств, снаряженных слезоточивыми веществами, без лицензии. Штраф две тысячи пятьсот рублей с конфискацией. — Тут он пододвинул банки к себе поближе.
На это Зое возразить было нечего.
— Итого пять тысяч.
— А поменьше нельзя? — тоскливо спросила Зоя — получалось, придется отдать почти все, что она выручит от продажи.
— Меньше никак. — Участковый резко закрыл книгу и поднялся со стула: — Мне еще обход делать.
— Хорошо-хорошо, — спешно согласилась Зоя.
Когда все бумаги были подписаны, она, пятясь в полупоклоне, несколько раз повторив «спасибо», вывалилась на улицу. Она втянула холодный осенний воздух, и невзгоды ее отступили.
Зоя почти обессилела к тому моменту, когда добралась до двери своей квартиры и обнаружила записку. Войдя внутрь, она включила свет и прочитала: «Смотрел в обед новости — дали опровержение. Не будет ничего этого! Банки вернуть? Аркадий».
Зоя машинально сняла пальто, переобулась и прошла на кухню, не снимая шапки. На столе рядом с кружкой на разглаженном фантике лежала недоеденная конфета. Зоя опустилась на табурет, положила конфету в рот, запила ее холодным кофе и подумала: «Какой он все-таки неприятный человек».

Перед Пасхой
Евгения Андреевна сидела за столом под образами. Когда ей все-таки понадобилось переместиться из кухни в уборную, она поднялась, опираясь о стену, полминуты стояла молча, зажмурившись от боли, затем прошептала молитву, благодаря Бога за возможность телесными страданиями искупить свои грехи еще в этом мире.
Тяжелый взгляд ее смотрел спокойно и снисходительно: с некоторых пор она проявляла твердость только в тех вопросах, которые считала жизненно важными. Под этим взглядом воссоединялись семьи, писались диссертации, отчаявшиеся обретали ясность ума и возвращали твердость духа. В остальном, ее детям сорока и шестидесяти лет от роду разрешалось действовать по своему усмотрению, набивая шишки и постигая жизненную мудрость.
Всю строгость своего характера она обратила к себе и отдавала последние силы на поддержание чистоты дома и опрятности тела, не позволяя никому выполнять то, что еще могла сделать сама.
Евгения Андреевна стеснялась своей немощности. Сопротивляясь наступающему бессилию, назло бессоннице, ночами она продолжала шить. Пораженные катарактой глаза видели лишь силуэт, но руки по памяти все еще кроили, строчили и творили чудеса.
По большим праздникам сын возил Евгению Андреевну к мужу. Она протирала памятник, вырывала сорняки, затем некоторое время сидела на лавочке, рассказывая мужу о детях. Леонид слушал, внимательно глядя с овальной фотографии.
За день до Пасхи погода испортилась. В тот вечер Евгении Андреевне не спалось — суставы ломило и выкручивало. Предчувствуя бессонную ночь, Евгения Андреевна приняла лекарства и села перед швейной машинкой, надеясь к празднику закончить платье для старшей внучки Сашеньки. Ветер завывал на чердаке, и руки то и дело сводило судорогой. Евгения Андреевна оставила шитье и прилегла на кровать, облокотившись на подушки. Несколько раз она по привычке брала в руки книгу, но тут же откладывала — ее трясло и лихорадило, руки не слушались. Всю ночь Евгения Андреевна молилась и просила Бога даровать ей скорую смерть.
Наконец, начало светать. Буря постепенно стихала, боль медленно уходила. Усталость растекалась по телу, сон овладевал ей, обволакивал, приносил утешение. Евгения Андреевна представляла себя молодой, в те времена, когда тело еще не было ее тюрьмой. Сквозь сон она услышала нетерпеливый стук в дверь. Евгения Андреевна поднялась, набросила жилет, и, торопясь, чтобы шум не разбудил домашних, спустилась вниз, отперла дверь.
— Евгеша, собирайся скорее! Поедем.
На крыльце стоял ее Леонид — в новеньком твидовом костюме, тщательно выглаженной рубашке, ярком галстуке, аккуратно подстриженный и радостно возбужденный.
— Ну же… Машина ждет.
Евгения Андреевна поспешно нащупала ногами туфли, схватила с полки голубой шелковый шарф.
— Подожди, я чемодан забыла, — опомнилась в дверях Евгения Андреевна, на ходу сбросила туфли и, точно девочка, взбежала босиком на второй этаж старого двухэтажного дома. Она принялась бегать из комнаты в комнату, открывать настежь шкафы и кладовки, одергивать шторы, заглядывать под кровати. Не найдя чемодана, Евгения Андреевна ринулась обратно в прихожую, но выбежав на крыльцо — без верхней одежды, с одним шарфиком в руках, — остановилась. Во дворе никого не было. Огни удаляющегося автомобиля растворились в сыром тумане.
Евгения Андреевна проснулась и некоторое время лежала, не шевелясь, рассматривая, как медленно ползет по комнате рассеянный свет. «Чудной, однако, сон, — подумала она, усмехнувшись, — и Леня такой нарядный, видно, хорошо ему там».
В то утро Евгения Андреевна долго выбирала, что надеть — убрала в шкаф привычный стеганый жилет и достала цветастую блузу. Открыв окно, она впустила сладкий весенний воздух, оглядела двор, обрадовалась распускающимся соцветиям рододендрона. День зарождался прекрасный.
Семья собралась к завтраку в столовой. На столе была праздничная скатерть, центральное место занимало блюдо с высокой стопкой тончайших постных блинов, вокруг пестрели вазочки с медом и вареньем. Евгения Андреевна выплыла из кухни с заварочным чайником в руках. Установив чайник на фарфоровую подставку, она прочла молитву и пригласила всех садиться. Взрослые без устали нахваливали ее фирменные блины, дети шумели, прятались под столом и бегали из комнаты в комнату, то визжа от радости, то рыдая и жалуясь друг на друга.
После завтрака Евгения Андреевна удалилась в свою комнату и не выходила до самого вечера. К ужину платье для внучки было готово — тонкое, белоснежное, с множеством кружевных оборок. После примерки Сашенька не хотела его снимать и даже собиралась в нем спать, но взрослые не позволили. Она разложила его на стульчике рядом с кроватью и утром, проснувшись, в ожидании, когда ее придут будить на праздничную службу, любовалась им. Домашние суетились и всё куда-то звонили. Она слышала, как открывалась и закрывалась входная дверь, ходили люди, а низкий мужской голос протяжно пел: «Упокой, Господи, душу рабы твоея, яко Един еси Человеколюбец…»

Пока падает снег
Баба Катя очнулась. Белая полоса света тянулась откуда-то сверху прямо к ней. Яркое сияние непривычно резало глаза, и старуха их прикрыла. Какая-то ленивая тяжесть завладела всем ее телом и даже взглядом. Пошевелиться не было сил. Она то проваливалась куда-то внутрь, то выныривала на поверхность и снова падала в темноту. Сознание нехотя всплывало с самого дна окоченевшей памяти. Смутные, размытые очертания чего-то важного кружились в голове и никак не схватывались. Во рту было сухо. В моменты, когда ей удавалось удержаться в действительности, она безучастно смотрела на светло-голубые облупленные стены, белый пододеяльник и широкое окно без занавесок. Из окна дуло. Ветерок приятно холодил лицо, пытался залезть под теплую шерстяную кофту и не мог. Как сквозь толщу воды, проплывали отдаленные раскатистые и глухие звуки и лица. Некоторые из них казались знакомыми, но откуда и почему баба Катя их знала, она не понимала. Белые халаты наплывали и растворялись, прозрачные трубки тянулись к ней с каких-то тонких железных подставок.
— Мать, мать, — услышала издалека баба Катя и рефлекторно откликнулась на него, открыла глаза. Над собой старуха обнаружила нависающее мужское лицо. Вгляделась.
— Мать, это я, Павел, сын твой. Узнаешь?
Баба Катя растерянно глядела на него, силясь понять, и не могла. Лицо исчезло, оставив после себя белый в трещинах потолок.
— Как она? — спрашивал Павел в больничном коридоре врача. Врач долго объяснял ему, что у матери все еще шок, она на сильных обезболивающих после ожога. Оттого и не разговаривает и не узнает пока. Надо ждать. Павел помял в руках принесенный пакет с апельсинами, оставил на всякий случай свой номер мобильного телефона и уехал в деревню.
После взрыва газового баллона смотреть на родительский дом было больно. Выбило окна, разнесло стены, искрошило печку. Павел нашел и привез из города бригаду строителей, и они разбирали обломки. Теперь ему приходилось часто мотаться из города в деревню, следить за ремонтом, привозить стройматериалы. Павел прикидывал в уме, во сколько это все ему станет. И так и эдак получалось недешево. Хотел к возвращению матери дом привести в порядок, а тут еще Зорька. Сколько раз говорил матери — хватит, продавай корову. Привезу тебе из города все, что нужно, но та ни в какую. И теперь вот — что с ней прикажете делать?
Уже двадцать лет мать жила одна. Зорька, куры и боров — вот и все теперешнее материно хозяйство. Дети — разъехались. Павел в тридцати километрах в городе, Зинаида сначала уехала на Север, а потом вернулась обратно, но жила отдельно. Последнее время и Павла потянуло на землю. Надоел город, задергал до черта. Павел откинул ногой в сторону обгоревшую деревяшку, втянул носом острый морозный воздух. Жгучая свежесть разрезала ноздри изнутри. «Как ее не убило?» — подумал Павел, представляя отброшенное взрывной волной материнское тело и обгоревшие ее руки и лицо. Протяжно замычала корова. Павел подернул плечами и пошел на мычание. Прошел через калитку палисадника, обогнул дом и зашел в хлев. Зорька обернулась на звук хлопнувшей двери, вытянула свою грязно-белую в черных пятнах морду и снова протяжно замычала, будто завыла. Клубы белого пара выходили из ее ноздрей и вытянутой глотки, наполненное вымя тяжело свисало. Боров спал в своем загоне, прикрыв повислым ухом морду. Куры, нахохлившись, сидели на жерди. Пахло навозом и сеном. Павел взял подойник, шагнул в стойло. В углу на привычном месте стояла материна скамеечка. Он присел на нее, как это делала на дойке мать, поставил подойник. Зорька лизнула розовым горячим языком свою ноздрю и стеганула Павла хвостом. Испачканный в навозе, кончик хвоста впечатался в щеку и ухо. Павел дернулся и выругался, обтер ладонью щеку. «Стой ты, дура!» — заорал он. Зорька в ответ быстро заперебирала копытами, закружилась в стойле. Подойник полетел в сторону. Корова громко тягуче мычала, не подпуская Павла к себе. Он сделал еще несколько попыток договориться с Зорькой, но она только голосила и стегала себя хвостом.
Павел зло сплюнул и прямиком пошел к сестре. Зинаида жила недалеко от матери. В семье ее звали «бешеная» за крутой нрав и злой язык. Чуть что не по ней — Зина ничего в себе не держала, сразу выбранивала, не скупясь на слова. Как порох загоралась Зинка, сладить с ней не было никакой возможности. Если чего она не захочет, так тому и быть.
Зинаида в старой, мешковатой, выцветшей куртке перекусывала на ходу хлебом и молоком. Оплывшее от времени тело собралось пучком сверху, поджарыми остались только ноги. Сквозь губную щель блестели железные зубы. Поредевшие светлые волосы, бывшие когда-то густой косой, лежали теперь уродливой короткой стрижкой. Павел зашел, поздоровался.
— Чего надо? — грубо спросила Зинка.
Павел завел разговор осторожно. Начал с больницы, потом обмолвился про ремонт.
— У меня денег нету, — резко ответила Зинка.
— Да мне и не надо, — протягивал очередную петельку беседы брат, — ты мне с коровой помоги. Не подпускает она меня к себе, дура. Вымя полное, того и гляди, разорвется. Мычит, а меня ни в какую не подпускает.
Зинаида прищурила глаз и отхлебнула молока из кружки. Опасный огонек блеснул в ее взгляде. Прямо тот самый, что на фотографии за ее спиной, где молодая и дерзкая Зина снисходительно смотрела вполоборота на фотографа, а первый муж Валя влюбленно и трепетно смотрел на нее. Время забрало и женскую красоту, и первую любовь, оставив Зинаиде только эти опасные угольки в глазах, которыми она безжалостно выжигала все вокруг, кляня свою несчастную жизнь.
— У меня и своих дел — куча. Мне своей коровы и хозяйства хватает — во как. — Зинаида прочертила большим пальцем невидимую линию по шее прямо под подбородком, обозначая свою предельную черту. — Это тебе не в городе — пошел и купил все в магазине. Тут мы все еще ручками да ножками делаем, братец.
Павел поджал губы, заглотил Зинкины обвинения.
— Слушай, ну помоги, жалко корову. Я ж не для себя стараюсь.
Зина отставила кружку в сторону, подперла грудь скрещенными руками.
— Не пойму я, чего ты так засуетился-то? То носа в деревню не казал, а то прямо.
Павел наклонил голову и растер медленно рукой затылок.
— Поможешь или нет? — спросил он и поднялся. Зинаида выругалась.
— А как прижмет — бежите к Зине.
Она гулко хлопнула дверью, и уже через минуту Павел слышал, как она охаживала во дворе сына. Вечером все же пришла доить Зорьку. Вышло полтора ведра. Зорька было хотела и Зинаиду к себе не допускать, но та быстро убедила ее не ломаться. Зорька сдалась, косясь глазом на злую стареющую женщину. Никто больше не гладил ее по спине, не приносил в кармане щедрых ломтей черного ноздреватого хлеба, не произносил в распев ее имени глубоким грудным голосом, и оттого Зорька протяжно мычала, звала бабу Катю, а та все не приходила.
Потихоньку баба Катя пообмоглась. Забинтованные толстые и непослушные поленья рук уже не пугали ее, и история про взорвавшийся в доме баллон обрела свое место. «Значит, так оно и было», — решила баба Катя, хотя так ничего и не вспомнила. Зато все остальное вернулось в ее памяти. И Павел, и Зинаида, и ее Зорька. Зорька снилась каждую ночь. То бредущая в стаде, то одна на лугу, медленно жующая траву. Баба Катя звала ее во сне, и Зорька поворачивала свою пятнистую морду, тянулась к ней влажным прохладным носом. Баба Катя протягивала в ответ руки и просыпалась. «Как там она?» — тревожно думала баба Катя, открыв глаза. Тихонько шоркала по палате из угла в угол, не находя себе места. Павел приезжал изредка, был занят починкой дома. Зина, понятно, на хозяйстве, когда ей. Больничное безделье разъедало душу тревогой и беспокойством, лишало жизненной силы. Баба Катя все время думала о доме и Зорьке. «Отпустили бы меня, я с Божьей помощью потихоньку и вернулась. Чего я тут лежу? Только тоска одна выходит. А руки? Руки заживут, Бог даст». Врачи обещали, что отпустят, как только станет лучше. Старушка часами сидела на кровати, смотрела в окно на суетливый райцентр и тихонько молилась. Благодарила Бога, что уберег ее; просила за детей своих, чтобы жизнь их складывалась хорошо, чтобы не было им отказано во всех благах земных, и молча просила за Зорьку. Десять лет — немалый срок. Сжились они с ней, сроднились. Чуть свет забрезжит — баба Катя бежит в стойло. Вилами тащит сена своей кормилице, лопатой убирает навоз. Гладит широкие ее бока, треплет междуглазье. Скорей бы.
Стройка шла полным ходом. Печку Павел решил не восстанавливать, провести вместо нее отопление. Хватит матери горбатиться. Зашла Зина, тяжело поставила ведро с молоком, оглядела ремонт.
— Как там мать? — спросила она, устало процеживая и переливая молоко из ведра через марлю в трехлитровые банки.
— Лучше, — ответил Павел, — ожила, только не разговаривает. Ну и руки забинтованы пока. Говорят, медленно заживают от старости.
Зинаида закрыла крышками банки. Две поставила в свою авоську, одну оставила брату.
— Сколько так продолжаться-то будет? — раздраженно спросила она. — Мне тоже не разорваться бегать на два дома. Я не семижильная. Скотину кормить, убирать надо.
Павел молчал.
— Чего молчишь-то? Решать что-то надо, — напирала Зина, — сколько там она еще лежать будет? Может, полгода на это уйдет.
Зинаида набирала силу, заводилась.
— Зин, ну я-то чем виноват? От меня это не зависит. Я, вон, что могу — делаю. — Он махнул в сторону рабочих. — Забирай корову себе. Легче будет. Бегать не надо, а сено я привезу.
— Да на что она мне! Мне своей хватает!
— Ну, я не могу за ней ходить. И так дома не бываю.
— Значит, продать надо, — выпалила сестра, — нет коровы — нет проблемы. Вот тебе мое слово.
Зинаида ушла. Павел надул щеки, погонял в них воздух и пошел к машине. Всю следующую неделю Павел продавал корову. Корову никто не брал. Не помогала ни Зорькина молочность, ни жирность молока. У всех скотинка была, а вторую корову держать больно хлопотно.
***
С утра баба Катя волновалась. Выписывали, отправляли долечиваться домой. Наконец приехал Паша. Отчего-то мялся, все про дом говорил. Всю дорогу домой баба Катя молчала. Все смотрела в окно. Ждала, как покажется поворот в деревню. Въехали, она и вовсе засуетилась, заплакала. Все на месте. Павел высадил мать у дома. Она хотела сразу в хлев, к Зорьке, но сын повел показывать отопление, новые окна. Она все кивала и гладила сына по руке. На месте печки всплакнула, ее было жалко. Без нее дом стал пуст. Павел все водил мать по избе, удерживал. Наконец, баба Катя, вырвалась и поспешила на скотный двор. Ноги шлепали по снегу. Забинтованными руками она осторожно потянула дверь на себя. Пустое вычищенное стойло зияло пустотой. Сердце забилось торопливо и полезло к горлу. Баба Катя оперлась локтем о загородку, откинулась, чтобы вдохнуть побольше воздуха.
— Зорька, — вырвалось из ее горла, — Зорька.
Павел прибежал следом.
— Мать, ты пойми, — торопливо и сбивчиво говорил он, — ты была в больнице, у Зинки свое хозяйство, да и возраст у тебя, сколько можно…
Баба Катя слушала и не слышала. Все смотрела в пустое стойло. В голове что-то шумело. Она отодвинула рукой сына и побежала к дочери. Через калитку и сразу в хлев. Там только Белянка жевала сено. Баба Катя заплакала тихо, беззвучно. Слезы застревали в ее глубоких морщинах, скатывались к уголкам повязанного платка.
— Зорька, — снова позвала она.
— На скотобойню сдали, — услышала баба Катя соседку через изгородь, — такую корову сдали, ироды. Ты не плачь Егоровна, что уж.
Соседка ушла. Падал снег. Кричали петухи.
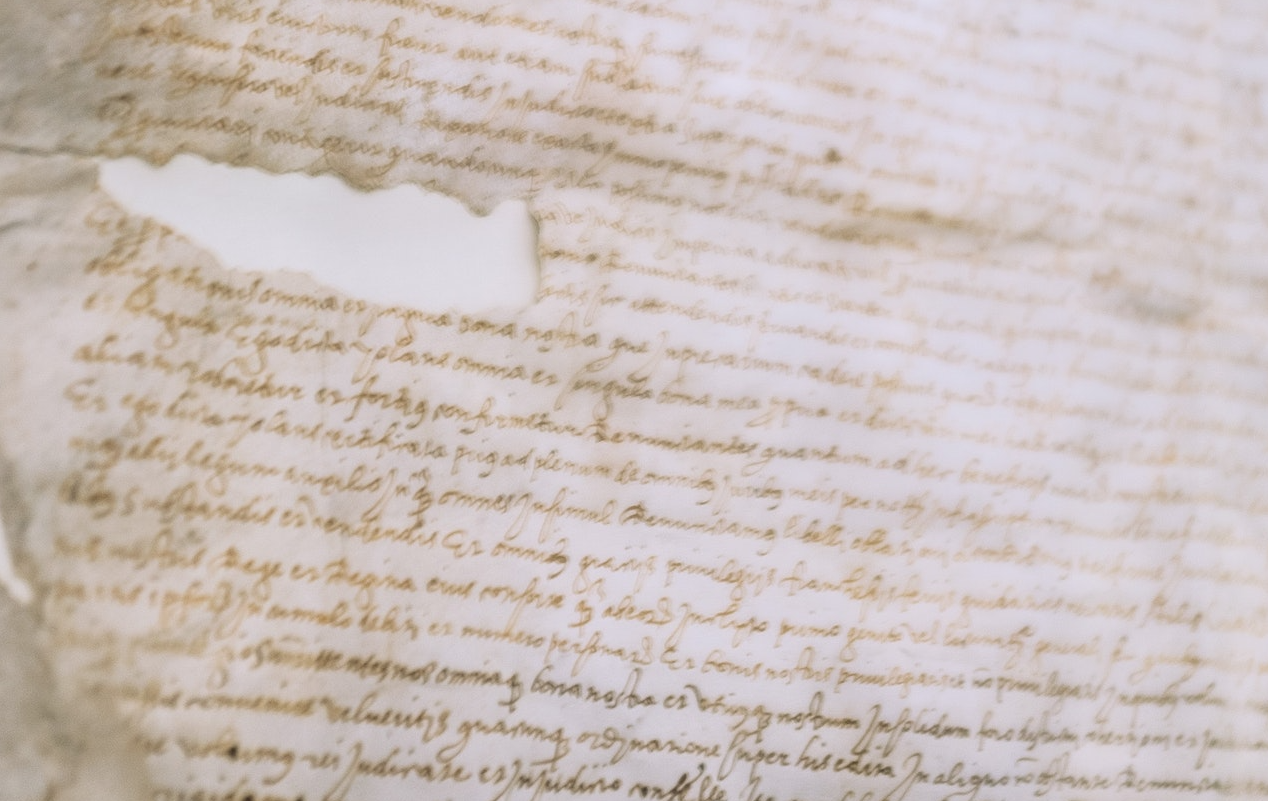
Потрясение
В один из дней, про какие обычно говорят, что в них ровным счетом ничего не происходит и время как бы нарочно замедляет свой ход, я сидел в кресле и перечитывал уже много раз читаный роман. Выбрать что-то новое я не мог — все книги с полок побывали в моих руках не по одному разу, в чары новых имен в литературе я не верил, а может, я попросту чувствовал себя лучше среди любимых персонажей и происходящих с ними историй, чей конец мне всегда был известен наперед. Любопытство меня не подгоняло поскорее добраться до развязки, в доме, кроме меня, никто не жил, и я мог всецело отдаваться очень медленному вдумчивому чтению. В общем-то, несколько последних десятков лет моей жизни так и проходили — размеренно, предсказуемо, тягуче, словом, без потрясений.
Предвкушая известный мне поворот сюжета, я перевернул шероховатую страницу с затертыми внизу следами то ли шоколада, то ли кофе, и оторопел. Тонкий, почти прозрачный, как калька, сложенный вдвое листок с небольшим заломом на правом углу лежал между страниц. Не решаясь сразу развернуть, я сначала поднес листок к лампе, чтобы рассмотреть его на просвет: под гладкой прохладной бумагой пульсировали скученные буквы. Я стал вспоминать, когда читал эту книгу в последний раз — кажется, то было позапрошлогодней весной. Тогда не произошло ничего необычного, разве что птица, залетевшая мне как-то в окно. Приезжал ли кто ко мне? Откуда мог взяться этот листок меж страниц? Кто его положил? Не имея ни единой догадки, что там написано, я уже тревожился вопросами.
Рука начала ныть от неудобной позы — не знаю, сколько прошло времени в этом тягостном обдумывании, — и я опустил ее, внутренне смирившись с тем, что нужно все-таки раскрыть этот листок и подвергнуть себя неизвестному. Да, пожалуй, не жажда разгадки тайны была главным чувством, наполнявшим меня, а именно страх прочитать что-то такое, что навсегда может изменить эту мою привычную жизнь, в которой давно не было места никаким загадкам и переживаниям, кроме описанных на страницах книг. В ней не было места встречам и расставаниям, мечтам и томительному ожиданию, не было места подаркам и сюрпризам, объятиям и поцелуям, семейным обедам и фотоальбомам, изменам и разочарованию. Так вышло, что родственников у меня не осталось еще в раннем детстве, обрести друзей я никогда не стремился, боясь привязаться к кому-то и вновь пройти через потери, а любви я никогда не искал — да и она обходила меня всегда стороной. За юностью как-то резко пришла зрелость, которая и подтолкнула меня к решению потратить завещанные мне деньги именно на такую затворническую, безмятежную жизнь. Прошли годы, и время научило меня, что даже у пресных дней свой особый вкус, который мне и полюбился.
Сделав глубокий вдох, я решился прочитать послание. И тут — стук в дверь. Я посмотрел на стенной календарь — была бы третья суббота месяца, то мог быть доставщик продуктов, которые я по обыкновению заказывал у нескольких домашних хозяйств. Но он обычно приезжал утром, и не случалось ни разу такого, чтобы он приехал вечером. К тому же, как оказалось, все-таки был четверг. Снова постучали. Я с некоторым облегчением отложил листок и пошел проверять, кто это мог быть. Приложил ухо к двери — тишина. Спросил: «Кто там?» — ответа не последовало. За дверью никого не было. Я вышел за порог, спустился по лестнице вниз к дорожке, чтобы проверить, не ждет ли кто у калитки — все-таки свет в моих окнах явно извещал любого, что я был дома. Но кто бы это ни был, он уже ушел. Может, я потерял счет времени и слишком долго соображал, какой сегодня день, так и замешкался там в комнате. Калитка была закрыта, никакого следа, никакой поломанной или хоть задетой кем-то небрежно ветки я не заметил: все кусты, как на картинке, стояли недвижимо, как будто и ветра не было. Я постоял немного в нерешительности, подышал прохладным воздухом и с волнением пошел в дом.
Всё это меня уже серьёзно тяготило. Ладно бы одно письмо в книге. Что всё это значит? Кому понадобилось нарушать мой покой? В этих краях жило мало людей, когда-то, поначалу, они пробовали увлекать меня в свои прогулки и походы в лес, но в итоге поняв, что я не лучший компаньон, к моей радости, отвязались. Соседские мальчишки давно выросли, и никому уже не могло прийти в голову посмеяться надо мной, одиноким стариком.
Едва переступив через порог, я понял, что стою в темноте. Света не было ни в одной из комнат. Горел же, пока я был на улице. Или мне это почудилось? Я знал каждый угол своего дома, он был для меня убежищем от непогоды и любых жизненных страстей, моим островком безопасности, потому я легко прошел через темный коридор и добрался до своего книжного угла, не задев ничего по пути. Сел в кресло и перевел дыхание, нащупал лампу — зажглась. В комнате всё было по-прежнему: за годы просиживания здесь за книгами я запомнил расположение предметов на полках и очередность картин, расстановку мебели и количество складок на шторах, форму пятен на полу и трещин на потолке, и, конечно, я точно знал, какой автор следует за каким на книжных полках.
Оглядевшись по сторонам и набравшись смелости, я потянулся к оставленной на столике книге в надежде покончить со всей этой чертовщиной. Мысленно я уже ругал себя, что отвлекся на все эти долгие размышления, на подсчеты времени, воспоминания о минувших днях, на поиски невидимого гостя. Надо было сразу прочитать письмо, как только я его увидел. Я пролистал всю книгу — ничего, потряс ею в воздухе, осмотрел стол и пол. Я обошел всю комнату — безрезультатно. Зажигая свет повсюду, я обшарил весь дом по нескольку раз. Листок бесследно пропал. Я выбежал из дома в смятении, силясь вспомнить, как это всё было всего полчаса назад, отложил ли я всё-таки этот листок, когда услышал стук, или вышел с ним. Я проверил одежду, которая была на мне, и вернувшись обратно, заглянул в карманы плаща, который не надевал. Никакого листка нигде не было. Уставший, я добрел до кресла и впервые в жизни решил не дочитывать роман — ведь я знал, чем всё закончится.

Просто посидим
Одним глазом она видела, как потек в окно молочно-белый рассвет, второй глаз никак не могла открыть. Кажется, было где-то пять утра, может, чуть раньше. Двух часов сна явно не хватило, потому что голова, даже вроде неподвижно лежащая на подушке, гирей давила вниз, до матраса, до пола, налитая похмельем.
Олеся спала рядом, совершенно тихо. Безгрешно.
Сашины глаза проследовали от впадинки между шеей и плечом — там виднелась еще не размытая осенью полоска от купальника, и дальше, к предплечью. Саша задержала дыхание, а потом легонько подула на это плечо — зашевелились золотистые волоски. Золотистые, даже в белом-белом свете из окна. Почувствовав, что дыхание её совсем не легкое, а горячее, тяжелое, она тут же прекратила.
«Могу ли я?» Теперь совсем не дыша, одним движением, насколько возможно ловко, Саша подобралась и продвинулась всем телом вперед.
Диван-еврокнижка издал короткий стон.
Вчерашняя реальность заклубилась в Сашиной голове в рембрандтовских охристо-черных оттенках. Олеся с полвосьмого вечера много пила и смеялась шуткам ребят, закусывала каждый новый бокал то виноградиной, то маленьким кусочком пармезана. А потом проникновенно пела такую избитую, в тысяче посиделок у костра сыгранную, «Неву». Нева-Нева-неважно. Под первый припев Саша вдруг призналась себе, что ныть в низу живота от одного голоса Олеси начало еще месяц назад, на истории или на обществознании. Тогда Олеся пришла с новой стрижкой «под мальчика». Она так смеялась, все говорила — смотрите, я совсем как придворный паж, французская кокетка!
На вечеринке эта легкая истома последних недель превратилась разом в одержимость, боль поползла снизу в сторону сердца и там укрепилась, обняла мягкими лапами.
Саша сжала крепче губы, чтобы жаром дыхания не спалить нежную Олесину спину. Левой свободной рукой она, чуть приподнимая одеяло, подлезла к этому плечу — чуть ниже — над ребрами, и вот ладонь легла под грудь. Выдох. Олеся, как будто вторя, вздохнула. Вдох — и Сашина ладонь эту грудь сжала, мягкую, беззащитную под одной тонкой майкой.
…Брюшко синицы, присевшей поклевать зерен с руки, только проснувшийся месячный котенок потянулся и свернулся снова калачиком…
В животе бабочки враз превратились в пламенеющие звезды.
Сгорело всё, кажется, они ничего не пощадили.
***
Следующие недели вся школа гудела, сразу несколько мероприятий на носу: школьный концерт, районные соревнования по бегу на короткие дистанции и, кажется, баскетбольный турнир между их и соседней школой. Девчонки готовились поддерживать мальчиков, рисовали плакаты, наспех сколоченные группы репетировали песни на переменах.
Саша, проходя по коридорам, старалась изо всех сил казаться меньше, поднимала плечи, прижимала подмышкой рюкзак. Удивительно, как в такой большой школе сложно потеряться и остаться наедине с нежными мыслями. Мыслями, начинающимися на «а что если», «что скажет мама, когда…» и заканчивающимися неизменным «я ни за что ей не признаюсь». На переменах шум был невыносим, разноцветными лоскутами, калейдоскопом крутились перед глазами сумки, стенгазеты, спины, кроссовки. На первом этаже пахло мини-пиццей и кофе, на втором, третьем и так далее этажах — тошнотворно-сладкими нотами дезодоранта Axe-effect, свежим потом «только после баскетбола», мешками из-под сменной обуви, последними новинками пробников из Л’Этуаль.
Сашины мысли пахли жасмином и Олесиными волосами.
Каждую вторую перемену она укрывалась в туалете. И тщательно, почти кипящей водой, и с твердым, с продольными трещинами, розовым мылом, она терла, терла руки. Ладони становились сначала теплыми, тепло поднималось по плечам, и от этого мурашки разбегались по затылку, по спине. Потом руки краснели, начинали болеть. Как будто еще чуть-чуть и сойдет вся кожа. Тут она обычно останавливалась.
***
Пятым и шестым уроком шла физкультура, класс отрабатывал спринтерские забеги. Сегодня должны были назначить пятерых будущих участников соревнований.
— Саша!
— Да. — В желудке загудела пчела тревоги. Саша знала, что пробежит хорошо, но всегда, всегда пальцы начинало покалывать иголочками. «Вдруг проиграю?»
— Катя!
— Здесь!
— Олеся! — Она улыбается, шагая вперед. Какая она все-таки. Косая челка отросла, закрывает правую бровь.
— Вы трое — на старт. Полина, Даша, вы следующие.
Вдох. Выдох. Корпус вперед, правая нога назад на носок.
— Внимание…
Собралась.
— Марш!
Саша рванула со старта и почувствовала, что забыла очень важное: надеть под футболку спортивный лифчик.
После забегов определились победители: Саша, Олеся и Даша. На правах спортсменок их отправили на скамейку — отдохнуть, отдышаться.
Они сидели, вытянув ноги, дышали. Саша скрестила руки, баюкала ноющую грудь.
Солнце рисовало тенями деревьев и мазками света прожилки на асфальте, на примятой траве вокруг стадиона. В кронах деревьев сладко щебетали галки, в пыли ласкались воробьи. Конец сентября, индейское лето.
Вдруг — касание. Теплой, персиковым боком налившейся щекой Олеся провела по Сашиному плечу. Наивное, детское движение, совершенное в своей простоте.
Саша закрыла глаза. Олеся также не двигалась, голова наклонена, висок невесомо касается шва на плече футболки. Спустя одну — может, две — божественные минуты, она проговорила так, чтобы только Саша услышала:
«Давай просто посидим еще, пожалуйста».
И где-то под сердцем бабочки снова стали звездами.

Прощание по-английски
Из расщелин полуразрушенного дома пробивалось молодое деревце. Груда мешков с песком, оставшихся со времен бомбежек Одессы, лежала на тротуаре картофельным буртом. Лучи заходящего солнца подсветили розовым светом облако, зависшее в небе, как аэростат воздушного заграждения.
Лида бросила в ведро таблетку красного стрептоцида, помешала скалкой, чтобы таблетка хорошо растворилась, ступила в ведро, и через несколько минут ее ноги покрылись морским загаром.
Затем то же проделала Света. Лида, вооружившись темно-синим карандашом, нарисовала подруге сзади ровную линию по всей длине ноги. На расстоянии полуметра не отличишь от тонких чулок. Осталось надеть платья, и они готовы.
Сегодня суббота — танцы в Интерклубе. Им, студенткам иняза, не только разрешалось, но и рекомендовалось бывать там. Да вот незадача, пойти не в чем, выкручиваются как могут. Платья то и дело перешивают, кофточками обмениваются, а с чулками совсем беда. Света на прошлой неделе рассказывала какому-то американцу, что у них, у русских, есть традиция — с первого мая ходить с голыми ногами, но, казалось, он не поверил. Хорошо, запас стрептоцида есть.
В полвосьмого девушки сбежали по выщербленной мраморной лестнице. Путь от Лидиного дома хоть и недалекий, а идти нужно аккуратно, не дай бог, единственные туфли на рытвинах и колдобинах развороченных дорог поцарапаешь.
К восьми девушки подошли к Интерклубу. Было свежо, с моря задувал прохладный ветерок, над улицей плыл парфюмерный запах белой акации с примесью ванильной нотки табака. Английские моряки курили трубки, чтобы добавить солидности себе, недавним выпускникам военно-морского колледжа, розовощеким и крепким, как осенние яблоки. Им в городе не удивлялись, корабли союзников доставляли товары по ленд-лизу.
Дэвид с группкой молодых офицеров стоял на тротуаре и с ожиданием смотрел на прохожих. Завидев девушек, он сделал шаг навстречу и тут же остановился под цепким Светиным взглядом.
— О, опять этот красавчик дежурит. Лида, не дури. Мы тут, чтобы английский практиковать, а не романы крутить.
Девушки подошли к входной двери. Лида старалась незаметно вытереть вспотевшие ладони о вельвет платья. Дэвид приснился ей сегодня — синие глаза на загорелом лице, смешливые ямочки над коромыслом плеч. Она думала о нем всю неделю.
Моряки оживились:
— Леди, приятно вас видеть вновь. Давайте пройдем внутрь. Танцы скоро начнутся.
При входе началась милая суета, затем все вошли в зал. Блики ламп отражались в натертом паркете, оркестранты стали настраивать инструменты. Все неловко молчали, и тут раздались первые аккорды. Дэвид, стараясь казаться спокойно-официальным, пригласил Лиду на вальс. Офицеров Королевского флота обучали и искусству танца, и галантного обхождения. Лида вложила руку в его крепкую ладонь, и приятное тепло начало перетекать в нее, разливаясь по всему телу. Дэвид, не отрываясь, смотрел на прядь, большой запятой лежавшую на Лидиной шее. Он не слышал звуков оркестра, почти беззвучное дыхание девушки полностью заглушило их.
Танец закончился, Дэвид повел ее к подруге. Они проходили за колонной, как Лида почувствовала руку, опустившую что-то в ее карман. Записку она прочла, отлучившись в туалет — «Приходите завтра в шесть на бульвар. Только, пожалуйста, будьте одна».
Ей хотелось сохранить этот кусочек нездешней плотной бумаги, но Лида понимала — опасно. Белыми хлопьями обрывки закружились в воронке спускаемой воды. Водопровод в освобожденной Одессе починили два месяца назад.
Лида с Дэвидом встретились взглядами. В ее, полном изумления, читалось: «Так не бывает».
Света отвела глаза. Ей казалось неловким быть свидетелем этого немого диалога.
Больше в тот вечер они не танцевали. Их со Светой приглашали наперебой, но через полчаса девушки ушли. Лида жаловалась на головную боль. Уже к десяти она была дома. Села в уголок дивана, обхватив ноги, и смотрела в прямоугольник ночи через открытую балконную дверь. Лунные блики в тишине плясали на любопытной ветви платана, что заглядывала в комнату. В шелесте листьев она хотела услышать «да» или «нет», но дерево молчало. Потом долго закручивала в косички бахрому на гобеленовом коврике, вернувшемся с ней из эвакуации. Гуси-лебеди ее детства все улетали и улетали куда-то в небо, а с колеса лесной мельницы капли летели прямо на щеку. Ей казалось, она не уснет, но молодость и усталость взяли свое.
Проснулась назавтра позже обычного, с тяжелой головой. Пошла на кухню поставить чайник. Пока он грелся, Лида смотрела в окно, вдруг встала на широкий подоконник и начала тереть окно кусками старой газеты. Она выписывала круги, стекло под ее руками тоненько повизгивало и просило пощады. В окнах напротив отражалась серая громада их дома. С улицы раздавался звон колокольчика и выкрики, долгие и неразборчивые, то ли «ножи точим», то ли «старье берем».
— Лида, а чего это вы взялись окно мыть сегодня? И неделя вроде не ваша, — пропела Ольга Никифоровна, вплывая в кухню с подносом, уставленным кастрюлями и мисками.
— Да вот, показалось — разводы грязные, решила протереть.
Соседка удивленно вскинула брови и сложила в куриную гузку и без того небольшой рот.
Лида спрыгнула на пол, подошла к тумбочке, покрытой синей клеенкой. Плиту они делили на троих, а шкафчик у каждого был свой. Она присела на корточки и начала быстро выставлять на пол его небогатое содержимое — две кастрюльки, пару тарелок, ножи-вилки.
Вынула посуду и постояла немного, покачиваясь с носка на пятку, накручивая на палец волосы. Потом схватила кусок голубой фланели, намочила под плюющимся краном и начала мыть полки. Сначала рывками терла посередине, затем поддевала ткань пальцем и проходила по краю, стараясь забраться в самые дальние уголки.
Соседка варила суп. Обычно Лида сразу убегала от тяжелого запаха вареной капусты, а сегодня и не обратила внимания, продолжала водить тряпкой.
Фраза из записки металась в ее голове и не могла найти уголок, где бы пристроиться, затаиться, свернуться в клубок и сделать вид, что место ей там было всегда.
Обычно, когда Лиде нужно было принять решение, она брала лист бумаги и с одной стороны писала «плюс», с другой — «минус», заполняла оба столбца и понимала, как нужно, но что делать сейчас, когда одни «плюсы», а в целом все получается неправильно?..
В понедельник Лида увидела седую прядь над левым виском, которую закрашивала потом всю жизнь.
На бульвар она все-таки пришла, через три дня. Сквозь слезы смотрела на знакомый порт, что раскинулся внизу, у подножия лестницы, там монотонно и натужно выли сирены, и ровно в шесть большой корабль отошел от причала. Отошел по-английски, не прощаясь.

Самсара
Ману уезжал в Дарджилинг на заработки, но ничего не вышло. Он возвращался к жене и четверым малышам в поезде, где мог себе позволить только место на грязном полу.
Сквозь желтое от пыли окно душного, забитого потными телами вагона Ману увидел странную фигуру не то бродяги, не то монаха в выгоревших бурых одеждах. Тот шёл странно, прерывчато, словно персонаж на порванной киноплёнке, появляясь внезапно на несколько метров впереди себя самого. Ману потряс головой: должно быть, в глазах двоилось из-за жары.
Спустя какое-то время плотный ковёр из шума и гомона в вагоне словно приподнялся, и под ним в густой тишине прошёл странный человек. Многие отодвинулись и отвернулись, но Ману был слишком подавлен и не сдвинулся с места.
Человек сел напротив него, кряхтя, подогнул одну ногу с закостеневшими жёлтыми ногтями, а вторую не смог согнуть — судя по намотанным на неё тряпкам, там была рана.
Поезд дёрнулся и, наклонясь, поплыл вперёд. Ману поднял взгляд на незнакомца.
Когда-то в детстве он видел океан: в полдень солнце блестело на лезвиях волн, смешивая молочно-голубое и нестерпимо-белое. Так же блестели сейчас глаза бродяги на выкопченном лице, и Ману, не выдержав, отвел взгляд.
— Остался без работы? — спросил бродяга таким голосом, словно в бочку постучали.
Ману хмыкнул.
— А ты, видать, бродячий мудрец?
Тот улыбнулся, бронзовая кожа на щеках стянулась веером морщин.
— Шутишь — это хорошо, — отозвался он.
— Ну так кто ты такой? — нетерпеливо спросил Ману.
Поезд ворвался в тоннель, стало темно и шумно, а потом всё снова залило топлёным солнечным светом, и ветер затрепал бороду бродяги.
— Дэв, который выиграл свою судьбу в карты, — ответил тот, всё так же улыбаясь.
Ману хмыкнул и сложил руки на груди.
— Должно быть, эту сказку ты рассказываешь, чтоб тебе дали денег?.. Так вот, у меня их нет.
Бродяга не обратил на его слова никакого внимания.
— Дэвы частенько играют на судьбу, — сказал он, глядя в окно, на блёклый пейзаж, на изломанную линию гор вдалеке. — Я был молод, как дурак, и любопытен. Обычно я носился чёрт-те где, упиваясь собственной силой, хохоча от восторга, не думая о том, кто я и откуда взялся в этом сияющем хрустальном пространстве. Однажды в одной из игр мне выпала судьба, имя которой здесь, в Индии, хорошо знают, но я тогда услышал лишь незнакомое слово, которое звучало как имя любимой. Другие дэвы сказали мне: если забудешь, как оттуда выбраться, назови имя этой судьбы, как только его вспомнишь.
Поезд запел, притормаживая. Впереди была остановка, каких на пути много.
— Едва они успели дать мне совет, как я оказался ввергнутым в стремительный поток. Меня несло вверх по тёмному и тёплому, и всё вокруг гудело и стонало, а потом вдруг перестало, и я остановился, и стал маленьким, плотным и горячим, и время приобрело ход. Я начал набухать и расти, неизменно слушая, как красное мясное солнце бьётся где-то высоко вверху, а спустя девять земных месяцев мои лёгкие разрезал первый вдох холодного, но такого желанного воздуха. Да, я хорошо запомнил своё рождение: красные руки повитухи жадно вертят и мнут меня, а затем отдают обессилевшей матери.
Мои воспоминания о прежней бестелесной жизни смутно мерцали где-то на дне глубокого колодца ума, и ребёнком я догадался пристать с вопросами к одному странствующему монаху. Он предложил взять меня в ученики, на что родители охотно согласились, и забрал меня в монастырь. Там спустя много лет я и вспомнил, как выиграл судьбу человека, и долго, долго смеялся.
Поезд задержался на станции, и в вагоне сгустилась духота.
— У тебя есть питьё? — спросил бродяга Ману.
Тот нехотя протянул ему свою бутыль — воды оставалось совсем немного.
Бродяга сделал несколько громких глотков.
— Так почему же ты всё ещё здесь? — Ману глядел на него с недоверием.
Тот с плещущим звуком оторвался от фляги и вытер бороду сухой рукой.
— Я не хочу возвращаться обратно. В вашем мире есть многое, что мне кажется несправедливым. Но ещё больше в нём того, чего нет нигде — того сжатого, пружинящего ощущения жизни, дурманящей упругости тела, остроты голода, любви, угасания. Это для меня гораздо приятнее, чем безвременье.
Ману сказал зло:
— Тебя нравится жизнь? Посмотри на меня. Завтра утром мне нужно что-то сказать жене и детям, а у меня нет для них и крошки хлеба.
Холодные голубые глаза бродяги блеснули.
— Ты хотел бы поменяться со мной? — спросил он.
— О чём ты? — Ману не поверил своим ушам.
— Ты вернёшься в мир духов вместо меня. А я позабочусь о твоей семье.
Ману замер.
— Но разве такое возможно?
— Да, если ты действительно этого хочешь.
— Но моя жена не примет дома бродягу, а дети не признают в тебе отца.
Дэв засмеялся.
— Ты не понял. Ману вернётся домой и будет думать, что он Ману, пока через много рождений не вспомнит этот разговор. А бродяга исчезнет, потому что дэв тоже вернётся домой и вскоре забудет о том, как он стал дэвом.
Ману задумался. Он не слишком-то верил бродяге, но терять ему было нечего, жгучий стыд сжигал его при мысли о предстоящей встрече с семьёй.
— Ты обещаешь, что позаботишься о них?
Бродяга кивнул.
— Я согласен, — выдохнул Ману. — Я хочу поменяться с тобой и отправиться в мир дэвов.
— Ты должен назвать имя этой судьбы, — напомнил дэв.
Ману кивнул.
— Самсара, — сказал он.
***
Поезд сильно тряхнуло, и Ману проснулся, соскользнув по стене и едва не упав. Стало уже темно и не так душно. Люди спали вповалку, лёжа кто как. Ману вспомнил разговор с бродягой и оглянулся — того нигде не было.
«Приснится же», — подумал он и попытался снова уснуть, но у него не получилось.
Ворочаясь и пытаясь устроится на твёрдом косяке, он вдруг вспомнил об одной работе, которую просил его сделать Каран из соседней деревни ещё полгода назад. Тогда он не смог, но теперь это было бы кстати. Очень, очень хорошо, что он об этом вспомнил.
Сделав глоток из почти пустой фляги с водой, он прислонился к окну и снова уснул.

Собака по кличке Аджика
Казалось, я вросла лицом в руль. Кровь замерзала. Я оторвала разбитую щёку от рулевого колеса. В голове стоял такой гул, что не заметила разницы, гудит клаксон или уже нет. Я сидела и смотрела вперёд. Над вспученным капотом нависал бетонный столб. Я отстегнула ремень и попыталась открыть дверь. Заклинило. Стала биться в неё плечом, топтать ногами. Не поддаётся. Справа сидела моя собака и улыбалась. Будто смеётся надо мной. Руль и куртку испачкала гранатовая кровь. Боковым зрением я увидела красное пятно в зеркале. В том месте, где отражалось моё лицо. Рядом было как минимум две двери, через которые я бы вышла из разбитой машины. Но нет, я билась в водительскую дверь, бездумно, как муха в стекло у распахнутой форточки. Единственное, что мелькало на изнанке сознания, это мысль: с каких пор я в этом дерьме?
Не так уж и давно. Это началось где-то месяц назад.
Аджика, как я назвала взятую в приюте собаку, подбежала к пеньку и обнюхала. Уже несколько дней меня посещали странные мысли, что я чувствую её настроение и желания.
«Снова он! Это его территория. Любитель сосисок и творога, — вдруг возникло у меня в голове. — Он всё тут метит. Тоже мне, захватчик!» Затем Аджика присела рядом с пеньком и оставила свой отзыв.
Она встала, и мы встретились взглядом. Мне почудилось осознание в её глазах, что я слышала её мысли. Аджика то ли чихнула, то ли хмыкнула, и затрусила дальше. Мы продолжили гулять, а в моей душе продолжили, как круги по воде, бежать и множиться ощущения тревоги, предчувствие чего-то недоброго.
Я взяла её в приюте для собак. Она мне сразу понравилась, хотя почему-то сидела в углу, особняком, склонила голову, изучала остальных собак. Но как только я подошла к вольеру, она подобралась. Не подбежала, как остальные, не скулила и не прыгала лапами на решётку. А спокойно смотрела умными глазами. Потом открыла пасть и вывалила язык: я решила, она мне рада. Затем узнала, что никто из собак с ней не играет, даже не приближается. Вопреки тревожному звону внутри, я решила, раз её здесь не любят, я возьму её. И буду любить.
Начались наши совместные дни и ночи. Всё шло своим чередом. И вот однажды я проголодалась. Хотя только встала из-за стола. Я проходила мимо Аджики, и мне стало так голодно, что изо рта потекла слюна. Я ни о чём не думала, кроме фрикаделек. Потом я ушла в ванную, Аджика лежала на кухне, и голод прошёл столь внезапно, как наступил. Я вернулась к ней, снова засосало под ложечкой, а рот наполнился слюной. Хотелось добавки и поскорее, и побольше. Вместо этого я покормила собаку, и голод исчез.
В другой раз мы с Аджикой спали, в окнах гудела вьюга. Чтоб собака меньше боялась, я брала её в кровать. Вдруг она свалилась на паркет. По телу вспышкой пронеслась боль, я ощутила на себе этот удар, но спросонья решила, что упала сама.
Я мыла Аджику под контрастным душем и чувствовала то жар, то озноб. Гладила её, и по моей коже бежали мурашки. Затем я услышала её мысли. Как будто мне в мозг транслировалась радио. Я слышала, как она думала о том, что видит и нюхает, терпит и ждёт.
Я думала о своём даре. Всё получалось само собой. Мне казалось, у меня сверхъестественные способности. Я уже представляла, как снимаюсь в передачах, рассказываю, что чувствуют домашние животные, о чём их мысли.
Затем эта тварь сделала то, из-за чего я врезалась в столб.
Я наклонилась погладить собаку и увидела свою руку. Её глазами. А потом мы разделились: я и моё тело. Я была в Аджике, перебирала её лапами, мотала её головой. Я закричала, но из горла вырвалось кряхтение, похожее на скулёж. В мозг ударил шквал запахов, и я знала, откуда тянется каждый. Я уставилась на хозяйку. Она смотрела с ужасной высоты, почти что с потолка. Это была какая-то башня в пижаме с горой рыжих кудрявых водорослей на верхушке. Она не двигалась, таращилась на меня, затем посмотрела на руки. На губах заиграла кривая улыбка. Она шагнула в сторону, как человек, который только вышел из комы. Замахала руками, ловя равновесие. Поймала. Медленно и кособоко сделала ещё два шага. И посмотрела на меня. Таким взглядом, словно только что заняла первое место на олимпиаде, а я, её главный соперник — последнее. Я озиралась, не зная, куда себя деть, как всё вернуть обратно. Пробовала представить, как переношусь в своё тело, но не смогла. Лишь подумала об этом на уровне «я — туда», и всё, это был мой предел. Но это сработало. Во всяком случае, я так подумала в тот раз. Я оказалась в своём теле. Сердце дико колотилось, я закричала: «Назад!» — собака попятилась, а я выбежала из спальни и захлопнула дверь. Ночевала в ту ночь Аджика на улице.
Второй раз не заставил себя долго ждать, но я не могла вернуться в своё тело. Она ходила вокруг меня, пока я была Аджикой, и смотрела, как победитель на проигравшего. Из её горла вырывалось хриплое бульканье, похожее на лай. Наверное, это был смех. Я силилась переместиться обратно, но не смогла даже подумать «мне — туда». Затем ко мне вернулось зрение. Я увидела собаку и поняла: это я там, внутри. Вжалась в пол и дрожала. Смотрела так, словно меня собрались убить. После зрения вернулось осязание, и, наконец, перенёсся рассудок.
Аджика как ни в чём не бывало лежала на паркете. Смотрела, как я шлёпаюсь рядом на пол. Перед глазами всё поплыло, потекло. Зашмыгал нос. Я не хотела расставаться с ней. Но если у меня такой дар, то лучше буду избегать животных, чем останусь навсегда в шкуре Аджики или кого-нибудь.
Я собралась, мы сели в машину. Пристёгивая Аджику, я заметила, как она напряглась, но не придала этому значения. А зря.
Не успела я выехать на трассу, как это случилось в третий раз. Я оказалась в её шкуре, всё еще не догадываясь, что не по своей воле. Она держала руль и давила на педаль. Затем мы снова поменялись зрением. Я увидела, как мы едем в фонарный столб. Но была пристёгнута на соседнем сиденье. Я закричала, но издала лишь какой-то «Грхкааарф!» пастью собаки.
Столб затрещал. Если что и могло меня привести в чувство, так это колонна весом в пару тонн, падающая на машину. Я бросилась на заднее сиденье, отщёлкнула ремень безопасности Аджики и вывалилась через пассажирскую дверь. Собака бросилась за мной, мы запрыгали по снегу, а позади столб обрушился на авто. Раздался скрежет смятой алюминиевой банки. Я увидела, что с машиной, и рухнула в снег. Будто хотела сделать «снежного ангела». Подошла Аджика. Затем я уже почти привычно увидела себя её глазами. И побрела за ней в дом. Больше я не вернулась в своё тело.
Память покидала меня, её полностью заменяла память собаки. Лишь на этом коротком этапе я смогла всё увидеть и понять, прежде чем искорка человеческого навсегда погасла во мне.
Воспоминания пронеслись, как сон. Вокруг горы. В земле дымился кратер. А в нём застывала расплавленная капсула, рухнувшая метеоритом из темноты космоса. Меня сжимало и выворачивало одновременно. Воздух колол тысячей иголок, обжигал и отравлял. Видение сменилось картиной прошлого. Яйцеобразная капсула, летящая вдаль от мира, охваченного сиянием взрыва. Родная планета разлеталась на куски от схлопывания своего ядра. Затем включились турбины, звёзды со всех сторон превратились в белые нити света. Когда скорость сошла на нет, её сменила агония падения. Удар о землю вывел меня из анабиоза. И ввёл в муки пребывания в невыносимой атмосфере.
Тогда я вселилась в полевую мышь, захватила её тело незримым фантомом. Затем переселилась в ушастую сову. Пришлось, чтобы не съели. Глазами совы увидела людей. Люди гуляли с собаками. И, наконец, для контакта с людьми я вселилась в Аджику. И попала в приют. Но чтобы переселиться в человека, понадобилось больше попыток. Сознание человека ускользало, окутанное скользкой плёнкой иллюзий. А закрепиться в нём мешали чувства, сводящие с ума хаотичностью. Неведомая, но укротимая материя.
И вот я здесь. Зудит лапа, надо почесать. Кто гавкает? Поскорей бы выгул. О, корм!

Стихийные бедствия, воображаемые и настоящие
Каждое утро, просыпаясь по мужниному будильнику в 6:15, Марина лежала без сна и представляла себе цунами. Крыловы жили в городе С., здесь не было ни моря, ни даже порядочной речки. Но это странным образом ее не смущало, ведь не так уж далеко протекала Волга — самая полноводная река Европы, о чем хорошо известно всем, кто когда-нибудь учился в восьмом классе.
Цунами Марина однажды увидела по телевизору, а потом много раз находила видео и фотографии в интернете и жадно пересматривала. Ее завораживали мощь и неотвратимость этого события. Марине казалось, что сквозь оглушительный шум волны она слышит крики, плач и даже стоны людей. Это было жутко и вместе с тем восхищало.
Лежа с закрытыми глазами, Марина в который раз продумывала план действий на случай приближения гигантской волны, иногда он был таким же, как вчера, а иногда полностью менялся. То ей казалось важным первым делом собраться самой, то вытащить из-под громоздкого матраса сбережения, а из шкафа паспорта и когда-то полученные, но пока не пригодившиеся водительские права. Она решала, положить ли в чемодан теплые вещи и сколько брать белья, потом вспоминала про резиновые сапоги и расстраивалась, что они займут слишком много места, и новое зеленое пальто не влезет.
В планы никогда не входила помощь мужа в сборах, Марина была уверена, что он до последней секунды не поверит в катастрофу и будет подшучивать над ее суетой. Рассчитывать можно было только на себя.
Крыловы жили на третьем этаже не знавшей капитального ремонта пятиэтажки, и Марина задавалась вопросом: дойдет ли волна до квартиры или затопит только нижние уровни и нужно будет просто дождаться, пока она схлынет. Тут же она вспоминала кадры с развалинами больших отелей и тяжело врезающиеся в стены грузовые корабли. Нет, их дом точно не выдержит.
Время от времени Марине представлялось, что она почему-то не может двигаться, возможно, болеет, и все, что ей остается — это смотреть, как вода тонкими струйками вливается через оконные щели, а потом выдавливает стекла и со звонким плеском ударяется о кровать, быстро заполняя все вокруг. Марина сжималась от страха, она как будто чувствовала на себе брызги ледяной воды и соль на лице, но ее неизменно спасали в самый последний момент и уносили на крышу дома. Иногда это был муж, но чаще другие малознакомые или совсем незнакомые мужчины.
Цунами всё не было.
***
Но случилось другое происшествие, не менее судьбоносное.
Марина вошла в трамвай на улице Правды, столько лет она жила в этом городе, но оказалась здесь впервые — муж попросил отвезти документы в военкомат. Теперь она возвращалась домой, впереди, еще не скоро, была пересадка на автобус и долгие двадцать минут пешком. В нелепой надежде на весеннюю погоду она надела новое пальто и мерзла в нем чрезвычайно. Хорошо, хоть в трамвае тепло.
Людей было много, все сиденья заняты. Марина подумала привычное, господи, куда же они все едут и почему им нужно именно в ту сторону, куда направляется она, и как бы ей хотелось сесть, и пусть ей повезет. Она добралась до середины трамвая, еще раз окинула взглядом салон, поняла, что ждать нечего, и стала смотреть в окно.
Совсем близко, рядом с ней, сидел мужчина примерно одного с ней возраста, Марина перевесила сумку на другое плечо, чтобы не задевать его рукав. Он был слегка небрежно одет, слегка небрит и даже слегка «помят лицом». Он заметил Марину, когда она протискивалась вперед, раздвигая пассажиров и производя среди них некоторое волнение. Сначала он с усмешкой наблюдал за такой целеустремленностью, а потом, прищурившись, посмотрел ей в лицо и вдруг узнал. Он засуетился: надвинул шапку на глаза и притворился спящим, потом, наоборот, снял ее, убрал ноги в старых кедах подальше под сиденье и выпрямил спину. Марина смотрела в окно мимо него.
Мужчина, наконец, рывком вскочил со своего места и развернулся к ней. Она посмотрела удивленно, замерла на секунду и выдохнула: ты? Марина закрыла лицо руками, он медленно и осторожно, как будто боясь причинить боль, дотронулся до ее запястий, повернул ладони к себе и нежно поцеловал сначала одну ладонь, потом другую. Да, это был он — ее потерянный мужчина, давняя, но не забытая история, разорванная в клочья его армией и ее переездом. Они вышли на следующей остановке.
Мужу на домашний телефон Марина позвонила из уличной будки тем же вечером, мобильная связь не работала во всем городе. Она кричала в трубку, что уходит навсегда и волновалась, что он не расслышит или не поймет. Ветер жутковато хлестал будку ветками и струями воды, засыпал летающим мусором, и она могла поклясться, что видела в свете последнего работающего фонаря настоящий смерч. Но муж услышал и принял эту дикую, невероятную, в общем-то, новость спокойно, как будто догадывался о чем-то подобном.
Ураган бушевал, Марине было отчаянно весело, она больше не мерзла. Новая жизнь так и должна была начинаться — с разгула стихии, все теперь будет по-другому. Дома она появилась только на пятый день, когда город почти полностью пришел в себя. Наконец-то ей пригодились бесконечные мысленные сборы, вещи были упакованы через несколько минут. Мужа Марина больше никогда не видела.
***
Последние несколько лет Марина работала в цветочном магазине, она любила составлять букеты, шуршать оберточной бумагой и вдыхать сладкие цветочные запахи. Немного портила удовольствие конкурирующая лавка в трех автобусных остановках от магазина. И дело было не в том, что покупатели уходили туда, это не страшно, появлялись новые, а в том, что Марине композиции, которые там делали, казались интереснее и наряднее, чем у нее. Там подкрашивали лепестки блестками, добавляли игрушки и украшения, делали букеты в форме сердечек и постоянно придумывали что-то новое. Иногда она надевала куртку с большим капюшоном, натягивала его почти на глаза, подходила вплотную к витрине и старалась разглядеть подробности. Марина мечтала, что когда-нибудь у нее тоже получится создать что-то необыкновенное.
Через месяц после встречи в трамвае, в честь первого совместного праздника, Мужчина — именно так, с заглавной буквы она мысленно его называла, — подарил ей цветы. Те самые, с золотыми блестками на лепестках. Той же ночью лавка сгорела, видимо, продавщица забыла выключить обогреватель. Или этот пожар был вызван упавшим метеоритом — в темноте небо над городом прочертил блестящий объект, несколько очевидцев выложили впечатляющие видео в интернет, впрочем, обломки так и не были найдены.
***
Еще одно странное происшествие случилось на танцевальном конкурсе в клубе. Во время выступления лучшей пары началось самое настоящее землетрясение, здание два раза чувствительно тряхнуло, со стены упала копия картины Васнецова, с накрытых столов съехали в разные стороны тарелки, стаканы и приборы. Упала и кружившаяся в танце девушка, ничего страшного, немного потянула ногу. В городе развалилось несколько старых сараев, из жителей, насколько известно, больше никто не пострадал. Победа досталась Марининой паре.
После грандиозного летнего снегопада, когда в особенно жаркий день ей чертовски захотелось покататься на лыжах, феноменом стихийных бедствий в городе С. наконец заинтересовались ученые, а Марина подумала, что, кажется, стала ведьмой.
***
К осени все опять изменилось, ей показалось, что Мужчина отстраняется от нее: беззаботность, даже некая лихость их первых месяцев ушла, он стал реже смеяться, позже возвращался с работы и не сразу отвечал, когда она звонила. Вряд ли он о чем-то подозревал, но не мог же не почувствовать сокрушительную Маринину силу и пасовал перед ней. Она загрустила, дождь в городе моросил три с лишним дня, но все как-то успокоилось, и еще несколько недель они провели вместе.
Однажды в кинотеатре Марина отчетливо поняла, что Мужчина не смотрит фильм, а сидит, глядя в пустоту перед собой, и сосредоточенно подбирает слова для прощального разговора. Ее обдала волна жара, даже уши побагровели, стало трудно дышать, она резко бросила в его сторону — жди!, протиснулась сквозь ряд поджатых коленей и выбежала на улицу.
Кинотеатр находился у подножия холма, на вершине которого недавно построили смотровую площадку, туда можно было подняться на скоростном лифте за несколько секунд. С этой площадки Марина и наблюдала, как с севера на город С. грозно и неотвратимо надвигается цунами.

Стрела
Это мама нашла Саше подработку. Волосы с пола подметать, ножницы обрабатывать. В посёлке Шлаковый была всего одна парикмахерская.
— Выучись хоть на парикмахера, а то сторчишься, как отец.
Наркотики были постоянными спутниками жизни шлаковских детей. Мать встретила отца Саши в 85-м, тот вернулся с Афгана со спрятавшимися по рукам и ногам венами. Жить ему оставалось четыре года, ровно до двухлетия сына.
Саша сидел на кухне и пытался съесть ещё одну ложку маминых щей. Мать стояла у плиты к нему спиной, в старом тёмно-бордовом халате, уставшая после работы. Молча варила чавкающую жижу — гороховый суп, наверное. Стены были выкрашены в больничный светло-зелёный цвет. Капли застывшего жира окружали плиту и пол рядом с ней. Они же были на холодильнике — старом и громком, как храп. К каждой стене жильцы коммунальной квартиры приколотили полки и полочки, подписали своими фамилиями и заставили банками, коробочками, пакетиками и какой-то невообразимой рухлядью, названия которой Саша не знал.
Оконная рама была коричневого цвета — надежная, не промерзающая, казалось, вечная. Форточка всегда открыта — тщетно пытались выветрить вонючие следы жизни.
Саша посмотрел на часы. Время, которое он рассчитал для обеда между школой и работой, заканчивалось. Потянулся за перечницей. Надеялся оживить остывший суп, который успел покрыться жёлтой плёнкой жира. Из-под руки, торопясь, выбежал таракан. Пора было собираться на работу. Его ждали к трём часам, когда начинался основной поток клиентов.
Вышел на улицу, сырой холодный воздух ноября окатил лицо. Втянул тощую шею в курточку, дошёл до «Локона» за полчаса.
В кресле напротив зеркала лучшего мастера сидел Сёма Готлиб — сын рязанского наркобарона Миши Готлиба. Заходил редко, а тут ещё и со свитой — знаменитым на весь район карманником Ромой Полусмаком. Им было по семнадцать, учились в профессиональном колледже.
— Как сам, малой?
Саше было пятнадцать, Сёму и Рому он знал со школы. Молча и уважительно обходил.
— Пойдет.
Парикмахерша суетилась вокруг головы Готлиба.
— Какие планы на вечер? Прошвырнёмся?
— Можно.
Встретились около девяти на окраине района. Зашли в подъезд погреться, Сёма достал коньяк. Каждый отхлебнул, стало теплее. Тогда он достал маленький белый пакетик, насыпал немного на выставленное кем-то на лестничную площадку трюмо. Рома перочинным ножиком превратил белую кучку в три дорожки. Каждый наклонился и шумно втянул. Нос занемел, во рту стало горько, а в голове будто открылось окно.
Вышли из подъезда и не сговариваясь повернули к стройке.
— У меня тут мать крановщицей работает, дала однажды порулить. — Лицо Ромы растянулось в оскале. Зрачки стали настолько огромными, будто ему в глаза налили чернил.
Пролезли в дырку в заборе, осмотрелись. Стройка только началась — разрыли котлован, привезли плиты, поставили кран. В Шлаковом много строили, сюда расселяли семьи из бараков в центре города. Каждый год вырастали панельки. К следующей осени здесь будет 14 этажей типового жилья, а через пять лет в героиновом приходе Сёма выпадет из окна своей возлюбленной и разобьётся насмерть. Саша узнает об этом во время летней сессии, от матери по телефону.
— А слабо по стреле пройтись? — сипло спросил Сёма и закурил.
— Сколько дашь? — Саша услышал свой голос.
— Косарь.
Саша пошел к крану. Уверенно, сильно, легко. Казалось, подпрыгни — окажешься сразу в кабине. Немного поскальзываясь, взобрался по лестнице. Без перчаток рукам было холодно. Он чувствовал себя отдельно от тела. Влез на кабину, немного пригнулся и осторожно направился к стреле крана. Сердце билось сильно, открой рот — выпрыгнет. Шаг за шагом приближался конец стрелы, становилось холоднее.
Вдруг Саша поскользнулся, господи. Внизу страшно залаяла собака. Кто-то заорал.
— Стоять!
Саша успел ухватиться руками за перекладины. Моментально протрезвел. Что он здесь делает? Что он вообще делает? Не смотреть вниз! Подтянуться! Сложно дышать. Обратно полз. Когда достиг кабины, посмотрел вниз — возле крана стоял какой-то мужик с собакой. Сёмы и Ромы не было. Мужик задрал голову вверх и что-то беспрерывно говорил, то громче, то тише. Саша встал на четвереньки. Страх, злость и ярость выходили рвотой и слезами. Успокоился, стал спускаться. Когда до земли оставалось около трёх метров, узнал мужика — это был Генадич, местный бомж. Тот молился. Богородица-спаси-сохрани-помилуй ритмично доходили до Сашиного уха. Спрыгнул с платформы на землю.
— Ты чего, сынка, жить надоело?
Саша потупил взгляд и почему-то не ушел. Тихо, тонко заскулил, заплакал. Собака подбежала, стала лизать липкие от блевотины ладони. Обжигающий язык успокоил, как мамины руки.
Спустя десять лет Саша стриг и делал укладки в дорогом московском салоне. Особенно его уважали богатые мужики — он не был женоподобным мальчиком, как другие стилисты, и он не был женщиной, что превращало его стрижки в настоящее, серьезное дело.
Проговорился однажды старому клиенту, здоровенному, как бетонная плита, Сугробову, главе строительной фирмы, что родился и вырос в Рязани. Тот, весело крякнув, рассказал, что пару лет назад нанял рязанского прораба. И хотя для каждого объекта Сугробов покупал новые материалы, рабочие почему-то жаловались на износ и очень скоро просили что-то докупить. Пару недель назад один проштрафившийся укладчик-алкаш рассказал, что прораб ворует. Наворовал целый гараж.
— Я, понятно дело, разорался. А укладчик и говорит, что, мол, не бесись, Михалыч, прораба грабанули на днях, а самого его закололи. Он так и не успел ничего продать. Весь гараж выхлопали.
Сугробов загоготал. Саша вежливо улыбнулся, начал подбривать затылок.
— Фамилия у него ещё такая смешная была. Полусмак. Хохол, наверное, оттого и тащил, что не приколочено.
Рука Саши дрогнула. Затылок придётся переделать.

Хлебец
Под сумрачным потолком мастерской матово поблескивали пылинки пигментов, перемолотых в муку. Лука залюбовался тем, как они клубились, и не замечал старших.
Отец свирепо обернулся на него и встряхнул за плечо. Над рубахой поднялось облачко — с утра мальчик помогал в пекарне и не успел выбить муку из одежды.
— Ты скажешь что-нибудь, Лука?! Мы зачем пришли?
Мальчишка вгляделся в глаза мастеру, медля отвечать — проверяя, насколько с ним можно быть откровенным.
— Я хочу научиться сохранять то, что вижу.
Он почувствовал, как отец набирал в легкие побольше пыльного воздуха, чтобы сиплой скороговоркой выдохнуть извинения за отнятое у мастера время, пообещать, что они с младшеньким его больше не побеспокоят («Ведь правда, Лука!?»), и исчезнуть поскорее, что довольно трудно сделать, когда ты ростом всего на пару-тройку локтей ниже главного портала Дуомо, сиенского кафедрального собора.
Мастер негромко спросил, что же он видит.
— Мир, — отозвался Лука. — Поля, цветы, птиц. Праздники еще. Чего только нет хорошего!
— Художники изображают не то, что любой может увидеть. Мы, вообще-то, создаем образы во славу Господа нашего и Пресвятой Девы Марии.
Отец прилежно перекрестился и вновь втянул ноздрями, чтобы сказать заготовленное прощание, но мальчик серьезно кивнул:
— Разве цветы и птицы — не творение Божье?
— Вот, маленький проповедник, тебе дощечка — нарисуй мне птичку, а я пока потолкую с твоим отцом.
Не успели мужчины начать разговор, как Лука подошел к ним.
— Готово, — и протянул дощечку, на которой несколькими крупными движениями был набросан растрепанный вороненок с глазами-росинками и жалобно распахнутым клювом; а в уголке был силуэт ласточки, будто высоко парящей в жаркий день над борго.
— Ну, решено. Жду тебя завтра на рассвете. И не рассчитывай, что будешь тут прохлаждаться и пташек рисовать. Мне нужны подмастерья, и работа будет нелегкой! А теперь ступай!
Мессир Феи рассмеялся и приобнял растерявшегося пекаря, дотягиваясь ему только до солнечного сплетения.
— Не пожалеешь, что отдал мне его на воспитание?
— Я, признаться, не ожидал, что все так выйдет, откуда у него это — ума не приложу. Но сдюжим без него, все равно он у нас самый щупленький. Будет вам мешать — гоните его обратно в пекарню.
Лука закрыл тяжелую деревянную дверь в металлических клепках, наконец-то выдохнул и зажмурил глаза: после мастерской на улице казалось нестерпимо ярко. Он прошел вдоль дома мастера и прислушался. Из-за ставен пахло чудно и едко, но почему-то приятно, и доносился равномерный глухой стук, перебиваемый всполохами мальчишеского смеха и ломающегося на визг шепота. Он услышал свое имя. Но тут вышел отец. Он тоже щурился на солнце, правда, Луке показалось, что причиной был не тосканский полдень, а слезы, которые отец торопливо втер в щеку. Раньше он не видел, чтобы папа плакал.
Шли годы. Лука выяснил, что пахло в мастерской разными видами клея (рыбий — самый вонючий!), квасцами, смолой, травами и обожженной глиной (а если мастер решал поэкспериментировать с оттенками, то и сушеными крабьими панцирями, забродившими орехами, мочой и спиртом), и полюбил эти запахи больше, чем те, что были неотделимы для него от запахов дома, свежего хлеба и разогретой печи. Да и домой он возвращался на несколько часов, чтобы поспать и бежать обратно в мастерскую — если не оставался спать там на лавке. Руки его окрепли от растирания гипса для левкаса. Он узнал, где лучше брать яйца, а где самые сговорчивые пасечники, и научился замешивать темперу так, чтобы краска засыхала и становилась подобной шелку. Он мастерски угадывал настроение мессира Феи еще до того, как старик садился за работу, и охотно выполнял его поручения. Лишь бы тот продолжал рассказывать!
Остальные подмастерья не любили Луку: его усердие они считали услужливостью. Лука не обращал внимания на то, что они зовут его Хлебцем, что издеваются над его частыми простудами и вечным вязаным шарфом, но стоило им сказать что-то с издевкой о мастере, он демонстрировал, что вырос среди братьев и драться умеет не хуже других.
Уже несколько лет вся мастерская трудилась над одним заказом: многочастным полиптихом, который должен был занять место в одной из капелл Дуомо. Сиенцы сплетничали о его неслыханной стоимости и размахе и ждали дня Вознесения Богоматери, когда на торжественной службе алтарь наконец представят горожанам. Вся история маленьких побед Луки была в этом полиптихе: тут ему впервые разрешили класть золотую сусаль, одному из ангелов мастер позволил раскрасить крылья, было это почти год назад, тут он упросил его добавить розовые кусты, оплетающие изгородь. А сегодня мастер вскользь, как он обычно говорил о самом важном, велел Луке расписать лик одного из евангелистов. Апостола Луки. Его покровителя.
— Не маленький уже, пора серьезной работой заниматься. Завтра и начнешь, выспись только.
Мальчик кусал губы, чтобы перестать широко улыбаться. Он вылетел из мастерской, добежал до собора — угомонить сердце, бьющееся вьюрком, и помолиться святому апостолу. Вернулся домой, когда уже стемнело — и улыбку стерло, как свежий слой краски неловким локтем. Дома было темно.
— Не довезли. Черт его потащил помочь на мельнице. Жернов поправить. Сил-то как у кабана, — и тут мать завыла. В соседней комнате гудели приглушенные голоса, Лука машинально выделил отцовских подмастерьев. И наконец увидел отца.
Спустя неделю потемневший, весь как ороговевшая, колючая, засохшая кисть, не промытая после клея, Лука вошел в мастерскую. У мальчишек был выходной. Он старался не смотреть в сторону ослепительно золотого алтаря, который успели частично собрать в углу.
— Я попрощаться.
— У тебя еще тут дела остались. — Мастер протянул ему знакомую доску с незакрашенным ликом. — Ты шустро справляешься. Закончишь, и отпущу тебя.
Мастер уже пошел в кладовую, продолжая в четверть голоса себе самому, своим банкам с порошками или сонным святым на незавершенном алтаре:
— Никогда не знаешь, сколько тебе отпущено.
Лука смотрел на взвесь пыли в солнечном потоке до тех пор, пока теплое дерево перестало дрожать в его руках. За окном свистели ласточки — низко летают, к дождю.

Юля — это я
— Простите, вы, случайно, не Юля?
В зале «Земля» по адресу ул. Павловская, 18, когда я вошла, стояли две женщины.
— Юля — это я, — сказала одна из них, и мы с размаху столкнулись глазами. Я не ожидала увидеть ее именно такой, прямо у двери и моментально близко, а она не ожидала, оторвав глаза от смартфона, увидеть такую меня и без объявления войны присоединиться к нашему уже общему онемению.
Я записалась к Анне добровольцем на семинар по массажу лица, а от нее накануне прилетело разочарующее: «Меня скорей всего не будет, 89381407876 Юля, если что, звоните». Вся досада, которую я испытала, узнав, что иду не к рекомендованному мне человеку, а к какому-то абстрактному номеру телефона с тремя буквами, улетучилось сразу после слов «Юля — это я».
Секунда, пока мы полубоком любопытства оглядывали друг друга, длилась неприлично долго. И, не меняя заинтересованного ракурса головы, она произнесла бессмысленное:
— Аня сказала, вы позвоните или напишете.
А я поддержала этот пустой диалог, чтобы оправдать свой немигающий взгляд на ее коротко стриженную голову.
— Да я сама нашлась, не было повода звонить.
(Зато теперь более чем).
У нее были сильные мужские плечи с весьма типичными татуировками сильных женщин — крылья на все предплечье, иероглифы под ключицей и на лопатке и наверняка что-то на бедре. Было в ней что-то восточное, что я сначала не признала за разбавленной светлостью глаз. Оказалось, в крови грузины. В ней, должно быть, в иные моменты взрывается самый южный из возможных темпераментов, но увидеть этого мне было не суждено.
Напряжение просочилось через эпителий красным цветом. Бесстрашие не бесконечно, мы смелые только от неожиданности, но спустя секунду осознания своей наготы судорожно начинаем шарить в воде в поисках исчезнувших трусов.
Спасла меня вторая женщина, которая стала невольным очевидцем этого физического явления (электричества), и, к моему полному отсутствию стыда, я ни разу не посмотрела на нее с момента своего появления. Это была маленькая и сухая старушка с какой-то перманентной улыбкой на лице, которая часто случается у йогов.
— Подождите снаружи, мы вас позовем.
Я вышла в холл и села за стол, уставилась, как сейчас, в буквы, потому что самые безумные путешествия здесь безопасны (хотя психика моя возразит).
Она вышла следом, села за другой столик и опустила голову в телефон.
— Леля, вы учитесь?
Выдумала я это или нет, но ощущение стойко, как запах соседской рыбы. Сидели мы в разных концах холла, она ко мне боком, в углу за барной стойкой безразличная к нам бариста, за окном безразличный к нам февраль, а мы со всем возможным азартом играли в странную игру, выдавая вслух что-то незначительное и пустое, глазами же с первой секунды перешагнув все грани дозволенного незнакомцам. Возможно, ее, как женщину с дочерью — почти моей ровесницей, забавила страсть человеческого зародыша, и эту слегка вздернутую углами рта мину я приняла за взаимность.
***
Я лежала на массажном столе, и эта беспомощность мне нравилась. Вокруг меня собралось пять женщин, которые бережно накрыли послушное тело пледом, положили мне в нужное положение голову и руки, и даже ноги раздвинули так, как им было нужно. Все это походило на операционную, только вместо наркоза пустили адреналин. Та пожилая женщина, прекрасно, однако, законсервированная йогой, левитацией и осознанностью, вела семинар. Мне выпала честь вложить свое тело в ее, простигосподи, просветленные, но безупречно техничные руки.
— Ну неосознанная такая, хе-хе. Это со школы у тебя? — иногда кидала она слащавым голосом в сторону одной ученицы, которая говорила «я поняла». Несмотря на совсем другой разряд бабушек, интонация ее ничем не отличалась от той, какой пользуются бабушки обыкновенные, подловив тебя на маленьких грешках неопытного человека.
Бабулю эту, простигосподи еще разочек, звали Мавира. В натуральности, должно быть, Света или Люда. Но об этом я подумала только потом. В момент настоящий, который беспардонно и нарочно становится прошлым, неисправимый мой аппарат фокусировал только одного человека. И пока я лежала под пледом, под одеялом трех пар глаз и одной пары рук, Юля — случайно ли, нарочно, — облокачивалась на массажный стол и бедром задевала мою руку. И хотелось бы мне сказать это стоячее «как ни странно» или «как ни удивительно», но всем, однажды сходившим с ума от неприятностей сердца, известно, что нет ничего удивительного в том, что эти случайные касания, ощущение человеческого тепла сквозь флисовый плед всегда перекрикивают любого самого искусного массажиста.
Ничего более не случилось. Мне в начале занятия пришлось озвучить свой возраст, на этом все закончилось, так и не успев начаться. Я увидела это по быстрому движению ее скул и глазам, которые сразу запартизанили в пол. Мне, молодой, безбашенной и влюбчивой, было плевать. А ей, взрослой женщине с двумя детьми и наверняка уже отбесившимися чешуекрылыми в животе, тяжело было пробить этим маленьким и легким инструментом влюбленности бетон здравого смысла.
Настала ее очередь. Руки были немного влажными, и она долго примерялась к каждому прикосновению, водя пальцами по воздуху, вылепливая мое лицо где-то в пространстве, а потом касалась только отдельными пальцами, неуклюже перетаптывалась с места на место, обязательно приговаривая что-то другим ученицам. Когда своим низким замшевым голосом она выпускала шутку, я смеялась во весь рот под ее руками, и тогда она как девочка, как взбалмошная пацанка, которой должно быть (слышишь, чертов мир?) тоже двадцать, наклонялась надо мной и показывала язык.
В эти моменты у меня щемило в груди от понимания, что ничего между нами не будет. Через час руки ее двигались по моему лицу как по хорошо изученной местности. Руки ее успокоились и теперь были руками матери.
После этого мы еще пару раз столкнулись в узком туалете, и обе были смущены, и оба раза она произносила это бессмысленное:
— О, это ты.
А я отвечала:
— А это я. — (Эдичка).
И продолжала тереть руки под струей ледяной воды, просто чтобы еще немного побыть в одном помещении. И как сильно мне хотелось с размаху потерять равновесие, пока она проходит мимо, и упасть куда-то в сторону ее лица, но все закончилось так, как заканчивается обычно — хорошим воображением и недостаточной бунинской любовью к случайным связям, которые прекрасно живут в литературе, но так мало кому под силу в реальности. Посему наш несостоявшийся роман, и косы рук, и какое-то безумное животное счастье от кульминации человеческого притяжения, и даже эта взаимность, о которой знаю только я, и моя сиюминутная нежность к этой красивой женщине, все, все это осталось лишь здесь и в моей горячечной голове.

От отца
— Ты больше не пьешь?
Это первое, о чем я спросил отца, когда он внезапно позвонил после восьми лет тишины.
Тетя Галя, которая воспитывала меня с семи лет, ненавидела Федора, называя его исключительно «этот алкаш». У нее были причины, ведь это он был за рулем пьяным, отделался в аварии парой царапин, выжил, а моя мама — нет. Тетя Галя считала, что это именно он забрал у нее сестру. За вождение в нетрезвом виде, повлекшее за собой смерть человека, отец получил реальный срок и пожизненный запрет от тети Гали подходить ко мне на расстояние пушечного выстрела. Не знаю, как отец справился с первым, но второе явно далось ему легче: за восемь лет я впервые услышал его голос в телефонной трубке.
— Не-е-ет, какой там! Не пью, конечно.
Несмотря на долгие годы пропаганды со стороны тети Гали, я все равно хотел общаться с папой, так что ответ меня устроил. Прошло еще несколько месяцев перед тем, как он приехал ко мне с Ямала в Якутию. За это время я успел поругаться с сыном тети Гали — двоим подросткам оказалось сложно ужиться на одной территории — и переехал жить к другой тете, Свете. Средняя из трех сестер, она всегда отличалась невероятной добротой и лояльно относилась к моему отцу. Тетя Света разрешила Федору приехать в гости, когда я закончу девятый класс.
Вообще, после девятого класса я должен был начать осваивать какую-нибудь профессию. Диапазон вариантов был где-то между кадетским корпусом и медицинским колледжем. Довольно странные пути для мальчика с лишним весом, хроническим гайморитом и уверенной тройкой по химии. К счастью, после приезда отца было решено сгонять к нему в гости, провести лето на Ямале, а оттуда сразу ехать поступать. Интересно, кто-то вообще верил в то, что такому плану суждено было сбыться?
Мы уехали буквально на следующий день после получения аттестата об основном общем образовании. Восьмидневная поездка на поезде через всю Россию была настоящим мужским приключением. Пересадка в Новосибирске с душем на вокзале, первая в моей жизни конина в Бурятии, целый день Байкал в окне под запах копченого омуля. И, конечно, карточные каталы, которые чуть было не втянули папу в игру прямо в тамбуре на перекуре. Они не знали, что у отца за плечами несколько ходок и для подобных случаев у него всегда наготове фраза «мне мать запретила играть в азартные игры». После нее у всех представителей криминального мира заканчиваются доводы. Мать — это святое.
На Ямале нас встретила Наташа, с ней отец познакомился после отсидки. Эта миниатюрная женщина с узкими плечами, сломанным носом и потасканным лицом сперва мне даже понравилась. Встретила радушно, улыбалась, проявляла внимание. Радость от того, что я наконец-то вернулся в город своего детства и живу со своим папой, перекрывала все: жизнь в балке, удобства на улице и отсутствие горячего водопровода, не говоря уже про ванную комнату. Временное жилище первых рабочих, приехавших на Север за «длинным рублем», давно превратилось в постоянное.
К счастью, бытовые условия, в отличие от людей, сразу показывают свою сущность. Очко в деревянном туалете не пытается казаться фаянсовым унитазом. Оно еще на подходе к двери дает понять, что в ближайшие минуты твоей жизни будет мало приятного. Эта откровенность позволяет сразу сделать выбор: ты либо соглашаешься жить с этим, либо собираешь вещи в кадетский корпус. С людьми же, чаще всего, приходится провести немало времени, чтобы сделать хоть какие-то объективные выводы.
* * *
За пару месяцев, что я учился в десятом классе, мне удалось построить успешную политическую карьеру школьника и стать председателем совета учащейся молодежи города. Моя общественная деятельность позволяла не идти домой сразу после уроков. Вместо этого я участвовал в бесконечных форумах, слетах и прочих совещаниях. Проводить время в кругу увлеченных людей мне нравилось больше, чем выслушивать претензии Наташи по поводу уборки, готовки и что там еще ей не нравилось в моем поведении.
В тот вечер я шел домой в приподнятом настроении после очередного успешного выступления. Отец и Наташа ужинали на кухне и как-то много молчали, чему я не придал никакого значения. Переодевшись в домашнее, я вышел из комнаты и направился к крану со словами:
— Ох, чёт так пить хочется.
— Так может, ты пивка попьешь? — Наташа уставилась на меня своими впалыми глазами.
— Не, с чего вдруг! Я не пью, — говорю с улыбкой, Наташа явно шутит.
— Федя, скажи ему. — Теперь Наташа обращается к отцу. И тут я понимаю, что шутить никто не собирается.
В голове с первой космической скоростью пролетают воспоминания о том, где и кто рядом со мной мог пить пиво. Сам я действительно не пил, спасибо воспитанию тети Гали. Алкоголь у нас был только по праздникам и только в виде какого-нибудь гранатового вина. Кроме того, я занят политической карьерой, когда бы мне пить пиво!
На просьбу Наташи отец не отвечает, просто страшно на меня смотрит с какой-то ехидно-ироничной улыбкой. Тогда заведенная женщина берет ситуацию в свои руки:
— Ты пил пиво дома?
— Нет! — Я одновременно шокирован, напуган. Мне хочется скорее закрыть тему, ведь дома я точно не пил. Сейчас это недоразумение закончится.
— А под кроватью у тебя что? Я сегодня полы мыла и охуела, когда увидела! Иди посмотри!
Я охуел в квадрате, когда увидел под своей кроватью пустую бутылку из-под литрухи «Клинского». Слезы сорвали плотину в глазах, я вылетел из комнаты с ревом:
— Это не мое!
— А чье, блядь? Отец «Клинское» не пьет, это молодежное. Я, что ли, пила его, по-твоему?
Меня никогда раньше не подставляли. Бывало, брат сдавал меня тете Гале, рассказывал, что я нашел шнур от приставки и играл в игры. Но то, скорее, мелкое пакостничество, причем очень лобовое. Никто не строил мне козни так изобретательно.
Балок, в котором мы жили — по сути, три временные бытовки с тонкими стенками, объединенные в одно жилище. Стоят они на бетонной плите, заменяющей фундамент. Никакой канализации такая конструкция не подразумевает, так что вода из раковины просто стекает под балок прямо на бетон. Запах от слитого в раковину просачивается через деревянный пол в тамбуре. За день до разоблачения моего пристрастия к пиву я почувствовал там запах пива. Тогда я не придал этому значения.
Со слезами я ушел тихо плакать в комнату. Хотел поскорее заснуть, чтобы завтра снова уйти в школу, а потом на какую-нибудь встречу активистов. Просидеть на ней допоздна, а домой прийти, когда уже оба они будут в зале засыпать перед телевизором. Хорошо, что Наташа уходила на работу рано утром, и мы с ней не пересекались. Больше всего на свете мне хотелось больше никогда ее не видеть.
Кстати, в одном Наташа была права в тот вечер. Отец действительно не пил «Клинское». А вот другое пивко стал попивать.
* * *
Три недели в детском лагере были лучшими за долгое время. Много знакомств, развлечений, внимания — все, о чем только может мечтать старшеклассник. Возвращаться домой из таких поездок всегда грустно, но в этот раз к тоске из-за расставания с новыми друзьями примешивались тревога и страх. Я не разговаривал с отцом двадцать дней, звонил ему лишь однажды, под конец смены, но он не взял трубку. За это мне обязательно должны вывезти. И за что-нибудь еще, о чем я пока не знаю.
Дома ждет отец, его сожительница Наташа и ее сын Саша, двадцатишестилетний парень с открытым лицом, перманентной улыбкой, задержкой в развитии и эпилепсией. В таком составе мы живем совсем недавно, всего около года.
Наташин сын Саша с детства жил в интернате, куда его ребенком сослала собственная мать. Но родительские чувства — штука изменчивая. Вчера тебе никто не нужен, а сегодня ты вдруг вспоминаешь, что в старости кто-то должен подать стакан воды. Дети подходят на роль подносителей невероятно хорошо. Особенно если ты не вкладывал в их воспитание нисколько усилий, а можешь просто выписать их готовыми. А если что-то в поведении детей не нравится, всегда можно воздействовать силой и давить морально.
К примеру, ребенок с задержкой в развитии, паскуда такой, не научился писать и читать. Тогда его непременно можно бустануть, ударив два раза палкой по хребту. Тогда он точно поймет, что за буквы написаны в книжке! К счастью, на меня Наташа руку не поднимала, да и батяня говорил, что я уже давно не помещаюсь поперек кровати, чтобы мне можно было всыпать.
Зато давления психологического хватало с запасом. Перед поездкой в лагерь я каждый день выслушивал скандалы о том, что работа в городском музее за пять тысяч рублей — это не работа. Такие деньги можно заработать за выходные на вокзале, разгружая вагоны. И я разгружал. Параллельно мечтая о том, чтобы ничего этого со мной не происходило. Слава богу, ощущение затягивающегося на шее ремня здорово отрезвляет и прибавляет сил, позволяя продержаться до августовской поездки в лагерь.
И вот каникулы закончились. Впереди еще один учебный год, еще минимум девять месяцев жизни с одном доме с Наташей и отцом, который не собирается занимать мою сторону ни в какой ситуации. У меня нет никакого плана. Я не знаю, что делать. Просто сжимаюсь, открываю дверь и захожу в дом.
* * *
— Галя, привет!
Я не знаю, что делать. Мне страшно. Страшно от неизвестности и от того, что меня могут услышать. Так что я отворачиваюсь к углу телефонной кабинки в переговорном пункте.
— Галя, как у тебя дела?
— Да хорошо все, у тебя как?
— У меня нормально, я вот сегодня вернулся из лагеря в Тюмени. — Звонки по межгороду стоят дорого, но я не из-за этого выкладываю все с ходу. — Дома папа с Наташей пьяные лежат в зале на тряпке. Саша, Наташин сын, говорит, что они давно так, с того дня, как я уехал. Что делать? Я не знаю, что делать.
— Что делать. Иди в отдел опеки. — Если бы я не знал тетю Галю, то удивился бы быстроте ее реакции. Фраза прозвучала так быстро, будто тетя готовилась однажды ее озвучить. Но я знаю Галю, так что ничего удивительного в этом нет.
— А ты можешь меня забрать?
Вздох. Длинная пауза.
— Могу, но не раньше, чем к Новому году. У меня отпускные закончились в этом году. Сходи в отдел опеки местный, пусть занимаются.
Было очень обидно услышать, что никто не спешит меня спасать. Я плакал.
* * *
— Твоя тетя нам сказала, что не сможет тебя забрать сейчас. Но у нас есть места в детском доме.
Сотрудницы отдела опеки и попечительства, две женщины с очень добрыми глазами. Вчера они приезжали к нам домой, заглядывали в холодильник, строго смотрели на спящие пьяные тела и что-то записывали в папки. Сегодня я пришел услышать их вердикт: детский дом.
Я представил себе все страшные и шокирующие картинки, которые только можно себе представить. Будто кто-то в голове ввел в поисковую строку запрос «кошмары детского дома». Дети с короткими стрижками, дедовщина и тоска, настолько беспросветная, что штукатурка отслаивается от стен. Мне очень не хотелось бы там оказаться. Я, конечно, не хочу жить с отцом и Наташей, но только не детдом.
Видимо, мой ужас отразился на лице, потому что сотрудница опеки тут же начала меня уверять, что в нашем детском доме все в порядке, прекрасный детский дом, детишкам там нравится.
Было страшно, но другой путь пугал еще сильнее.
* * *
Отец встал, чтобы сходить в туалет. Самое время ему сказать.
— Папа, я ухожу в детский дом.
Стеклянный взгляд. Сквозь опьянение все-таки пробивается смысл сказанного. Он опускается на корточки, закрывает лицо руками и воет:
— Блядь, как молотком по голове!
Я делаю шаг на безопасное расстояние ближе к двери на улицу. На всякий случай, кто знает, как он поведет себя после такой новости. Впрочем, ничего страшного не произошло. Он убрал руки от лица и жалостным голосом попросил:
— Там в тумбочке в комнате деньги лежат. Сходи за бутылкой.
* * *
— На каком основании я должна лишить его родительских прав?
Странный подарок судьба приготовила мне на семнадцатилетие: слушание дела о лишении моего отца родительских прав. Я раньше никогда не был в суде, только по телевизору видел, как проходят слушания. Наше было совсем на них не похоже.
В тесном кабинете за огромным столом сидела судья, напротив нее я, представитель детского дома, отец и прокурорша. Последняя вообще не была похожа на прокуроров из новостей и фильмов: яркий макияж, длинные накладные ногти, пышная рыжая шевелюра. Кроме того, она явно была не на стороне потерпевшего. То есть не на моей. Да и не только она.
Судья бросает на стол передо мной книжечку КоАП с перечнем оснований для лишения родительских прав и просит выбрать тот пункт, на основании которого отец больше не может быть отцом. Я нахожу пункт про алкоголизм. Судья парирует:
— А с чего вы взяли, что он страдает алкоголизмом?
— Ну, потому что он пьет. — Я не ожидал, что судья будет так набрасываться.
— Так а как мы можем это доказать? У него справки из вытрезвителя нет, от соседей характеристики положительные.
Чистая правда. Отец просто напивается и никого не трогает. Последний их с Наташей запой закончился тем, что родственники увезли её в вытрезвитель, а Сашу забрали к себе. Папу в вытрезвитель не повезли, он остался на мне. Я понятия не имел, как выводить людей из запоя. Слышал только, что нельзя совсем отказывать им в алкоголе, иначе могут быть проблемы с сердцем. Так что я давал ему одну-две рюмки водки в день и отпаивал куриным бульоном.
В общем, по всем формальным признакам отец не страдал алкоголизмом. Никаких оснований для лишения родительских прав не было. Другое дело, что воссоединить семью никто не собирался. Когда все вышли на перерыв в коридор, отец сказал представителю детского дома:
— Мне такой сын не нужен. Он ведь все это устроил, чтобы получить квартиру как сирота. Мне он не нужен.
Да, это был главный аргумент в его защиту: я все выдумал, я алчная скотина, которая ради казенной квартиры на Крайнем Севере готова опозорить своего родного папу. Судья, кажется, в это поверила. Решение: в удовлетворении иска отказать, родительских прав не лишать.
Вышестоящий суд через пару недель пересмотрел решение мирового судьи и ограничил отца в правах на полгода. На следующем заседании суд вынес решение лишить Федора Александровича родительских прав, а меня признать сиротой. Сам Федор Александрович даже не пришел на заседание, согласившись принять любое решение судьи.
В мою пользу тогда сыграло выступление психолога, которая поговорила со мной, с отцом, и решила, что мы не сможем общаться друг с другом еще минимум десять лет. Да и вообще мы так мало времени прожили вместе, что никаких родительских и сыновних привязанностей возникнуть не могло.
* * *
Прошло одиннадцать лет с тех пор, как мы виделись с ним в последний раз во время суда. За это время папа отрастил статусный животик, в бородке появились седые пряди. Мы делали то, что, как мне кажется, должны делать дети с родителями: сидеть в кафешке и болтать про всякое.
В этот раз я сам позвонил ему и предложил встретиться. Сказал, что приеду в город решать некоторые вопросы, и хочу встретиться. С возрастом у меня появился интерес к генеалогии, захотелось больше узнать про дедушек и бабушек, про маму. Еще хотелось рассказать, как я прожил эти годы. Показать, что со мной все хорошо. Вдруг папа переживал.
Я старался всячески обходить то время, когда я жил в детском доме, не касаться тех судов и обид. Надеялся, что все это можно пропустить, забыть, оставить в прошлом. И какое-то время казалось, что у меня получается, пока я не услышал:
— А я до сих пор считаю, что ты все это сделал, чтобы квартиру получить.
Писатель, автор курса «Автофикшн» Наталья Калинникова:
«Противостояние отца и сына — один из древнейших литературных мотивов. Но в автофикшн-рассказе Фёдора Карнакова нет мифологического подтекста или шекспировских аллюзий. Это абсолютно реальная история, хотя поначалу в это сложно поверить. После семейной трагедии главный герой теряет отца, затем воссоединяется с ним, но вскоре решает уйти из дома — чтобы сохранить себя. Обычно подобные истории рассказывают взрослые: преподаватели, исследователи, сотрудники благотворительных фондов. Они строят гипотезы и сверяют цифры, пытаясь понять, что происходит с ребёнком, который оказался в так называемых «неблагополучных» социальных условиях. В этом смысле рассказ «От отца» — уникальное свидетельство «из первых уст» подростка. А ещё — живая, увлекательная проза, которая никого не оставит равнодушным».

Поцелуй на Карловом мосту
Мы ехали на такси к Белорусскому вокзалу. Было начало ноября, по радио рассказывали про победу Обамы на выборах. Максим взял меня за руку. Я подумала: «Наверное, это тот самый момент, который я запомню на всю жизнь». И записала в свою память этот участок Тверской со светящимся Концертным залом имени Чайковского, и дождь, и то, какие у Максима были красивые руки с длинными пальцами.
Это была наша первая встреча спустя полгода ежедневного общения. Как-то в апреле, сидя поздним вечером в офисе, я написала в Твиттере: «Еду в центр, никто не хочет поужинать?» Незнакомый парень ответил: «Я бы с удовольствием, но я не в Москве и даже не в России». Потом он написал в личку. Судя по фотке, он был ничего: темные вьющиеся волосы, карие глаза, улыбка, как в рекламе. Мы начали общаться. Он неплохо шутил и читал много книг, и этого было достаточно, чтобы влюбиться. Через полгода Максим прилетел в Москву. «Я же обещал, что приглашу тебя на ужин», — сказал он, прощаясь на Белорусском. И поцеловал меня в щеку.
Прошло еще две недели, и он снова прилетел в Москву. Мы долго гуляли по центру, и в этот раз я уже поехала в Шереметьево провожать его. Я что-то рассказывала, смеясь, а он наконец-то поцеловал меня по-взрослому. Вдруг стало тихо, и только где-то далеко объявляли об очередной посадке. Я тогда подумала: «Еще один момент, который я запомню на всю жизнь». Целовался он классно.
Тем вечером уже из Риги он написал мне: «Давай встретим Новый год вместе». Мы тут же созвонились по Скайпу и стали перебирать города. Берлин, Париж, Рим, Барселона — мы провели несколько часов на сайтах с авиабилетами и отелями, периодически переключаясь на Гугл Мэпс. Через несколько часов у нас образовались два фаворита — Париж и Прага.
Утром мы созвонились еще раз и решили, что Париж — слишком романтичный город для первого путешествия, а Прага — самое то. Я тут же купила билеты с вылетом двадцать восьмого декабря. Максим сказал, что гостиницу он выберет сам. Собираясь тем утром на пары, я вспоминала фотографию с заснеженным Карловым мостом из Гугла и представляла, как мы целуемся на нем.
Приближалась зимняя сессия, а я еще не закрыла летнюю. У меня висел хвост по предмету «Новые технологии в литературе», и мне нужно было подготовить реферат про теорию пассионарности и этногенеза. Всю неделю я лежала в общаге с книгой Гумилева на айпаде, которая, казалось, никогда не закончится, и проклинала себя за то, что не сдала этот предмет еще в июне, когда можно было отделаться сказками Проппа и статьями Быкова из «Новой газеты». Максим каждый день спрашивал: «Ты записалась в посольство?» А меня словно придавило к кровати Гумилевым, мыслями о справках для визы и этим хмурым декабрем.
В выходные я добралась до сайта визового центра Чехии и обнаружила, что ближайшая возможная дата записи — девятое января. В понедельник я позвонила на горячую линию, затем — в визовый центр Испании, потом Греции и Италии. Везде одно и то же: перед новогодними праздниками большая очередь, ближайшая запись в январе. Сгорали невозвратные билеты за двадцать тысяч рублей, а вместе с ними — мечта впервые встретить Новый год с парнем. Я сидела в Старбаксе на Павелецкой с имбирно-пряничным латте, писала Максиму, что с Прагой ничего не получится, потому что я не успела получить визу, и плакала. За окном шел снег, женщина в колонках пела “All I Want for Christmas is You”.
Через несколько дней в коридоре журфака меня поймал начальник курса: «Вы понимаете, что через неделю начинается зимняя сессия? У вас есть три дня, чтобы закрыть летнюю. Алина, вы — деградирующий элемент общества». Я согласно кивала головой и обещала все сдать в ближайшие дни. В голове звучал голос мужчины из какого-нибудь реалити-шоу: «В одну неделю она потеряла любовь всей своей жизни и ее отчислили из престижного вуза. И все это накануне Нового года! Сможет ли она справиться с ударами судьбы?»
Всю неделю я носилась с зачеткой по факультету и пила энергетики вперемешку с успокоительными. Чудом дожила до последнего зачета, он был двадцать восьмого декабря. Я шла от Библиотеки имени Ленина к журфаку, когда от Максима пришло сообщение: он прошел регистрацию на рейс. Я наблюдала, как снег под колесами машин превращается в жижу, и думала: «Может, он все-таки прилетит в Москву, а не в Прагу?»
На зачете я вытянула билет, который успела разобрать накануне: «Москва — третий Рим» как выражение русской идеи и «Опавшие листья» Розанова. Мне показалось, что это хороший знак. Я набросала план ответа на листочке и под бубнеж однокурсника, сидевшего перед преподавателем, ждала своей очереди. За окном уже стемнело, на башне Красной площади зажглись огни, а я впервые за месяц почувствовала что-то, похожее на радость.
Потом очередь дошла до меня, я рассказала свой билет, а в конце преподаватель спросил, почему я не ходила на его лекции.
— Я ходила, — соврала я.
Преподаватель смотрел на вырез моей блузки.
— Нет, не ходили, я вас не помню.
— Не всегда, но ходила. Некоторые лекции пришлось пропустить из-за работы.
Преподаватель, так и не взглянув на мое лицо, протянул мне зачетку.
— Встретимся на пересдаче в январе.
Я покурила у памятника Ломоносову, прочитала сообщение от Максима о том, что он уже в Праге, и двинулась к Площади Революции, думая о пересдаче: как так, ведь я же ответила на билет. На Манежной играла музыка и было много людей. Вечер пятницы, до конца года оставалось несколько дней, все друзья разъехались по домам. Я была одна в городе, и могла пойти куда угодно и делать что угодно. Я поехала в общагу.
Все выходные я лежала в кровати, листала ленту ВКонтакте и поедала майонезные салаты в пластиковых упаковках — словом, деградировала. Иногда я отправляла Максиму смайлики в ответ на его фотографии с видами Карлова моста и прочих достопримечательностей. Я не знала, где и с кем я буду праздновать Новый год. Да и настроение было совсем не праздничное.
Утром 31-го я позавтракала растворимой гречкой со специями «Магги» и забила в поиск: «Куда сходить в Москве 31 декабря». В Католической церкви на Краснопресненской проходил концерт органной музыки. За три часа до начала я купила билет и надела по случаю праздника белое платье из берлинского секонд-хэнда. В тот вечер, глядя на распятого Христа под органного Баха, я представляла, как Максим сейчас в одиночестве бродит по Карловому мосту и его заносит снегом, и от жалости к нему, к себе и к нашей несбывшейся любви мне хотелось плакать. «Но эта любовь вынесет все невзгоды, — думала я. — И станет только крепче». Я пообещала себе в новом году приехать в Ригу к Максиму и решила, что это и будет мое новогоднее желание. Правда, в полночь я его так и не загадала. Я вернулась в общагу и заснула до того, как наступил 2013 год.
Через неделю я сдала первый экзамен, и мы созвонились с Максимом по Скайпу. Мне не терпелось расспросить его о Праге, услышать, как ему было одиноко на Новый год без меня на Староместской площади, и сказать, что мне тоже было одиноко в Доме Аспиранта и Стажера на Шверника, 19. А еще я хотела предложить ему встретиться в Риге в конце января, когда у меня закончится сессия.
— Да рассказывать-то особо и нечего. Прага прикольная. Как ты? — сказал он, включив камеру.
За его спиной прошла девушка.
— Ты не один?
— О, это очень забавная история, — засмеялся Максим. — Это бразильянка, мы познакомились в Праге в новогоднюю ночь и переспали. Она путешествует по Европе, ну и как-то завертелось, я предложил ей дальше поехать со мной в Ригу. Блин, ты не представляешь, какой это секс.
— Ммм, круто, — улыбалась я.
Мы еще немного поболтали о моей учебе — «да, нет, да, ага, ммм» — и попрощались. После сессии я уехала к родителям в Рязанскую область и решила, что любовь — это не мое.
Подруги потом говорили мне, что на этом и стоило бы прекратить общение с Максимом, но я почему-то так не сделала. Я знакомилась с мужчинами в барах, ходила на свидания по Тиндеру, у меня даже было несколько мимолетных романов и влюбленностей. И все это время мы продолжали общаться с Максимом. Иногда переписка прерывалась на несколько месяцев, иногда мы возвращались к ежедневным созвонам. Несколько раз Максим прилетал в Москву, мы занимались сексом в гостиницах или у меня дома. К тому моменту я уже съехала из общаги и снимала комнату на Полежаевской. Иногда Максим ни с того ни с сего признавался мне в любви. Иногда я, пьяная, писала, что люблю его. Как-то он предложил мне бросить все и переехать к нему в Ригу, но я испугалась.
Однажды я даже поссорилась с подругами из-за Максима. Это было в Италии в начале 2017 года. Утром первого января мы гуляли по пустынному пляжу в Остии, и я хотела рассказать бывшим соседкам по общаге смешную историю про Максима. Одна из подруг меня перебила: «Господи, опять этот Максим, сколько можно. Алин, у тебя реально какой-то обсешн, обратись к психологу». Мы поссорились и не разговаривали до ужина.
В тот год я часто ходила на свидания. Однажды в октябре я сидела в баре на Винзаводе с искусствоведом из Тиндера — серьезным мужчиной в очках, который был на восемь лет меня старше. Это была наша первая встреча, и мы медленно напивались. Разговор был стандартный: работа, книги, путешествия.
— Мой любимый город — Прага, — сказал искусствовед. — Ты была когда-нибудь там?
— Нет, и не хочу. Пять лет назад я планировала встретить там Новый год с парнем, в которого была влюблена, но не успела получить визу. Парень полетел в Прагу без меня и переспал там с другой девушкой.
— Сочувствую, — ответил искусствовед из Тиндера. — Кстати, мне нужно тебе сразу сказать. Я через два месяца уезжаю в Прагу, думаю, навсегда. Хочу изучать историю искусства в Карловом университете. Так что если ты ищешь серьезные отношения, то вряд ли у нас что-то получится.
— Все в порядке, я тоже не ищу серьезные отношения, — улыбнулась я.
Через неделю искусствовед из Тиндера позвал меня в гости на вечеринку. Было круто: театралы, музыканты, песни под гитару. В разгар вечеринки искусствовед вдохновенно рассказывал собравшимся на кухне про «Москву и москвичей» Гиляровского и сокрушался о разрушении старой московской архитектуры. Ему это очень шло. Мы были довольно пьяные, когда он поцеловал меня на балконе, так что этот поцелуй и секс в ту ночь я запомнила довольно плохо. Помню только один момент: я лежу на кровати без одежды, а искусствовед носится вокруг и восклицает: «Боже, это Боттичелли! Нет! Рубенс!», а я отвечаю: «Да ладно тебе».
Утром Денис приготовил смузи из бананов, мы выпили по таблетке ибупрофена и до вечера валялись в постели, страдая от похмелья. Он показывал мне альбомы с барочной архитектурой, свой диплом по Гуарино Гуарини и фотографии из прошлогодней поездки в Италию с кучей церквей.
— У тебя бывают моменты, когда ты чувствуешь себя абсолютно счастливой без причины? — спросил Денис, когда все фотографии закончились.
Я подумала, что, пожалуй, сейчас такой момент, и ответила:
— В последнее время — нет.
— У меня тоже давно такого не было, — ответил Денис и улыбнулся.
Проводив тем вечером меня до дома, он предложил как-нибудь увидеться еще раз. Я сказала, что было бы неплохо.
На следующий день мы встретились снова, это был понедельник. Во вторник мы увиделись еще раз. В среду Денис улетел в Париж и оттуда написал мне: «Твой запах на моих руках, он пролетел тысячи километров, полюбовался утром на Эйфелеву башню, пообедал в броссери, а сейчас валяется в кресле в квартире на улице Alain Chartier». Я была на работе, когда прочитала это сообщение, и подумала: «Не стоит вестись на это. Через два месяца он все равно уедет». И все же в тот день, общаясь с коллегами, я улыбалась. А когда Денис вернулся из Парижа, мы продолжили видеться каждый день.
Однажды он спросил, буду ли я навещать его в Праге. Я сказала: «Если ты хочешь, то да». Он сказал, что хочет.
Через неделю — был вечер пятницы — мы ехали в такси с вечеринки, и он сказал: «Что, если я предложу тебе переехать в Прагу вместе со мной?» Я подумала, что он пьян и вряд ли вспомнит завтра этот разговор, и ответила: «Я не против».
Но Денис разговор не забыл. У него уже был план, и на следующее утро он изложил его мне. До мая мы можем летать друг к другу каждые две недели. Летом он приедет на каникулы в Москву. А к началу осени я уволюсь с работы и начну учебу на языковых курсах в Праге.
— Тебя не пугает, что мы знакомы всего полтора месяца? — спросила я.
— Нет, мне кажется, мы подходим друг другу, и я люблю тебя. Будет глупо вот так расстаться.
Я согласилась, что глупо.
Когда я готовила документы на визу, Максим вновь написал мне после долгого молчания. Он стал извиняться за Прагу и сказал, что ему было очень обидно тогда. Мол, я не прилетела к нему, а он решил сделать вид, что не очень-то хотелось. Хотя на самом деле, писал он, надо было просто взять билеты в Москву. В ответ я прислала смайлик.
Этот Новый год, как и предыдущие два, я встречала в Праге с любимым человеком. И где мы только не целовались за эти несколько лет: на Староместской площади в свете бенгальских огней и на рождественской ярмарке на Вацлаваке, на Петршине, когда цвела сирень, и на Малой Стране, когда шел осенний дождь. И даже на Карловом мосту.
Арина Бойко, писатель, ведущая мастерской «Автофикшн»:
«Так ли много мы знаем историй о любви, в которых все заканчивается хорошо? Не считая сказок, к которым у современных нас ноль доверия. Рассказ Алины Ежовой для меня — история, которой веришь с первого до последнего слова. Здесь нет ванильности, лукавства или приукрашивания, зато есть страдания, неловкость и слезы — неотъемлемые побочки романтических переживаний. Алина пишет о человеческих взаимоотношениях в определенном времени и месте (Москва 2010-х) с чуткостью и вниманием к деталям. Её тексты хочется пересылать подругам с подписью «у меня было так же», литературным редакторам продавать как «Дневник Бриджит Джонс для миллениалов».
«Поцелуй на Карловом мосту» — пример экстремальной честности с самой собой, с читателями и с близким человеком, который фигурирует как персонаж в тексте: Алина рассказывала, что в процессе работы советовалась с прототипом. Хочется больше таких текстов — честных, тонких и воодушевляющих».

Сейчас
Эпизод 3
«СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ» — мусоровоз преградил мне дорогу. Именно так я себя и ощущаю: как будто все объедки Москвы выбросили в меня — и тухлую слабосоленую семгу из «Азбуки вкуса», и сгнившую картошку прошлогоднего урожая из «Пятёрочки».
Я иду в сторону Атриума — купить подруге подарок на свадьбу, которой не было. Они расписались в загсе торгово-развлекательного комплекса «Вегас Крокус Сити» и улетели в путешествие бизнес-классом забесплатно, расплатившись милями, в единственное доступное сейчас место — Стамбул. Ну ОК, есть еще Мальдивы, но туда надо долго мили копить — свадьбу пришлось бы отложить на пару лет.
Иду со встречи в «Флор» с моими будущими бизнес-партнерами — Катей и Настей, которые уже давно живут в Москве и успели обзавестись бизнесами, мужьями, детьми, машинами, квартирами и гардеробом в пол этой самой квартиры, развестись и не париться ни о чем. Рядом с ними я чувствую себя, как говорят французы, «misérable» — какой-то несуразной, совершенно не модной и даже глупой. Ощущение, что я не достойна стать их партнером, что это они еще просто не понимают, какой я нищеброд. Или что мне просто повезло на ровном месте. Может, это комплекс провинциалки? Хотя и переехала я из Питера, но для Москвы мне явно не хватает лоска и сытости.
Еще бессонница достала. Выпиваю мелаксен. На меня накатывает кошмар — как будто я в доме, в котором нет света, но это не мой дом. Мне страшно. В руках айфон, а на нем фонарик — я включаю его. И иду навстречу своему страху — из дома. Вокруг большая территория, огороженная сеткой-рабицей. Мне страшно. И я иду вперед — к забору. Свечу за него фонариком — и вижу блеск глаз дикого животного и всполох тени. Волк. Он кидается к забору метрах в ста от меня. Я за забором, и мне нечего опасаться. Но волк как призрак пролетает сквозь забор. Я просыпаюсь в холодном поту.
Да ну такой гормон сна — я лучше потуплю до четырех утра, чем такое.
Супер утро. Меня даже телефон не узнает по фейс айди. А я сегодня иду на завтрак с подругой в ЦУМ Buro. Мне страшно — в ЦУМе я не была года четыре. Для меня поход в этот забытый мир лухари — все равно что выйти из дома и подойти ночью к незнакомому забору непонятно где, светя одним фонариком. Волк сожрет меня. Продавцы будут есть взглядом, понимая, что у меня нет денег даже на трусы оттуда. Это раньше я могла приехать в Москву на шопинг и накупить брендовых туфель на 200 тысяч. А сейчас…
Сажусь в такси. На заднем сиденье не работают ремни безопасности. Мне не по себе, я боюсь ездить не пристегнутой. Терплю пять минут. Все, не могу больше. Прошу водителя остановить — объясняю. Он предлагает мне пересесть на левое пассажирское сиденье — там все работает. Дальше еду, уже боясь только ЦУМа.
Гуглю, как попасть в Бюро — есть отдельный вход или через центральный лифт универмага. Во сне я пошла к забору — и тут пойду. Значит, через лифт.
Я в новом платье из Эйч энд Эм за полторы тысячи из переработанного материала, но в дорогих сапогах и со старой сумкой ЛВ. Позорище, не могу найти лифт — приходится спрашивать у секьюрити. От стыда натягиваю маску повыше, как будто это поможет спрятаться. Это даже не забор. Все тут хотят меня сожрать.
Сталкиваюсь у лифта с Эльвирой — и меня отпускает. Она явно чувствует себя тут как дома — с огромной охапкой учебников по французскому с «Авито» наперевес. Одета вся в Зару и ничего. Даже не в дорогих сапогах. Я расслабляюсь.
На обратном пути я уже сама затаскиваю ее в Гуччи, Хлое и Луи Вьютон — где с горящими глазами перемеряю все сумочки и останавливаюсь на Метис Пошет за 154 тысячи. Эта цена не смущает меня. Я знаю, что приду за ней сюда через год. Смогла один раз — смогу и второй.
Эпизод 4
В карантин многие пары развелись из-за того, что долго находились в одном пространстве вместе. Но как развестись с самим собой, когда ты круглыми сутками находишься один на один с собой в квартире? И какая причина? Стандартная, не значащая ничего «не сошлись характерами». Мы слишком разные. Попахивает биполяркой.
«Ват э фак, Катя, если ты сама с собой не можешь ужиться, то кто сможет?» — именно с такими мыслями, заразившись-таки ковидом в метро и валяясь дома уже вторую неделю, я зарегилась в Тиндере.
Николай, 36, 4 км от вас. 187, охотник на ведьм.
Фото со студийной съемки, он весь в черном, в татухах-браслетах-перстных и стильных очках в роговой оправе, конечно, с бородой. Все эти атрибуты модного и дерзкого сразу цепляют. Хотя понимаю, если с него все это смыть-снять-побрить — обычный парень.
Много ведьм поймал?
За каждую по татухе?
Ахахаха) Зашла шуточка, споемся))) да вот сидю смотрю у кого какие обострения нонче. Как ваша осень? Чего успели нафеячить?
…
Тогда давайте выбирать время для охоты)))
9 лунный день после заката?
Вы нумеролог или астролог?
Я сарказолог.
Перемещаемся в ватсап. У него свое брендинговое агентство, и он преподает в Высшей школе брендинга, и свой секс-шоп… и он пишет эротические рассказы. Меня все это напрягает. У меня-то ничего нет. Почему нельзя просто стильного интересного парня, а не вот это вот все?
Почему вы меня лайкнули?
Интуитивно. Чувствую внутреннюю
силу на фото, смелость, драйв. Это
то, что меня привлекает.
Интересно, какая вы в жизни) Меж тем, я весьма сложный человек
…
Ну и каким я вам кажусь, Катерина?
Интригующим.
…
Каких таких?
Брутальных и с татухами. И с
секс-шопами. Ты редкий!
По его Инсте понимаю, что у него квартира в дорогом районе и крутая тачка. Напрягаюсь еще больше.
Подруга Даша присылает фотки дочки, которой всего месяц. Она одна из немногих подруг, кто счастливо замужем — как минимум так кажется со стороны, остальные либо уже развеселись, либо еще в поисках. Хотя у ее мужа Шона нет ни внешности, ни денег, и вообще он из ЮАР. Может, он, конечно, человек хороший, но я бы замуж за него не пошла. Видимо, Даше очень хотелось замуж. И похоже, мне тоже хочется, раз я примеряю чужих мужей.
Пишу Даше:
Пока болела зарегилась в Тиндере и
даже успела познакомиться с
интересным парнем. Хочу с ним на
свидание.
Отлично! Значит болезнь на пользу пошла.
Страшно ппц, потому что у него
несколько своих бизнесов,
квартира-машина, весь в татухах и
стильный. А я что? Я ни-че-го.
Даже как-то глупо идти, понимаю,
что не из моей лиги.
Расслабься, ты красивая и интересная девочка! Не пытайся выпрыгнуть из себя — тебя не должны любить за что-то.
Просто понимаешь, раньше я была
девушкой со своей машиной-
квартирой-бизнесом — как бы
стандартным набором белого чееловека.
А сейчас я все начинаю опять с 0,
по факту ничего сейчас из этого нет.
И я чувствую себя ппц материально
несостоятельной.
На одной красоте и интересности
далеко не уедешь! Таких много. Объективно
— я не уникальная, и я это понимаю.
Я бы хотела сходить на свидание с
парнем попроще, но они мне не нравятся.
И уж тем более — деньги! Ты рисковая, авантюрная и осознанная.
Даша, спасибо за поддержку. Просто
мне кажется в современном мире вне
зависимости от пола все вокруг денег
крутится…
У нас с Шоном нет… хотя, возможно, это не та лига.
Мне стало стыдно — ведь подруга озвучила вслух то, что я реально думаю. Но из вежливости я написала:
Да нет, просто это я всех под одну гребенку гребу.
От моего лицемерия стало еще стыднее перед самой собой.
Иногда я закидываюсь феназепамом просто потому, что хочу скорее уснуть. Хочу, чтобы день скорее закончился. А утром не хочу просыпаться. Не хочу, чтобы новый день начинался.
Но он опять начинается.
«Под утро я запоминаю свои сны. И снится всякая ерунда. Как я танцую во дворе не своего дома с другими людьми, а потом вдруг останавливаюсь и плачу о том, что в последние дни жизни бабушки так и не дошла до нее поговорить ещё разок… и сжимаю в руках мягкий пластиковый пакет с молоком, которое в жизни не пью.
Или мне снится большой таракан в углу комнаты, а следующим кадром я только получила оргазм и тут ко мне пришли, я в растерянности. Кто эти люди, я не помню.
И вставать совершенно желания нет. За окном новый день, голубое небо, уже почти час — а мне во все это выползать из-под одеяла, ну, не хочется. Я болею последние дня три — температура 37,2, болит горло. И я рада, что в нынешние времена отмазка «я болею» уже не звучит как «я слабак», а расшифровывается обществом как «я социально ответственный гражданин и не хочу никого заражать».
Не пойду я сегодня на встречу по новому проекту — вроде со знакомой ещё школьных челябинских времён решили открывать ресторан нового формата. Свой ресторан — моя мечта с детства. Когда я на даче ставила стол под яблоней, делала сервировку а-ля фьюжн из того, что есть, срезала цветы в вазу и готовила то, что в силах приготовить девочка лет семи. И гордо приглашала родителей с грядок в «мой» ресторан.
Мой ресторан я чуть не открыла на Бали, но вернулась в Россию. И вот Москва сама мне даёт второй шанс. И вроде хочется, но потом думаю — да ну его. Нет у меня на это времени. Я болею.
Желания вставать не было и до болезни. Обычно мой организм просыпается в 9 — но не хочет, так не хочет в этот дивный новый день. И досыпает ещё — иногда час, а иногда вот как сегодня — до обеда.
От этого я стрессую, что не успею сделать все запланированные дела, и случается замкнутый круг — от стресса хочется ещё дольше быть невылупившейся в жизнь Катей в коконе из одеяла.
Счастье, где ты? И почему ты не приходишь? Дни идут, а тебя все нет.
У кровати зеркало — и мне грустно в него смотреть, там безмолвной тенью маячит ссутулившаяся девушка с серым оттенком кожи и грязными волосами. Ее взгляд пугливо блуждает, не останавливаясь на собственном теле. Ей стыдно за то, что с ней стало. Что она сама сделала с собой.
Где та Катя, которой я всегда была? В какой стране я ее потеряла? Или и не было ее никогда? И потеряла я только напускное, а то, что осталось — вот это унылое — в кровати — это и есть я?»
Твою ж… скинула ему не то аудио. Хотела стих Бродского, а отправила свои заметки. Иногда я записываю мысли на диктофон в айфоне — мне легчает. Это мой бесплатный прием психотерапевта.
Это ты сейчас себя так плохо чувствуешь?
Ты очень красиво пишешь — не тяжело, в то же время сложносочиненно, с красивыми оборотами.
Ты себя плохо чувствуешь? Ты болеешь?
У меня тоже был период, когда я находился в ментальной заднице. Если ты хочешь, я могу тебе посоветовать практики и упражнения, людей, которые могут в этом деле помочь или поговорить на эту тему как минимум. Это может быть первым шагом, чтобы начать выздоравливать.
Слушай, я тебе не то аудио отправила.
Это были мои заметки для книги.
Че ты болеешь?
Нет, не болею я.
А депрессия?
Это я не знаю. У всех в больших
городах вялотекущая депрессия.
Я тебя напугала, понимаю…
Нет, наоборот, заинтересовала. Мы
встретимся завтра?
Таблетка феназпама. Мелаксен для слабаков. И завтра наступило быстро.
На свиданиях я не была давно. Мажу на себя все лучшее сразу, час делаю укладку, два собираю луки. И все это для того, чтобы он отменил свидание перед встречей. Сказал, что у него было шесть часов лекции и он очень устал. Я все понимаю, но обидно.
Сталкиваюсь с соседкой Марго и зову ее на вино в бар. Полчаса — и мы уже на Китай-городе. По бокалу — и я уже скидываю Николаю фото с Романом Полански из «Правил Жизни» Esquire с подоконника бара.
У меня свидание с другим мужчиной.
Не могу тягаться в конгениальности.
С горя заказываю ребрышки, ем их руками — в моем фэшн платье, с укладкой и всеми сиялками мира на лице. Раньше я была веганом, потом опять начала есть мясо, а сейчас узнала о флекситарианстве. Очень удобно!
Но ни вино, ни Полански, ни ребрышки не утешают меня.
Алкоголь заменил феназепам — и вот суббота — и уже воскресенье вечер. Николай больше не пишет, а меня не отпускает.
Деньги закончились, попросила у подруги в долг, она уже несколько дней не отвечает…
Прилетает от нее:
Торможу, извини. Могу одолжить 60 тысяч до марта, если ты готова взять большую часть наличными. Пойдет?
Думаю пойдет. Меня вчера прокатили
со свиданием.
Ну и дурак.
Но блин меня он зацепил.
Сочувствую!
Скидывает фото двух винных сетов, которые ей привезли из Вайн Кейсес.
Винишком разжилась?
Ага, розовое и модное. Выбирай.
Я — между хулиганским вином и
выдержанным в глиняных амфорах.
Тебе какое любопытно?
Амфоры. Ставлю в холодильник.
Выезжаю.
Света слушает мой очередной поток пиздостраданий, заедая вино пиццей «фрутти ди маре» и заключает, как врач после осмотра больного: «Я знаю, что сделать, чтобы тебя отпустило. Попроси прислать его эротический рассказ».
После бутылки пишу:
Николай, слушай, а можно хоть не тебя,
а ссылочку на какой-нибудь твой
эротический рассказ?
Присылает. Света выхватывает у меня телефон и начинает читать вслух с выражением МГУшного филолога. Через пару минут она спрашивает: «Тебя еще не тошнит? Мне продолжать?»
«Софи высокого роста, я бы дал ей 27-29 лет, брюнетка с вьющимися волосами, очень красивой фигурой и идеальной грудью, которую мой глазомер оценил в 2,5».
«Я делаю еще глоток, вино просто растекается по всем моим венам».
«Спустя минуту стою под горячими струями воды, массирующими мое загорелое тело».
«Ее руки скользнули вниз, а за ними и ее поцелуи».
«Войди в меня! — вырывается из ее нутра животный инстинкт».
— Все, хватит! — не выдерживаю я. — Меня отпустило!
— Нет уж, помучайся теперь до конца. Я дочитываю.
Я сижу, вжавшись в кресло. И мне стыдно, что так зацепила вся эта мишура его образа. А раздвинешь ее — и такая будничность внутри. Всегда ведусь на форму, а сути за ней нет. Да и как разглядеть эту суть, когда все в этом городе пытаются соорудить себе фасад попараднее? И сама я тем же самым занимаюсь, не веря, что за мою суть кто-то может полюбить меня.
И?
Что тут скажешь? Скидываю из любимого автора, чье имя не помню:
«Она любила в сексе быть мячом крученым у игрока, и улетать в ворота. А он финтил. Любя венчала, она неизреченным ртом кричала под ним, а он любил драматургию, и уходил в поля, но как бы. И возвращался не один. Природа скачков не знает, Лейбниц говорит, ля-ля не надо, моя монада, сладчайше незаметны переходы по лестнице витой вокруг пролета в мире без дверей и окон. Он чувствовал ее во тьме как перекаты реки. Которой вдруг не стало. Волны дней. И как садок вишневый коло хаты — ее белье на спинке стула».
Получаю смайл в ответ. И одним свайпом отправляю переписку в архив.
Эпизод 5
После учебы я захожу поесть в «Братья Караваевы». Женщина сидит за угловым столиком и читает Фромма «Искусство любить». Блиииин. Мне хочется подойти к ней и вырвать книгу из рук «Только не так! Нееееееет!»
На телефон мне никто не звонит. Вернее, звонят только мошенники, пытаясь выведать данные мой карточки Сбер, на которой у меня нет денег. После того как я им это сообщаю — они вешают трубку. И я становлюсь неинтересна даже им.
Звоню соседке Марго — у нее тоже должна была закончиться учеба. Она предлагает погулять.
Я одета не по погоде.
У меня есть шуба.
Она заносится с только что купленной шубой из эко-меха наперевес, тут же посреди зала достает ее из упаковки и начинает мерить. Заявляет, что хочет бульон или вино — в общем, что-то жидкое.
Марго учится на психоаналитика и только что у нее была групповая сессия:
— Все боятся быть стервой. А во мне есть свобода.
Тонкая игра на чувствах, ощущаю себя ювелиром.
Цвет ее лица меняется с красного на синий, потом на зелёный от неоновой подсветки сверху.
Бульона не было, и мы пошли за вином, захватив с собой пирожных. Я выхожу из туалета, на кассе встречаю Марго и уже спиной слышу ругань мужчины с кассиром:
— Наденьте, пожалуйста, маску.
— А вы девушку без маски обслуживали!
— Я обслуживал не ее, а ее подругу, а она просто в туалет ходила и рядом стояла.
Спасибо, теперь все знают, как я провела эти пять минут.
Мы идем с Марго в «Моллис»: паб — странный выбор для вина, но это ее любимое место в Москве, и мне любопытно. Нас объезжают курьеры «Вкусвилла» на самокатах, как будто у них челлендж — кто быстрее впечатается в фонарный столб.
Вообще-то, ее зовут Ксюша, просто Марго из «Презервативной» за углом — ее альтер-эго в «Моллисе». И для меня она больше Марго из секс-шопа, чем Ксюша-психоаналитик.
По дороге мы решаем записывать свой подкаст про… да просто про все, хорошо у нас болтать получается — забавно и местами со смыслом.
— Надо начинать на первый лунный день!
— Ну ты и задрот! Ладно, сейчас посмотрю в приложении.
Открываю «Вэ Мун» на айфоне.
— Следующее воскресенье. У нас есть неделя на все.
— Надо придумать название.
— Что-нибудь про Москву. С чем у тебя Москва ассоциируется?
— Ну не знаю.
— И я не знаю.
большой город
деньги
кипиш
движ
спешка
ограничения
секс
одиночество
соблазны
желание быть лучше
скрытые желания
алкоголь
еда
рестораны
пустота
непринятие
Кремль
высотки
пафос
— Но мы не объективны, конечно.
— Надо узнать мнения зала.
Я надеваю очки — они у меня без диоптрий, я ношу линзы для зрения, а очки — просто чтобы казаться умнее. Или когда хочу отгородиться немного от людей вокруг. Или когда мое лицо кажется мне слишком толстым. То есть почти всегда.
Марго берет блокнот — и мы идем по залу проводить соцопрос, задавая каждому столику в пабе вопрос: «С чем у вас ассоциируется Москва?»
суета
разврат
родина
деньги
стандарт
шаблон
копирование
шаблонность
деньги
псевдо-
возможность
пафосное
самый лучший город на материке Европа
охуенный город
мегаполис, который не уступает всем остальным мегаполисам
деньги
Возвращаясь за свой столик, я выдыхаю.
— Я в этом пабе чувствую себя как дома, — говорит Марго.
— А я везде чувствую себя как дома. Может, потому что у меня его нет?
— Ну ты же хочешь жить в Москве, значит, тут твой дом.
— Многие боятся выйти из зоны комфорта, а я боюсь в ней остаться.
Домой иду пешком. На перекрестке недалеко от моего дома — ровно между управой Пресненского района и отделением партии «Единая Россия» — Лэнд Крузер сбил велосипедиста-доставщика «Яндекс еды». Люди идут мимо. И я мимо.
Арина Бойко, писатель, ведущая мастерской «Автофикшн»:
«Сейчас» — рассказ-сериал, в котором название говорит само за себя: всё это происходит именно здесь и сейчас. За нашими окнами. В наших инстаграм и фейсбук лентах. С нами. Главная героиня хочет всего и сразу — найти любовь, открыть бизнес, заработать денег — и в этом импульсе узнается если не поколение, то целый социальный пласт нынешних 30-летних – энергичных, амбициозных и немного хаотичных. Кто-то скажет, что читать про сегодня — надоело и скучно, и лучше уж посмотреть сериал. Но сейчас-проза Екатерины Комаровой не уступает Нефликсу — не даром рассказ разделен на эпизоды — над этим текстом, как над хорошим сериалом, можно и посмеяться и поплакать».

