Ноябрь 2021
Роман Анастасии Писаревой «О чем молчит Биг-Бен»
Писательский марафон «Метаморфозы»
«Я пила, молода, из полуведра…»
Алексиада
Василий
Во сне и наяву
Где папа?
Каждому свое
Когда загорится красный
Марья и бесы
Надюха
Некрополь
Опасное лето
Пришелец
Против природы
Сеньор Хорхе
Случай с пианино
Только фото, и ничего больше
Тюль
Юхур
Бэмби
Дела обменные
Диагноз
Каждая собака знает
Клянусь, клянусь, клянусь
Ксения Петербургская позвонит
Между небом
Моно Хло
Налицо. Автофикшн-комедия
Не приходи
Не разговаривайте с неизвестными
Письма моих муз
Поезд из Москвы
Пока ты жива
Привет, Илюша
Причины возвращаться
Прогулка
Пролетарий
Пуповина
Сто шестьдесят на восемьдесят
Тиндер и другие болезни
Ты станешь ракушкой морскою
Фрида
Хлеб с отрубями
Хроника одного переезда
Январь
ЯСЖП

Наталья Осипова и Елена Авинова. Графическая новелла «Великий инквизитор»
Впервые на русском языке выходит графическая новелла «Великий инквизитор» мастеров Creative Writing School Натальи Осиповой и Елены Авиновой.
В основе комикса лежит знаменитый отрывок из романа Достоевского «Братья Карамазовы». Несколько лет назад Наталья и Елена задумали проект: серию графических романов на основе ведущих произведений русской классики. Первая публикация была полтора года назад в американском журнале «Plough» на английском языке. И вот наконец к юбилею Достоевского комикс выходит на русском.
О том, что нового дает нам Достоевский в комиксах и как вообще создать экшн из философского текста, мы спросили Наталью Осипову и Елену Авинову.
Комиксы по Достоевскому читают эстеты
Лена, Наташа, глупый вопрос, но скажите, а какой смысл делать комикс по Достоевскому, если можно прекрасно Достоевского прочитать в оригинале?
Лена Авинова: Ой, это же вопрос от Мединского: он как-то заявил, будто комикс — это «жевательная резинка» для тех, кто не умеет хорошо читать. А между прочим, во всем мире комикс — полноценный вид искусства, да и в нашей стране отношение к нему потихоньку меняется.
Наталья Осипова: Я уверена, что комикс — язык будущего. Помню, как удивилась, когда впервые попала на книжную ярмарку Livre de Paris и увидела, какие комиксы существуют: и Библия в комиксах, и биографии рок-звезд, и социальные исследования, и географические комиксы…
Шесть лет назад мы придумали проект «Топ русской классики в комиксах». Мы решили перевести ключевые тексты русской литературы на графический язык. Тогда нам показалось, что так мы сможем дать наивному читателю простой путь познакомиться с главными текстами русской литературы.
И как? Сработало?
Наталья Осипова: Не сработало. Теперь совершенно ясно, что наш читатель — никакой не наивный, а как раз наоборот. Проект интересен в первую очередь изощренной аудитории, которая читала и перечитывала «Братьев Карамазовых», а также статьи Бердяева, Розанова и других философов, и теперь ей хочется посмотреть, как можно перевести классику на графический язык.
Правда ли, что проект русской классики в комиксах оказался востребован за рубежом и «Великий инквизитор» очень зашёл в Америке?
Лена Авинова: Спасибо пандемии. Дело в том, что американский журнал хотел опубликовать всего одну главу под свой формат, но мы вышли за пределы публикации. Это совпало с началом пандемии, и журнал перешел на электронный формат, поэтому нас опубликовали целиком в специальном июньском номере, а в августе 2020 года выпустили комикс отдельной брошюрой, которую рассылали подписчикам. Честно говоря, не знаю, какой тираж, но до сих пор можно купить за 8 долларов на «Амазоне».
В американском издании «Великого инквизитора» в разделе «авторы» помещен не только портрет Достоевского, но и Натальи Осиповой и Лены Авиновой. Как вы втроем, да еще вместе с классиком, работали над комиксом?
Наталья Осипова: Я занималась самой прекрасной для филолога работой: придумывала интерпретацию и писала сценарий. Я старалась как можно больше сохранить оригинальный текст Достоевского, при этом убирая все архаичные элементы. Для меня это история про кризис веры и муку безверия, поэтому легенда о Великом инквизиторе так важна в наши дни. Современный человек страстно жаждет верить, но естественным образом верить не получается: за спиной 70 лет ямы безверия. Если мы и приходим к Богу, то «через голову», через муки, через тексты, в том числе, Толстого и Достоевского.

Откуда взялся Джон Леннон
У вас Джон Леннон на обложке комикса про «Великого инквизитора». Откуда он взялся?
Лена Авинова: Человек, похожий на Джона Леннона, — это Иисус Христос. Нам хотелось перенести действие в наши дни. Поэтому разговор Ивана и Алеши происходит в современном баре, где есть и другие посетители. Например, в углу за кружкой пива сидит и что-то пишет Достоевский, молча слушает Христос. Это метафора того, что рядом с нами всегда присутствуют и писатель, и Бог. И хотя оба молчат, они все равно есть. Эту метафору американцы считали.
Автор «чебурашки» Леонид Шварцман признавался, что создавал образы своих мультгероев на основе тех людей, которых видел рядом с собой. Старуху Шапокляк «списывал» со своей тещи. А девочка из «Варежки» — это мама Анфисы Чеховой в детстве. Расскажите, а как авторы комиксов создают персонажей?
Лена Авинова: Схожим образом. Я всегда ищу референсы, на кого похож тот или иной персонаж. Алеша Карамазов — это молодой Киану Ривз. Ивана Карамазова рисовала с Чичваркина. А бармен и инквизитор — это вообще один и тот же человек, прообразом которого стал Владимир Шухов, внук создателя Шуховской башни.
На мой дилетантский взгляд, «Великий инквизитор» не очень годится для комикса. Там же одни говорящие головы и никакого экшна… И, тем не менее, художник очень изящно выкрутился.
Лена Авинова: Действительно, было мне непросто. В комиксе самое главное — действие. Любой отказ от действия убивает динамику и сам комикс. А мне пришлось создавать динамику другим: чередованием планов, жесткими косыми линиями, нервной штриховкой. Я пыталась погружать себя в нервное состояние. Для меня это несвойственно, я сама люблю работать в состоянии счастья.
Расскажите основные фишки, как изображать произведения Достоевского в графическом романе.
Лена Авинова: Во-первых, мы осовременили событие и оно теперь происходит в наши дни. Во-вторых, решили, что вместо трактира будет бар «Севилья», куда герои приходят после похорон. Я попыталась показать психологию: кто как надирается, что именно пьют. Люди, которые пришли в бар после похорон, должны были нормально напиться. Так возникла идея менять изображение по мере того, как собеседники становятся более пьяными. Вначале они изображались четко, а в конце — изображение рябит, как будто сделано дрожащей рукой старухи.
А я еще заметила, что до середины превалирует черный цвет, а ближе к концу он разрешается в белый.
Лена Авинова: И это тоже. Мы долго экспериментировали с цветом, делали разные варианты, пока не поняли, что в «Инквизиторе» должно быть жесткое ч/б. Черный цвет сначала давит, вызывает ощущение безысходности, но когда в рассказе Ивана появляется образ Христа — он окружен светом.
Вы сказали, очень важно знать, что именно пьют герои…
Лена Авинова: Ребята пьют водку, потому что мы знаем предысторию, они пришли с похорон. Леннон пьет красное вино, конечно же, потому что это намек на Христа и обряд евхаристии. А Достоевский — пиво. Он должен быть среди них самым трезвым, чтобы записывать.
Розанов говорил, что у Достоевского не получилось создать собеседника Ивану. В «Великом инквизиторе» Алеша получился молчаливым статистом. Столкнулись ли вы с этой проблемой и как вышли из положения?
Лена Авинова: Как ни странно, в графическом романе эта проблема решилась легче, чем в тексте. Если в тексте Алеша все время молчит и его присутствие легко упустить из виду, то в комиксе он присутствует как полноправный, пусть и молчаливый участник диалога. Везде рядом с Иваном я изображала Алешу, использовала много крупных планов Алеши. Камера постоянно фиксирует и двух других участников разговора: Достоевского, присутствующего как писатель, который этот диалог опишет, и Христа, который выведет диалог на другой уровень.
Мне кажется, это и есть ответ на вопрос, зачем создавать комикс по «Великому инквизитору». Вам удалось графически решить проблему, которую было невозможно решить текстуально. У Достоевского в «Великом инквизиторе» преобладал монолог, а у вас — полилог, потому что лица собеседников становятся проекцией слов Ивана.
Вопрос по последней сцене, поцелуй Алеши и Ивана. Знаю, что по настоянию американцев вам пришлось переделывать этот кадр…
Наталья Осипова: Это была правка от американского редактора. Надо сказать, американцы не вмешивались в нашу работу. Были дебаты с издателем по поводу текста Достоевского: он счел ряд мест очень жестокими и вымарал их.
Лена Авинова: Что касается изображений, то мне присылалось несколько правок, например, про хвост текстового пузыря, который недостаточно точно указывает в рот персонажа. Про последний кадр сказали, будто герои выглядят так, словно не целуются, а один другому шепчет на ушко. Я согласилась и переделала рисунок.
Во всем мире комикс — полноценный вид искусства, да и в нашей стране отношение к нему потихоньку меняется
Что изменилось в вашем восприятии «Великого инквизитора» после окончания работы над графической новеллой?
Лена Авинова: Вообще, я в юности была фанатом Достоевского. В 16 лет плакала над «Братьями Карамазовыми». Но когда начала перечитывать этот текст, то, к удивлению, обнаружила, что текст меня не трогает. Это был тот же эффект, что и с Рэем Брэдбери и его «451 градус по Фаренгейту». Как известно, Брэдбери нельзя перечитывать в зрелом возрасте, иначе разочаруешься.
После работы над графическим романом старое чувство не то чтобы вернулось, но ярче проявилась актуальность. По крайней мере, для меня. Кажется, нам удалось сдуть пыль с произведения.
Наталья Осипова: Я много раз перечитывала и разбирала со студентами этот текст, но работа над комиксом дала мне опыт сотворчества с Достоевским. Это очень интимный процесс — адаптировать чужой текст в сценарий, происходит присвоение этого текста. И вот этот проклятый вопрос о слезе невинно замученного ребенка для меня, как специалиста по Льву Толстому, звучит как вопрос не только о вере, но и о непротивлении злу насилием. Достоевский искушает нас, как Иван — Алешу, а Инквизитор — Христа. Это искушение чужими страданиями и несправедливостью этих страданий. И мне кажется, что это то искушение, через которое должен пройти каждый читатель, чтобы ответить на вопрос: можно ли верить, если страдают невинные. Это личный и трудный вопрос.

Последний вопрос. Вы сказали, что готовите пять комиксов по русской классике. На какой стадии проект?
Наталья Осипова: Мы сделали гоголевскую «Шинель», «Пиковую даму» Пушкина, «Великий инквизитор» Достоевского. Сейчас работаем над Толстым. Первоначально хотели делать «Дьявола», но я загорелась «Хозяином и работником», текстом про смерть как воскресение. Сейчас кажется, что выбор правильный и если попросить у самого Толстого выбрать один текст — он сам назвал бы «Хозяина и работника».
Проект из графических новелл по русской классике практически завершен, осталась «Чайка» Чехова и, конечно, мы бы очень хотели, чтобы все пять наших работ вышли когда-нибудь под одной обложкой.

Чему нас учит автофикшн Карла Уве Кнаусгора
Шеститомный автобиографический эпос Карла Уве Кнаусгора уже успел стать классиком автофикшна. Перечитать все 3,5 тысячи страниц не просто, и мы обратимся к пятой книге под названием «Должен пойти дождь». Именно она намечает путь Кнаусгора, как молодого начинающего писателя. Ему чуть больше двадцати лет, однако книга будет полезна авторам всех возрастов и стилистических предпочтений. Автор портала Medium решил выделить пять важных вещей, которые все мы можем вынести из этой истории, а мы перевели текст.
1. Преодолеть чувство стыда
Мне понадобилось достаточно много времени, чтобы сделать открытие, что хороший текст всегда глубоко личный, даже до смущения личный. Но чтобы продвинуться вперед, важно оставить это смущение в стороне и продолжить писать. Преодолеть чувства стыда необходимо, чтобы достичь успеха. Это справедливо во всех сферах жизни.
Если вам когда-нибудь понадобится урок по преодолению стыда, то лучший образец — Карл Уве Кнаусгор. Будучи известен своим экстремально откровенным стилем, Кнаусгор довел художественную прозу до самых ее пределов, делая ее глубоко автобиографичной (что вызвало большое недовольство его собственной семьи). Он продолжает работать том же направлении, что в первых томах «Моей борьбы», и в пятой книге, предоставляя читателю прямой доступ к своим мыслям в период сложных перипетий в его жизни: новые отношения, новый курс в колледже, новое место. Пусть совершенно не обязательно признаваться, что ты регулярно отправляешься в ванную в сопровождении полупорнографического журнала, это, тем не менее, наглядно демонстрирует тот предел, который автор хотел преодолеть, чтобы достичь аутентичности. И именно это отличает его прозу от прочей.
2. Прийти в себя и подняться обратно — это самое важное
В какой-то момент Кнаусгор посещает известную писательскую академию в Бергене, однако его творчество не находит желаемого ему критического отклика. В расстройстве и тревоге он топит свою печаль в алкоголе, кульминацией чего становится стычка с одним из самых близких ему людей: он бросает бокал в своего брата. Все это описывает тот период жизни Кнаусгора, когда он постоянно напивался до потери сознания и терзался последующими страданиями.
Вечная борьба — это то, что сопровождает всех писателей на любом уровне. Вероятно, даже неизбежные отказы толстых журналов опубликовать ваши работы нужны для того, чтобы у вас появилась более толстая кожа. Все это должно выработать в вас стремление доказать «Я покажу им», которое и поможет вам стать тем, кем вы хотите стать, и отличает сотни тысяч пишущих людей от тех немногих, кто преуспевает в этом.
3. Вы считаете, что можете писать? Вероятно, так и есть
В продолжение последнего тезиса: если у вас есть предрасположенность к слову, то она, скорее всего, вас уже не оставит. Кнаусгор, сытый по горло постоянными неудачами, в конце концов просто постепенно вернулся к письму. Это стремление продолжать писать, несмотря на все отказы, как кажется, врожденное. Вы не можете делать ничего, кроме как вернуться на поле битвы.
Я всегда знал, что люблю писать, еще со школьных времен. По-настоящему это началось только после двадцати пяти, но я всегда любил слова. Когда мне было десять, мне нужно было купить словарь для школы. Я до сих пор помню, что я читал его как книгу и долгое время всюду носил с собой, случайным образом открывая новые для себя слова. Сходным образом, когда я слушаю музыку, то предпочитаю только песни с сильным и осмысленным текстом. Бесчисленные часы я смотрел музыкальные видеоклипы на YouTube. Всегда с текстом. Даже когда Кнаусгор был опустошен неудачами и бесполезными попытками, он все равно снова и снова продолжал и продолжал писать. Я думаю, что в этом повинно очарование самих слов.
4. Понимать людей
Одно из лучших свойств кнаусгоровской прозы — которое я сам очень хотел бы перенять — это его глубокое понимание других людей. Он схватывает великое множество индивидуальных странностей своих знакомых и всегда досконально их анализирует. Таким образом, классическая интровертная позиция позволяет высказать глубокие размышления о внешнем мире. В отличие от своего общительного брата, Ингве, Карл Уве производит впечатление очень стеснительного и замкнутого человека.
И хотя большинство экстравертов вряд ли оценят эти качества, именно они позволяют ему с такой глубиной анализировать людей, которых он видит. Так что одна из моих любимых цитат принадлежит медсестре, которая так характеризует главного героя, который короткое время работал с ней в психиатрическом отделении: «В тихом омуте черти водятся».
5. Вы можете писать о чем угодно
Большая часть книги Кнаусгора — об обыденной повседневной жизни. Это само по себе достижение — написать интересную книгу, где большую часть времени ничего не происходит. Однако нужно отметить, что эта повседневность глубоко аутентична. Внешне ничего и не должно происходить. Все происходит в сознании главного героя. Щедрое раскрытие самых сокровенных мыслей увлекает очарованного читателя в трансцендентальное путешествие, которое связывает воедино разрозненные эпизоды, когда что-то все-таки происходит. У каждого из нас есть такие мысли. Необязательно переживать катастрофический катарсический опыт, чтобы превратить свою жизнь в предмет искусства.
Заключение
В общем и целом, книги Кнаусгора — это прекрасная возможность для старта, если у вас есть склонность к письму, особенно в жанре автофикшн. Впрочем, многие из описанных выше уроков, которые можно почерпнуть из его книг, применимы и в других жанрах и стилях. Все они в действительности говорят скорее о складе мышления, чем о природном или техническом «таланте». Каждый из нас может развивать в себе эти навыки и использовать их в своем письме. И это будет печать большого писателя.

Роман Анастасии Писаревой «О чем молчит Биг-Бен»
У выпускницы петербургского отделения Creative Writing School Анастасии Писаревой вышел дебютный роман — и сразу в издательстве «Редакция Елены Шубиной». «О чем молчит Биг-Бен» — это история о работе и атмосфере типичного офиса, географически расположенного в Лондоне, но настолько стандартного, что такой же можно найти почти по всему миру. Как чувствует себя героиня среди коллег, по по сути типажей, которых мы встретим в любом офисе? Как дается ей, русской, коммуникация с людьми разных национальностей? Роман написан по собственным впечатлениям автора. Об этом, а также о том, как создавалась книга, мы и поговорили с Анастасией Писаревой. А также предлагаем прочитать фрагмент романа.
О чем ваш роман, кто его герои?
Обычные люди, довольно благополучные, не маргиналы, не олигархи, средний класс. У них в жизни все комфортно, все нормально. Базовые потребности удовлетворены, никаких глобальных катаклизмов нет. Они работают на хорошей работе, в престижном офисе. Жаловаться им особо не на что. Что происходит с ними дальше? Что выходит на первый план? Что важно? История про обычный офис и, что называется, нормальную жизнь. Но такая ли она нормальная или мы просто привыкли и не замечаем, каким бессмысленным и бредовым может иногда быть то, что мы привыкли считать нормальным? Усугубляется все тем, что дело происходит в интернациональном коллективе, и на общее непонимание накладывается еще и разница культур и мировоззрений.
Как появилась идея романа и как долго вы работали над ним? Что помогало в работе?
Я работала в Лондоне и наблюдала корпоративный мир в какой-то своей концентрированной, доведенной до абсурда форме. Мне вообще как-то ближе, когда идеи книг рождаются из жизни и наблюдений автора за жизнью, из того, что ему важно или его задевает, а не конструируются в голове искусственно.
Над романом работала лет пять с долгими перерывами. Не знаю даже, что помогало. Скорее даже многое мешало. Наверное, в итоге помогла какая-то собственная упертость или даже упоротость, ощущение, что я должна это написать и кроме меня именно эту историю и именно так никто не напишет.
История происходит в Лондоне, насколько важно место действия? Могло то же самое произойти, например, в Петербурге, где вы сейчас живете?
Не только могло, но и происходит повсюду, в любой стране, в любом городе. Просто каждая страна и каждый город накладывает свой отпечаток. В России офисный бред выглядит немного иначе, другие нюансы. В Лондоне же он получился каким-то эталонным. Как в Палате мер и весов. Можно было бы, наверное, даже сделать смешную и абсурдную вещь, если описывать все детали и сделать акцент на них, но мне хотелось сказать о другом — о человеке, который находится в эпицентре такого мира. И если делать акцент на человеке и его жизни, то уже как-то не особенно-то и смешно, потому что начинаешь задумываться, на что мы иногда тратим свою жизнь.
Вы опирались на свой опыт — сколько на самом деле в тексте вашей собственной истории, а сколько вымысла? Это фикшн или все же автофикшн?
Безусловно, в основе истории — собственный опыт, но это не автобиография и не хроники моей жизни. Так что да, это автофикшн чистой воды: художественное осмысление личного опыта.
Елена Чижова охарактеризовала ваш роман, как «европейский, но одновременно отвечающий лучшим русским традициям». Что вы взяли от этой русской традиции?
Психологичность, конечно. Героиня размышляет о людях, мире, о себе в этом мире, пытается его понять, разобраться, докопаться до смысла — вот эти классические метания и сомнения думающего и чувствующего человека. Но мой любимый русский классик — Достоевский, так что, наверное, не удивительно.
Ваш роман дебютный и сразу вышел в самом авторитетном издательстве — «Редакции Елены Шубиной». Как вы себя чувствуете в связи с этим?
Для меня заинтересовать такое издательство уже само по себе успех. То есть можно говорить о разных критериях писательского успеха — например, признание коллег, интерес читателей, хороший заработок. Так вот быть опубликованной в таком издательстве — это определенно один из них.
Ваш совет авторам, которые только работают над своим первым большим текстом?

Если вспоминать о собственных ошибках, то все же начинать с малых форм и на них учиться, отрабатывать разные приемы. Если опыт уже есть, то, пожалуй, просто писать, действовать. Честно говоря, нет какого-то универсального совета. Надо послушать людей опытных, а потом, учитывая их слова, почувствовать, что лучше для себя и так делать. Для кого-то это будет про дисциплину и про то, чтобы постоянно писать, не выпадая надолго из процесса. Для другого — наоборот, иногда останавливаться, чтобы почувствовать, куда дальше, куда тебя ведет текст. Услышать себя и свой ритм.
О чем молчит Биг-Бен. Отрывок
Бывают хорошие дни.
Они похожи на нормальный день в обычном офисе. Начинается все спокойно. Мы вменяемые. За окном светит солнце. С утра никаких встреч и можно вздохнуть чуть свободнее, сделать дела, запланировать, что дальше. В обед назначен тренинг, и мы заказываем пиццу на весь отдел, смеемся, собираем деньги. В этот момент мы очень похожи на героев корпоративного фильма, который я посмотрела в первый день работы: увлеченные, радостные люди, нацеленные на решение совместных задач. Нас самих можно снимать на камеру. Идеальные сотрудники. Идеальный офис.
Вечером — организационная планерка.
Там-то и происходит очередной сбой.
Как будто невидимые киношники, снимавшие нас весь день, уходят, унося свои софиты, и вокруг опять сгущаются сумерки. Все застывают в своих привычных масках, освещенные электрическим светом, который придает лицу бледный, землистый оттенок.
Я все еще во власти хорошего дня и не замечаю, что передышка закончилась и давно пора надеть доспехи и выставить вперед щит, потому что сумерки уже здесь.
Тереза поворачивается к Рике:
— Ты не забронировала комнату!
В ее реплике — одновременно скрытое обвинение, претензия и насмешка. Это вызывает патологическое желание оправдаться. Или послать подальше. Но последнее вряд ли — в Англии воспитанные люди…
Конечно, переговорная забронирована заранее, но потом сама Тереза раз десять переносит встречу. В итоге все сбиваются со счета, когда и где должны собраться, и после очередного изменения Рика забывает перебронировать переговорную. Я это знаю, Том знает, Ксавье знает, Кейтлин знает, Рика знает, наверное, и сама Тереза тоже знает, но все молчат, а Рика говорит:
— Извини, я забыла
— А надо было помнить!
Действительно, надо было помнить, но в нашем мини-мире выполнение любого разумного требования дается с трудом. Мы должны работать, как одна команда, но почему-то получается не очень. На встречах каждый погружен в себя, но стоит малейшей ряби пройти по воде («А кто отвечает за клиентский отчет в этом месяце?»), как все тут же готовы отразить атаку. Я вижу это на лицах других, и мое лицо, наверное, отражает то же самое. Главное, говорю я себе, спокойно относиться к некоторой нелогичности происходящего: никто же не удивляется, и только я из раза в раз самым глупым образом попадаю в эту ловушку. Когда я уже научусь?!
Я не слушаю, что говорят, уносясь мыслями далеко, планируя завтрашний день. Как всегда, распинается Ксавье, Том неохотно вставляет пару слов, что-то кратко презентует Линда, потом очередь доходит до Терезы, и она долго распространяется о чем-то, пока вдруг не замолкает. В этот момент я выныриваю из своих размышлений и понимаю, что все смотрят на меня.
— Ксения, в плане написано, что задачей занимаешься ты, — сообщает Тереза.
Я смотрю в план и вижу там набор слов, которые ни о чем мне не говорят, но напротив стоит мое имя. А раз твои инициалы каким-то образом оказались в плане напротив неведомой и неслыханной задачи, то налицо главная и неоспоримая улика против тебя. Раз тут написано — обязана была знать. Телепатически догадаться, почувствовать, выяснить, разложив карты Таро и проведя обряд вуду. Или тебя должно было озарить во время медитации.
— Тут какая-то коллизия. Это же не мои обязанности, — говорю я осторожно.
— Все в порядке — никакой коллизии нет. Марк должен был в тобой обсудить, — говорит Тереза, — проверь в почте. Наверное, он тебе что-то писал. — И тут же добавляет насмешливо: — Надо хотя бы иногда читать свою почту, Ксения!
Как ее читать, когда в день отовсюду падает по сто писем? Когда? И Марк. Конечно, он мне не писал, но вдруг… Вдруг я пропустила? Но он точно ничего не обсуждал со мной. Попробуй что-то обсудить с Марком. Для этого его надо сначала поймать, а это тоже задачка не из легких. И потом, как же нет коллизии?! Есть! Вот же!
— Это вроде задачи Ксавье. Наверное, тут ошибка, — делаю я еще одну попытку.
Тереза смотрит, словно меня нет. Насквозь. Ничего не говорит. Игнорирует.
Остальные молчат. Ксавье молчит. Кейтлин молчит. Рика молчит. Тереза переводит разговор на другую тему, а твое имя уже вписали в план. Поздно.
Тогда возникает чувство опасности. Происходит нечто неправильное, что не должно происходить. Мне что-то угрожает. Вот эта точка. Здесь идет сбой. Нужно что-то делать…
После можно проанализировать, что происходит, но внутри момента в переговорной я чувствую себя загнанным в угол животным. Оно шипит, огрызается, бросается. Я срастаюсь с этим ощетинившимся состоянием. Шестым чувством, на периферии сознания, улавливаю, что происходит что-то не то, но поделать ничего не могу. Я что-то говорю всем. Пытаюсь объяснить, где мои задачи, а где не мои. Подготовка новых стран к включению в общий процесс? Этим вообще-то Ксавье занимается. На худой конец, Кейтлин. И Марк не обсуждал ничего подобного со мной, и никто не обсуждал — я впервые вижу эту задачу.
Вокруг — вакуум. Люди молчат. Я к ним взываю. Без толку. Они отводят глаза, смотрят в пространство и снова молчат. Никто не приходит на помощь. Как если бы перед ними оказался сильно больной человек и все просто отошли в сторонку. Сначала меня пугает это, я не понимаю. Потом уже не пугает. Я никого не виню, знаю: таков способ самозащиты. Они молчат, надеясь полностью исчезнуть: нечто большее сейчас дотянулось до кого-то другого, но может дотянуться и до них. А если молчать и почти не дышать, то, даст бог, не дотянется. Стараются лишний раз не будить лихо, не заглядываться в бездну.
— Мы одна команда, — только и говорит Тереза, — так что мы все должны помогать друг другу.
Тошно от собственной беспомощности: проваливаешься в нее, как в болото, которое утянет тебя, и ничего не поделаешь. Кажется, я влипла. И, похоже, дело не в чужих задачах.
***
Серый город в это время года совсем темный. По-моему, уже в три часа спускаются сумерки. Огни отражаются в колышущейся темной массе реки. Чуть дальше за голубовато-белым колесом обозрения светится рождественская ярмарка.
Я иду на ярмарку, лишь бы не сидеть на одном месте дома, прислушиваясь, как за стеной ходит Арун. Сверху моросит дождь, а вокруг цветы и феи из разноцветного капрона, мерцают огоньками елочные игрушки, пряники, рогалики, серебряные украшения, вышитые сумки, смешные плакаты, пахнет ванилью, хлебом и специями. Я бегу мимо всего этого уютного и ароматного вслед за Темзой, усилием воли сдерживая себя, чтобы не начать бормотать себе что-то под нос, а то и вовсе кричать во весь голос. Я чувствую непоправимую тревогу, почти бешенство, попадись мне кто на пути — наверное, сшибу и не замечу.
На работе я стараюсь сохранять спокойствие, я пытаюсь вписаться, насколько это возможно. Я знаю правила и пытаюсь действовать по ним, но, кажется, я единственная, кто знает эти правила и пытается им следовать. Из-за этого они теряют смысл. Мои смыслы начинают ускользать, утекать, растворяться. Я еще держусь за них, потому что иначе я не знаю, где я и что здесь делаю. Вспоминаю улыбающегося Ксавье: «Надо быть гибче». Или Тереза. Она же приятная дружелюбная девушка, почему иногда в ее обществе мне кажется, что ко мне тянутся невидимые щупальца и сдавливают в тиски голову, перекрывают дыхание?
Я, безусловно, должна что-то понять. Я приехала посмотреть город, и вот я бегу по этому городу в ночи, совсем одна, по холоду и под дождем. Но нет, я не одна. С собой в голове я тащу незримый ком людей, ситуаций и эмоций с работы. В моей голове они говорят одновременно, снова и снова повторяют уже сказанные фразы, ужимки, мимику, а я каждый раз отвечаю им то так, то этак. Я ищу способ ответить им так, чтобы они уже отвязались, вылезли из моей головы, а не сидели у меня на плечах, все сильнее стискивая голову. Где же правильный ответ?
Припозднившиеся офисные сотрудники возвращаются домой. Прогуливаются туристы. Можно пойти домой, но там Арун, а мне до одури надо побыть одной, надо забраться в свою нору, сесть там и понять, что стучится ко мне откуда-то из глубин. У меня нет такой теплой норы, поэтому я бегу по южному берегу.
***
У Аруна в комнате воняет. Пахнет из душа в его отдельной ванной. Мы не знаем, в чем дело, конечно, вызываем через Эмму техника-смотрителя, и он идет до нас недели три.
Я смотрю на Аруна и никак не могу его раскусить. Бесконечное дружелюбие. Оно доканывает меня. Иногда даже кажется противоестественным, напускным. Как будто за ним скрывается совсем иное.
В один из редких дней мы ужинаем вместе, а поужинав, сидим и разговариваем. Наступает пауза. Она затягивается. Арун молчит, а я думаю о том, что, возможно, лимит общения на сегодня уже перевыполнен и я могу удалиться к себе. В тот момент, когда я уже почти открываю рот, чтобы вежливо распрощаться, лицо его вдруг делается скорбным и он говорит: «Знаешь, а ведь в моей жизни произошла трагедия». И снова замолкает. Я сижу и не знаю, что сказать. Он словно ждет, что я начну задавать вопросы, а он в ответ сможет тяжело вздыхать и повторять «Нет, не спрашивай».
Но я не спрашиваю. Мне страшно. Что там у него произошло? Я не хочу ничего знать. Не надо мне рассказывать! Словно если он расскажет мне хоть что-то, это привяжет меня к нему, соединит нас, заставит меня выслушивать его из раза в раз, давать советы, но скорее просто слушать и сопереживать. Но я не могу. У меня нет на это сил. Я перевожу разговор на другую тему.
Когда техник-смотритель все же приходит, он не может нам объяснить, почему из душа такая вонь. «Попробуйте вымыть душ с чистящим средством», — экспертно рекомендует он. К тому моменту мы уже знаем, что большего от него ожидать не приходится.
Причины вони остаются неясны, но Арун находит решение. Он покупает освежитель воздуха, из тех, что через равные промежутки времени выпускают струю запаха. Теперь к привычной вони примешивается химический запах ландыша. На счастье, в мою комнату эта обонятельная эклектика не долетает. У меня пусть крохотный, но свой мир. Свежий воздух из приоткрытого окна, яркие цвета, камешки, книжки, тетрадки, коврик для йоги, цветы в банке. Цветы я купила в «Сейнсберис». Букет оранжевых кустовых гвоздик. Рядом горит ароматическая свеча. Моя комната — единственный в мире квадрат пространства, где я могу чувствовать себя хоть чуть-чуть в безопасности.
Единожды приоткрыв тайну, Арун теперь то и дело намекает, что было в его жизни что-то такое. Такое! Я никогда ни о чем не спрашиваю. Его лицо мимолетно вытягивается, а затем он словно высочайшим усилием воли возвращается в приветливо-дружественный образ. Эта нарочитость меня бесит. Из его комнаты все так же воняет чем-то. С примесью ландыша.
***
Полтора месяца я плохо сплю: просыпаюсь в три ночи, снова засыпаю, встаю до будильника. По утрам на кухне готовлю завтрак. Под глазами синяки. Арун качает головой, сочувствует мне. Я убеждаю его, что это все луна — то полная, то новая, но всегда во всем виноватая.
За окном бушует ветер, и его порывы накрывают меня суетой и беспокойством. И внутри этой тревоги — я. Меня пробирает дрожь, как будто внутри — озноб души. Но мне не холодно — я не выключаю на ночь обогреватель, хотя это увеличит наши счета за электричество. А под одеялом еще теплее и уютнее. Прошлой ночью были «порывы шквалистого ветра». Я проснулась и поняла, что у меня все еще горит свеча, которую я жгла вечером, чтобы посидеть в тишине при ее свете, окно открыто, а в руке я сжимаю камень, который притащила из Москвы. Еще давно я нашла его на даче и убеждаю себя в том, что он придает мне сил и уничтожает плохие энергии вокруг. Сейчас он — особенно успокаивающий и родной в мире шквалистого ветра. За окном что-то падает, хлопает, разбивается. Стучит рама и нервно шелестят жалюзи, в открытую щель окна свистит ветер. Я закрываю окно и вглядываюсь через жалюзи. Темно. В отблеске фонарей с моста мчится, как сумасшедшая, Темза. Кусты и деревья во дворике сгибаются к земле под мощными порывами.
Ветер дребезжит во мне, словно стал частью моей кровеносной системы, звенит, как плохо закрепленное стекло. Я ощущаю пространство вокруг себя как напряженно-раздраженную нематериальную оболочку. Мне кажется, что она истончилась. Как нужно ее восстанавливать?
Тут я сама по себе. Это же нормально быть вот так — самой по себе: самой восстанавливаться, самой поддерживать себя и пространство вокруг в определенном состоянии. Но пока не получается.
Со всеми как будто происходит что-то не то, но я не уверена. По-моему, дело во мне. Череда нескончаемых неурядиц с самого приезда. Они идут плотным потоком — ни вдохнуть, ни выдохнуть. Все сыпется, валится, идет наперекосяк. В съемной квартире то тут, то там что-то ломается, не работает, засоряется.
Агенты по недвижимости держат камень за пазухой, банковские служащие врут в лицо, из-за бюрократической путаницы я полтора месяца не могу получить первую зарплату. Сложнее всего на работе. Что происходит, что происходит, твержу я себе, наблюдая за людьми и пытаясь собрать детали процесса, особенности характеров коллег, внутренние правила конторы и негласные традиции в единую картину. Но ничего не получается. Мотивация других ускользает, логика действий то ли отсутствует, то ли скрыта от меня, лица ничего не выражают, слова не соответствуют поступкам, все улыбаются и находятся на грани нервного срыва. Том смотрит, не мигая, и запирается один в переговорной. Рика улыбается в пространство. Эдна молчит и меняет прически. Палома кривится и громко вздыхает. Терезу не понять. Иногда кажется, что она морочит всем голову, мутит воду: прикидывается то Царевной Лебедью, то вороной. Ксавье играет в верховного шамана. Марк почти всегда отсутствует. «Я у клиента» — пишет он с утра. Когда он в офисе, то отгораживается ото всех английской пасторалью из улыбок и ничего не значащих слов. Я пытаюсь успевать делать мои дела по списку, но это не помогает, потому что мне подкидывают заодно и чужие дела.
Чайки бьются в окна офиса, деревья шумят голыми костлявыми ветками и царапают стекла снаружи, словно хотят дотянуться до нас. За окном на восток то бегут, то ползут разноцветные поезда, по частям сносят старое здание, машины скорой помощи, наводняя пространство звуками сирен, подъезжают к госпиталю Святого Томаса, спешащие на работу англичане чуть надменно переходят дорогу на красный свет светофора, по городу ездят на велосипедах марафонцы, Темза то сдувается, то ее разносит приливом. А туристы все снимают и снимают достопримечательности, выставляя камеры то так, то этак, толпятся на Вестминстерском мосту. Только один неоготический Парламент стоит спокойно и уверенно, как философ, сотни лет наблюдающий движение вокруг, и Биг Бен неумолимо отмеряет время, деля его на равные части.
Я пью много чая, еще больше воды, временами отворачиваюсь и смотрю на улицу. Я ничего не понимаю. Что происходит? Я кажусь себе необщительной, напряженной, негативной, агрессивной. Кажется, я социопат. Все будто недоговаривают: знают что-то, чего не знаю я. Я измаялась, пытаясь собрать себя воедино. Воздух враждебен, и что-то разливается в нем, и тянутся оттуда ко мне и ко всем множественные щупальца, цепляя нас поодиночке, пока мы не перезаражаемся друг от друга.

Писательский марафон «Метаморфозы»
Осенью 2021 года в Creative Writing School проходил открытый писательский марафон «Метаморфозы». Мы предложили участникам поразмышлять на тему перемен и обновления, ведь осень как раз то время, когда старое уходит в землю, а природа меняет свое обличие. Самые интересные результаты марафона — в нашей подборке.
Екатерина Каграманова
* * *
Смотри наверх. Куда ещё смотреть,
Когда от года остаётся треть —
Та самая, где холод и усталость,
И свет течёт, как драгоценный сплав,
А ты — сосуд прозрачного стекла,
Вмещающий в себя такую малость.
Такую малость, крохотную часть,
Что как не испугаться, не пропасть,
Когда вокруг всё станет осыпаться.
А время истекает, как смола,
Камедью из шершавого ствола,
Прозрачным светом, бьющим через пальцы.
Ася Иванова. Хлопья
— Ты замечала, что теплая вода слаще?
— Что?
— Ты замечала, что теплая вода слаще?
— Нет…
— Я тоже. А сейчас пью, и она слаще. Удивительно, правда? Как много вещей мы не замечаем… Да ведь?
— Что?
— Удивительно, как много вещей мы не замечаем.
— М, да, наверное…
— Ты когда-нибудь думала о людях, по-настоящему нуждающихся в тебе?
— Что?
— Говорю, ты когда-нибудь думала о людях, по-настоящему нуждающихся в тебе?
— Не помню…
— А я думал… вот Федя — он же без меня не сможет, верно? Если я перестану о нем заботиться, то кто будет? По крайней мере, вряд ли кто-то станет делать это так же хорошо, как я, согласна?
— Не знаю…
— Или вот Степан. Степан без меня точно пропадет. Иногда, знаешь, я прихожу, смотрю на него и вижу, как он беспомощен, как его никто больше не слушает, как он никому, кроме меня, и не нужен…
— Угу.
— Слышишь, мам?
— Никит, давай доедай хлопья и пошли, а то в сад опоздаем.
Мария Доронина. Спор о жаре и холоде
Споры эти были бесконечны. Тем более что в тесной дачной кладовке и заняться больше нечем.
— Нет, нет, вот уж как ни убеждайте, а глупость несусветная! Да каждая травинка, букашка лету радуется. Тепло! Солнце так и печет, все благоухает, кузнечики нескончаемо стрекочут. И небо бездонное, бесконечное, — восхищались теннисные ракетки. — И мячик летит в нем, летит, будто птица! Что и говорить: вы просто не видели.
— И видеть нечего, — чуть сварливо отвечали лыжные палки — великие охотницы поспорить (сами лыжи, создания более степенные и склонные к философским размышлениям, помалкивали). — Трава и трава — скука смертная. Вот посмотрели бы, как сверкает на солнце снег. Как искрится! Волшебство, да и только. Весь мир как картинка.
— Так у нас есть самый лучший арбитр: все люди лето обожают, а как осень наступит — куксятся.
— Люди зимой самый веселый праздник справляют. Никогда так не веселятся, как в Новый год.
Аргументы повторялись по кругу, как и сам разговор. Но время шло. Инвентарь изнашивался. Сначала треснула одна из лыж, не сумев осмыслить кантовскую максиму, потом и ракетки начали выходить из строя: одна ручка вовсе сломалась, другую приходилось вправлять после каждого удара — и бедолаг забросили на антресоли. Там они скучали и покрывались пылью, пока однажды особо снежной зимой ребята, обнаружив этакое сокровище, не решили, что лучших снегоступов не придумаешь. Целый день бывшие ракетки помогали исследовать окрестности дачи, а после, еще покрытые снежной пудрой, отправились на прежнее место — в кладовку.
— Вот это да, старые знакомые! — обрадовались они, увидев лыжные палки, в гордом одиночестве занимавшие угол. — Ну и денек! Какой славный морозец, какой рыхлый, рассыпчатый снежок. Бодрость и легкость — вот что такое зима!
— Кому что, как говорится, — проскрипели палки. — Для скандинавской ходьбы нет ничего лучше погожего летнего дня. Ни тебе стужи до костей, ни гололеда. Жаль вот лето у нас короткое: и прогреться не успеешь — опять постылая зима.
— Что ж вы раньше говорили?!
— Путаете с кем-то, — буркнули палки и замолчали.
Дарья Андреева. Сделка
Несмотря на потертые джинсы, остиновский свитерок и маленький скол на металлической оправе очков, риелтор Сергей Иваныч был дядька прожженный. От него даже попахивало какой-то гарью: то ли куревом, то ли еще чем.
— Вот, могу предложить двушку в Дальнемосковском. Новостройка, инфраструктура еще в процессе, двадцать минут на маршрутке до Теплого Стана…
Я с тоской смотрела на экран его компьютера. Серые поля, серые соты недостроенных корпусов, серое огромное небо.
— Или — примерно в те же деньги: однушка на самом Теплом Стане. Вторичка, семьдесят второго года. Ну, первый этаж. Зато парк рядом, пруд…
На экране замелькали бабушкины люстры и серванты, убитая пластиковая кухня, тесненький санузел.
— А больше ничего нет?
— Чтоб ежемесячный платеж по ипотеке не превышал тридцать тысяч? Боюсь, ничего.
Вот ведь она, взрослая жизнь. В детстве живешь и даже не сомневаешься: то, что у тебя есть — прекрасно и иначе быть не может. Потом подрастаешь и понимаешь: может и обязательно будет! Лучше, больше, краше! А потом вбиваешь свою зарплату в ипотечный калькулятор — и учишься смирению.
— Значит, либо решетки на окнах, либо… как там у Слепакова? Самосвалы рядом разгружают навоз, боже, неужели это чудо сбылось?
Моя бы воля, поселилась бы я на берегу не какого-то теплостанского пруда, а самого настоящего теплого океана. Не в модном месте — спасибо, обойдусь, — а попровинциальней, поглуше. Сидела бы на балконе в халате, бескрайний закат бликовал бы на экране макбука, а я бы копирайтила и эсэмэмила в Москву, тревожно спящую, словно невротик на снотворном. Черный вулканический пляж, старые машинки с обтесанными бамперами, захолустный магазин, где морозильники настолько слабые, что коробки с замороженными наггетсами отдают мокрым картоном. Тишь, гладь, чайки.
— Ну что ж, — сказал риелтор, — и это можно организовать.
И подмигнул. Я вдруг заметила, что один глаз у него серый, а другой — зеленый.
— И балкончик, и океанчик — можем справить! Молокопродукты из этих холодильников, конечно, покупать не рекомендую, но, впрочем, местные не травятся…
Как он услышал мои мысли?! Неужели я все это вслух произнесла? Меньше надо ночами работать…
— С платежом ниже тридцати тысяч? — хмыкнула я.
— Ну, тут другая валюта в ход идет…
— Это какая же?
— Да по-разному. Например, языком заплатить придется. Привычками всякими: знаете, кефир там, гречка… Любите?
— Люблю, — призналась я. — Гречку на кефире. На завтрак ем.
— Ну вот. А тут гречки с кефиром не будет. Ну, зато паэлья какая-нибудь, морепродукты… Снега, опять-таки, никакого. На лыжах не покататься, снеговика не слепить. Листьями желтыми осенью не пошуршать…
От его серьезного тона мне стало слегка не по себе, но я лихо фыркнула:
— Ну, без снега я уж как-нибудь обойдусь! С паэльей-то!
— Дело хозяйское! Только обратного переезда нет, вы имейте в виду…
Тут уж я засмеялась, и Сергей Иванович тоже улыбнулся. Ну и шуточки у него!
— Слушайте, — азартно проговорила я. — Раз вам такое под силу — а в другое время можете? Я, может, усадебку хочу!
Чтобы библиотека, а за окнами — лес. Чтобы лупилась штукатурка с колонн, обнажая деревянное нутро. Тишь, гладь и… не чайки, а воробьи, что ли, пляшущие в старенькой беседке. И из этой терпкой бунинской благодати копирайтить и эсэмэмить в Москву… хотя стоп.
— Усадебка подороже выйдет, — вздохнул Сергей Иваныч. — Гаджеты разрядятся за день, интернета нет, лекарь, если что, один на весь уезд и лечит кровопусканием. Стрижки вашей и джинсов не поймут-с. Но это ничего: волосы отрастут, платье…
— А как же я работать буду? — испуганно перебила я, забыв, что мы только шутим — кто кого перезубоскалит.
— А работать вам не придется! — просиял Сергей Иваныч. — У вас же крестьяне будут! Вы их секите почаще — больше толку выйдет. Будете у окошка сидеть, вышивать, романы французские читать…
— И что, это тоже в ипотеку? — жалобно спросила я.
— Ну конечно! Электричество и интернет — тело долга, а стрижка, джинсы, избирательные права — это так, проценты.
— И как долго платить?
— Так всю жизнь, милочка! Всю жизнь!
В полированной столешнице отражалась моя обкорнанная башка. Рядом с компьютером Сергея Иваныча лежал смартфон, на заставке — корги Фил, в рабочей почте одиннадцать непрочитанных писем. Надо уже решаться и за работу…
— Давайте однушку на Теплом Стане, — вздохнула я. — Окна-то на подъезд или во двор?
— Во двор, — живо отозвался Сергей Иваныч. — Дело ваше!
Стены обдеру, на них обои под покраску — сразу станет светлее. Кухню, конечно, придется менять, на мебель в комнату уже не хватит — перекантуюсь пока что на надувном матрасе, поставлю вешалку из «Икеи». И стол к окну — эсэмэмить и копирайтить. Вечером буду ходить с Филом на пруд. Тишь, гладь и утки, а зимой — коньки.
— Оформляем?
Я кивнула.
Сергей Иваныч встал и, чуть прихрамывая, пошел к сканеру с моим паспортом в руках.
Маруся Апрель. Венечка
— Ну здравствуй, Венечка.
— Чего припёрлась?
— Пирожков тебе принесла, с капустой.
— На кой чёрт мне твои пирожки? Никогда они мне не нравились.
— Врёшь ты всё! Это ты только вид делал. А как я в садик на работу, ты их все и съедал.
— Дура ты, Маня! Я их Дружку скармливал. Пока он не сдох. От твоих пирожков, кстати, очень может быть.
— Да ты, Венька, совсем уже, что ли?
— А чего это у тебя в сумке булькает?
— Не твоё дело. Ты уже своё выпил.
— Я тебе сейчас покажу «не моё дело»!
— И что же ты мне сделаешь? Что?
— А вот возьму и все твои побрякушки из ушей повыдёргиваю. Намалевалась-то. Тьфу! Смотреть противно. Кляча старая.
— От старика слышу.
— Какой же я старик? Мне всего семьдесят шесть, а тебе восемьдесят один. Выходит, я моложе. Наливай давай! Много не пей. Тебе ещё четыре часа домой добираться.
Двое мужчин стоят неподалёку. У одного в руках лопата.
— Слышь, опять эта бабка в шляпе сама с собой разговаривает.
— А ты подойди.
— Да, толку-то от неё.
И всё-таки он встаёт.
— Добрый день, бабушка.
— А?
— Добрый день, говорю! Могилку-то приподнять надо. Вон земля как осела.
— Вроде ж недавно поднимали.
— Ну как недавно. Четыре года уж прошло.
— Как четыре? Не могу я сейчас. Попозже.
— Ну, смотрите сами. Пока ещё цены старые.
Дождавшись, пока мужчина уйдёт, она смотрит на улыбающееся с мраморной плиты лицо мужа.
— Видишь, Веня, опять деньги вымогают.
— А, ты, Маня, не давай! Борись! Я ведь хоть и груб с тобой, а всегда за тебя. Ты же знаешь!
— Знаю, Венечка, знаю. На том и держусь.
Ольга Софинская. Черный и Лысый
— Смотрю на все это и прямо страдаю. Быстрее бы уже октябрь! — Черный презрительно фыркнул, отворачиваясь от окна.
— Что вы, что вы! Я хоть и совсем недавно здесь, но не понимаю, как же может быть иначе? Вот сейчас солнышко, птички чирикают. Вон Наташа с голыми лодыжками выпорхнула из подъезда и весело пошлепала по тротуару. Жаль, не успел приложиться… — Лысый разочарованно облизнулся, подпирая лбом освободившееся окно.
— У меня от этой жары прямо псиная одышка. Самому от себя противно! Нет, осень и зима куда приятней и без всяких там лодыжек. Да и стар я уже, чтоб на ноги внимание обращать. Вот представляю, как вытягиваюсь на пестром пледе поверх дивана, — Черный закатил глаза от удовольствия, — а на улице словно молоко везде разлито! Все белым-бело! Да так, что пол-окна снегом завалило. А у нас тут батареи работают, телевизор фонит и никуда идти не надо. Представил? Наташка твоя с улицы заходит, прозябшая, румяная, за ней колкий шлейф уличного морозца увивается. Она его вместе с пальтишком сбрасывает, тебя в охапку сгребает, и вы вместе клубочком на диване греетесь.
— Ой, как здорово вы рассказываете. Быстрее бы уже эта осень с зимой!
— То-то же. Ты хоть и сфинкс египетский, а русский холод полюбишь, обещаю, — промурчал победоносно Черный и пошел лежать на прохладный кафель в ванной.
Владислав Манулкян. Любек
В этот день я понял, что нет на Земле города лучше для меня, чем Любек. И все мои жалобы на скуку провинции в одно утро распались, как песочный замок, высохший на балтийском ветру. Не только я — никто в городе, никто в Германии не забудет этот день, и ещё долго будут вспоминать во всём мире.
Каждое утро я выхожу из дома в маленьком дворике между любекским Катаринеумом и улицей Колокололитейщиков 6 прямо у храма св. Прокопия Любекского и Утюжского. Звонки гимназии ещё не зазвонили, а колокола церкви св. Екатерины Александрийской давно пробили семь часов. Пожилая Фрау Эрбе уже курит трубку, читая свежую газету, и аромат её кофе в любое время года согревает сердце и бодрит тело.
— Мойн-мойн, — приветствует она, и я приподнимаю шляпу, желая ей чудесного дня.
Но в это утро не видно во дворе ни её седой причёски, ни ветерана Герра Эрлиха — нашего дворника. Все — и стар и млад — выбежали на улицу. Кажется, лишь я всё проспал за моими ночными бдениями над переводом «Гипериона» для мюнхенского издательства Вильгельма Хейне.
Если встать пораньше, можно услышать, как в открытых окнах дома напротив печатает туринская машинка Olivetti Lettera 22 салатного цвета. Любек, мой любимый город, что за счастье жить в каких-то ста метрах от двух нобелевских лауреатов. Но в это утро свет не горит в доме Гюнтера, а у входа в дом Брандтов толпа. Не пройти.
Я заставляю себя каждый божий день нахаживать хоть небольшой круг, даже когда не поспеваю с переводами и не сплю ночами. Мои утренние прогулки проходят мимо Любекского театра и дома Будденброков. Если ноги совсем не слушаются, отсиживаюсь на скамейке рядом с медным чёртом у церкви св. Марии. Он благодарный слушатель и хороший советчик. Но в это утро вокруг него пляшут дети, дарят ему пёстрые шарфы и целуют в полированный нос. Иные танцуют, будто три года не давали Рождества, а тут случилось внепланово.
В лучшие дни я поднимаюсь на башню церкви св. Петра. Ветер на такой высоте стоит жуткий даже летом, но вид открывается на все окраины города. Когда-то тебя звали Любице — «любимая» на языке славян-ободритов. Тебя брали и датчане, и французы. Именно тебя звали родиной марципана, кирпичной готики и северной Венецией, перекрёстком, на котором встречались все пути, ведущие к северным народам из южных морей. Ты был самим центром немецкого Ганзейского союза. А всего полвека назад утратил статус вольного имперского города, что сыны твои выкупили у императора Священной Римской империи. И кто знает, если бы граждане Бремена, Гамбурга и Франкфурта-на-Майне также не пустили Гитлера в тридцать седьмом, может, и их лишили бы привилегий вольных городов.
Но в это утро я не дошёл бы до церкви св. Петра, зайди я хоть на час в кафе «Нидереггера». Город как будто вскипел небывалым праздником. И даже столь угрюмый холостяк, как я, улыбался прохожим, словно первый снег выпал, и даже отдался танцу с какими-то дамами прямо на площади ратуши.
Праздник продолжался весь день. Я плакал и целовался со случайными и знакомыми студентками, мне наливали и передавали тарелки с пирогами из булочной «Юнге». В какой-то момент я оказался на лодке вместе с двумя инженерами из Лазерного центра, а к вечеру обнаружил себя в обществе вокалистов за столами любекского «Картофельного подвала» возле больницы св. Духа.
Стёрлись границы между студентами и профессорами, между официантами и людьми деловыми, священниками и женщинами вольных ремёсел, словно вся страна готовилась, тужилась, ждала именно этот день, чтобы между востоком и западом никогда больше не было границ.
Не уверен, помог ли мне Герр Эрлих подняться по лестнице к двум часам ночи, или, скорее, я поддерживал его возвышение на последний этаж, но когда тело моё нашло покой возле печатной машинки, я понял, что никогда не покину этот чудесный город.
Светлана С. Брин
Видели бы вы его, моего Брина!
Дедушка говорит, что, когда возвращается домой из паба, земля под ногами ходит ходуном. Дедушка говорит, всё это оттого, что Большой звёздный пёс играет ночами нашей планетой в мячик. Так вот! Пёс из звёзд такой огромный, каким бывает только ирландский волкодав. КАК И МОЙ БРИН!
О, видели бы вы его!
— Бри-ин! Бри-и-ин! Ну где же ты?
Мама рассердится. Её гнев вспыхивает легко, как торф, которым дедушка вечером топит печку. Как же приятно развалиться возле неё на плетёном ковре. Уж возле печки-то совсем невмоготу представить, что где-то может быть холодно. А сейчас не надо и стараться, бр-р.
— Бри-и-ин!
Когда мама злится, в ее рыжих волосах бегают красные молнии. Клянусь! А зелёные глаза будто выстреливают в тебя иголочками. Стало совсем темно.
Брин хоть и щенок, но очень умный малый. Так говорит дедушка, когда стягивает сапоги на кушетке, что стоит у самой входной двери: «Твой Брин, Аодх, очень умный малый. Редкий пёс!»
Рядом с кушеткой, под окнами, сколько себя помню, сушатся бараньи шкуры. Если во время дождя я не успеваю быстро закрыть ставни, как велит мама, на шкуры попадает вода, и вся кухня, а потом и комната, заполняются животным запахом мокрой шерсти. В очаге тлеет торф, в ставни стучит ветер с дождём. Мама, дедушка, бабушка и я сидим в комнате, будто первобытные люди в своей пещере. Пьём чай, и если бабушка не рассказывает легенды о Банши, сладкоголосых арфах Дагды и наших предках — кельтах, то мама с неутомимостью волн Ирландского моря припоминает мне мою нерасторопность: «Ну, я же просила! Разве это сложно? Сразу закрыть окно. Теперь этот запах повсюду! А у меня мигрень».
Так вот. Мой Брин — умный малый, поэтому гуляет без поводка. Сегодня мы ушли от деревни дальше обычного и… О, если бы только я знал! На окраине леса, в который ходить мне строго запрещено, мелькнула красная лисица. Я не поверил своим глазам! А мой Брин поверил. И не слышал уже ни моих окриков, ни своей клички.
Я рванул за ним. У меня на пути вырастали огромные валуны, я перепрыгивал их одним махом: — Хок, хок! Хок, хок!
Я спотыкался о запутанные корни деревьев, и не раз моя голова оказывалась на подушке изо мха. Но я поднимался и продолжал погоню.
— Бри-и-ин!
Я бежал, бежал, бежал и бежал. Но мой Брин давно скрылся из виду. И если честно, я понятия не имел, где нахожусь и куда мне идти. Стемнело. И вот мне только и остаётся что звать его:
— Бри-и-ин!
Звать, чтобы не слышать всех этих скрипов и шорохов, чтобы не вспоминать рассказов бабушки о лепреконах и волках. Чтобы не умереть со страха.
— Бри-и-ин! О, мой Брин, где же ты?
Мама, наверное, уже приготовила ужин. Уж если размечтаться: бекон с тушеной капустой и картофельные оладьи. Застелила холщовым отрезом наш небольшой, крепко сбитый деревянный стол. Толстые, круглые деревянные ножки скрипучих табуреток оставляют еле заметные борозды на глиняном полу: всё семейство садится ужинать. Пуще трели соловья меня бы сейчас обрадовала одна простая песенка: стук глиняных ложек о мамины любимые красные пиалки.
Но, погодите, что это? Будто лесной дух играет с моим разумом. Я вижу огни. Откуда здесь взяться огням? Может, это домики Адера — соседней деревни? Но! Разве это возможно? Огни двигаются. Нет, постойте! Они приближаются! Огни идут на меня! Где же ты, мой бедный-бедный малыш Брин?
— Аодх! Ао-о-одх!
Откуда они знают моё имя? Бабушка говорит, что лесным духам известно всё.
Темнота.
Я забрался под тяжёлое овечье одеяло с головой. Потрескивает очаг. На соседней кровати обычно спит мама, но сейчас мама на кухне, о чём-то спорит вполголоса с бабушкой и дедушкой. Нас разделяет крепкая деревянная дверь, обрамлённая неровными, выструганными дедушкой лично дощечками. Как вы поняли, ничего не расслышать. Ну и ладно, ведь моя голова стала весом с гигантский валун, что растёт на развилке дорог у огромного дуба. Глазом не моргнуть, ухом не повести. Засыпать НЕЛЬЗЯ! Я не забыл про тебя, мой дружочек. Как ты там? Догнал ли лисицу? Нашёл ли, где переждать ночь? Не встретил ли на своём пути одного из тех огромных волков, которые не первый год наводят страх на деревню? Ох, Брин…
Когда меня нашли, мамины глаза не выстреливали злыми иголочками, хотя я боялся! Они были красными, как плоды земляничного дерева. И полнились слезами, как горное озеро в апреле — водой.
Я бы ни за что не оставил моего Брина одного там, в лесу. Думаете, кто-то меня спросил?
Дома лучше всего: о, моя тёпленькая кроватка, грубый тёмный комод со щербинками на дверях, мамина перина, ни с чем не сравнимый аромат поздних яблок и цветков Вероники лекарственной — луговой травы, которую бабушка собирает и сушит на зиму маленькими букетиками, что развешивает на крепких белых нитках под потолком. Как стыдно за это предательское счастье. Перед моим другом, перед моим верным и храбрым щенком. Но я не так плох, милый Брин. Жду, пока все заснут. Чтобы! Что-обы… А они всё болтают. О, Брин.
Всё кончено. Я понял это, когда меня разбудило солнце.
Сперва луч присел на клетчатую занавеску. Прошёлся по комоду, о котором вы уже слышали. И остановился на мне. Вот я и проснулся. ПРОСНУЛСЯ. Когда не должен был спать ВООБЩЕ.
Я стал предателем. Я был разбит. Я потерял друга. Хуже. Я бросил друга в беде. И его съели волки. Заколдовала хитрая лисица или. Утащили к себе лепреконы. Мне больше никогда не услышать твой лай, друг. Прости меня, милый Брин. Прости, мой долговязый щен. Прости, светлая душа. Ведь себя я не прощу никогда.
В комнату осторожно заглянул дедушка.
— Расстроился из-за Брина?
Ещё бы, расстроился. Расстроился — не то слово.
— Напрасно.
— Что-о?! Напрасно? Дедушка, как ты можешь так говорить?
Дедушка ничего не ответил, но просунул в приоткрытую дверь ногу в широкой брючине и стал выписывать ей странные кренделя. Нет, меня точно заколдовали лесные духи! Я, наверное, лежу сейчас в лесной чаще, а всё это — колдовской сон.
Брючина дедушки не прекращала вертеться, пока из-за неё не показался… Да не-е-ет! Да точно! Чёрный нос.
А пото-ом… и усы!
Не может этого быть!
И косматое ухо!
— Брин! Бри-ин! Бри-и-ин!
— Забыл тебе рассказать, — сказал дедушка. Можно подумать, его кто-то сейчас слушал! Брин крутился на одеяле юлой, норовя зализать меня до смеху, и поскуливал от усердия.
— Забыл тебе рассказать, — сказал дедушка. — Что ирландский волкодав всегда находит свой дом.

«Я пила, молода, из полуведра…»
Маруся проголодалась. Не то, чтобы она уж совсем не могла терпеть. Но в животе настойчиво и заунывно урчало. Два часа Маруся корпела над сочинением. Хотя больше делала вид, если честно. Она разглядывала квадрат неба над двором-колодцем. В этой молочного цвета пустоте кружили черные точки и запятые ворон. Такая же пустота наблюдалась в Марусиной голове и желудке. Мерно тикал крохотный мамин будильник. Портрет трижды прабабки в пыльном овале смотрел с печальным укором.
До маминого прихода оставалось не больше трех часов. Опять повторится то же, что и каждый день. Маруся потрогала свежие широкие рубцы на плече и отшвырнула тетрадь на свой диванчик, отгороженный безногим платяным шкафом, пережившим Блокаду. Не так уж она хотела есть. Но до уборной добраться придется в любом случае. Маруся с неохотой встала. Половицы предательски скрипнули.
Маруся выглянула в окно. Она загадала: если на дне колодца появится прохожий, бояться нечего. Тик-так, тик-так… Будильник отсчитал ровно сто секунд. Никто не появился. Маруся выплюнула огрызок ногтя в пузатый горшок с засохшей фиалкой и решительно направилась к двери.
Конечно, это было смешно. Она уже не маленькая. И все-таки остановилась. Дверь отделяла девочку от стометрового коридора, ведущего к уборной, кухне и входной двери. Маруся с минуту прислушивалась. Соседская семья уехала за границу год назад. Их три двери не были заперты, чтобы Маруся с мамой могли поливать цветы. Еще одна дверь, самая ближняя к выходу, принадлежала молчаливому соседу с жидкой бородкой, который вечно пропадал на дежурствах. Эта была заперта.
Вот бы там, в дальнем конце коридора, зазвонил телефон! Но нет, молчит. Нужно было, придя из школы, оставить включенным радио на кухне! Почему Маруся не подумала об этом раньше?
Мамин будильник покашливал: Так-так.. так-так… Ладно. Видимо, придется петь.
Маруся, собравшись с духом, распахнула дверь. И, во все горло завопив «Вдоль по Питерской», двинулась вперед. Она дала петуха, зацепившись тапкой за дырявый квадратик линолеума, прибитого поверх скрипучих половиц. Сердце пошло вприсядку. И Маруся с удвоенной силой заголосила: «По Тверской-Ямскооооой»…
Коридор всегда был темным. По правую руку тянулись соседские двери. В одном из простенков засохшим насекомым висел велосипед, в другом — картина, изображавшая темную украинскую ночь с рекой, полной утопленников. «Эх, едет мииииленькааай!» — гремела Маруся. Слева под потолком болталась толстая гусеница — скрученный в пыльный рулон ковер. «Сам на троооооечкееэ…» Дальше — ниша, хранившая массу ненужных вещей. За нишей желтело крошечное окошко, выходившее на глухую стену. «Едет миииленькааай!» — ревела Маруся, силясь вспомнить слова. Вот уже крутой поворот коридора… да сам на трооооечкеееэ… Чернота. Абсолютная. За поворотом ванная и совсем чуть-чуть до кухни и уборной. …Ох, едет лапууууушкаааа… да по просё… Маруся смолкла.
Под дверью ванной светилась яркая полоска. Горло и губы пересохли. Шум в ушах едва затих, как Маруся услышала: хлюп… хлюп… А затем отчетливый всплеск. Другой, третий. Маруся прильнула к двери. Она улавливала еле слышное движение там, внутри. В следующее мгновение по ногам снизу вверх побежали ледяные змейки. Маруся осторожно опустила голову: в полумраке не разглядишь. Вода? Для воды что-то чересчур вязкое. Маруся отпрянула. Дверь открылась сама, выпуская свет и текучую искрящуюся прозрачность. Вода. Конечно, вода. Наверное, Маруся забыла выключить кран, когда после школы мыла руки над ванной. Раковина у них неисправна уже недели две. Маруся тряхнула стриженой головой и двинулась к ванне. Вокруг плавали разноцветными корабликами шлепанцы, пустые бутылочки из-под шампуня и исписанные тетрадные листы. Вода переливалась сплошным потоком. Но кран был закрыт. Маруся, сделав над собой усилие, протянула руку к смесителю. Из крана вырвался скрипучий вопль, но ни капли не вытекло.
Через край ванны все продолжала литься прозрачная влага, поднимаясь Марусе уже выше колен. Решив найти затычку, не дающую воде уходить в канализацию, Маруся нагнулась над колеблющейся поверхностью, чтобы ощупать дно. Но тут ее остановила внезапная мысль. Эх, не лед трещит… Девочка перекинула сначала одну ногу, затем другую. Села в ванну… Не комар пищит… Сделала глубокий вдох. И стала погружаться: «…Ох, юшечка да с петрушечкой! Поцелуй ты меня кума-ду-ше-чка…».
«Мама! Мама! Ты там что?» — настойчивый стук в дверь вывел Зою Владимировну из забытья.
— Твою ж мать… — вырвалось у Зои Владимировны, и она выскочила из переполненной через край ванны, быстро закрутив кран. — Я в порядке!
Нет, ну как можно было заснуть?! Капремонта ждали несколько лет, потом год вылизывали каждый угол этой необъятной, чтоб ей пусто было, квартиры. И на тебе! Елисей Гаврилыч ей устроит! Плакал семейный отпуск на Майорке! Еще этот урод ниже этажом! Просто засудит без разговоров. С ним же невозможно договориться!
Зоя Владимировна открыла шкаф, где в идеальном порядке гнездились белоснежные лебеди-полотенца, и с яростью стала скидывать их на запруженный пол. Затем, встав на четвереньки, ломая свежий шеллак, Зоя Владимировна собрала остатки воды в центр безукоризненно выложенного итальянской плиткой пола.
«Ох, поцелуй, поцелуй, кума-ДУ-ШЕЧ-КА!». Зоя Владимировна выпрямилась. Из зеркала на нее смотрела уже не молодая женщина. Вокруг глаз легли голубоватые круги, и крошечные морщинки прятались здесь и там на загоревшем путем крема-автозагара лице. Скорректированные нос и губы уже не претендовали на идеал. Грудь, живот, бедра — все приобретало несколько расплывчатые черты. Зоя Владимировна повернулась к зеркалу боком. На лопатке поверх нескольких белых расцвел безобразный сиреневато-малиновый рубец. Елисей Гаврилыч обычно использовал для этих целей строгий ошейник своего кривоногого пса Бантика.
И тут Зоя Владимировна запела. Сначала тихо, потом все громче и громче, пока не сорвалась на крик:
Эх, я в пирушке была, во беседушке,
Я пила, молода, сладку водочку.
Сладку водочку да наливочку
Я пила, молода, из полуведра.
Я ПИЛА МОЛОДА ИЗ ПОЛУВЕДРА!.
Я ПИЛА МОЛОДА, ИЗ ПОЛУВЕДРА!

Алексиада
Речь поведу о делах Алексея Сергеева сына —
Скромного мужа, который трудился на благо отчизны.
***
Вот уж заря занялась, осветила московское небо,
Град многошумный восстал, загремели, рыча, колесницы,
Встали рядами бездвижно они, исторгая миазмы.
Лето ль, зима — непонятно очам истомившимся; серым
Маревом вечно объят сей глухой обезумевший город,
Толпами полнясь спешащих людей, позабывших о солнце.
Сладки объятья Морфея — любимого Гипноса сына,
Их одолеть не под силу порой и сильнейшим из смертных,
Спит Алексей беспробудно, коварной поддавшийся неге.
Время летит быстрокрылое, канули в Лету мгновенья,
Мчится теперь Алексей злополучный бегом в подземелье.
Тесно в подземных чертогах — беснуются люди, звереют,
Каждый толкнуть норовит или слово поганое молвить,
Сам жесткосердный Арес кровожадной любуется битвой.
Взял Алексея народ в окружение — он, задыхаясь,
Замер, молясь, что никто тут чумою коронной не болен.
На опозданье ярился суровый его предводитель,
Карой стращал многотрудной, затем, негодуя, грозился,
Что беспощадно низвергнет в безденежья чёрную бездну.
Горе, известно, одно никогда не приходит: невзгоды
День Алексея безрадостный злой чередой омрачали.
Час наступил долгожданный: работы унылой оковы
Пали с героя, и сердце его взликовало. Собравшись,
Прочь устремился счастливец скорее к родному порогу.
Знайте, о жители мирных пределов страны, устрашитесь —
Небезопасны дороги и улицы стольного града:
Грозно снуют колесницы, как ветер, презрев пешеходов.
Бродят лихие мужи, да хмельные сатиры проказят,
Сладкоречивые песни сирен завлекают обманом.
Много таят лабиринты московские бед, но иная
Скорбь поджидала Сергеева сына на улицах ныне…
Вышел из храма забот Алексей на просторную площадь:
Воины в чёрных доспехах по левую руку свирепым
Строем стоят, а по правую — люд городской ополчился,
Дух непокорства и жажда свободы витает над ними.
Некуда деться случайному путнику — близится битва.
Так бы ему, бедолаге, вовек не избегнуть печали,
Ночь коротать в безотрадной темнице, окутанной мраком,
Горе напрасно терпеть лишь за то, что зовут Алексеем.
Сжалилось сердце богини Афины — заступницы правды,
Шлемом Аида главу Алексея покрыла — и чудо!
Вмиг Алексей обратился незримым для всякого взгляда.
Вывела мудрая робкого странника прочь невредимым.
***
Сил не осталось уже ни на трапезу, ни на веселье,
Ни на лица омовенье. С лихвой Алексей настрадавшись,
Рухнул на ложе голодным, лиющий прегорькие слезы:
Завтра ему предстоит повторение всех испытаний.
Слово своё обратил к небесам, обезумев от грусти:
Боги, доколе терпеть мне лишенья и злые преграды?
Знать бы, когда мне судьба наконец удалёнку позволит!..

Василий
Василий сидел на холодном сером кафельном полу станции метро. Он внимательно смотрел на руки пассажиров, ожидающих поезд. Они стояли небольшими хаотичными группками по всей платформе. Ни у кого не было еды, только сумки, пакеты с броской рекламой, планшеты и смартфоны, много-много смартфонов. Одна женщина средних лет бережно обвила руками горшок с небольшим цветком. Голод сжимал желудок. Вчера Василию повезло: запыленные белые кроссовки с розовыми полосами уронили в толчее рядом с Василием полгамбургера. Василий так сосредоточился на еде, что, когда его больно пнула в бок лакированная черная туфля на низком каблуке, не издал ни звука, ухватил добычу и ретировался к стене.
Над платформой, там, откуда приходили поезда, мигнул и погас потолочный светильник. Несколько пассажиров подняли головы и посмотрели в сторону затемнения, но вскоре отвернулись. На этой стороне последние полгода часто перегорали лампочки, приходили работники в серых костюмах с бело-оранжевыми полосами на плечах курток, лезли на алюминиевые стремянки и, чертыхаясь, меняли их. Василий вообще не любил эту часть платформы. Прибывающие из дыры стальные поезда приносили вместе со спертым воздухом едва ощутимые запахи серы и гнили. А еще вечером сюда спускались самые жирные и наглые крысы. Несколько из них пыталось утащить у Василия еду. Но он бил их со всей силы, и крысы, громко пища, убегали прочь, волоча по плитке свои толстые голые хвосты.
Василий жил в соседнем дворе, там была мусорка, куда постоянно выбрасывали картонные коробки разных размеров. В этих коробках можно было устроиться на ночь, если погода была сухая. На станцию метро Василий обычно спускался дважды в день, перед часом пик, чтобы поохотиться на остатки свежей еды. Когда-то здесь у стены стоял газетный киоск, где помимо газет продавали разную бесполезную мелочь. Но самое главное — в киоске работала Ниночка. Она единственная, кто за последние годы не брезговал общаться с Василием. Она ему приветливо улыбалась, а на обед всегда брала два бутерброда или пару сосисок — одну для себя, другую для Василия. Пахла Ниночка тяжелым цветочным запахом, на волосах было слишком много удушливого лака, но Василий все равно любил эти запахи. Каждый раз, спускаясь на станцию, он радовался, что снова их чувствует.
Василий долго и тоскливо смотрел в сторону лестницы, туда, где раньше стоял киоск, а теперь расположился серый роллерный дисплей с рекламой. Снова мигнул светильник, и Василий переместил взгляд на темную дыру туннеля, куда уходили рельсы. Ему часто казалось, что где-то в этой тьме есть еще одна дыра, еще более темная, непроглядная. Она засасывала в себя свежий воздух с улицы и оставляла взамен духоту и затхлость. Иногда сквозь грохот прибывающих вагонов, мелодии телефонных звонков и голоса пассажиров Василий слышал из нее скрежет и тяжелые глухие удары, будто в этой дыре шевелится и ворочается что-то большое и враждебное.
Василий моргнул, поежился от голода и погрузился в другое свое воспоминание. Оно, как старая затертая фотография, было размытым и имело мягкие цвета, перетекающие один в другой. Пожалуй, это было единственное воспоминание, что еще хранила его память, о том времени, когда у него была своя квартира. Он лежал на кровати, на рыжем с коричневыми пятнами пушистом покрывале, у батареи, которая обволакивала его приятным теплом. Рядом сидела Эля и смотрела плоский телевизор, прикрепленный к противоположной стене. Он помнил ее низкий, с хрипотцой голос, смешливые карие глаза и теплые нежные руки, кожа на которых часто шелушилась и покрывалась красными точками.
Лампочка снова мигнула, вырывая Василия из приятного воспоминания. Из дыры вместо вагона выплыла белесая прозрачная фигура мужчины с заостренным книзу лицом, наполовину оттопыренными ушами, широким носом и близко посаженными глазами. Фигура двигалась вдоль рельсов и хищно рассматривала пассажиров. Такие фигуры сильно нервировали Василия. Они могли просачиваться сквозь предметы, от них нельзя было укрыться. Пассажиры их не замечали, разве что Петро, такой же бродяга, как Василий. Петро видел их, когда ему удавалось раздобыть бутылку какой-то резко пахнущей жидкости, которую он бережно оборачивал в потрепанную газету. В моменты встречи с белесыми фигурами он забивался в угол между стеной и лестницей, зажимал бутылку между ногами и животом, закрывал голову испачканными руками с грязными ногтями и кричал. Если он кричал долго, то приходили люди в темно-синей форме и уводили его.
Доплыв до середины, фигура на миг зависла, а потом двинулась к стене, к Василию. Сердце Василия сжалось, он даже забыл про свой голод. Василий напрягся и приготовился бежать. Но фигура повернулась и поплыла к лестнице. Навстречу ей по платформе спешил мужчина в синей ветровке. Их плечи прошли сквозь друг друга. Мужчина в куртке ойкнул, поморщился от боли и начал растирать плечо второй рукой. Фигура как ни в чем не бывало продолжила свое движение к лестнице и унеслась вверх на улицу.
Сегодня был особенно паршивый день. На улице лил дождь, ледяной ветер пронизывал до костей. На ночь нужно было искать себе укрытие, а пока вымокший Василий жался к стене платформы между лестницей и туалетом, там, где внутри проходила труба с горячей водой. Несколько светильников над платформой замигало и погасло. В туннеле отчаянно запищали крысы. Послышался чавкающий звук, будто кто-то огромный выплюнул недожеванный ком пищи. А когда что-то грузное и многоногое, скрежеща по земле и стенам когтями, двинулось из дыры к платформе, Василий зашипел, распушил шерсть на туловище и хвосте, выгнул спину и рванул что есть мочи на улицу вверх по лестнице, не обращая внимания на многоголосые вопли пассажиров. Больше в метро Василий не возвращался.

Во сне и наяву
Откуда он взялся? Просто появился внезапно. Соткался из душного июльского воздуха и пристроился рядом. Сначала Вера почувствовала запах давно немытого тела, потом повеяло тяжелым перегаром. Слегка повернув голову, увидела огромного мужика в некогда синей клетчатой рубахе, который шел совсем близко к ним. Покрепче сжав руку сынишки, Вера продолжила идти. На всякий случай решила не обращать внимания. Что может произойти при свете дня, когда на улице полно людей? Не говоря ни слова, пугающей зловонной горой мужчина возвышался за ее плечом, не отставая ни на шаг. Шаркали по асфальту грязные ботинки, и этот звук тревожным эхом отдавался в ушах. Вера пошла быстрее, потом почти побежала, волоча за собой хныкающего Илюшку — малышу хотелось гулять, а она все ускорялась в надежде на то, что страшное видение наконец исчезнет само собой. Но преследователь не отставал, а наоборот, придвигался все ближе. А потом протянул грязные пальцы с обломанными черными ногтями и на ходу стал щипать ее за бок. Вера окинула паническим взглядом прохожих — а вдруг кто-нибудь вмешается, но люди отводили глаза и торопились по своим делам. В горле стоял комок, и даже мысль о том, чтобы позвать на помощь, казалась нелепой. В отчаянии она подхватила сына на руки и понеслась сломя голову. Но ее мучитель не сдавался, и казалось, что он получает удовольствие от этой погони. В полной тишине все трое продолжали стремительно продвигаться вперед, к дому.
Мой дом — моя крепость, твердила Вера про себя. И внезапно поняла, что эта крепость ее не спасет — как только она откроет дверь, страшное чудовище войдет вместе с ней. Но и на улице оставаться было невозможно. Значит, нужно попытаться. Быстро, еще быстрее. Быстро, как только возможно! Заскочила в подъезд, слыша страшный топот сзади, взлетела на третий этаж. Противный ригельный ключ, всегда заедавший в замке, внезапно сжалился и открыл дверь с первого раза. Сопение, зловоние и топот все ближе. Прыжком в дверь, захлопнуть, закрыть замок, задвижку, второй замок. Приложить ухо к двери и услышать мерзкую брань прямо рядом и вдруг снова ощутить этот кошмарный запах. И понять, что он доносится через замочную скважину, с той стороны. А они уже внутри, и можно, наконец, разжать руки, мертвой хваткой стиснувшие затихшего сына, и усадить его на диван. А самой сползти на пол и захлебнуться слезами от унижения, бессилия и облегчения. Спасены!
***
Лязгнул в замке ключ, заскрипела тяжелая входная дверь. Вера, задремавшая было в мягком кресле после пережитого ужаса, вскочила и на цыпочках, чтобы не разбудить Илюшку, заторопилась навстречу мужу. Так хотелось ей поскорее рассказать Андрею про случившийся сегодня кошмар, так рассчитывала она на сочувствие. Но через закрытую дверь детской из коридора донеслись веселые мужские голоса и женский смех, и Вера в нерешительности замерла. Вскоре звучный бас Андрея произнес: «Верочка, ну где же ты? Ты что же, не слышишь, что у нас гости?!» Наскоро пригладив волосы рукой и одернув на груди футболку, Вера, наконец, открыла дверь. Хуже и быть не могло — в коридоре, сверкая белоснежной улыбкой и продолжая рассказывать какой-то анекдот: «И в это время, сами понимаете, муж…», разувался Ковалев. А рядом с ним хохотала, благоухала Диором и посверкивала брильянтиками в изящных ушках его жена Светлана — идеал женской красоты, всегда стройна и подтянута, накрашена и одета как будто только что из модного салона. Андрей с неодобрением, словно видел впервые, оглядел бледное Верино лицо и ее домашний спортивный костюм, и произнес, сияя в сторону гостей: «Представляешь, случайно встретились у метро! Вот я и затащил их к нам, сто лет ведь не виделись. На-ка, Вера, мы тут принесли всякого, организуй-ка нам стол по-быстрому».
И потянулся невыносимый вечер. Гости веселились, бокалы звенели, Ковалев непрерывно острил, Светлана и Андрей покатывались со смеху над каждым его словом, а Вера, вежливо улыбаясь, исполняла обязанности хозяйки. «Или прислуги», шептала она себе под нос, бесшумно снуя между кухней и гостиной, подавая бутерброды и унося переполненные пепельницы. Андрей и Ковалевы, перебивая друг друга, рассказывали захватывающие истории своих приключений, Вера тоже иногда раскрывала рот в надежде вставить словечко, но вклиниться не было никакой возможности.
— А что же это Верочка все молчит? — неожиданно спросил Ковалев, и Андрей тут же ответил, как бы извиняясь за жену:
— Ну что у нее может произойти, она же у нас домохозяйка!
— Андрюша, вот как раз сегодня кое-что случилось, — робко начала Вера. И замолчала, не зная, как описать в присутствии гостей то, что ей пришлось пережить.
— Дайте-ка, я угадаю — подгорели котлеты! — тут же заполнил паузу Ковалев, подливая себе в бокал красного, и все снова засмеялись.
Обида была так сильна, что слезы подступили совсем близко, и противный горький ком, совсем, казалось, исчезнувший, снова утвердился в горле. Воспользовавшись тем, что никто не обращает на нее внимания, Вера тихонечко ретировалась на кухню и там, за развороченным столом, где коробки с детскими кашами, потеснившись, уступили место выпотрошенным упаковкам сыра и копченой колбасы, где глумливо ухмылялись беззубыми ртами раскрытые консервные банки, она дала волю своему горю. Зачем, спрашивала она себя, развозя злые слезы по горящим щекам, зачем вообще все это нужно? Эта нелепая жизнь, этот брак, откуда любовь испарилась так давно и так бесследно, что никто и не помнит о том, что она когда-то была… Уйти, уехать навсегда из этого дома, из этого города, а лучше — из этой страны, где никто не заступится на улице за женщину с ребенком, где в своем собственном доме она чувствует себя прислугой, а муж явно стесняется ее в присутствии гостей.
Резкий звонок в дверь заставил Веру вздрогнуть. Быстрый взгляд на часы — одиннадцать вечера. Кто бы это мог быть? Прислушиваясь к веселому смеху гостей, раздающемуся из гостиной, и на ходу вытирая глаза кухонным полотенцем, она подошла к двери. Охваченная тревогой, щелкнула замком, распахнула дверь и обмерла. Взгляд уперся в грязно-синюю рубаху, в нос ударило зловоние, страшная рука с обломанными ногтями потянулась к ее лицу. Вера закричала, завизжала что есть силы!
И — проснулась.
Сердце билось где-то в ушах. Она в ужасе огляделась вокруг, но все было спокойно. В темной детской умиротворяюще горел голубоватый глазок ночника. Малыш тихонько посапывал в кроватке рядом с креслом, где она заснула в неудобной позе. Ноги затекли, голова гудела. Вера поднялась, растирая онемевшие конечности, и побрела в спальню. Выдвинув ящик прикроватной тумбочки, достала новенький официальный бланк и с выражением прочитала вслух, сделав ударение на последнем слове: «Брак между Кравцовым Андреем Ивановичем и Кравцовой Верой Александровной ПРЕКРАЩЕН».

Где папа?
I
Мама не вошла в квартиру — мама в неё вкатилась. Нет, даже не так. Маму вкатили. На кресле с колесами, как у Машиного велосипеда. Только вид этих колес не вызывал радостного предвкушения лета, скорости и тёплого ветра в ушах. Эти колеса были злые, суровые, безжалостные, как медсестра, которая делала Маше укол в детской поликлинике.
Тот, кто вкатил кресло и маму, наверное, тоже был из поликлиники. Ведь мама должна была пойти туда, раз заболела. Хотя у Маши были сомнения. Она, конечно, знала, что очереди к врачу бывают долгими, но чтобы целый месяц! К тому же мама не кашляла, даже насморка не было. Что это за болезнь такая?!
Маше запретили выходить из комнаты. Но дверь в прихожую была приоткрыта, и через щелку девочка рассматривала маму. Да, это была она. Но многого в ней не хватало: красной помады, ярких ногтей, а главное — пышных волос. На их месте была только бледная кожа, отчего голова казалась маленькой, как у ребёнка.
Исчезло и ещё кое-что. Раньше Маша часто спрашивала у мамы, когда у нее вырастет такая же большая грудь. Мама смеялась и отвечала, что торопиться с этим не стоит, но успокаивала, мол, лет через семь все будет. Теперь же под кофточкой у мамы ничего не выступало. Маша подняла глаза на мамино тусклое лицо и встретилась с ней взглядом. Девочка невольно отступила в темноту комнаты.
Уже потом Маша узнала, что рак — это не только животное. И что своими клешнями он может схватить любую часть тела, даже женскую грудь. Маша узнала, что ремиссия — это когда мама дома. А рецидив — когда она снова уезжает.
Маша узнала, что за лекарства нужно платить, а денег у них нет. Еще, как оказалась, у мамы нет сил, терпения, желания бороться с болезнью. Зато есть дочь. Поэтому с тех пор, как мама въехала в квартиру на коляске, Маша на велосипеде не каталась. В тот момент детство ее закончилось.
II
Мама не любит разговаривать. На самые важные для Маши вопросы она отвечает вздохами.
— Как ты себя чувствуешь, мамочка?
Вздох.
— Ты скоро поправишься, мамочка?
Вздох.
— Мамочка, а где папа?
Она набирает в легкие воздух, как будто вот-вот что-то скажет. Но вместо слов изо рта выходит все тот же воздух — выходит медленно, устало, виновато.
Где папа?
Все вокруг молчат. Мамины подруги стыдливо опускают глаза. Люди на улице с укором качают головой. Маша долго сомневается, пока учебник биологии не заявляет: размножение — это слияние мужской и женской половых клеток. Ага! Значит, если есть ребёнок, есть мама и папа. По-другому никак.
Теперь у Маши два страха. Причем второй может обрушиться на нее сразу за первым: если мамы не станет, девочка никогда не узнает, кто ее отец.
…Маше пятнадцать. Днем она взрослая. После школы бежит на подработку — помогает второклассникам с английским. Дома готовит обед, следит, чтобы мама вовремя приняла лекарства. Девочка стирает белье, иногда бегает на почту за пособием — там ее уже запомнили.
Вечером Маша хочет быть ребенком. В мечтах ей снова восемь лет: на вырванном из тетради листе она выводит печатными буквами: «Мамачка я тибя люблу» и кладёт записку маме на подушку. Услышав, что звук льющейся воды в ванной затих, запрыгивает в свою постель. А через пару минут детская наполняется легким ароматом кокосового шампуня, и мамины губы нежно касаются ее щеки. «И я тебя люблю, зайчонок», — слышит Маша и проваливается в сон, легкий и сладкий, как сахарная вата.
Но сейчас мама пользуется совсем другим шампунем. От неё пахнет лекарствами, а губы постоянно сухие и трескаются.
Перед сном Маша заходит к маме в спальню, дотрагивается до холодной тонкой руки, чувствует, как проступают на ней вены, как дрожат мамины пальцы. Однажды девочка решается вложить в них записку. В этот раз там всего два слова. Почерком отличницы и, конечно, уже без ошибок: «Где папа?»
Прежде чем мама успевает развернуть бумажку, Маша закрывает за собой дверь. Она стоит в темной прихожей, сердце стучит громче настенных часов.
Раз. Два. Три.
В спальне тишина.
Четыре. Пять.
Шелестит бумага, что-то почти невесомое упало на пол.
Шесть. Семь.
За дверью слышен мамин протяжный вздох.
III
Мама пережила прогнозы врачей на десять лет. Успела познакомиться с зятем, а свадьбу смотрела в записи, уже лёжа на больничной койке. Она то устало откидывалась на подушку, то вновь рассеянно вглядывалась в экран Машиного смартфона. «Хорошо», — прошептала мама на середине видео и уснула. Через несколько часов ее не стало.
Из подруг на поминки пришла только тетя Наташа. В свое время она единственная не испугалась маминой бедности, беспомощности, отсутствия груди и волос. Тетя Наташа не испугалась и когда после пары-тройки рюмок Маша подсела к ней:
— Тетьнаташнька, ну ведь ей на небе уже все равно, понимаете? А я так больше жить не могу. Кто он? Где мой папа? Скажите вы наконец, ради бога. Умоляю, тетьнаташнька!
И она рассказала.
Его звали… Впрочем, неважно. Все неважно, все несерьезно, все на одну ночь. Ребенок? Ну круто, мне он не нужен. Деньги? У меня их нет, прости. Тяжело? Болеешь? Не справляешься? Я тебя предупреждал. А, Наташка, узнал, привет. Умерла? Жалко. С дочкой встретиться? Да у нее вроде все хорошо, зачем.
— И всё?
— У меня есть его номер, если хочешь.
— К черту.
…Маша пару секунд смотрит на фото незнакомого мужчины и, словно обжегшись, откидывает смартфон. Она подрывается к зеркалу, резко стягивает с волос резинку и потными руками вцепляется в свои густые черные пряди. Оглушенная собственным воплем, Маша рвет их, не чувствуя боли. Выдрать это недостойное генетическое напоминание. Выдрать с корнем! Будь ты проклят, ненавижу! Ненавижу!
Девушка без сил опускается на холодный пол, утирает рукавом мокрое лицо, слизывает из-под носа соленые капли. Из дальнего угла комнаты на Машу таращится кресло на велосипедных колесах. Настенные часы передают привет из детства: раз, два, три.
В спальне тишина.

Каждому свое
Если бы мечты девочек сбылись, Муслим давно бы ходил совсем лысый. Пока же черные упругие локоны украшали красивую голову мальчика, а не хранились в воображаемых нагрудных медальонах одноклассниц и всей параллели. Карие глаза с неприлично длинными ресницами — предмет зависти все тех же девчонок — были опущены вниз. Муслим шел в колонне 8 «Б», приехавшего на каникулы в Москву, и напряженно думал, ведь от его решения зависела вся его дальнейшая жизнь. Лишь изредка он бросал взгляд на Машеньку, идущую перед ним. Изумительно хрупкая девчушка с медовыми волосами весело болтала с подружками.
«Как ее волосы могут так пахнуть летом? Бабушке Машенька точно понравится, она сразу кинется откармливать ее моими любимыми чуду. С отцом, конечно, будут проблемы. Но я сразу скажу про то, что у дяди Дауда-то жена русская! Примет ислам и нормально. Ох, как все мне будут завидовать. А дети-то какие будут! Два мальчика и девочка… как минимум. Скоро она увидит, какой я мудрый человек! А вечером позову ее и между делом спрошу…» Дуновение июньского ветерка и развевающиеся волосы Машеньки прервали размышления. «Как ее волосы могут так пахнуть летом?» Машенька же прекрасно знала, как сделать так, чтобы ее волосы пахли чем угодно. Все зависело от предпочтений мальчика. Лето, море, дождь, любимая игрушка из детства, футбол, компьютерные игры? Да пожалуйста!
Всю информацию о мужчинах Машенька черпала из-под щели кухонной двери. Именно оттуда долетали секретики маминых подруг о том, как сводить мальчиков с ума. Например, когда он рассказывает о чем-то дорогом — надо коснуться его руки. И тогда следующее твое прикосновение будет ассоциироваться с этими приятностями. Машенька была изобретательна и трюк доработала — она словно невзначай коснулась Муслима, рассказывающего про лето в ауле, еще и волосами. После этого, по ее расчётам, он должен был навсегда перестать смотреть на противную Лизу Филатову.
Ребята шли по Кремлёвской набережной. Справа скучали в пробке автомобили, изредка сообщая об этом звуками клаксонов. Мальчишки взахлеб обсуждали желтенький порше, рычавший в этой консервации от бессилия. Муслим же смотрел на речные кораблики, неспешно двигающиеся по реке. Вот бы оказаться там с ней, среди этих людей, нежащихся под солнцем на палубах, среди этой заводной музыки, среди этого счастья.
«Главное, чтоб отец не узнал! На собрании, конечно, может всплыть информация! Но мать точно не сдаст. Остается одна проблема — Вахид! От этого можно ждать чего угодно. Этот дурень непредсказуем».
— Вахид, иди сюда! — крикнул Муслим.
Вахид был на голову выше всех в классе. Он был не похож ни на своих, ни на чужих. За рыжие волосы и голубые глаза его прозвали Ирландец. Вахид говорил, что это древние корни и что во времена Имама Шамиля почти все такие были. И что люди, изменившись внешне, остались все теми же внутри. Впрочем, он всегда говорил что-то непонятное, поэтому прозвище подходило ему как нельзя лучше.
— Слушай, ты в храм пойдешь? — спросил Муслим напряженно.
— А ты в гости к своему другу Максу ходишь?
— Ну, хожу…
— Кстати, видел у входа в Александровский сад Могилу неизвестного солдата? — непринужденно спросил Вахид.
— Ну, видел… Это здесь при чём? — недоумевал Муслим.
— При том что однажды кому-то снова показалось, что он лучше других!
— А, понятно… Слушай, ты моим не рассказывай, что я ходил! — виновато попросил Муслим.
— Я тебе так скажу: все тайное, не ставшее явным — живет в твоей душе. Слушай свою совесть. А совесть — это и есть твоя душа…
«Началось!» — подумал Муслим. Он так и не понял, можно положиться на Вахида или нет, но на всякий случай сказал: «Спасибо, брат!»
«Совесть… Душа… Отец из меня вытрясет и то и другое, если узнает. Но что я буду один стоять там, как дурак. И сегодня последний вечер. Сегодня! Позову ее… то да се, и я такой: «Слушай, а ты уже целовалась?» Она такая покраснеет, глаза опустит, а я подойду к ней и… Ну, где уже этот храм?»
Они шли от Красной площади пятнадцать минут, но для Муслима это было вечностью. Как и для Инны Борисовны, которая из-за плохого самочувствия учителя физкультуры, оставшегося в гостинице, одна должна была все это время нести на себе груз в виде двадцати двух непредсказуемых подростков.
«Почему мы идем в храм, а в мечеть экскурсии нет? — Неприятная вязкая субстанция появилась где-то в горле. — Получается, что я предатель? Отца, семьи, Аллаха?»
Муслим так был захвачен размышлениями, что не заметил, как прошли Большой Каменный мост, Берсеневскую набережную и только у Патриаршего моста, ведущего к храму, он очнулся. У лестницы на мост было кафе с красивейшей верандой, которая утопала в зелени. Растения в горшках — напольных, подвесных, — цветочки в вазах на столах. Аромат крепости кофе, перемешивающийся со сладостью дорогих духов и не менее дорогими выхлопными газами. Фирменный запах столицы пришёлся Муслиму по вкусу. Вот бы оказаться за одним из этих столиков с ней!
В воображении всплыла картина — Мухаммед и Иса сидят на небесной веранде.
— Чай? Кофе? — вежливо интересуется Мухаммед.
— Немного вина! — задорно отвечает Иса.
— Пора бы запомнить за эти века, что со своим нельзя! — шутливо хмурится Мухаммед.
— Я тут пахлаву принес, но раз со своим нельзя… А про века ты прав, мало кто что запомнил… Кстати, ты видел, что твой удумал? — вскинул брови Иса.
— Муслим-то? Я спокоен. Тут и мое вмешательство не нужно, там отец все уладит. И о Машеньке не волнуйся, примем как свою, — бесхитростно улыбается Мухаммед.
— Ладно, давай чай пить. Ты Пророк, и я Пророк! И в этом мы едины. Нам-то уж точно делить нечего.
— Ну, раз делить нечего, тогда последний кусочек пахлавы я забираю себе! — смеется Мухаммед.
«Аллах Акбар! Привидится же такое! Странное все же дело. Бог создал все. Но люди рождаются разъединенными. И выбора у них нет. Одни рождаются в правде, другие во лжи. Почему неверные? Они же не выбирали. Вот князь Владимир, например, выбирал. Волжские булгары и ислам ему-то понравились. Но потом… “Что? Нельзя вино пить и свинину есть? Нет уж, спасибо, мы во что-нибудь другое верить будем!” А ведь как все могло быть!» — Муслим покачал головой.
С Патриаршего моста были видны и машины, и кораблики, и река, и зелёная веранда кафе! А впереди, над всем-всем, над суетой, величественно и степенно возвышалось бело-золотое воплощение Православной Веры — храм Христа Спасителя во всем своём великолепии. Здесь учащенно, в такт мечущемуся сердцу Муслима, бились все сердца.
Остановились у входа.
— Ну что, все готовы? — спросила Инна Борисовна.
Машенька повернулась к Муслиму и, уловив его взгляд, направленный в сторону Лизы Филатовой, выпалила: «Сейчас один баран точно упрямиться будет!» Фрейлины захихикали.
«Что? МАША!» — Муслим не мог собрать мысли и понять, что происходит.
«Без свиньи разберусь! Нет, я не иду!» — почти закричал он.
Что-то сжалось в груди, оборвалось и с грохотом рухнуло вниз. Муслиму показалось, что оторвалось сердце. Но это были всего лишь мечты о детях, Маше, речном кораблике и зелёном кафе. Было трудно дышать, Инна Борисовна беззвучно открывала рот, в ушах звенело.
— Ну, начинается, — закатила глаза Инна Борисовна. — А раньше нельзя было сказать? Что? Вахид, ты тоже? Так, Муслим, Вахид, отсюда ни ногой! Все, ребята, заходим, живее!
Муслим стоял совсем один среди суетящихся людей и не понимал, как летом может быть так холодно.
— Все временно и относительно, — откуда-то из тумана донесся голос Вахида.
Только его не хватало, разозлился Муслим.
— Отвали!
Муслим отошел в сторону и отвернулся. Надо было держаться, мысли унеслись в аул, лето, к теплым рукам бабушки. Лучи, отражаясь в куполах, сыпали в глаза солнечными зайчиками. От этого и от того, что очень стало жалко старенькую бабушку, которая там совсем одна, глаза начало пощипывать.
— Мусли-им! — Машенька неслась со всех ног, без оглядки на то, что «за мужчинами бегать нельзя ни при каких обстоятельствах». — Муслим!
Пока Муслим возвращался в реальность, его сердце уже все осознало и отбивало дробь из фламенко! В висках пульсировали кастаньеты.
Вахид в сторонке наблюдал за разворачивающейся драмой и думал, что будет очень символично, если эта девчонка доведет Муслима до сердечного приступа именно здесь.
— Муслим, извини. Я же не то имела в виду. Я просто хотела, чтоб ты пошел. Там так красиво! Я не хотела так. Я с тобой тут постою. Можно? — умоляюще тараторила девочка.
Муслим простил ей, а заодно и князю Владимиру все, лишь только услышав, как она кричит его имя.
— Слушай, все нормально, я и не обиделся, просто не хотелось идти. Ты тоже извини меня. Красиво? Да ты еще не видела мечеть шейха Зайда в Абу-Даби. Я тебя потом туда отвезу!
Маша захихикала.
«Так, скажу, что заставили и что на иконы не смотрел». — Муслим пытался додумать план, но все мысли расплывались в улыбку.
Инна Борисовна бежала навстречу: «Маша, это что такое? Так! Муслим, Вахид, уже идем? Прекрасно! Вы меня с ума сведете!»
Муслим взял ручку Машеньки в свою большую влажную ладонь. И они, забыв о Вахиде, Инне Борисовне, месте, времени, шли в своем параллельном мире, оживленно рассказывая что-то друг другу.
— Бог есть любовь! — кивнул Вахид вслед впереди идущей счастливой парочке.
— Иди уже, умник! — с облегчением выдохнула учительница.

Когда загорится красный
Старую кошку-сфинкса Тосю никто не любил из-за мерзкого характера. Но появилась Валя Перова. Она взяла Тосю из приюта и обещала себе пройти через шипение, укусы и воровство еды со стола. Посеешь семена любви, они рано или поздно взойдут.
Поэтому, когда Тося попадалась на очередном проступке, Валя сдерживалась, и самое страшное наказание не заходило дальше ругани или брошенного тапка. Кошка под этот аккомпанемент убегала под диван в гостиной, и складки кожи на её животе раскачивались из стороны в сторону.
«Слива ты моя сушеная», — шептала Валя, провожая её взглядом.
Тося умела ненавидеть сильнее многих людей. Например, гости хозяйки расплачивались испорченной обувью, а сама Валя после их визита стирала простыни. Чувства кошачьи шли от сердца, были ясными, чистыми. Животные не знают полумер, поэтому нам проще общаться с ними, чем с другими людьми. Определённость — то, чего нам не хватает в отношениях между собой.
Сытый мир Тоси рухнул, когда хозяйка купила у подруги Лесю, совсем ещё малютку и тоже сфинкса. Первые шаги котёнка в новом доме встретили шипением. Леся потянулась носом к источнику незнакомого звука. Муж Вали стоял рядом, наблюдая за знакомством.
Наверное, он навсегда запомнил миг, когда обхватил котёнка, защищая его от удара сморщенной лапы. Тося била наверняка — на левой руке Валиного мужа и два года спустя были видны шрамы.
Валя шикнула на старуху, та скрылась в гостиной.
— Зараза! Лапы оторву! — ругалась она кошке вслед.
Леся росла противоположностью Тосе. Чуткая к настроению хозяйки, она приходила греть её по вечерам, оказывалась рядом, когда Валя грустила. Любопытство Леси было не по-кошачьи деликатным. Так, она никогда ничего не роняла, когда забиралась на книжные полки или в шкафы. Когда Валя болтала с кошкой о пустяках, как случается всем хозяевам, то в Лесиных жёлтых глазах ей чудились всполохи, словно там загоралось понимание.
Год пролетел. Многое в доме Вали изменилось, но отношения двух кошек остались прежними. Хоть они и избегали друг друга, но если сталкивались, то лишь веником удавалось их разнять.
Для домашних стало неожиданностью, когда Леся захотела кота. От воплей вожделения некуда было скрыться. Шли дни, но Валя не могла решить эту проблему, разрываясь между стерилизацией и лапами неведомого любовника.
Однажды утром чаша терпения переполнилась, Валя посадила Лесю в переноску и увезла. Вернулась через пару дней вместе со спокойной кошкой. Когда муж спросил, как дела, Валя ответила, что нашла Лесе породистого кавалера с медалями. Лишить свою питомицу радости материнства она не смогла.
Валя рассуждала о том, сколько будет стоить потомство от именитого отца. Она звонила с вопросами ветеринарам, знакомым заводчикам, даже по объявлениям, где продавали котят.
Роды Леси проходили тяжело, она утробно выла. Первый котёнок появился рано утром. Второго пришлось ждать до пяти вечера. Всё это время Валя курила, звонила друзьям-кошатникам, чашками пила кофе. С рождением второго розового комочка тяжелый день не кончился. Леся нашла силы, чтобы довести счёт до трёх, остановившись на двух котах и кошечке.
Мамаша днём лежала на хозяйской кровати вместе с котятами. Размером с крыс, они были лысые, розовые и морщинистые. На ночь кошачье семейство переезжало в манеж, который купил муж Вали.
Глядя на кошек, Валя чувствовала красоту мгновения. Любовь торжествовала через этих лысых котят, через их тонкую, грациозную мать, через новые запахи, которых раньше не было.
Сначала мамаша не подпускала Валиного сына с мужем, шипела, била лапой по воздуху, когда они приближались. Но в кошачьей голове бродили таинственные процессы, и вскоре уже все домочадцы могли брать котят в руки.
Поняв, что двуногим можно доверять, Леся начала всё чаще отдыхать на кухне. Она забиралась на кофемашину и спала, греясь на весеннем солнце. Казалось, что гармония достигнута.
Но вот Валя проснулась утром, привычно потянулась к манежу проверить котят, и увидела, что их два, а не три. Кошечки не было. Валя разбудила мужа и сына.
Поиски затянулись. Домочадцы копались в шкафах и переносках, под диваном и кроватями, отодвигали холодильник на кухне, но кошечки нигде не было. Потом муж полез под ванну и нашёл её. Валя вскрикнула и закрыла сыну ладонью глаза, увидев малютку. Вся в крови, сморщенная, лапки и голова не шевелились.
Валя отправила сына следить за остальными котятами, а сама просидела до вечера на кухне, пытаясь разложить по полочкам произошедшее.
На следующий день она поспорила с мужем. Он убеждал, что котёнок напоролся на что-то под ванной, там лежали стройматериалы, оставшиеся с ремонта. Валя отвечала, что котята просто так не умирают в луже крови в укромном месте. Пойти и проверить свои версии, заглянув в переноску, в которой пока спрятали малышку, не хватало решимости у обоих.
Валя стояла в коридоре и глядела, как Тося лежит на диване в гостиной. Старуха вылизывалась, и в каждом её движении мерещилась насмешка. Начав раскручивать клубочек, Валя уже не могла остановиться, и вот перед глазами чертями плясали все кошачьи грешки.
Леся же вечер накануне бегала и тревожно мяукала, но сегодня будто и забыла обо всём, сосредоточилась на оставшихся котятах. Валя терпела-терпела, да не выдержала. Кошка как раз бежала на кухню, она подхватила её на руки, потрясла:
— У тебя дочь умерла, а ты что?
И заглянула в жёлтые кошачьи глаза. В них что-то знакомо вспыхнуло. Валя отпустила кошку, ожидая чуда, продолжения, но она устремилась к миске с едой.
Мимо ног Вали проскользнула старуха, и вот уже обе кошки сидят рядом, каждая уткнулась в свою миску, забыв прошлые обиды.
Валя смотрела на них, но видела только, что мир-то её всегда был проще, и всполохи в глазах на самом деле блеск, а любовь — инстинкты.
Чувство превратилось в уверенность уже ночью. Валя спала неспокойно и проснулась от возни, писка и низкого рычания, доносившихся из манежа. Она включила свет и увидела, что старуха вцепилась в загривок котёнка, прокусив до крови. Валя вскочила с постели. Вместе с ней на пол грохнулась Леся, которая, как оказалось, спала в ногах у хозяйки. Старуха прижала уши к голове, медленно выпустила малыша из пасти и потрусила в темноту гостиной.
Валя проводила взглядом Тосю, посмотрела на мамашу. Та потёрлась о ногу хозяйки и запрыгнула обратно на кровать.
Проснулся сын, муж пришёл с кухни, услышав шум. Валя соврала, что её напугал ночной кошмар.
Утром она записала Лесю на стерилизацию, а Тосю отвезла в приют. Сажай не сажай, а ничего больше в этой почве не вырастет.

Марья и бесы
«…Неопознанный объект на станции метро “Сокольники” продолжает будоражить воображение москвичей — и становится серьезным препятствием для всей транспортной инфраструктуры. Число исчезнувших пассажиров приближается к десятку. Власти объявили о намерении временно закрыть станцию до выяснения обстоятельств. Поезда будут проезжать “Сокольники” без остановки. На данный момент объект охраняется полицией, введен режим повышенной готовности…»
— Да выключи ты уже эти новости! — раздраженно рявкнул Алексеев, преодолевая желание выбить из рук напарника ненавистный телефон. — Делом займись. Рапорт подам на тебя, тунеядца хренова…
Молодой рыжеватый парень в форме вздрогнул и спрятал мобильник в нагрудный карман. В новенькой амуниции он чувствовал себя неловко, как юный рыцарь — в плохо подогнанной броне.
— Так ведь ничего не происходит, Дмитрий Иваныч. Нет никого. И неужто вам неинтересно совсем?
— Ни хрена мне неинтересно, — буркнул Алексеев. — Периметр осматривай, раз никого нет. Пока пялишься в свои новости, проскочит мимо тебя какой-нибудь идиот гражданский, а спрос с кого будет? С меня. То-то…
Алексеева злило все. Бессмысленная и идиотская вахта у объекта, которым должны заниматься или военные, или, на худой конец, психиатры. Молокосос-курсант, которого к нему приставили в напарники, как будто Алексеев — какой-то чертов пионервожатый. Нездоровая шумиха вокруг оцепления — то и дело приходилось отгонять зевак и любопытствующих, желающих на собственной шкуре проверить, действительно ли источник света так опасен для жизни. Сам Алексеев не испытывал к охраняемой стене ни малейшего интереса. За десятки лет службы он успел повидать все — от бытовой поножовщины и любовников, прикованных к батарее плюшевыми наручниками, до оторванных конечностей в Афганистане. Приказ охранять пустое место, обмотанное заградительными лентами, он воспринял почти как личное оскорбление — лучше бы сразу отправили на пенсию. В гробу он видал всю эту мистику с неопознанными объектами. Куда больше его волновали гражданские, любящие совать носы не в свое дело. Еще во вторник все было в порядке, но потом на станции появился этот дьявольский светящийся квадрат — а следом начали пропадать люди.
— Ира, иди сюда скорей, вот оно! Доставай телефон!
Алексеев тяжело вздохнул и сделал шаг вперед, чтобы выглядеть внушительнее. Утренний час пик. Скорее бы станцию закрыли для пассажиров, сразу станет легче работать…
— Проход запрещен. Гражданки, отойдите от заградительной ленты.
— Вам жалко, что ли? — взмолилась высокая девица в спортивном костюме. — Тут, говорят, феномен, который не может объяснить наука, а вы никого не пускаете. Ну, войдите в положение, а, лейтенант?
— Я капитан, — огрызнулся Алексеев. — Тамбовский волк тебе лейтенант… Сказано — проход запрещен! Вы подойдете, а с меня потом голову снимут. И погоны.
Тем временем у ленты начал скапливаться народ. Кто-то с интересом переговаривался, кто-то даже приволок штатив для фотоаппарата и начал пристраиваться со съемочным оборудованием.
— Разойтись! — гаркнул Алексеев. — Зевакам здесь не место, объект закрыт! Петренко, проследи, чтобы все эти бездельники отошли на безопасное расстояние, должна же и от тебя быть какая-то польза?
Рыжий Петренко смешно вскинул руки.
— Граждане, граждане, успокойтесь! Нельзя здесь находиться. Нельзя. Отойдите. Два метра дистанция.
— Это завтра будет нельзя, — весело крикнул кто-то из толпы. — Пока станция открыта, не имеете права нас не пускать! Вы же там стоите, и ничего вам не сделалось. Лапшу на уши не вешай, командир, ага?
— Только государственные деньги проедают, — прошамкал какой-то старик, выглядывая из-за плеча девицы с телефоном. — Преступников ловить надо, а эти тут стоят, стенку охраняют. На базаре в Люблине целая банда паразитов карманы людям обчищает уже неделю, а милиция прохлаждается!
— Пропустите, пропустите, извините, спасибо… —Расталкивая людей локтями, к ограждению пробрался парень в модной ярко-красной куртке и выставил перед собой монопод с закрепленным мобильным. — Привет всем подписчикам моего канала! С вами — самые актуальные московские новости от Лехи Котэ, и сегодня я покажу вам то, чего вы еще никогда не видели! Но для начала не забудьте поставить лайки и подписаться на мой канал…
Алексеев подошел к нему вплотную и почти ласково проговорил:
— Слышь, репортер. Я твою селфи-палку сейчас заберу и знаешь, куда засуну? Сказано — разойтись!
— Э, полегче, — возмутился назвавший себя Лехой, — это денег стоит вообще-то! Сейчас все мои подписчики вас в прямом эфире увидят, докажу, что на частное имущество посягнули служители закона! Мы за свободу! За любовь!
— Я тебе щас покажу свободную любовь, — начал заводиться Алексеев. — Пошел отсюда!
— Ирка, Ирка, ты снимаешь? — раздалось шушуканье из толпы. — Снимай, в Инстаграм выложим, знаешь, сколько лайков будет?
— И в Одноклассники, — вмешался старик. — В Одноклассники не забудьте. Чтобы все видели, как у нас с народом обращаются!
Алексеев, мысленно представляя спокойную и размеренную пенсию с чашкой чая на дачной веранде, набрал в грудь побольше воздуха.
— Ра-зой-тись!
— А чего голосят-то? Случилось чего? Да что вы тут столпились, ей-богу, дайте пройти! — откуда-то раздался надтреснутый голос, а по толпе пробежало недовольное шушуканье. Кто-то возмущенно вскрикивал.
— А ты ноги свои мне под колеса не подставляй! — сварливо огрызнулась обладательница голоса и, волоча за собой клетчатую тележку с торчащими перьями зеленого лука, решительно приблизилась к ленте. — Ругаются они тут. Ишь, нашлись умники. Милок, ты чего здесь встал-то? Дай ветерану труда пройти!
Перед Алексеевым стояла низенькая старушка в нелепой вязаной шляпке с цветами, подслеповато щурилась и воинственно сжимала в руке отполированную за долгие годы клюку.
— Служивый, я вижу, ты тут при исполнении, но уж не обессудь, к Ильиничне мне надо за рассадой. А не то уедет она на огород, а я зря, что ль, пол-Москвы проехала? Давай-давай, посторонись, где я еще такой сорт помидор-то отыщу? Только у Ильиничны оне и есть. На автобус мне надо успеть.
— Нельзя сюда, бабушка. — Петренко попытался оттеснить пенсионерку от ограждения. — Нельзя, запрещен проход.
— У меня пенсионное, мне все можно, — отрезала старуха и зацепила тележкой один из столбиков, удерживающих ленту. Тот упал на каменный пол с гулким грохотом. — Сказано тебе — пущай меня, ирод, а не то клюкой как отхожу! Вижу, лифт новенький наверх открыли — старикам благодать, да пользоваться-то почему не даете?
— Какой лифт? Здесь нет никакого лифта, — растерянно пробормотал Петренко. — Дмитрий Иваныч… Дмитрий Иваныч, проследите, я ограждение на место поставлю.
В толпе засверкали вспышки фотоаппаратов. Алексеев прикинул, сколько приятных слов он услышит от начальства, если вызовет подкрепление — даже с кучкой зевак справиться не может, ветеран хренов. Стоило ему обернуться, как старушка неожиданно резво проскользнула мимо Петренко, неловко склонившегося над упавшим ограждением, и засеменила к стене. Толпа зашумела.
— Давно пора было лифты открыть, — бубнила старушка себе под нос. — Хоть на что-то годное наши налоги идут.
— Гражданка, а ну, назад! — взревел Алексеев. — Именем закона…
— Подтиралась я твоим законом, — буркнула старушка и, внезапно попав в светящийся круг, исчезла.
На мгновение все замолчали. Кто-то судорожно пролистывал галерею в телефоне в поисках доказательств.
— Ты это снял? Снял, я тебя спрашиваю?!
— В смысле, а где бабка-то? — звучали растерянные голоса со всех сторон. — Только что ведь тут была…
— Крестное знамение! — завыла какая-то пенсионерка и начала мелко креститься. — Осените себя крестным знамением, ибо конец грядет, ох, грехи наши тяжкие!
Алексеев поднял смятый, сложенный пополам лист бумаги, одиноко валяющийся на плитке, развернул.
— Что там? — Петренко осторожно выглянул из-за плеча капитана.
— Квитанция там. Из жилконторы. За свет. На имя Потаповой Марьи Сергеевны… Чертовщина какая-то.
Раздался глухой стук — кто-то упал в обморок, грузно рухнув на пол. Капитан Алексеев и сам не догадывался, насколько он был близок к истине.
***
Флаурос, демон младших чинов, ответственный за регистрацию новоприбывших, с трудом мог вспомнить настолько же суматошный денек. Впрочем, уже несколько часов было довольно тихо. Внезапно тишину нарушил бодрый старческий голос.
— Я что-то такого не припомню, склероз у меня уже, остановка-то автобусная где здесь?
Флаурос сощурил багрово-красные глаза без зрачков.
— Еще один. Прекрасно… Кто тут у нас? Ага, Марья Сергеевна… Рано вам к нам, Марья Сергеевна, как и остальным!
— И ничего мне не рано, — завелась старушка, — я на автобус опаздываю, рассаду забрать не успею! Ну-ка покажи мне быстро дорогу к остановке.
— Так, все, бабуля. — Демон растянул губы в улыбке. — Приехали вы уже, дальше некуда. Конечная остановочка.
— Да как же так, какая конечная? — Марья Сергеевна наконец замешкалась и начала оглядываться, понимая, что что-то пошло не так. — Почему конечная? На Сокольниках же это… Двадцать пятый останавливается…
— Самая что ни на есть конечная, — отрезал Флаурос и извлек из-под разлапистого дубового стола пергаментный свиток. — Оформляться сейчас будем. Присядьте, присядьте, в ногах правды нет. Мы тут для таких, как вы, уже и места подготовили.
Демон уставился в свиток и нахмурился.
— Точно, как сказал, так и есть — рано вам. Или вы все-таки дух испустили, бабуля?
— Сам сейчас дух испустишь как миленький. — Старушка перехватила клюку морщинистыми пальцами. — На лифт я шла, на лифт! На автобус! К Ильинич…
Демон схватился за голову и закачался в кресле.
— Астарот, как же ты надоел со своими шутками! Я подаю рапорт о том, что где-то остался незакрытый портал… Пятый за неделю, пятый! — Он со злостью смял и выбросил пустой пергамент. — Как будто у нас тут дел других нет, кроме как разбираться с последствиями твоих развлечений?! Сана лишишься в момент, так и знай, черт бы тебя поб… Ах да, все время забываю. Нахватался этих земных словечек за триста лет службы, шагу некуда ступить. Что ж. — Он привстал и картинно приподнял над головой несуществующую шляпу. — Добро пожаловать в Преисподнюю, бабушка.
— Это какую такую Преисподнюю? — опешила Марья Сергеевна. — А как же автобус? Я вас, неформалов молодых, за такие шуточки…
— В Ад, бабушка, в Ад.
— Ты чего мне мозги-то пудришь, ирод окаянный? Коли это правда, где котлы? Огонь? Да и тишь у вас, благодать, прямо как у нас в райсобесе по выходным… В Аду-то грешники кричат, поджариваются.
Флаурус осуждающе поцокал языком.
— Бабуля, ну за кого вы нас принимаете? Нехорошо мыслить стереотипами. Прогресс не стоит на месте, думаете, за пятьсот лет здесь ничего не изменилось? Инновации, реформы. Князь Тьмы радеет за благополучие прибывающих денно и нощно. — Он внимательно посмотрел на примолкшую старушку, подмигнул и добавил шепотом: — Котлы у нас этажом ниже. Субботник там уже пару дней, чистят от нагара, а обитатели временно переселены в зал ожидания…
— Так если у вас тут действительно Ад, — нашлась старушка, — значит, и муж мой, пройдоха старый, где-то здесь! А ну, говори, как его найти, Никита Василич он у меня, пять лет назад помер. Надо мне ему пару ласковых сказать, а то не успела, знаешь, напоследок-то!
— Тише, тише, бабушка, не шумите. Шуметь здесь не разрешено. — Флаурус выразительно кивнул на золоченую табличку с витиеватой надписью:
«Истошные крики и животные рыдания запрещены. Просьба воздерживаться от нечеловеческого воя за пределами яруса С».
— Демоны не любят громких звуков, да и охрана у нас чуткая — Цербера если разбудить, потом трое суток не спит, рычит, воет, работать мешает. Не советую испытывать судьбу. В прошлый раз троих новоприбывших сожрал, даже в курс дела ввести не успели, печальна их участь… А вы, бабушка, пройдите в зону ожидания, пройдите. Вот, возьмите номерок. Посмотрим, куда вас определить.
— Ну нет, — взвилась Марья Сергеевна, — так не пойдет, чертов ты сын!
Флаурус попытался возразить, что он, вообще-то, строго говоря, не имеет с чертями родственных связей, но старуха перешла в наступление.
— Номерок, говоришь?! В задницу себе засунь свой номерок! Настоялась я в очередях с талонами, ишь, развели бюрократию, нешто тут поликлиника наша районная?! Тьфу, стыдоба какая, и страну развалили, и Ад во что превратили — позорище одно. — Марья Сергеевна с вызовом приблизилась к Флаурусу и почти нависла над столом. — При Брежневе-то, поди-ка, тут куда достойнее было. Скатились. Тьфу. А ну, подавай мне паскудника этого, мужа моего бывшего, значит! Зря я, что ль, сюда попала?
— Брежнев — этажом выше, — тяжело вздохнул Флаурус. — А местоположение томящихся раскрывать я не уполномочен…
— Ага, — обрадовалась Марья Сергеевна, — значит, здесь он все-таки! Не подвело меня чутье, всю жизнь говорила, что в аду будет гореть за шуточки свои, старый хрыч. Как будто не видела я, как Алевтину по жопе ее обвисшей хлопал и подмигивал единственным глазом. Так что, где у вас тут этот… этаж для прелюбодеев и любителей грехопадения? Зуб даю, последний золотой, что там он где-то. А меня-то и не ждет, а я — тут как тут.
— Бабушка, — тихо и угрожающе начал Флаурус, — тише, тише, ради князя Тьмы. Ваши тонкости быта с бывшим мужем, конечно, весьма занимательны, но мне, знаете ли, работать надо, не смогу я вас выслушать. Пройдите в комнату ожидания до выяснения.
Старуха схватила его за грудки.
— Ты меня князем Тьмы-то своим не стращай, морда рогатая! Я в том квартале в жилконтору ходила, заставила этих хапуг мне отопление пересчитать, вот там-то черти сидят — ух, с вашими не сравнятся, а ты меня пугать вздумал? Не на ту напал, я Василича пережила, соседку свою пережила, тебя, чертяку, тоже переживу! А ну, подавай мне вашего главного, пойду к нему, жаловаться буду.
— К главному, бабуля, очередь на сто лет вперед расписана, да и не думаю, что понравится вам… Он, знаете, любит посетителей принимать в своем истинном обличье. — Флаурус ухмыльнулся и тут же подскочил. — Бабуля, ну это уже не годится никуда. Вилы на место поставьте, они декоративные, коллекционные!
— А ты, собака такая рогатая, иначе никуда меня не пропустишь! — нахально заявила старуха, угрожающе потрясая вилами в одной руке и клюкой — в другой. — А ну, посторонись и пусти старую. Старика своего искать пойду, раз вы тут с этими треклятыми номерками свистопляску развели!
Флаурус уставился на перья зеленого лука, разбросанные по залу Прибытия, и на забытую тележку. Старуха, грозя вилами, двинулась куда-то в сторону комнаты ожидания, но что-то ему подсказывало, что там она не задержится.
— Асмодей, прием. Асмодей. Повышенная готовность, у нас сложный посетитель, держи ухо востро, еще и парадные вилы Белиала забрала… — Он договорил и устало откинулся на резную спинку кресла. — Дьявол, и ведь права старая карга, действительно, измельчало царство Тьмы. То ли дело было в тринадцатом веке — чинно, благостно. Ничего, еще полвека — в другой отдел на службу пойду.
***
— Внимание, внимание, всем постам. Проблема урегулирована, все пять порталов Астарота в разных точках планеты нейтрализованы. Граждан, ошибочно попавших в Преисподнюю раньше срока, просим пройти к выходу, граф Флаурус откроет для вас двери. Внимание, внимание, всем постам. Граждан…
Флаурус, изрядно вымотанный за несколько часов, стоял навытяжку у главного входа и вежливо давал напутствия уходящим.
— Всего доброго. До свидания… Нет-нет, совсем не скорого. А вы тут вообще по ошибке, вам через пару лет к Гавриилу. Прощайте. Прощайте. И вы тоже прощайте… — Тут он заметил семенящую фигуру Марьи Сергеевны издалека и нервно сглотнул.
— Вилы я во-о-он в тот угол поставила, — жизнерадостно заявила старушка, пробираясь без очереди вперед. — Позаимствовала ненадолго, ты уж зла не держи. Ну что, рогатый, бывай, не скучай! Василича своего я нашла, по морде ему заехала, ты бы видел его лицо — ух, вот это был номер… Теперь и назад вертаться можно. Ну, давай, отправляй меня ужо обратно, черт лохматый. И мужу моему огонька добавь, а то ишь, расслабился.
Старушка подмигнула и шагнула к выходу, а Флаурус внезапно хитро оскалился.
— До встречи, Марья Сергеевна, до встречи. Довольно скорой.

Надюха
Прислушайся к тоннелю,
Там странные шаги,
Ведь шпалы не успели
Почувствовать ноги.
Там грохот перекачек
И гул подземных шахт,
Там шагом обозначен
И плач, и смех, и страх.
(Из стенгазеты «Кадры метро»).
Конец летней сессии в ненавистном МИИГАИКе. Взял газету «Московский комсомолец» за 1984 год, там объявление: «Работа ищет студентов», пошел на ближайшую станцию Медведково. Подошел к дежурной в униформе, держу газету в руках, показываю, мол, вам студенты на временную не нужны? Она направляет в какую-то комнатку служебную: «Иди туда, там начальство». Плотный начальник сидит в тесной служебной комнатке, покрашенной темно-зеленой масляной краской, на столе стакан в подстаканнике с кипятильником. Взгляд у начальника немного расфокусирован: одним глазом глядит в газету, другим на меня:
— Здесь не нужны, — выдергивает из розетки кипятильник. — Иди в главный отдел кадров на Комсомольской.
На Комсомольской женщина-кадровичка, узнав, что учусь на геодезиста, шутит:
— МИИГАИК? Ни болтов, ни гаек! — и зачисляет меня в сантехническую службу. — Будешь делать обходы перекачек, только щас выясню, на какой дистанции не хватает пары. — Звонит по черному дисковому телефону, пишет на обрывке газеты номер и адрес.
— Топай на Ленинский, там слесарь Пятаков овдовел, — смеется.
Собеседование на Ленинском проспекте в наземном вестибюле с начальником дистанции номер 4356 (от Площади Ногина до Ленинского Проспекта). Там уже конкретные вопросы задают: «Умеешь прокладки ставить, сальники заменять?» — «Умею».
Потом проходишь медобследование, анализы, справки приносишь, что не состоишь на учете в нарко- и психдиспансере. Обнаружили белок в моче. Женщина-врач, костистая, с тусклыми волосами, поняла, откуда взялся белок, улыбается как-то внутривенно: «А я вот сообщу в твою комсомольскую организацию». Я пугаюсь, а она: «Да ничего, студент. Что, ни разу ещё?» — «Нет», — чувствую, как краснею. — «Раздевайся, заходи за ширму». И это было первый раз. Окрыленный, еду опять на Комсомольскую, к кадровичке Валентине Михайловне.
— Выйдешь в третью смену, студент, к Шубодёрову в бригаду. — Протягивает мне похожий на студенческий билет грязно-коричневый пропуск. — Подойдешь к двенадцати на Третьяковку, покажешь пропуск на входе, они скажут, где обретаются сантехники.
Прихожу к полуночи с пропуском на Третьяковскую, дежурная, уже как своему, даже не взглянув на пропуск, показывает служебный вход. И если в вестибюле просторно, светло, стены отделаны серым мрамором, то за грязно-серой железной дверью попадаешь совсем в другое пространство: ветвящиеся, как норы, тускло освещенные узкие коридоры, по корявым стенам ползут открытые коммуникации (серые от многолетнего слоя пыли трубы и провода), и везде сочится вода. Вот эта сочащаяся вода и есть предмет моей здесь работы. Наша бригада обслуживает станции перекачки.
Я знакомлюсь со своим напарником Лехой Пятаковым: курносым рябым мужиком в рваной и страшно грязной телогрейке, но в пижонском дерматиновом (произносит дермантиновом) гэдээровском картузе. Перед обходом он пытался угостить меня денатуратом, но я отказываюсь, первый день все-таки. Приму без фильтра тоже не беру, не курящий. Но потом понял, что зря.
Леха берет коричневый чемоданчик с коваными уголками, и мы идем на дистанцию до Шаболовки. Пахнет какой-то тухлятиной, как на овощной базе, и грибами. Туннель освещается только тусклыми светильниками, которые встречаются в туннеле каждые пятьдесят метров, Леха охотно объясняет суть работы:
— Под землей есть грунтовые воды, но городская канализация расположена намного выше, а воде ведь надо куда-то деваться. Для этого вот станции перекачки и построены. Это такой куб, куда вода стекает. Там есть поплавки, ну, как в сливном бачке, и когда уровень воды поднимается и достигает максимального значения, происходит поворот рычажка, он включает насос, который всё это дело гонит наверх, в городскую канализацию. Иначе затопит нах… все метро, как в «Падении Берлина». — Напарник ржет.
По инструкции (на которую ссылались, но ее не существовало в предметном мире) мы с Пятаковым идем по левой стороне навстречу движению, поначалу я часто спотыкался о так называемые грибки (кожухи с датчиками на полотне). Когда долго идешь по туннелю, понимаешь, почему перед тем, как оформить в подземелье, прогнали через психиатра. Даже с нормальной психикой, как у меня, начинается что-то вроде клаустрофобии. Особенно когда с непривычки идешь, идешь в гробовой тишине, слушаешь только какие-то шорохи или журчание воды, и вдруг непонятно откуда нарастает шум, он нарастает, нарастает и становится каким-то диким.
— Что это? — Останавливаешься как вкопанный. А напарник — ноль внимания, кило презрения:
— Не ссы, студент. Вентиляционную шахту проходим.
И действительно, вот уже шум начинает удаляться, пока снова не погружаешься в тишину.
Если по ходу нам встречались сильные протечки, Леха находил в темноте телефон и сообщал о поломке. Если не очень сильная протечка, заменяли сальник. Я быстро привык к полумраку и чувствовал какое-то возбуждение. Мне хотелось говорить о всяких страшилках, но Леха угрюмо отмалчивался. Шел он осторожно, и когда встречался контактный рельс, из суеверия обходил.
— Почему, дядь Леш? — спрашиваю я с легким презрением. — Он же в деревянном коробе, и электричество вырубили.
— Все здесь не так, как вы там все наверху думаете, — загадочно отвечает Леха, отсвечивая огоньком сигареты. — Со временем все узнаешь, студент.
Когда мы выходим из туннеля к развилке путей, Леха вдруг резко останавливается и преграждает мне путь своей ручищей-шпалой.
— Тихо, — шепотом сказал он и загасил сигарету, я замер. — Слышь?
— Что, где? — спросил я тоже шепотом и почувствовал беспокойство.
— Дрезину слышишь?
Я прислушался и действительно через несколько секунд услышал отдаленные мерные звуки дрезины. «Ну и что, — подумал я. — Вполне логично, что при отключенном электричестве пускают дрезину, как на железных дорогах в перерыв…»
— Не смотри туда, повернись к стене. — Леха говорит это так серьезно, что я, не колеблясь, подчиняюсь. Так мы стоим бесконечные полминуты, и когда звук дрезины приближается, он запрокидывает голову вверх, так что его дерматиновый гэдээровский картуз падает, и механически повторяет:
— Йоп, йоп, йоп, йоп, йоп… Йоп, йоп, йоп, йоп, йоп…
Я не только слышу дрезину, но и боковым зрением вижу голубоватое свечение, и, не выдержав, чуть поворачиваю голову. Этого достаточно, чтобы увидеть медленно едущую дрезину с впередсмотрящей абсолютно голой полноватой женщиной с жезлом в руке, я замечаю, как она начинает медленно поворачиваться лицом в мою сторону, и не дожидаясь инстинктивно утыкаюсь носом в мокрую, склизкую, пахнущую плесенью стенку, слышу справа непрерывное бормотание «йоп, йоп, йоп» и жду, когда всё это кончится. Чувствую запах мочи, замечаю пар. Не своей.
Когда наступает тишина и исчезает голубоватое свечение, мой напарник замолкает и сползает, обессиленный, вниз по стене, нащупывает дерматиновый картуз. Достает из штанины пачку примы, дает мне, мы закуриваем, хотя я не курю.
Тут же он достает из кармана телогрейки бутылку с денатуратом, протягивает мне, я делаю глоток, даже не морщась, он делает два-три глотка и сипло говорит, занюхивая сальным рукавом:
— Нельзя смотреть. Пощадила она тебя. Но больше так не делай. Шубадеров Колька пропал.
Он выдыхает клубы дыма.
— А кто это? — спрашиваю я и кашляю с непривычки.
— Шубодеров? Мой напарник, до тебя был.
— А баба?
— Это Надюха. — И он рассказывает историю Надюхи.
В 50-е, после войны, мужиков не хватало в Метрополитене, почти одни бабы. И вот на этой конкретной дистанции, которая была короче, конечно — от Автозаводской до Театральной, в женском подразделении работали семь женщин: четыре бабки, одна малолетка лет четырнадцати и сорокалетняя Лидия Молодцова, одна из всех замужняя, у которой мужик, правда, без одной руки, работал на дрезине. И вот перевели к ним в женское отделение Надюху, ей было двадцать семь, жила с матерью в Томилино и прижитой неизвестно от кого дочкой. Про нее говорили «прожженная», «пробы негде ставить».
И постоянно переводили с одной дистанции на другую ввиду ее аморального облика.
Уж очень она была слаба на передок. И не успела она на Новокузнецкую перевестись, закрутила с этим криворуким мужиком Лидии — Лёней Молодцовым. Бабы быстро просекли, что она предается с кем-то в подсобке любовным утехам, а потом баба Зина заметила, как Надюха в одном халатике катается на дрезине с Молодцовым, и доложила жене. А та взяла и вызвала милиционера из транспортного, сверху, чего никто не ожидал. Она решила ее то ли посадить, то ли привлечь за аморалку. В общем, спускается этот капитан Мохов в туннель, видит голубков на дрезине и вдруг достает табельное оружие и без предупреждения расстреливает обоих. В себя тоже стрельнул, но по касательной. На суде выяснилось, что она и с ним шашни крутила. Оправдали ввиду нехватки кадров и состояния аффекта сотрудника при исполнении.
С тех пор их стали видеть иногда
на первом внутреннем с конца,
он сзади едет, на моторе, а она
всегда впередсмотрящая и далека, так далека
всё ищет, ищет мужика…
Ну, вот напарник мой, тоже студент, не послушался меня и пропал. Надюха забрала.

Некрополь
Произошедшее со мной настолько невероятно и странно, что я не могу говорить о нём без стыда. Это похоже на дурной сон, но — уверяю тебя, мой дорогой Саша, — всё это произошло на самом деле. Прости, что не смогла рассказать тебе обо всём лично: верю, что рука моя смелее, чем голос. Не знаю, как ты воспримешь моё письмо, но я приму любое твоё решение.
С тех пор, как я оставила Москву, мне нет покоя. Ты так занят на службе и в клубе, что ежедневные мои прогулки по Петербургу — единственное моё утешение. Даже с рождением Коленьки ты не бываешь дома чаще.
Город твой так и не стал мне родным: мосты приподымают свои брови, когда я иду по ним, маскароны доходных домов, прислуга и гувернантка смотрят на меня как на чужестранное осиротевшее дитя — с удивлением и жалостью.
Ты не любишь говорить о нашей жизни, и я учусь справляться с ней, как с непосильной для меня ношей.
В тот день я гуляла, куда вели меня глаза, и не верила, что это может кончиться худо. Начал накрапывать дождь, брусчатка и гранит стали блестяще скользкими. Я заглядывала дождю в лицо до тех пор, пока не нашла в нём союзника. Перебежала мост, дошла до Духовной консистории Александро-Невской лавры, а затем и до самой Тихвинской церкви, затаённой в тёплой зелени дубов.
Эта тишина мшистых аллей погоста заворожила меня. Тёмные надгробия, как крышки сахарниц, силились вдавить в землю смерть, чтобы не дай Бог её не выпустить. Но смерть была здесь повсюду. Лица ангелов и плачущих каменных дев, смотревших исподлобья, казались мне не просто знакомыми, а добрыми приятелями.
Я подумала, что могла бывать на этом погосте в детстве, когда гостила в Петербурге тёти. Стала вглядываться в барельефы умерших и перечитывать их фамилии: Нольде, Гейденрейх, Шимановская, Лядова, Карамзина — нет, это фамилии не моего круга, а из газет.
Я не заметила, как в миг стемнело. Поднялся страшной силы ветер. Он гнул осины, и их кроны цеплялись друг за друга, как лапы раненых зверей. Страх сковал меня. Я оглянулась: ни души. Даже кладбищенские голуби поднялись ватагой и унеслись одним росчерком в правый угол неба. Чёрная туча медленно надвигалась на меня, как тяжёлая крышка гроба.
Я стала искать выход, но тёмные тутовые аллеи сомкнулись, и я не могла вспомнить, откуда пришла. В каменной беседке я увидела юношу, как будто бы следившего за мной.
Это был молодой человек лет двадцати пяти, скромно одетый и худой. В дрожащих руках он держал мокрую шляпу. Когда я увидела его лицо, обомлела: это был студент Митя, мой добрый друг и единственная родная душа. Его наняли для моих уроков. Он пропал без вести совсем вскоре после моего замужества. Родители сказали, что он уехал к отцу в Тулу.
— Лиза, не волнуйтесь, мы теперь можем быть вместе.
Я хотела бежать, но он взял мои руки в свои. Стало спокойнее. Прежде нам никогда не хватало храбрости на такое. Лацканы его сюртука были мокры и пахли болотной водой. Как и моя одежда.
— Что вы делаете в Петербурге, Митя?
— Приехал за вами.
— Я верная жена и мать, — вспомнила и закрыла лицо руками. — Мой супруг — Александр Михайлович Смелянский.
— Я знаю, Лиза. Но вы теперь свободны: и от родительского наказа, и от него.
Я хотела бежать, но было некуда.
Я не знаю, что ты решишь теперь делать со мной, но я буду послушна любой твоей воле. Прошу только — дай повидаться с Коленькой. Снимите с него крестильный крест и не читайте над ним вечерней молитвы — я так мечтаю крепко прижать его к своей груди перед сном.

Опасное лето
Летом двухтысячного года мои родители вышли на войну с грибами. Погода была дождливая, и грибы подступали почти к самым домам нашего дачного поселка. По будням мама ходила за грибами одна, по выходным они ходили вместе с отцом или ездили в дальний бор на машине с нашими соседями Федосовыми. Грибов приносили каждый раз помногу — опята, лисички, волнушки, куриные попы, грузди всех цветов, хотя мама иногда неуверенно замечала, что для груздей еще рановато. Не рановато, говорил отец. Просто погода такая. Есть все это стало невозможно уже через неделю, и мама без остановки сушила и солила.
Мы с Ксюшей, дочкой Федосовых, грибы не любили и сплотились против общего врага. Ксюша была очень милая темноволосая девочка, старше меня на полтора года и выше на три сантиметра. Она занималась фехтованием, слушала финский рок и в предыдущие года меня почти не замечала. Но в то грибное лето мы внезапно подружились. Целыми днями сидели у нее в мансарде и играли в приставку. Если ее мама оказывались дома между двумя грибными походами, она время от времени кричала нам снизу, чтобы мы вышли на улицу и подышали свежим воздухом. «Отстань!» — отвечала Ксюша, не выпуская джойстик из рук. Она своих родителей держала в черном теле. Я на такое в двенадцать лет не решался.
Подозревать что-то неладное мы начали только в августе. Тогда несколько дней подряд было ясно, и у Ксюши внезапно начал показывать телевизор. В тот вечер мы хотели посмотреть футбол, но попали на новости нашего регионального канала.
— В Воронеже продолжается эпидемия грибных отравлений. Она уже унесла жизни сорока двух человек. Еще восемь человек лежат в больнице в тяжелом состоянии. Всего пострадавших уже несколько сотен, и они продолжают поступать. Один из погибших, Руслан Крутов, сначала поступил в больницу в состоянии средней тяжести, отравившись неизвестными грибами. После промывания желудка Руслан почувствовал себя лучше, и его отпустили домой. Дома он доел злополучные грибы и снова был доставлен в больницу. Но этот раз спасти его врачи не смогли…
Когда сюжет закончился, Ксюша молча включила приставку и запустила Мортал Комбат. Я в тот день был в ударе, но Ксюша играла невнимательно. Когда я делал фаталити, она вовсе положила джойстик на пол. Отошла к окну.
— Думаешь, наши родители сошли с ума?
— Может быть.
Мы помолчали.
— Возможно, грибы так размножаются, — сказал я, — когда их споры попадают внутрь человека, они начинают влиять на мозг. Человек становится совсем ненормальным. Считает, что он умнее всех, и с ним, конечно, ничего страшного не случится. Он идет снова собирать грибы и распространяет их споры по всему миру.
— Ну нет, это вряд ли, — сказал Ксюша с сомнением. — Мой отец и до грибов считал себя умнее всех. А твой разве нет?
Я решил промолчать.
— Мы можем поставить эксперимент. Смотри, мы ведь с тобой грибов не ели…
— Я в супе ела пару раз, — призналась Ксюша, — давно еще. Сейчас уже не лезет.
Я тоже ел и тоже давно, но решил не говорить ей.
— Надо попробовать понемногу каждого гриба. Кто-то один будет пробовать, а другой наблюдать за его поведением. Если есть гриб, который делает людей безумными, мы его вычислим.
Ксюша мою идею одобрила.
В тот вечер я съел три сырые лисички. Они были упругие и безвкусные, как резина. Не то, чтобы неприятные, я думал, будет хуже. На следующее утро я пришел к Ксюше, чтобы она наблюдала за моим поведением. Впрочем, наблюдать ей быстро надоело, и мы снова играли в приставку. Вечером решили, что со мной все в порядке, значит, лисички вне подозрения.
Через два дня я ел молодые желтые грузди, и они понравились мне уже меньше. Если лисички приятно пружинили под языком, то эти наоборот — рассыпались в труху, как будто я жевал старый пень.
Ночью после груздей я проснулся от того, что было очень душно. Я хотел открыть окно, но не смог повернуть шпингалет. Пришлось спускаться на первый этаж. Грибы к тому моменту уже заполнили у нас весь дом, поэтому на ступеньках тоже были листы газеты, на которых сушились лисички и волнушки. В самом низу лестницы сидел мой отец и ел какой-то гриб прямо с газеты.
— Я не ел! — сказал он быстро, увидев меня. — Только облизнул.
Я молча кивнул, и меня вырвало на лестницу.
Что было дальше, я помню плохо. Кажется, из комнаты вышла мама, и они с отцом спорили, нормальная ли была тушенка, которую мы ели на ужин.
Потом кто-то дал мне воды, и стало легче. Но как только я поставил стакан на стол, меня вырвало еще раз. Потом еще четыре раза, последний раз — зеленой пеной. После этого я признался, что ел грибы.
— Нужно вызвать скорую, — сказала мама очень буднично. Отец, наоборот, сразу начал кричать. Пока мама звонила, он продолжал кричать на фоне, а мама передавала это диспетчеру более спокойным голосом.
— Мальчик двенадцати лет! Пусть едут по трассе, мы выедем навстречу. Скажи им, что встречаемся у двадцатого километра, поворот на Репное!
Эту мысль в скорой одобрили, и мы стали собираться. Я уже не мог идти, поэтому отец отнес меня в машину на руках. У Федосовых на участке горел свет, наверное, наши крики и сборы их разбудили. Ксюша стояла у забора рядом с мамой, вся заплаканная. Я очень обрадовался ей, но ненадолго — в машине мне стало совсем скверно. Скорая действительно ждала нас на трассе у поворота, и в ней я наконец потерял сознание.
Промывание желудка оказалось не таким неприятным, как я боялся. А когда я вспоминал Ксюшино лицо за забором, было и вовсе не больно.
Я пролежал в больнице десять дней, а когда вышел, уже была почти осень. Про грибы мы с родителями не говорили — я даже не был уверен, действительно ли отец ночью ел их или мне показалось. Но все высушенное и засоленное за лето мама выбросила, до городской квартиры ни один гриб не добрался.
Я очень хотел обсудить с Ксюшей, что случилось. Сотовых телефонов у нас не было, а ее электронную почту я не знал. Пришлось просить у мамы номер городского телефона. Федосовых. Но сколько я ни звонил по нему, никто не брал трубку.
— Наверное, я неправильно записала телефон, — сказала мама, — но ничего, следующим летом увидитесь.
Следующее лето оказалось совсем другое — солнечное. А еще вблизи нашего поселка расчистили пруд. В начале июня вода была еще холодная, но я все равно ходил купаться каждый день. Представлял, как скоро приедет Ксюша, и я буду учить ее нырять.
Но она не приехала. От ее родителей я узнал, что она в Кисловодске на сборах по своему фехтованию. Заняла второе место на областных соревнованиях, вот ее и пригласили.
Ксюша приехала только в августе — на одни выходные. Они с родителями делали на участке шашлык и пригласили нас. Ксюша пришла звать нас через забор, очень загорелая, в коротком сарафане и джинсовой рубашке. Мы делаем барбекю, приходите, сказал она. (Да, так и сказала: «барбекю»). Спасибо, ответил я нерешительно. Хотелось многое рассказать ей, но я не знал, с чего начать. Обязательно приходи, сказала Ксюша. Будут еще баклажаны и грибы.
— Грибы, — улыбнулся я с облегчением, — а помнишь грибы?
— Конечно! Я на сборах всем рассказала, как ты тогда сырых грибов наелся. Мы с ребятами так смеялись.

Пришелец
Если бы я жил в эпоху, когда изобрели пароходы, то был бы одним из тех, кто все еще ходит под парусом. Не то чтобы я не признавал технические новинки, но старался не занимать ими свою жизнь. Я уверен, что у жизни, кроме времени, есть еще и место. Такой чемодан, который носишь собой. Сложишь много вещей, сомнутся, перепутаются, не найдешь нужную.
Большую часть моего чемодана занимает любопытство. Это тоже часть моей теории. Есть люди-делатели, а есть — наблюдатели. Которым просто интересно все, что происходит вокруг. Ни для чего. Хотя, мне кажется, что у праздного любопытства все-таки есть какой-то великий смысл. Иначе зачем мы такими сделаны?
Для наблюдения нужны время и пустая голова. Поэтому я почти не пользуюсь интернетом. Меня больше занимает, например, утренняя ворона, качающаяся на ветке через стекло от моей чашки кофе.
Некоторая ирония есть в том, что я работаю мастером по ремонту телефонов и ноутбуков — тела той самой информационной сущности, от которой я бегу. С другой стороны, чтобы быть хорошим врачом, не обязательно любить людей и быть душкой.
На работу я добираюсь на метро, хотя так дольше, чем такси. Но с руки сейчас не поймаешь, а убером, как вы понимаете, я не пользуюсь.
Я спускаюсь в метро в 9:30, и когда моя смена выпадает на субботу, встречаю Рыжего. Рыжий — крупная грязно-белая дворняга с черными коровьими пятнами. Рыжие у него ресницы вокруг почти человеческих карих глаз.
Рыжий деловито трусит между турникетами и ждет на платформе последний вагон из центра. Я тоже. В поезде он интеллигентно садится в углу. Если кто-то начинает возмущаться по поводу собаки в вагоне, всегда находится пассажир, который вступается за Рыжего, хваля его интеллигентность и высокие моральные качества. Часто это бываю я. Рыжий в это время сидит, скромно опустив морду.
Мы вместе выходим на Тургеневской. На выходе я скармливаю Рыжему сосиски или мясную обрезь, купленные специально. Потом я иду в свой сервисный центр, а он — на троллейбусную остановку.
Я часто задумывался, куда дальше едет Рыжий, но обычно, пока доходил до работы, эта мысль исчезала. Нехорошо для настоящего наблюдателя, подумал я. В выпавшую нерабочую субботу решил проследить за псом.
Увидев меня в вагоне в нерабочий день, Рыжий недоуменно поднял бровь, но больше ничем своего удивления не выказал. Мы вышли из метро и вместе дошли до остановки. Видимо, пес понял мои намерения и даже подождал на переходе, когда я не успел на зеленый.
Я был рад, что он не против.
Мы вместе дождались 47 троллейбуса. Похоже, на этом маршруте к Рыжему тоже привыкли. Только девушка, примерно моя ровесница, недалеко от которой он прилег, выдохнула и подобрала коленки. У девушка была короткая стрижка и усталый вид.
— Вы не бойтесь, он очень умный и спокойный. — Я подошел поближе.
— Я не боюсь. — У девушки даже голос был невыспавшийся. — Хороший.
Она робко протянула руку, погладила Рыжего по жесткой шерсти на переносице.
— Я вообще люблю животных. Кота хочу завести, но квартира съемная, а я хозяина все никак не спрошу. — Девушка улыбнулась, а Рыжий тяжело вздохнул.
— Меня Дима зовут? А вас?
— Я Таня. Ой, моя остановка!
Троллейбус уже закрывал двери, когда она выскочила, волоча за собой сумку. Обернулась и крикнула в сужающуюся щель:
— Я каждую субботу на этом троллейбусе езжу! На пилатес!
И покраснела.
Рыжий посмотрел многозначительно, и я понял, что буду просить сменщика отработать следующую субботу за меня.
Ехали мы долго. К конечной в троллейбусе остались только мы с Рыжим и пожилая женщина с клетчатой тележкой. Я помог ей выйти, Рыжий ждал. Шоссе, грязные тротуары, бахрома грязного снега на газоне. По утонувшим дорожкам Рыжий повел меня в сторону промзоны. ООО «Промскладконструкт», ООО «Техстройлесавто», автосервис, шиномонтаж, и неожиданные «Цветы24».
В будке у шлагбаума кто-то сидел, но мы прошли беспрепятственно. Или охранник охотился только на крупную четырехколесную дичь, или меня провел Рыжий. Кроссовки совсем промокли. Несколько бородатых мужчин в черных пуховиках, куривших у автосервиса, посмотрели настороженно.
Рыжий довел меня до самого дальнего ангара с закрытыми воротами. В Ворота была врезана обычная квартирная дверь — с драной обивкой и глазком. Рыжий толкнул дверь лапой, и мы вошли в ангар.
Свет горел только в середине ангара. Пахло пайкой и кофе.
В ангаре стоял звездолет.
Я употребляю именно это слово. Космический корабль звучит слишком гладко и современно, а звездолет — из тех времен, когда на небо смотрели через телескопы из латуни, а не из пластика.
Звездолет был размером чуть больше автомобиля, и он походил на подводную лодку. Часть обшивки была снята, открывая переплетение труб, датчиков и шестеренок. Металл был теплого красноватого цвета, похожий на медь, с вмятинами и царапинами.
Вокруг звездолета лежали собаки. Они повернули головы на звук моих шагов, и одна из них, мелкая и черная, визгливо залаяла.
Из-за звездолета вышел высокий мужчина, одетый в рабочий комбинезон и спецовку синего цвета.
Рыжий сел у моих ног и несколько раз негромко гавкнул.
— Понятно, — кивнул мужчина. Он вытер ладони ветошью и протянул руку. — Я Казимир. И давай на ты.
У него были большие голубые глаза, шесть пальцев, а борода была не из волос, а из чего-то вроде рыбьего плавника.
Я часто заезжал к Казимиру. Его имя звучало как-то по-другому, но это был самый близкий земной вариант. Его корабль попал в аварию при приземлении на соседнем пустыре, и теперь Казимир пытался его восстановить, внося по ходу какие-то усовершенствования.
— По слесарке братья помогают хорошо, — рассказывал он.
Братьями он называл дагестанцев, держащих шиномонтаж и автосервис. Они пустили Казимира в этот ангар и помогли перевезти звездолет с места падения. Доставали какие-то детали и инструменты. Они научили Казимира русскому, поэтому он говорил с небольшим кавказским акцентом. А еще устраивали на площадке между ангарами большие шашлыки — на всех, включая собак.
— А почему собаки, Казимир?
— Их раса похожа на одну из рас на моей планете. Подай этот ключ, пожалуйста. И они были первые, кто пришел со мной знакомиться. Теперь они приходят ко мне в гости — слушать о моем мире и рассказывать о вашем.
Собаки выводили его гулять в интересные, на их взгляд, места, например, вокзалы или рынки. Сводили в зоопарк — у собак везде были свои люди. Братья как-то возили Казимира в ресторан и кальянную, но в зоопарке ему понравилось больше.
Я помогал Казимиру с электрикой, таскал запчасти со своей работы, а несколько раз мы вместе съездили на радиорынок. Я даже усовершенствовал кое-что в его корабле. Правда, это было лишь изменение цвета подсветки кабины на разной скорости, но я все равно был горд собой.
Я был рад, что в физике есть законы, одинаковые для разных частей космоса. Надеялся, это когда-то поможет нам достичь взаимопонимания с пришельцами. Я все время забывал, что Казимир с другой планеты. Он показывал фото своей семьи — жена и двое детей. Очень похожи на людей, только слишком яркий цвет глаз и небольшая щетина на щеках у мальчика.
Иногда заходил охранник Саша. В технике он ничего не смыслил, но любил стоять рядом с нами и многозначительно качать головой. Его вкладом в общее дело были трехлитровые банки с соленьями — Сашина жена была потомственной мастерицей заготовок.
Маринованные помидоры и соленые опята хорошо шли к водке. Это был единственный алкоголь, который понравился Казимиру.
После водки он пел. К нему присоединялись братья и собаки. И это были самые странные и прекрасные звуки из тех, что я слышал.
Они разрывали изнутри каждую мою клеточку. Разносили по Вселенной между млечными и не очень путями, роняли в черные дыры, жгли в сверхновых, а потом возвращали обратно на Землю, из земли которой я появился и в которую уйду.
В ту субботу Рыжего на платформе не было. Я подождал пять минут, десять, пятнадцать. Он всегда был пунктуален. Я подошел к дежурной по станции.
— Извините, вы пса не видели? Он по субботам все время здесь бывает.
— Нет, давно уже не видела. Пару недель как. Их же отлавливать начали, собак наших, метрошных. И кому помешали? Лучше бы с крысами разобрались.
— С какими крысами? – недоуменно спросил я.
— В туннелях, до метра вырастают, твари. Вы что, не знали, что ли?
Приехал поезд, я кивнул дежурной и прыгнул в вагон. Достал из рюкзака смартфон — я пользовался им как кнопочным, но соломки стелил. Как на этот случай, например. Нашел новостной ролик. На платформе стоял грузный мужчина в пиджаке.
— Собак во вверенном нам метрополитене быть не должно. Они имеют возможность нарушить общественный порядок и покой граждан.
— А вы знаете, что московских метропсов изучают даже иностранные ученые?
— Пусть изучают. Но собак в метрополитене быть не должно.
Камера отъехала. По ступеням у эскалаторов, лавируя в толпе, бежал мужчина в зеленой форме и с брезентовым сачком. От него уворачивалась, выполняя немыслимые кульбиты, маленькая черная собачка. Это была Жужа, та самая, что облаяла меня при знакомстве в ангаре.
От остановки троллейбуса до промзоны я бежал, наступая в лужи, забрызгивая осевшим в них городом джинсы и куртку. Запыхавшись, я влетел в ангар, а через секунду за мной появился охранник Саша.
— Ты что, Димон?
Я отмахнулся. Длинные технические лампы в ангаре были выключены, только за звездолетом что-то светилось.
Казимир держал в руках белый шар размером с теннисный мяч. Шар был раскрыт наполовину, как ракушка, и изнутри шел сфокусированный белый луч. Луч падал на стену, и собаки по одной заходили в очерченный им круг. На секунду они превращались в силуэт, будто вырезанный из черной бумаги, а потом исчезали. Я узнавал каждую из них по контуру. Уши — одно выше, другое ниже, когда садится, заваливается на бок. Я звал его Джим, он давал лапу, даже если не просили, и вообще был какой-то есенинский. Колян — коренастая фигура, мускулистые плечи, невидный сейчас шрам на морде. Борец по натуре, в нем было что-то от стаффорда. Особо уважаемый братьями, он часто получал от них мосластую говяжью кость, которую делил с самым мелким псом в стае, Васей, похожим на игрушку, неизвестно как оказавшимся на улице. Рулик — почти овчарка, актер и жулик, не брезговал подойти сзади к человеку и гавкнуть на него, чтобы тот выронил только купленную шаурму, за что был неоднократно порицаем собратьями. Маленькая вертлявая Жужа — все-таки сбежала! Она не могла усидеть на месте даже долю секунды, отчего силуэт все время менялся. Она единственная из всех тихо поскуливала.
Все восемнадцать собак исчезли. Луч погас, и Казимир щелкнул выключателем. Я зажмурился от яркого света.
— Это что такое было, а? — Саша недоуменно смотрел на Казимира. Рядом с ним с опущенной мордой сидел Рыжий.
— Он решил… — Казимир указал на грустного Рыжего. — Отправить их на мою планету. Так будет безопасней. Их раса у нас уважаема и равноправна.
— А сам?
Рыжий вздохнул.
— Он решил, что здесь будет полезнее.
— Так проводить надо. По-человечески. Я к братьям схожу, вдруг у них есть что. И сообщу. Об убытии.
Саша вышел из ангара. Я молчал и гладил Рыжего по голове. Казимир сварил кофе. Только допив кружку, я вдруг понял.
— Казимир, что это? — Я взял со стола белый шар.
— Это устройство транспланетного перехода. Выбираешь название или номер планеты и встаешь в луч. Через несколько земных секунд ты там.
— Казимир, — медленно сказал я. — То есть, тебе не нужно чинить корабль? И ты в любой момент можешь попасть домой к семье? Тогда…
— Видишь ли, Дима. — Он улыбнулся. — Если бы я жил на своей планете в ту эпоху, когда мои предки изобрели летающие машины на газе круа, я был бы одним из тех, кто все равно пользуется механическими крыльями. Это красиво, Дима. И по-настоящему.
Мы молча пили кофе и смотрели на разобранный звездолет.
— И вообще, кто тебе сказал, что я не хожу домой? — Казимир нарушил молчание и подмигнул мне.
Он вытащил из кармана сложенный лист полупрозрачной бумаги.
— Это мой младший нарисовал, по моим рассказам.
Вокруг звездолета, похожего на огурец, сидели разноцветные собаки с высунутыми языками. Охранник Саша держал банку с огурцами размером больше себя. Отдельной кучкой стояли черные братья с черными бородами. Я в углу — безбородый и розовощекий. Казмир был нарисован крупнее всех, в палочках-ручках он держал гаечный ключ, а над ним было старательно выведено какое-то слово. Не спрашивая, я знал, что там написано «папа».
Все-таки мы сможем понять друг друга, когда встретимся.

Против природы
Олесю притягивало к себе окно. Каждые несколько минут она возвращалась к нему, трогала бетонную выемку подоконника, смотрела вдаль — никогда в жизни ей не приходилось находиться так высоко. Уже два дня, третий, она приставлена к детскому саду, травма руки оказалась неопасной, а здесь можно приносить пользу. Олесе нравится быть с детьми, наверно, потому что она сама не успела повзрослеть, всего восемнадцать лет. Но когда росла она, под детские сады отводили никому не нужные закутки. Все изменилось несколько лет назад, когда школьники наткнулись на маленький Convolvulus, обвившийся о край решетки заднего двора. Наткнулись и, ничего не сказав взрослым, проводили над ним эксперименты, играли, упивались своим секретом. О нарушении проболтались, а детей как следует наказали, но руководство серьезно задумалось об усилении мер безопасности. Игровые и учебные зоны были перенесены на крышу, туда, где раньше была вертолетная площадка. Детские спальни прямо под ними. И это из-за одного вьюнка! Вообще, ребятам повезло, что он не успел зацвести. Зато теперь дети растут, каждый день глядя на догорающий в кронах джунглей закат. Вот и сейчас красный с золотым играет бликами среди листвы и проталин искореженных зданий, блестит в их случайно сохранившихся стеклах.
Внизу прокатилось асфальтовое эхо — стук сапог, бренчание железа, голоса — это выдвинулась на ночную охоту сменная бригада. Хищники медлительней после захода солнца.
Детей пора укладывать спать. Сейчас они дружно возятся в пижамках на шкуре полосатого животного, одного из тех, что можно увидеть теперь только в книге. Умиротворенность довольно хрупка — если двое не поделят игрушку, то разругаются уже все. Детям пока сложно жить ночной жизнью.
— Так, товарищи, всем пора в кроватку.
— А ты расскажешь нам историю?
— Конечно, какую вы хотите?
«Волшебную», «Нет, страшную», «Расскажи, как ты поранила руку?», «Вчера рассказывала», «Меня вчера не было» — разнеслось со всех сторон.
— Хорошо, лезьте под одеялки, и чтоб только носы торчали! — притворно строго приказывает Олеся, потрясая указательным пальцем под потолком. Дети включаются в забаву, вертят своими носами, показывая, как они могут торчать из-под постельного белья. Один мальчик, кажется, Юра, замотался в покрывало, как в ковер, торчит только пятка и рыжая макушка.
Когда все отсмеялись и успокоились, воспитательница сказала:
— Я попробую рассказать такую историю, чтобы понравилась всем. — Она присела в ногах русоволосой малышки с хитрыми темными глазами, особенно милой без двух передних зубов. Девочка носит точно такую же пижамку, какая была у Олеси, со звездами, за годы стирок потускневшими на своем бежевом небе. Возможно, это та самая. И хотя ничего общего с этой девчонкой, Кларой, у Олеси нет, эта пижама и лисий взгляд неожиданно вызывают к ней неловкую сестринскую привязанность.
— Когда-то, очень давно, еще до моего рождения, деревья и кусты были добрыми, они не умели двигать ветвями и корнями. Их листья трепетали только на ветру, а кушали они лучи солнца…
— Ого! Как это? Как можно кушать солнце? — Удивление не удержать, но девушка не стала останавливать свой рассказ:
— Люди строили дома прямо в лесах, под кронами, сами сеяли целые поля вкусных овощей. И даже просто так, для удовольствия, выращивали… — Она понизила тон голоса и выдержала паузу, показывая, что приближается к самой страшной части. — Целые клумбы роз! — быстрым актерским шепотом закончила она. И схватила Клару в районе живота. — Кусь! — Та задорно взвизгнула, ее крик мгновенно поддержали остальные девчонки, все дружно расхохотались.
— Роз, правда, что ли? Насто-яяящих?
— У них большущие колючки, — сказал Ратибор, распластывая ладошки как можно дальше друг от друга, чтобы показать, что и правда большущие, он вдумчивый мальчик. — А еще они ядовитые. А вы видели розы?
— Да, однажды я наткнулась на целые заросли, у них действительно большие шипы, хотя и не такие, как ты показал. И они правда опасны. Зато бутоны очень красивые, самых разных цветов, как у радуги. А из лепестков можно сделать варенье. Если получится собрать…
— Это роза поранила тебе руку? — подергала ее рукав Клара, вчера она прослушала всю историю.
— Нет, малышка, я попала в ловушку дерева-паука. Мой друг успел перерубить лиану. Ничего страшного. На самом деле славный вышел обед, — заготовлено-бодро ответила Олеся. Это было страшно. И чем больше проходило времени, чем лучше становилось руке, чем ближе был момент выхода в лес, тем отчетливей воспоминания-картинки, колющие остро и ядовито, как те самые розы, вспыхивали у нее перед глазами. Вот нога, зацепившаяся за кусок липкой и плотной древесной паутины; вот толстый сук, скрутившийся в винт, вцепившийся в волосы, тоже жесткие, завитые, темные, они стали его собственностью, частью растительного мира; лиана, вывернувшая ей руку, дернувшая так сильно, что девушку бы обязательно подкинуло вверх, если бы не намертво приклеившаяся нога; ее распластанное, неестественно повисшее в воздухе тело, как будто оно собралось взлетать и в последний момент нелепо передумало.
Девочка ворочается под здоровой рукой.
— Так вот. — Олеся вынужденно улыбается. — Мудрые люди говорят, что где-то там, в глубине чащи, есть чудесная поляна. На ней растут добрые цветы и кустарники, там мирно гуляют прекрасные животные. А в центре стоит старое дерево, оно тоже доброе и не любит сражаться. Только обмахивает себя своими большими листьями, когда становится слишком жарко. Это дерево такое большое, что мы сможем его обхватить, только если возьмемся все вместе за руки. Оно волшебное. На его раскидистых ветвях висят огромные коконы. Если забраться в такой кокон и завернуться как следует, как вы завернулись в свои одеяла… — Мальчик Юра хихикнул. — То засыпаешь самым крепким и сладким сном. А просыпаешься уже с крыльями, как у бабочки. И тогда уже не нужно будет никого бояться. Ни одно дерево не обижает бабочек, ведь бабочки помогают деревьям. Можно летать где угодно…
— Кхе-кхе, — раздается со стороны коридора. В дверях стоит пожилой Добытчик. Он тоже лечился в госпитале и по привычке не мог спать по ночам. Мужчина властным кивком требует подойти. Олеся осторожно выходит из спальни, зная, что он склочен и обладает учительским авторитетом.
— Зачем ты им это рассказываешь? Их уже сейчас готовят в охотники. А знаешь почему? Никаких добрых растений не бывает. Места, куда они врываются, становятся нежилыми. Если драка неизбежна — значит, нужно научиться бить первыми, как можно раньше, а не утирать нежные сопли. Наше сообщество объединяет все народы по эту сторону реки, это мы предотвращаем дальнейшее вымирание. Я пахал, как раб на плантациях — ха-ха — добывал пропитание, защищал наш дом! Теперь тренирую молодое звено и все, что я желаю — развить их потенциал, научить различать добро и зло. А тебя разве этому не учили? — Он прервался, поглаживая свое ожерелье из десятка разнообразных шипов. Олеся, немного оторопевшая от напора отскакивающих от нее лозунгов, набрала в грудь воздуха для ответа, но мужчина, перебивая, продолжил:
— Сколько бы жертв ни пало в этой битве с растениями, агрессор просто сдохнет под нашими мечами, а не будет мечей, так зубами станем грызть. Вот какими их нужно растить, способными воевать за свой вид! — Он махнул в сторону детской.
Маленькая девочка встала на носочки на кровати, размахивая руками в накинутом на спину пледе — она бабочка.
Добытчик сухо сплюнул и пришаркивающе удалился. Глядя на его поникшие плечи, лысину, Олеся подумала: «Какой же он старый. Наверно, ему тяжело пришлось, ведь он помнит те времена, когда люди еще не были против всей природы».
Уже все дети в комнате превратились в бабочек: изящных бабочек-балеринок, быстрых бабочек-истребителей. Только мальчик Юра спал в своем теплом коконе.

Сеньор Хорхе
Я поселился в прибрежном городке возле Барселоны несколько дней назад — старинный университетский приятель всучил мне ключи от своего пустующего летнего дома. Я убеждал себя, что это не было жалостью из-за моего внезапного и болезненного развода, а всего лишь расчетом на ответную благодарность и помощь в карьере.
Пожалуй, успешность в профессии — это единственное, что осталось у меня теперь. Вся остальная жизнь стремительно и безнадежно развалилась. Именно об этом я и думал, вышагивая вдоль берега босиком по еще холодному после ночи песку, вдыхал запах свежих водорослей, следил, как вода заполняет отпечатки стоп.
Старика я заметил, когда он почти поравнялся со мной. Выцветшие глаза неопределенного оттенка, аккуратно стриженный седой пух на голове, сквозь который просвечивала загоревшая в бронзу кожа со старческими пятнами. Темные плавки для купания и неуместная белая костюмная рубашка с жестким воротничком, застегнутая на все пуговицы. Он по-детски плюхал голыми ногами в воде, позволяя невысокой темнокожей женщине с колючими черными кудряшками удерживать себя за предплечье.
Вдруг старик поднял свободную руку в молчаливом приветствии, покачал ей из стороны в сторону и улыбнулся с такой искренней радостью, что я невольно завертел головой, выискивая причину. Никого не обнаружив, я бросил понимающий взгляд на компаньонку пожилого сеньора, сразу приписав ему какую-нибудь умственную старческую немощь. Женщина едва дернула губами и продолжила путь, с очевидным усилием волоча своего подопечного.
Я невольно замедлил шаг, несколько раз обернулся, наблюдая, как старик с сиделкой раздевались, заходили в море. Набегающие волны толкали их, грозя опрокинуть. Цепляясь друг за друга, они шли все дальше. Старик, наконец, освободился из объятий, развел руки в стороны и поднял лицо вверх. Легкое тело покачивалось в воде, а я пытался представить, каково это — жить в пансионе, платить чужому человеку за заботу и компанию, цепляться к посторонним ради секунды внимания. Так жалко. И страшно.
Вечером я опять звонил дочери. Это были вымученные разговоры, ни она, ни я не знали, что еще сказать друг другу. Я слышал голоса и смех на заднем фоне, понимал, что у нее своя, совсем незнакомая мне жизнь. Я был для нее тем, кто пополнял банковскую карту и оплачивал университет. А она была единственным человеком в моем списке телефонных контактов, кто не относился к работе. Еще, пожалуй, позаброшенный мной университетский приятель, в чьем доме я сейчас жил. Два человека. На ум вновь пришел старик с пляжа, и я болезненно поморщился.
Необычную парочку я встречал теперь каждый день. Старик непременно махал мне рукой и улыбался, я махал в ответ. А затем ускорял шаг — старался сбежать от этого ежедневного напоминания о возможном исходе жизни.
В то утро мы привычно поприветствовали друг друга, я успел отойти на несколько метров, когда раздался громкий надрывный вскрик — то ли чайки, то ли женщины. Я обернулся и увидел темнокожую компаньонку старика, размахивающую в воде руками. Не думая, я побежал назад и с разбега влетел в море.
Волны раскидали старика и сиделку в разные стороны. Я заметил в сверкающих брызгах тонкие, неестественно белые ноги в венах. Потом прямо передо мной появилось лицо. Старик смотрел на меня сквозь слой воды и улыбался. У него оказались светло-карие глаза. Мгновение — и веки опустились, возле губ закрутились пузырьки воздуха. Очередная волна перевернула его лицом вниз, толкнула в сторону. Очнувшись, я нырнул вслед за ускользающим телом и прижал к себе. Почти сразу старика подхватили руки сиделки, она что-то выговаривала ему или мне. Я ничего не понимал. Пожилой сеньор откашливался и мотал головой, потом нашел меня глазами и привычным жестом поднял руку.
С того дня старик больше не появлялся на пляже. Я продолжал свои утренние моционы, оглядывался по сторонам, безуспешно ждал. А через какое-то время на местном рынке встретил знакомую сиделку.
— Я давно не видел пожилого сеньора, как он?
— А, старый Хорхе? Так его нет.
— Как же это… Когда?! Давно?
— Да уж вторая неделя, сразу после того купания. У меня теперь Мария Кристина, милая старушка. Если бы не приходилось все время таскать с собой на прогулку вазу с прахом ее мужа, тяжелая штука, уж поверьте. Это мне ее тянуть, а еще и старика в вазе…
— Погодите, а как это случилось с сеньором Хорхе? От чего он умер? — Мне вспомнилось худое тело в воде: волна переворачивала его лицом вниз и утаскивала в темноту.
— Dios, вы подумали, что старик помер, что ли? — Женщина отступила назад и замахала руками, словно вознамерилась разогнать мое мрачное видение. — Да старый Хорхе еще нас с вами переживет. Его сын забрал, он дом в Бегусе купил, там, в горах. — Она показала куда-то наверх, где, как грибы среди травы, светлели маленькие силуэты строений на темно-зеленых склонах.
— Сын его давно уговаривал жить вместе, да Хорхе не хотел в квартире тесниться: трое внуков все-таки, невестка. А он после инсульта, да. Для стариков это тяжело, уж я насмотрелась. Вот его сын и определил к нам. Сам он к отцу сюда часто приезжал, обычно вечером после работы. У него какая-то должность очень нервная, зато платят хорошо. Они в саду сидели всегда, да. Сын говорил, а старый Хорхе больше молчал и слушал. А потом давал ему меренги с орехами, смешно, как маленькому. Сын ел, а старик его по голове гладил. Я специально за этими меренгами для Хорхе в пекарню ходила.
— Но как же он там в горах без моря? Он так любил купаться.
— Кто, Хорхе? Что вы! Совсем не любил, мне его каждый день уговаривать приходилось. Тащу за руку, он специально шаги замедляет, как осел упирается. А если врач прописал купаться, то что уж. Его только радовало, что он людей может приветствовать. Он говорил, что море притягивает одиноких, неприкаянных. Вот как вы, сеньор, уж простите. Каждый день один ведь бродите, даже собаки нет с вами. Старый Хорхе говорил, что на берегу полно потерянных вещей и людей. А он улыбнется, рукой помашет, скажет что-то хорошее, и человеку легче станет. Так он считал, старый Хорхе. Вот это он и любил. А купаться, нет, не любил совсем.
Я смотрел женщине вслед, она тащила за ручку тяжелую сумку на колесах, кренясь влево, как раньше делала это со стариком на прицепе. Сладко пахло грушами «сан жоан» из пакета в моих руках. Я добрел до крошечного парка недалеко от рынка и уселся на теплую землю, покрытую мягкой травяной щетиной. Рядом мальчишки что-то строили из камней и веток, лениво переговаривались их мамаши, обмахиваясь цветными бумажными веерами. Спрятавшись под деревьями от жары, темноволосые красавицы ловили губами убегающее из вафель мороженое и хихикали. Отпуск подходил к концу. Я написал о своем возвращении двум важным для меня людям, помедлил несколько секунд и отправил сообщение в офис. Потом откинулся на согнутые в локтях руки и прикрыл глаза. Солнце согревало мою макушку, словно чья-то теплая ладонь опустилась на волосы.

Случай с пианино
Шел 82-й год, никак не позже, поскольку Лада еще жива. Очень скоро она снова съест какую-то дрянь на помойке, и в этот раз добрый доктор уже не успеет приехать и не достанет ничего из ее нежно-розового живота. Добрейшая и умнейшая Лада, таких доберманов не бывает. Сейчас она в нетерпении кружит вокруг мамы, цокая по паркету, и просительно заглядывает ей в лицо.
— Идем, сейчас идем!
Мамины руки проворно заправляют черные волнистые волосы в мягкий вязаный берет, пока она проверяет свое отражение в овальном зеркале.
— Нюта, принеси поводок, он на стуле в комнате.
Комната очень большая, с высоким потолком, и стульев там много, но поводок на ближайшем, у пианино. Оно мамино, хотя мама совсем на нем не играет. Некогда. Ещё говорит, что ее хорошая учительница уехала в Монголию, когда мама была маленькая, а другая, плохая, ей пальцы «поломала». Ничего не поломала! Мама как-то сыграла Шопена-номер-двадцать, и мне эта музыка показалась волшебной, и сама мама тоже. Меня еще рано учить, я умею только собачий вальс, но Лада почему-то никогда под него не танцует.
Мой палец со всей силы надавил на круглую красную кнопку, и она засветилась красивым кристаллом. Внутри у меня все подпрыгнуло и плавно поехало вверх вместе с этажами за маленьким окошком. Попа Лады с черной лоснящейся шерстью и оранжевыми подпалинами толкалась в тесноте кабины. Я опускаю голову, чтобы снова полюбоваться на свое бархатистое, такое синее-синее пальтишко с островами позолоченных пуговиц. Я их любила — выпуклые, на ножке, они гладко и легко скользили в петли, в отличие от шнурков на обуви, которые пока меня не слушались.
Я первой выпрыгнула из лифта в прохладную парадную и заскользила вниз к выходу по каменным ступенькам, как будто расплавленным по краям от бесчисленных подошв.
У дверей на улицу были два мальчика постарше. Обнаружив на площадке меня, они обрадовались и направились в мою сторону. В груди стало тепло от их улыбчивого внимания, но вдруг близко-близко оказались их грубые разношенные ботинки с болтающимися шнурками. Они поднимали ноги и старались в своем веселье достать подошвами до пальто, будто его гладили. Их голоса гулко наполняли парадную, и было не различить слов. Я отступала, пока спина не уперлась в стену. Они надвигались. В голове пульсировал беспомощный страх, невозможно было пошевелиться, горло будто слиплось.
Вдруг налетел темный спасительный вихрь.
— Ах вы паршивцы!
Я не узнала мамино лицо. Глаза сверкали черным, лицо окаменело, где-то рядом тревожно гавкала Лада. Капроновый мешок с чем-то тяжелым внутри, с силой замахнувшись, описал дугу, и точно определив, кто здесь главный заводила, с размаху ударился о его голову.
— Ай!
Мальчик схватился за лоб. Убила? Надо звонить ноль-три! Мгновенно мама стала прежней. Слегка испуганная, склонилась над ним, нерешительно протянув руку к его голове.
— Прости, что-то на меня нашло, и я совсем забыла про банку. Ты как? Жив?
Из-под руки мальчика над его левым глазом сочилась кровь.
— Вот платок. Прижми.
Мама повела всех наверх к нам. Второй парнишка куда-то делся, потому что длинный туннель коммунального коридора мы прошли уже втроем, не считая собаки. Прошмыгнули в нашу комнату мимо любопытных соседских взглядов, а там бабушка Ира уже округлила глаза:
— Мать честная! Что произошло?
— Я его ударила, он с дружком обижал Аню. Посмотри, сильно разбито?
— Так, неси все из аптечки!
Его посадили на тот самый стул у пианино. Без шапки-ушанки показались мышиного цвета волосы, неаккуратно подстриженные. Левая широкая бровь превратилась в кровавую шершавую губку. Тонкий нос и острый подбородок. Я вглядывалась в его лицо, а он смотрел куда-то вниз и в себя, и цвет его глаз не поддавался точному определению.
— Малец, тебя как зовут?
— … Витя.
— А меня — Ирина Борисовна.
— Мама, вот.
— Ритка, как ты умудрилась?
— Банка для сметаны. Наверно ребром крышки, она же железная.
— Ну а чем ты думала?! Витя, терпи, сейчас щипать будет.
Бабушка работает фельдшером неотложки, она его спасет! Мальчик сморщился, но ни звука не издал.
— Теперь пластырь… Готово! И зашивать не надо. До свадьбы заживет! Ты где живешь?
С волнением наша процессия с бабушкой во главе поднялась на этаж выше. Мальчик показал на нужный звонок, и вот из дверного проема внимательное лицо дедушки с такими же тонкими чертами пытается оценить ситуацию.
— Что этот негодяй натворил? Ух, я ему задам!
— Не надо ради бога! Извините меня, что…
— Поделом ему, я всё понимаю, я бы…
Все пошли к нам пить чай. Булькающий алюминиевый чайник и разнокалиберные чашки переместились из общей кухни в комнату. Разложился стол-книжка, на столе появились конфеты и печенье, потянулись взрослые разговоры. Я развернула фантик и отправила карамельку в рот. Мальчик на меня так и не смотрел, было скучно, и я тихонько начала сползать с дивана под стол поиграть…
— А Витька может! Давай! Покажи, что ты приличный человек.
Я выглянула из-под бахромы тяжелой скатерти. Мальчик подчинился и, шаркая взрослыми тапками, направился к пианино.
«Он умеет? Он же дворовый!» — Я ничего не понимала. Его пальцы с грязными ногтями и царапинами опустились на клавиши и начали играть, но что-то не то. Мама восторженно взглянула на бабушку, та мотнула головой и недовольно поджала губы, отчего в щеках появились ямочки.
Это музыка из фильма про русского шпиона и фашистов! Отчаянно захотелось подпеть «где-то далеко, где-то далеко»… В груди замер вздох. Я так и сидела на прохладном паркете елочкой. В глазах вдруг защипало и стало трудно смотреть. Я подняла голову, чтобы не вылилось из глаз у всех на виду. Наверно, из-за слез мальчик казался еще более далеким и ускользающим, выражая бунт этой музыкой и своей угловатой фигурой. Волчонок, рвущийся убежать…
Потом мама решила не отдавать меня в музыкальную школу, чтобы не повторять ее путь и «не мучить игрой на пианино». В моем репертуаре, увы, остался один-единственный собачий вальс. А мальчика я больше никогда не видела, хотя мы жили в том доме еще три года.

Только фото, и ничего больше
Егор стоял у выхода из метро, одуревая от запаха сирени, обильно цветущей вокруг. Когда внизу раздавался вой поезда, из перехода тянуло прохладой и знакомым с детства запахом подземки. А еще через полминуты на ступенях появлялись первые пассажиры. Егор выбирал в толпе очередную жертву и делал шаг наперерез.
— Девушка, простите, вы не могли бы мне помочь?
И когда та замедляла шаг и останавливалась, продолжал:
— Скажите, пожалуйста, какого цвета на вас бельё?
* * *
В школу пикапа Егор попал с подачи Славика. Славик закончил её полгода назад, и теперь, по его словам, у него баб было — как у дурака фантиков. Чуть ли не каждый день с новой.
— Какую хошь склею, — убеждал Славик. — Спорим? На штуку? Выбирай! Вон ту, в красной куртке? Или эту, в сером пальто?
— Да ладно, — отмахивался Егор, — верю.
Хотя, конечно, не очень-то верил. Но всё равно завидовал. Все его робкие попытки завязать уличное знакомство заканчивались обидным смехом, пунцовыми ушами и колотящимся в горле сердцем.
— Чего ты паришься? — удивлялся Славик. — Отвали денег, отучись пару месяцев. Реально мачо станешь, отвечаю! Мне как раз напарник нужен. Вдвоём подкатывать удобнее.
Наконец Егор сдался и, сам обалдев от собственной решимости, пришел в офис, заплатил немаленькую для студента сумму и записался на базовый курс.
Первое же практическое задание ошарашило: нужно было подойти к пятидесяти девушкам и спросить у них, какого цвета на них бельё. Для Егора, который начинал краснеть и заикаться в радиусе пяти метров от любой симпатичной ровесницы, это казалось чем-то запредельным.
— Расслабься, — напутствовал его инструктор. — Все с этим справляются. И у тебя получится, никуда не денешься.
Поначалу Егор робел и запинался, но на втором десятке поймал кураж и начал специально выбирать самых красивых и самоуверенных. Ах, как приятно было видеть смятение на их хорошеньких лицах! Еще вчера сама мысль подойти к одной из них привела бы его в трепет. А сегодня он вгоняет их в краску одну за другой, как молоток вгоняет в доску гвозди. Бах! Бах! Бах! Шестнадцатая… семнадцатая… восемнадцатая…
На четвертом десятке эйфория ушла, уступив место усталости и равнодушию. Егор просто подходил к очередной девчонке и проговаривал условленную фразу. И даже считал теперь не сколько раз подошёл, а сколько осталось. Еще пятнадцать раз… Четырнадцать… Тринадцать…
Тринадцатая не фыркнула и не шарахнулась. Нет, секундное замешательство мелькнуло в её глазах, но потом она окинула его с головы до ног оценивающим взглядом и сказала:
— Хочешь узнать? Пойдём покажу.
— К-куда?.. — опешил Егор.
— Тут недалеко. Пять минут пешком.
Мысли заметались. Куда она меня зовёт? Сейчас приведёт в свою компанию, расскажет парням, как я подкатил — и я очнусь уже в больничке…
— Живу я там, — словно угадав его мысли, пояснила девушка. — Родаки на даче. Идешь? Или зассал?
Егор растерянно обернулся на инструктора, болтающего ногами на парапете в двадцати шагах. Тот показал ему большой палец.
— Ничего я не зассал, — как можно спокойнее ответил Егор. — Пошли.
* * *
По дороге оба не проронили ни слова, и только у подъезда Егор решился спросить:
— Слушай… это… у тебя презервативы-то есть? А то я как-то… ну… не собирался…
Девушка резко развернулась и, глядя исподлобья, сказала:
— Слышь, ты, рубака грозный. Давай без глупостей. Моё бельё ты увидишь, как и обещала. Но и только. Продолжения не будет. Понял?
Егор, который ни на что такое особо и не надеялся, все же почувствовал укол разочарования.
— А тебе-то это на кой?
— Значит, надо.
— Пока не скажешь зачем — не пойду!
— Ого, да ты еще условия ставишь!
— Да.
Несколько секунд девушка смотрела в сторону, кусая губы.
— Ладно, скажу, — сдалась наконец она. — Мне нужно фото. С тобой в постели.
У Егора сладко упало сердце. Но он не подал виду.
— На фига?
— Много будешь знать — плохо будешь спать.
— А вдруг наоборот хорошо?
— Чего ты в душу лезешь? Тебе что, жалко со мной сфоткаться?
— Да, в принципе, нет…
— Ну так в чём дело?
— Да ни в чём. Пошли…
* * *
В пустой квартире было гулко, пахло чужой жизнью и книгами.
— Раздевайся, проходи, — отрывисто сказала девушка.
Егор скинул куртку и кроссовки и осторожно прошел в комнату. Стол с ноутбуком, трельяж, шкаф-купе и диван, на котором валялись мягкие игрушки: панда размером чуть меньше Егора и лиса с нереально пушистым хвостом.
Переселив их на стул, девушка ловко разложила диван, достала из шкафа бельё и начала нервно его расстилать.
— Раздевайся, — бросила она через плечо. И тут же уточнила: — До пояса, конечно.
«Как в поликлинике», — подумал Егор.
Расправив полутораспальное одеяло, девушка обернулась и недоумённо посмотрела на него.
— Ты чего застыл?
— Не знаю, — пожал плечами Егор.
— Ок, давай я первая, — и она стянула через голову футболку. — Ну, доволен? Увидел ответ на свой вопрос?
Бюстгальтер был сильно полинявшего лилового цвета. Из него выползли и повисли две нитки — одна короткая, другая подлиннее.
Егор сглотнул и промямлил:
— Увидел.
— Ну? Твоя очередь.
Но Егор продолжал стоять, как болван. Ситуация, которая в фантазиях вызывала бурю сложных эмоций, в реальности оказалась будничной и неловкой. Он не мог оторвать глаз от этих неряшливо висящих ниток, от крупной родинки под левой чашкой, от слегка выпуклого пупка. Всё это было не так, неправильно, нелепо, и потому неприятно.
— Чего залип? — уже заметно раздражаясь, прикрикнула девчонка. — Мы фоткаемся или нет?
Егор несколько секунд смотрел в её глаза, медленно наливавшиеся злобой, а потом отрицательно помотал головой и отвернулся.
— Чтоб вы все сдохли, козлы! — заорала девушка. — Вас не поймешь! У одного только постель на уме, а другого в неё силком не затащишь!
Она рухнула на диван и зарыдала.
Егор остался стоять дурак дураком.
— Да погоди ты. — Он осторожно присел рядом на краешек. — Чего ты психуешь-то? Ну хочешь — давай сфоткаемся.
— Иди в жопу! — рявкнула она в подушку сквозь слёзы. — Не надо мне ничего. Вали отсюда!
Егор растерянно огляделся, не зная, как её утешить.
— У тебя кофе в доме есть? — неожиданно для самого себя спросил он. — Сваришь мне? Тебя как зовут-то?
— Да-а-аша.
* * *
Через пятнадцать минут на плите остывала турка, а они осторожно прихлёбывали обжигающе-черный напиток. Даша наконец-то успокоилась, умылась, и только припухшие глаза и розовый кончик носа напоминали о разыгравшейся недавно трагедии.
— Ну, теперь рассказывай, что у тебя стряслось и зачем ты под парней кидаешься, как Каренина под поезд.
Даша вздохнула и посмотрела в окно.
— Зачем тебе?
— Не мне. Тебе.
Даша помолчала еще несколько секунд и взглянула ему в глаза.
— Познакомилась тут с одним. Умный, весёлый, обаятельный. Всё как надо, короче. Гуляли весь вечер, смеялись, дурачились. Позвонил через два дня, позвал гулять. Потом, типа, он телефон дома забыл. Надо забежать за ним, важный звонок ждет. Пришли. Квартира пустая. Ну, он и полез… Сначала намёками, потом угрожать начал…
— А ты?
— А я упёрлась. Ну не могу я вот так… сразу…
— И что?
— Да ничего. Вышвырнул меня из квартиры и напоследок крикнул, что не мне с моими данными выделываться. Я страшная, да?
— Да что ты! — запротестовал Егор. — Ты очень даже!
— Правда? — улыбнулась Даша.
— Ну, конечно!
— Ну вот. Потом он еще крикнул, что я с моими принципами скоро стану никому не нужной старой девой. И что любой нормальный пацан меня бросит. И что мне лучше завести кота. Или дву-у-ух. — Последние слова стали опасно растягиваться, и Егор поспешно спросил:
— Ну, а я-то тебе зачем?
— Решила доказать этому уроду, что он неправ, — всхлипнула Даша.
— Да-а-а, подвёл я тебя, — хмыкнул Егор. — Ну ничего, мы сейчас кофе допьём и нашлёпаем тебе столько доказательств, что он смотреть устанет.
Даша благодарно улыбнулась.
— Его фотка есть? — спросил Егор.
— Зачем?
— Да так, интересно посмотреть на придурка, который такими классными девчонками разбрасывается.
Повеселевшая Даша взяла смартфон и стала листать, время от времени шмыгая носом.
— Вот он. — Она толкнула аппарат через стол.
Егор взглянул на экран и вздрогнул: на него смотрел Славик.
— Знаешь что, — сказал он наконец. — Не надо ему ничего доказывать. Он козёл и гондон, не трать на него время. Пойдем лучше погуляем. Смотри, какая погода классная.

Тюль
Одно только радовало Риту в её прискорбном положении — тюль у неё был загляденье: белоснежный, свежевыстиранный, с мягким ненавязчивым узором из листообразных мотивов, а на нижнем краю вручную пришитая бахрома, которая теперь игриво щекотала Рите нос. Чтоб не думать о бесконечном и мучительном отрезке времени, который лежал перед ней, Рита наслаждалась тем, что наконец-то могла не торопясь разглядеть тюль как следует — каждый изгиб его мягких волн, каждую вариацию света, проникающего сквозь его открытые волокна, развлечь себя воспоминаниями фрагментов из его жизни, так тесно связанных с Ритиной. И чем больше она вспоминала, тем дальше уходила боль и тем яснее она сознавала, что в то время, как у многих жизнь начинается красиво, а заканчивается печально, у нее, у Риты, ведь все совсем наоборот — напоследок наступила в ее жизни белая полоса, красивая и светлая, как этoт тюль.
Жизнь у Риты и вправду началась ужасно. Она родилась в суровый декабрьский день, в конце кровавого 1918 года, который, сполна изуродовав человечество, передал свою жестокую эстафету ещё более суровым временам. Она родилась маленькой и желтой. Заворачивая её хилое тельце в старое одеяло, повитуха решила, что младенец жить не будет, но Рита выжила. Брат, единственный, кто вернулся с войны, рассказывал, что в детстве она была страшной и вредной, постоянно болела, как несчастная дворовая собака. А потом шепотом добавлял, что страдать и терпеть в их семье все учились рано. Да и бороться тоже.
Конечно, всего этого Рита не помнила, знала только по рассказам, но привычка выживать прилипла к ней навсегда. Отчетливо себя она помнила уже другой — немного окрепшей, закутанной в пуховый платок, она стояла на старом сундуке и смотрела в окно, а сквозь замороженное стекло мир казался загадочно восхитительным, Рите хотелось бежать и бежать, и ужасно хотелось пить, прямо как сейчас. И есть хотелось тоже, годы были голодные, не то что сейчас.
Сейчас Рита живет припеваючи, как никогда в жизни. Пенсию Рите платят вовремя и на всё понемногу хватает: и за газ, и за свет, и за воду заплатить, и даже побаловать себя раз в месяц творожком или ещё какой вкуснятиной, вот какая сладкая жизнь у Риты пошла. Такая сладкая, что и помирать не хочется. Ах, как не хочется, особенно вот так, у батареи, один на один с остановившимся временем и этой удушливой жаждой.
От этой мысли Рита почувствовала, что в одной руке появилась сила. Инстинкт бороться брал свое. Может быть, если очень постараться, можно будет как-то дотолкать себя до двери и стучать, пока кто-то из проходящих по лестничной площадке не услышит.
— Тетя Рита упала, срочно вызовите скорую! — откликнулась своим громким гавкающим голосом соседка Зарема. — Подождите еще чуть-чуть, тетя Рита, сейчас приедут.
Зарема — она всех на уши поставит, она такая, но и она повесилась еще в шестьдесят третьем, в Оренбурге, после того как перегруженный ГАЗ врезался в дохленький мотоцикл, на котором муж вез сына в школу. А из нынешних своих соседей Рита никого вспомнить не могла, все они сливались в одну серую жижу лиц, в которые она иногда с надеждой вглядывалась по дороге на заветную автобусную остановку. С остановки ходил автобус, на котором по пенсионному билету в красной корочке Рита почти каждую неделю доезжала до окраины города и шла на кладбище, долго плутала, ища могилки когда-то дорогих ей людей, словно забыв, что многие из них лежат совсем не здесь, а в неглубоких братских могилах, спрятанных в далеких и сказочных сибирских лесах.
Вспомнив остановку и кладбище, Рита передумала бороться временно ожившей рукой, она отодвинула от носа щекотливую бахрому, чтобы не мешала, и слегка дотронулась до того места на макушке, которым при падении сильно ударилась о батарею. Как Рита и подозревала, макушка была мокрая. «Значит, если потерпеть и полежать немного, то все само собой решится», — подумала Рита и снова утонула своим мутным взглядом в тканевом тумане тюля.
А тюль этот Рита ведь купила впопыхах и совсем даром. Это было ещё в Феодосии, и Ирочка была тогда теплым и круглым грудничком. Рита оставила ее дома с соседкой, а сама побежала на базар. За чередой торговых лавок стоял старый, еще не разбомбленный вокзал, и в промежутке между базаром и вокзалом уезжающие почти за бесценок, наспех продавали все то, что с собой увезти не могли. Там-то и прицепилась к Рите костлявая бабка-еврейка с грудой вещей в открытом старом чемодане. У Риты с собой было только десять копеек, на что старуха достала наугад комок белого тюля и сунула Рите в одну руку, выхватывая копейки из другой. Всю дорогу домой Рита ругала себя за такую пустую трату денег, но постиранный тюль моментально осветил их маленькую комнату, он висел так правильно и порядочно, как будто ничего плохого за ним и не происходило, словно в этой комнате, в этом городе, на этой земле можно было жить да радоваться и беззаботно любоваться, как под окном в колыбели спит ещё совсем теплая и круглая Ирочка. Бедная, бедная моя Ирочка.
Вот Ирочка появилась из-за тюля уже кучерявой девочкой лет трех, тонкая, как спичка. Она тянет край тюля себе на лицо и, подождав секунду, с хохотом отталкивает его в сторону, взвизгивая «Ку-ку», и снова натягивает на себя эту воздушную белую ткань. Маленькая моя, спичечная девочка. И Рита опять перевела взгляд на гладкий туман тюля, который по-доброму сгладил и эту боль. «Ещё чуть-чуть, и все закончится», — вздохнула про себя Рита.
На тюле было место, которого сейчас было не видно, но с приходом темноты Рита начала все чаще про него думать. На дальнем краю тюля, за головой, возле стены была дырка, прожженная сигаретой. Сначала она была прямо на самом видном месте, рядом с дверью на балкон, но, обнаружив ее, Рита сняла тюль с петель и перевернула его так, чтобы дырка была на противоположной стороне, в более укромном месте. Смешно, ведь прятаться уже давно было не от кого, а человек, который прожег эту дырку своей сигаретой, приходил редко и дарил Рите быстрые жадные ласки, от которых колючий и одинокий мир становился немного светлее и теплее. Сейчас Рита немного жалела, что перевесила тюль, и в то же время жалела, что при одной только мысли о нем и его тепле в руке опять появилась сила, и ожившая рука начала хватать воздух, цепляясь за эту полную бессмысленной боли жизнь.
Нескольких долгих минут рука нелепо махала и стучала по полу, пока наконец-то не поймала в воздухе родную ласковую руку и успокоилась. Ещё пару минут она мягко поглаживала пол, словно утешая расплакавшегося ребёнка, а потом замерла. Ритины глаза ещё долго плавали по белому савану тюля, по его ненавязчивым узорам, по воспоминаниям, от которых Рите уже не было больно.

Юхур
В детстве Саше нравилось смотреть, сколько на улице градусов. Стоишь на кухне босиком, за окном темень непроглядная, мама еще спит, а на градуснике -30. Скорее бежишь досыпать, потому что сегодня первый актированный день в году. Никакой школы. Никакого сонного похрустывания валенками по снегу.
Но сейчас Саша стоит в крохотном вагончике посреди тайги. Сегодня волосы снова чуть не примерзли к стене. Хочется спать, но не здесь, а дома, в теплой кровати. За окном -40. Никакой радости по этому поводу Саша не испытывает, сильный мороз, когда тебе тридцать лет и ты работаешь на промысле — это к подкручиванию гаек до завтрака. У соседа на столике лежит газета «Спид-инфо». Помешались все на этих лотереях.
Натянув рабочий комбинезон и валенки, Саша вышел в таежную темноту. Ресницы сразу покрылись инеем. Пальцы не слушались, было такое чувство, будто даже гаечному ключу холодно. Через полчаса коллеги стали подтягиваться к вагону-столовой. Нужно было успеть поесть, пока не приехал Олег. Сегодня собирались поехать на соседний промысел, им нужна помощь. Уже неделю их донимает медведь, а Саша по образованию ветеринар. Он придумал, что можно подсыпать ему в приманку, чтобы избавиться от названного гостя раз и навсегда. Стрелять в него бесполезно. Медведи быстро бегают, у них толстая шкура, им пули по барабану. Нужно целиться медведю между глаз, но большинство охотников промахиваются. А вот если зверю сделать больно, то он может одним грациозным движением лапы снести человеку голову.
Олег опоздал почти на час, сказал, что еле разъехались с камазом на узкой дороге-леднике. На соседнем промысле Сашу встретил обеспокоенный хант Юхур.
— Поедем завтра уже, через час стемнеет, не успеем, медведь далеко.
День прошел быстро, в десять рассвет, в два часа закат. Делать нечего, придется ждать до завтра и выходить с Юхуром в восемь.
Юхур был профессиональным охотником, в свободное время менял мясо на водку у местных рабочих. Несмотря на пристрастие к огненной воде, Юхур был известен своей меткостью. Зря патроны не тратил, мог одним выстрелом сбить двух белок. Юхура любили на промысле, в каком-то смысле он был таким же работягой, как и нефтяники.
Один раз Юхур принес пельмени с олениной. Повар Толя в шутку спросил, что у него в юрте за мясорубка стоит.
— Луща мясорубка-то! — ответил Юхур.
— Лучшая мясорубка? Это какая? Что за фирма? — спросил Толя, закидывая первый пельмень в рот.
— Луща — это жена моя. Люда по-вашему. Три дня мясо на фарш жевала. Нравятся пельмени-то?
Так Толя узнал, как ханты делают фарш. Пельмени на работе он больше тоже не ел.
Утром Толя приготовил завтрак для Саши и Юхура пораньше. Повар до ужаса боялся медведя, поэтому проникся особым уважением к охотникам, которые добровольно шли в логово к хищнику. На завтрак Сашу и Юхура, помимо яичницы, ждали блины со сгущенкой — большая редкость. Саша надел унты, в них теплее. Натянул специальную повязку до самых глаз. Юхур посмотрел на него с усмешкой, он предпочитал оставлять лицо открытым. На унты натянули специальные хантыйские лыжи-досточки, которые не позволяли ногам проваливаться в снег.
По лесу ходили долго. Юхур сказал, что медведь отошел далеко, но он еще вернется и с каждым разом будет вести себя все агрессивнее. В качестве приманки в тканевом мешке лежала оленина, посыпанная ядом. Что это за яд, Саша не говорил, так как не хотел, чтобы другие устраивали самодеятельность и пытались замешать его сами. Любое животное заслужило быстрой и безболезненной смерти.
В полдень решили остановиться и отдохнуть. Костер разводить не стали. Сели в снегу. Юхур достал вяленое мясо, а Саша развернул пакетик с сухарями.
— Саш, ты посмотри-ка вон. — Юхур кивнул влево и торопливо убрал мясо в карман.
Солнце отражалось в кристалликах снега и слепило. Саша сощурился и вдалеке увидел темную фигуру, которая передвигалась как-то неуклюже, то быстрее, то медленнее.
— Это он? Это медведь?
— Тихо, тс-с.
Юхур быстро, приказным тоном сказал Саше бросить ядовитую приманку в сторону медведя. Саша понимал, что одет слишком тепло, одежда не даст ему как следует размахнуться, медведь был слишком далеко. Он решился подойти поближе. Юхур пообещал подстраховать его. Теперь медведь был достаточно близко, чтобы добросить до него кусок мяса, и достаточно далеко, чтобы быстрым шагом удалиться и не дать ему себя поймать. Вдох. Сырое мясо блестело на солнце, ядовитой крошки почти не было видно. Замахнулся. Бросок. Медведь приблизился к приманке, обнюхал ее, облизал два раза. Сердито фыркнув, он потряс своей огромной головой и посмотрел в сторону Юхура и Саши.
— Ай, плохо дело, он за человеком охотится, — пролепетал Юхур. Бывают такие медведи-людоеды, с ними не договориться и их не обмануть.
Медведь, словно кошка, бесшумно, в два прыжка приблизился к Саше. Хищник занес лапу над Сашиной головой. Вонючее горячее дыхание совсем близко. Саша потянулся за ружьем. Не успел. Но что это? Выстрел? Медведь будто попытался разглядеть дырку у себя во лбу, не удержал равновесие и упал. Юхур подбежал к медведю и выстрелил еще раз. Бурый людоед был мертв.
На промысел Юхур и Саша возвращались молча. Юхур знал, что у нефтяников сегодня будет праздник, опасность миновала, медведь мертв. Нужно будет как-то улизнуть с празднования, чтобы никого не обидеть. Охотник до последнего надеялся, что Сашин план сработает и ему самому не придется стрелять.
Медведи-шатуны появились в тайге из-за людей. Животных будили звуки строек, доносящихся с буровых. Проснувшись, медведь не понимал, что произошло, почему все белое, где еда, и начинал охотиться. Иногда жертвами медведей становились люди. После человеческого мяса хищники начинали целенаправленно охотиться на таежных рабочих и жителей отдалённых поселков. С таким медведем Саше и Юхуру и пришлось столкнуться.
Юхур курил на крыльце вагончика.Саша подошел к нему. Они стояли и вместе смотрели на звездное небо.
— Юхур, ты когда-нибудь видел северное сияние?
— Видел.
— Давно?
— Десять лет назад на Новый год геологи смешали мне шампанское с водкой. — Юхур и Саша засмеялись.
— Юхур.
— Ну чего тебе?
— Спасибо.
Юхур понимал, что спас Сашу, сделал хорошее дело, но медведь — это божество, и убить его — большой грех. Тайга такое не забудет, но это уже их с Юхуром дело. Саша, хоть и родился на Севере, был здесь чужой. Им, людям с большой Земли, все сходит с рук.

Бэмби
Когда Анна была беременна дочкой, ей приснилось, будто у неё родился вундеркинд. Во сне она леденела от страха, ответственности и смущения, когда давала интервью о воспитании на своём ломаном иврите.
— Ма-ма, ма-ма, — повторяет, как робот, детский голос. На часах — 4:50 утра.
Лязгает ключ. Заспанной фурией влетает в комнату она. Если постель дочери сухая, Анна автоматически стягивает с неё штаны и расстёгивает липучки — подгузник грузно шмякается на пол.
Но если подгузник протёк, лицо матери каменеет, а руки взлетают, как у дирижёра. Левая удерживает дочь от побега, а правая делает быстрый взмах — и простыня вместе с одеялом летит на пол. Туда же отправляется мокрая пижама.
Не медля ни секунды, тринадцатилетняя девица голышом несётся на кухню — встаёт в темноте у холодильника и замирает. Мать со сменой белья неторопливо идёт ей вслед: уверена, что годы дрессировки не прошли даром, — дочь не откроет холодильник без спроса.
— Одень трусы, — повторяет Анна в пятый раз подряд. Потом осекается, вспоминая, что по правилам русского языка одевают Надежду, а надевают одежду.
— Надень трусы, — рычит она зло.
Раньше Анна была другой: шептала «мама рядом» и крепко обнимала свою девочку, когда они стояли на остановке, ожидая подвозку в спецшколу для детей с аутизмом — её дочка много лет боялась зелёных мусорных машин. Однажды она испугалась даже кучи мусора на углу улицы: заранее трепетала перед зелёным монстром, который вот-вот появится.
С тех пор как в Израиле, где Анна живёт последние пятнадцать лет, ввели карантины и локдауны, она вздрагивала от каждого звука телефона: вдруг её дочке в четвертый раз за восемь месяцев запретят учиться.
Если в школьном автобусе или в классе дочери кто-то заболевал ковидом, всех детей и взрослых отправляли в карантин. Уже за первые две недели изоляции Анна издергалась — на нервной почве палец на руке распух и покрылся трещинами. Но когда часы сдвинули на час назад с летнего времени на зимнее, стало ещё хуже. Дочка три месяца подряд вставала на час раньше, в четыре часа утра, и мать, опухшая от недосыпа, бесконечно готовила и развлекала её.
Стоило Анне сесть к компьютеру или прилечь, как тринадцатилетняя девица вскарабкивалась ей на ноги и хватала за руки, чтобы мать не трогала мышь и не смотрела на экран. Анна в стотысячный раз дула дочери в личико, показывала ушки и считала пальчики, а внутри оплакивала свою протухшую жизнь: девчонка отобрала все её мечты, закопала все таланты.
Неужели до последнего вздоха ей придется быть человеком-функцией?
Она вспомнила, что читала заметку о частном хостеле, доме на восьмерых взрослых аутистов и соцработников. Если вообразить, что Анна с мужем будут жить по соседству в той же деревне, забирать дочку на выходные и праздники, может, всё не так страшно?
С другой стороны, что изменится с совершеннолетием её ребёнка? Тяжёлый аутизм не исчезнет, сильная потребность в маме и приёмном папе тоже. Анна то клевала себя за бессердечие, то рассудочно уверяла себя и мужа, что они не вечные, и муж соглашался: в двадцать один год дочке будет легче привыкнуть к новой реальности, чем в тридцать пять лет.
Анна вспомнила, как собственная бабушка предлагала ей сдать дочку в интернат, теперь эта мысль не казалась ей такой дикой. Когда это было? Кажется, лет шесть назад.
…Дочка ворочается во сне. Анна пристраивается к ней валетом. Они спят на диване, похожем на престарелого верблюда с одним горбом. Сон на нём — пытка, поэтому Анна всегда останавливается у питерской бабушки, матери отца, на одну ночь.
Дело, конечно, не только в диване. Бабушка, сколько её ни проси, не спрячет с глаз долой все свои шкатулки, фарфоровые фигурки, духи, бумажки и лекарства.
Сегодня Анне пришлось вылететь из туалета, застёгиваясь на ходу, — успела отобрать у дочери игольницу.
Поздний вечер. Бабушка сидит на высокой кровати, как на насесте, и делает три дела сразу: причесывает гребнем длинные жидкие волосы, слушает радиоприёмник и учит Анну жить.
— Сделай потише, — просит внучка.
Бабушка чуть снижает звук, как будто рядом никто не спит, и продолжает вещать.
— Мужчина — главный в доме. Его нужно холить и лелеять, — говорит она слово в слово, как десять, пятнадцать, двадцать лет назад. — Ты Виктору готовишь с собой обед на работу?
— Нет, бабушка, программисты обедают в ресторане, им компания всё оплачивает, — отвечает Анна.
— Сколько вы с Виктором вместе? Два года уже? Тебе нужно родить ему малыша, — уверяет бабушка.
— У него уже есть дети — двое сыновей от прошлого брака, — напоминает Анна. — И вообще — мне бы с одним ребёнком справиться.
— А, что? — переспрашивает бабушка.
— Выключи новости, я не могу так разговаривать, — дважды повторяет внучка.
Поджав губы, бабушка вытаскивает вилку из розетки, минуту молчит и радостно вспыхивает от новой идеи.
— Отправь её в интернат — я же вижу, как ты мучаешься, а сама ещё роди. Я такую радиопередачу слушала! Какие у нас в России были традиции — кадетские корпуса, пансионы для благородных девиц, — воодушевляется бабушка.
— В Израиле нет пансионов для благородных девиц, особенно семилетних, — говорит Анна и выключает торшер. Наутро она односложно отвечает на бабушкины вопросы и уезжает в аэропорт на час раньше.
В следующий раз она забежит к бабушке — совсем сморщенной, сентиментальной, теряющей нить разговора — через четыре года на несколько часов. Зайдет и сразу предложит поехать вместе на кладбище. За двадцать восемь лет, что минули со смерти её отца, Анна ни разу не была на его могиле, пока не попала на приём к психотерапевту и не осознала, что её бесконечные прогулки по кладбищам — отзвук непрожитой травмы. Последние два года Анна будто жила среди могил, правда, не взрослых, а детских.
Суицид отца, инвалидность дочери, гибель первого мужа, отца её дочери, она вынесла как стойкий солдатик. Вернее, солдафон, в которого кидают мерзлые комья из снега и грязи, а он как стоял, так и стоит на посту — окоченевший, с красным носом. Но вынести известие, что её дочь погибнет — это было слишком.
Однажды Анна позвонила приятельнице из Испании, они когда-то учились вместе — до того, как разъехались по миру из родной Карелии. У приятельницы было давнее хобби — китайская астрология, Анна верила в её способности предсказывать будущее и пыталась справиться со страхом: дочка симпатичная, при этом не говорит и развита на два года. Вдруг её обидит злой человек?
А приятельница возьми и назови год, который дочка Анны вряд ли переживёт, может захлебнуться в море или бассейне. Зачем она это сказала? Анна не спрашивала про смерть. Ответ её озадачил: смерть — важное событие, к нему готовятся заранее.
Анна — фаталистка, это объясняет, почему вместо того, чтобы выругаться или плюнуть на предсказание, она попыталась с ним сжиться.
Сначала у неё зачесался и покрылся струпьями палец. Проснулся нейродермит: он всегда вылезает, когда Анне невыносимо, а она это игнорирует. Потом потянуло на кладбище. Рядом с лесом, где они с мужем и дочерью гуляют, есть частное кладбище для тех, кому не подходит традиционное захоронение.
На кладбище Анна нашла необычную могилу — розовую пирамиду из пластика, её окружали доски для серфинга. Анна часто наведывалась туда с фотоаппаратом: наблюдала, как могила преображается от сезона к сезону. Доски для серфинга меняют цвет, на них появляются наклейки — черные бабочки, а рядом, среди листьев эвкалипта, лежат брошюры с Чарли Чаплином и стоят у дерева две фигурки оленёнка Бэмби — одна, фиолетовая, целая, другая, розовая, с обрубками вместо лап. Родители ребёнка, который погиб десять лет назад, явно не смирились с утратой.
С этой могилы-пирамиды и началось её помешательство. Куда бы Анна ни ехала, ноги сами несли её на кладбище. Для того чтобы не выглядеть совсем уж чокнутой, она, в прошлом штатный журналист, придумала себе легенду: мол, собирает материал для онлайн-издания, пишет текст о том, как родители сохраняют память о своих детях. Читала форумы родителей погибших детей — о том, как матери не могут выкинуть горшок ушедшего ребёнка; нянчатся с куклами, одевают пупсов в костюмчики малюток; ненавидят снег, который засыпает могилу малыша и его игрушки.
Анна говорила по скайпу с психологом, директором крематория, с мамой девочки, умершей от лейкоза, которая открыла фонд в память о дочке. Мать этой девочки трижды переносила разговор, но Анна была настойчива — и да, сначала она запиналась и потела, но потом собралась и подробно расспросила, как уходила девочка и выкарабкивалась из беды её мать. Но до публикации не дошло: мать девочки сказала, что это слишком личное.
…На днях Анну опять видели с дочерью на кладбище, они гуляли среди могил. На них смотрели пожухлые плюшевые медведи, ангелы и разноцветные садовые гномы. Анна украдкой нажимала на кнопку маленького фотоаппарата, а круглолицая девочка с аппетитом грызла крекер.

Дела обменные
Татьяна задохнулась после быстрого подъема, пролеты оказались высокими. Ее успокаивало, что это не навечно, они же быстренько все поменяют, а пока поживут здесь или даже в малюсенькой квартире мужа.
«Ради семьи готова на коммуналку. Подумаешь — коммуналка. Там же люди живут. Ну и что? Буду ванну и сортир чаще мыть, да и только. Это же Москва, не Сибирь, мотаться по самолетам не придется, смены часов не будет, с едой проще».
Сиротливая ободранная дверь. Общий звонок. Она и забыла, что это утро воскресенья, а когда она еще могла прийти? На работу кто будет ходить — Вася Пушкин? Терпите, ребята! Дверь открыла хмурая женщина в байковом халате с котом на шее.
— Вы к кому? К Ивану? Он еще спит. Паспорт покажите! — Таня молча полезла в сумку. Возвратив документ, женщина бросила, удаляясь в недра коридора: — Подождите на кухне.
Как в старом кино. Замызганное место — темно-зеленые стены, прокопченный потолок, три хозяйских разделочных стола и один круглый, общий, с затертой клеенкой. Сиротская голая лампочка. По коридору в трусах прошел большой молодой парень, заурчал унитаз, проходя обратно, он бросил: «Щас буду!» Минут через десять вошел в кухню уже одетым в джинсы и футболку. Его лицо и даже плотное тело выражали похмельное страдание. Он взял холодный чайник, закинул над головой, забулькал из железного носика и бухнул его обратно на конфорку.
— Иван! — представился он, отдуваясь. — Из Академа? Готовы на обмен? Документы все? У меня одна проблема. — Быстро глянул в ее папку, перевернул листочки. — У нас с бывшей женой ребенок живет в интернате, родился с отклонениями. Нужна справка, что он находится на обеспечении государства, — произнес он официальным тоном. — Я ничего делать не буду.
— А жена? — спросила Таня осторожно.
— Жена здесь не прописана, брак расторгнут, к обмену отношения не имеет. Ребенок в отказе. Вот адрес интерната и имя, справку возьмете сами. Из Сибири вы, а не я, вам больше надо. — Он страдальчески прикрыл глаза и потер виски. «С такого перепоя ему ни до кого дела нет», — поняла она. На бумажке был адрес в незнакомом месте, год и дата рождения, близкая к дате ее сына.
Медленно спустилась, не заметив пятого этажа. Нужно собраться и достать эту бумагу. Мысль о том, какая такая нужна справка, о каком-то больном и брошенном ребенке кольнула и отступила. Лето, жара, воскресенье. Сегодня справок не дают. А когда она теперь полетит домой? Сдать билет на сегодня можно только в кассе «Аэрофлота» в аэропорту, придется звонить из автомата и проверять, так ли это.
Неожиданно оказалась открыта касса на Дзержинке, в честь летних отпусков. Очередь небольшая, обошлось без больших трат и мотания в Домодедово. Обратного билета на руках не было, от этого в животе холодело. С няней легко договорилась по телефону. Ей везло в тот воскресный день — междугородние переговорные кабинки на Центральном телеграфе пустовали, как и город в целом. Няня будет днем, ночью с малышом отец, утром — старшая сестра. Начальнику позвонила, сказала как есть.
Все устраивалось. Но сердце ныло, грызло беспокойство. Татьяна впервые так надолго оставила своего маленького сына. Ее с ним не будет уже три ночи подряд, даже если она улетит домой в понедельник вечером, ночным рейсом. Это возможно, если справку выдадут без проволочки. И если на самом деле существуют на свете тот самый интернат и больной отказной ребенок.
Мутная какая-то история. А может, этот Иван, ее обменщик, не хочет обратно в Сибирь, это инициатива его родителей, а он хочет оттянуть возвращение. Они же нашли ее по объявлению, они жаждут его возвратить под свое крыло. А он тут бы и дальше жил, как ему хочется. Мать жаловалась, что за три года парень женился четыре раза, и ничего не получилось. А у них в Новосибирске в нем срочная нужда — не на кого приватизировать машинный парк, которым заведует отец.
Про приватизацию она слышала, но ее это не касалось. В академическом Институте истории приватизировать, кроме бумаги и ленты для пишущей машинки, было нечего. Ну разве еще мамонта, вернее, его чучело. Но на него многие претендовать будут, наверное, а потом — где его хранить, да и зачем? На ежегодных субботниках она старалась заполучить именно этот участок для уборки — с мамонтом, он ей был приятен. Да это был вовсе и не он, а она, девочка-мамонтенок. По ее понятиям она стояла на своем месте, тут она всем видна, всем нужна, приватизации не подлежит. «Вот и хорошо, — подумала Таня, — а то и ничейных мамонтенков на государство будут вешать. Дурь какая в голову лезет».
А если она завтра не найдет этот интернат, не получит справку, то вся обменная цепочка рухнет, и они опять не смогут жить все в одном месте.
Муж по телефону ничего не понял: какой ребенок, какая справка. Она тут расшибается, мотается, готова родительскую квартиру в хорошем месте обменять на комнату на пятом этаже в старом доме, а он даже не собирается вникать в детали. Но она решила не обращать на это внимание, может, ей показалось. В телефоне треск, связь так себе. На него, на мужа возлагается большая ответственность, это хоть и третий у него ребенок, но с малышами он дела не имел. Да и мальчик первый. Вот и отстранился от понимания ситуации. Обиделся, что она застревает в Москве еще на сутки.
Занятая мыслями, Татьяна добралась до Медведково, где уехавшие родственники оставили ей ключ у соседей на всякий случай. Хорошо, что она им позвонила, договорилась, организовала пристанище про запас. Собиралась же обернуться без ночевки в Москве.
Ранним утром она уже была в Раменском. Это не центр, но и не глухая окраина. Нашла в квартире родственников старую карту, протертую на сгибах, и отправилась пешком от метро.
Начиналась влажная московская жара. Позавтракать не успела, боялась не добраться вовремя. Интернат оказался в типовом больничном здании в глубине зеленого парка. Внутри было прохладнее. Ее пропустили через вахту, и ей пришлось ждать у двери директора, на деревянной скамейке. В здании стояла гулкая тишина, пахло больничной едой, в глубине звякали посудой.
От жары, долгой дороги и голода она боялась не выдержать, начать качать права, чтобы быстрее ее принял директор, подходила к секретарю и объясняла, что ей нужна только справка. Наконец ее вызвали.
За столом сидела усталая симпатичная женщина средних лет. Крепко пахло кофе, но ей ничего не предложили.
— За справкой? Вы родственница? — Татьяна кивнула и улыбнулась, стараясь расположить директрису. — Фамилия ребенка? — Таня назвала.
Женщина откинулась, выпрямилась, лицо ее изменилось. Она глянула в упор.
— У нас заведение для очень тяжелых детей, — начала она медленно. — Таким детям, как ваш Денис, наше заведение не подходит.
— Это не мой ребенок! — воскликнула в отчаянии Татьяна.
— Вы же сказали, что родственница.
— Меняю жилплощадь с его отцом, — устало сдалась она. — Новосибирск на Москву, — зачем-то добавила, как бы оправдываясь, что не в курсе того, что у них здесь творится.
— У нас дети с разными поражениями центральной нервной системы, большинству все равно, где они. Но у вас особый случай, — словно не слыша Татьяну, продолжила директриса. — У Дениса ДЦП и глухота, мозг не поражен. Ему нужна семья и материнская ласка. За два года к нему ни разу никто не пришел. Он вполне может компенсироваться при нормальном уходе. В условиях интерната он не будет полноценно развиваться.
— Я не знакома с его матерью, — жестко произнесла Татьяна. — Мне нужна справка о том, что он находится в вашем заведении.
— Вы хотите пройти к Денису? — безнадежно, как будто для проформы, спросила женщина.
— Нет, — испуганно отшатнулась Татьяна, — мне уже нужно в аэропорт. Меня дома сын ждет.
Не глядя на Таню, директриса расписалась, поставила печать, отдала бумагу.
По дороге в Домодедово Татьяна успела заскочить в Банный переулок, сдать теперь уже полный пакет документов. Злилась на своего обменщика, ну и мужик, не мог все подготовить. Ребенок случился. Первый раз об этом услышал. Сообразила, что его родители про ребенка, которому два года, и не слышали.
Дома, глядя на жизнерадостного своего двухлетнего пацана, она первое время вспоминала другого ребенка, которого отказалась видеть, который плохо ходит и ничего не слышит. Пробовала рассказать мужу, но он слушал рассеянно и куда-то торопился. Подругам было рассказывать страшно. Отвалялась три дня с больной спиной и занялась сборами для переезда. Дел было много.

Диагноз
День шестой. Понедельник
Вероника поднялась на второй этаж, нашла нужный кабинет, робко постучала. Никто не ответил. Она еще раз посмотрела на дверь — номер девятнадцать, все верно, один и девять. Хорошие цифры, нечетные. Почему-то нечетные ей нравились больше, в них была какая-то заостренная индивидуальность, недоступная для мягкотелых и закругленных четных. А возраст какой замечательный — девятнадцать! Коля уже на втором курсе будет, главное, чтобы вуз с военной кафедрой, хотя они по-любому его ни в какую армию не отпустят, решат как-нибудь этот вопрос. Она поймала себя на слове — «решат», они вместе решат, значит и она тоже. Может, зря она истерила всю неделю? Сейчас все прояснится, и она спокойно будет жить дальше.
Вероника решительно потянула за ручку — дверь была закрыта. Она подергала еще раз. Да что ж это такое? Издеваются они над ней, что ли? Она изо всех сил заколотила в дверь. Из соседнего кабинета показалось удивленное лицо: — Подождите, пожалуйста, доктор наверно отошел ненадолго. Вероника плюхнулась на диван, сделала несколько глубоких вдохов. Совсем ты, мать, с катушек слетела. Взрослая тетка, а ведешь себя как юная истеричка. Она огляделась. Фикус в кадке, сухой и понурый — какой-то идиот поставил его к батарее. К концу зимы совсем облысеет. Неожиданно для себя она вскочила и с трудом отодвинула тяжелый горшок в сторону — так-то лучше.
— Уже бегу! — Вероника вздрогнула. Голос был совсем юный, почти мальчишеский. — Она обернулась. Рыжий вихрастый парень в белом халате радушно улыбался, как будто приглашал на кофе с круассаном во французскую булочную, а не на рентген в барокамеру. — Простите, отлучился на пять минут. Ну, что же вы стоите, проходите, пожалуйста.
Вероника с подозрением разглядывала хозяина кабинета. Веснушки по всему лицу, на щеках — раздражение, явно от неумелого бритья, вон и порез небольшой на шее. Это что, доктор? Ему вообще сколько лет? А если он что-то недоглядит — потом опять все по новой? Тогда она точно сойдет с ума. Она снова взглянула на парня: трогательный такой, старается казаться серьезным. И чем-то на Колю похож — у того тоже волосы вечно в разные стороны торчат — сколько ни расчесывай.
— Мне… раздеваться?
Рыжие брови подскочили вверх.
— Эээ, ну, не совсем. — По выскобленным щекам поползли розовые пятна. — Снимите только бюстгальтер — а блузку оставьте, брюки нужно спустить до колен. Как будете готовы — ложитесь.
— А результаты сразу?
— Сразу? Нет, ну что вы, вам их завтра на почту пришлют.
— Завтра? — Вероника застыла с бюстгальтером в руке. — Но… Но я не могу ждать до завтра!
— Ну, раньше никак. — Рыжий развел руками. — Доктор все записи смотрит только вечером.
— Доктор? А вы кто?
— Я? — Молодой человек замялся. — Я ассистент, я кнопки нажимаю. Ложитесь, пожалуйста.
День первый. Среда
Вероника сидела в машине, переваривая услышанное. Лобовое стекло успело покрыться тонкой корочкой льда, которая никак не хотела таять. Как сказала эта узистка? По внешним признакам киста. И в скобках поставила знак вопроса — гаденький такой, скрюченный: диагноз под вопросом — надо перепроверить. Ладно, разберемся. Подумаешь, киста, сплошь и рядом у каждого первого. Когда же это стекло отпотеет? А, ну его. Вероника нажала на газ: дел куча, пора ехать. Сегодня у нее вечером встреча с клиентом — подобрать сантехнику и плитку для ванной, это может занять много времени, значит, ужин для мальчиков надо приготовить заранее — до отъезда. По дороге домой заскочить за Сашиной курткой в химчистку. Что-то еще было важное, забыла. Зачем она поставила этот знак вопроса? Там же четко видно — киста. А если нет? Про «если» думать не хотелось. Но почему-то думалось. Вероника отгоняла неприятные мысли, но те уворачивались и как докучливые июльские мухи с противным жужжанием слетались обратно. Ерунда какая-то, ничего плохого с ней случиться не может. А если может? Мухи зажужжали сильнее. Отвяжитесь же вы, наконец! У нее все хорошо, ничего не болит, рядовая диспансеризация. Кыш, кыш, кыш! Сегодня среда, завтра ее запишут на томографию, и все прояснится.
Вероника и не заметила, как оказалась у дома. Черт, а про куртку-то она и забыла! Ладно, заберет завтра. Ей еще ботинки лыжные Коле надо купить, у них же завтра физкультура на улице. Когда же она успеет? Может, попросить Сашу? Ох, это будет непросто. Он же не знает, какие у него крепления на лыжах! Ладно, заберет Колю из школы и заедут вместе. Правда, на запланированный вебинар по реставрации она тогда не успеет, но что поделать, посмотрит в записи.
Вероника поставила тушиться курицу и включила ноутбук. Несколько секунд она смотрела на пустую поисковую строку, потом медленно, буква за буквой, вписала в нее пугающую ее фразу. Занесла палец над кнопкой «найти», быстро стерла запрос и захлопнула крышку.
День второй. Четверг
Странно, вчера ей так и не позвонили. Ладно, подождет до обеда и потом позвонит сама. Вероника обошла квартиру: грязные тарелки, вывернутая наизнанку пижама на полу, незаправленная постель. Традиционный утренний пейзаж. Мужчины уехали охотиться на мамонта. Женщина осталась дома драить пещеру. Ну почему они вечно разбрасывают свои вещи? Что большой, что малый. А если с ней что-нибудь случится, кто за ними убирать будет? Собирать Колю в школу, стирать, гладить рубашки? А главное — что они будут есть? Колина аллергия, с которой она так долго боролась, расцветет буйным цветом. Саша вообще не в курсе, чем детей кормят. Сколько раз его просила — не покупай ребенку конфеты и булки, только отмахивается — все дети едят, не нагнетай. Вот именно — не нагнетай. Проснувшись, она почти забыла о том знаке вопроса — в утренней суете было не до того. А теперь, когда все ушли, эта закорючка ржавым крючком вылезла снова. Ааа, есть идея! Вероника метнулась к письменному столу, достала из ящика пузырек с белилами, взяла заключение УЗИ и густо замазала знак вопроса. Вот, так-то лучше. Нет вопроса — нет проблемы.
Так, что у нее сегодня по плану? Обсудить эскиз веранды с томной барышней из Малаховки и хорошо бы сделать, наконец, визуализацию детской для молодоженов из Куркино. Уже третью неделю будущая мама ей голову морочит — с цветом стен определится не может. Ей бы ее проблемы.
Вот как так бывает? Живет человек, строит планы, рожает детей. И тут бах: осторожно, двери закрываются. А может, взять поварешку и сразу себя по башке бить, как только дурные мысли в голову лезут? Ничего с ней случиться не может. Или может? От чего это вообще зависит? У нее давно было подозрение, что никакой системы оценки нет — хороший ты человек или плохой, убил кого-то корысти ради или списал математику у соседа в четвертом классе. Просто там, наверху, кто-то в однорукого бандита играет. Каждый человек — комбинация вишенок, яблочек и груш на экране. Чья картинка сложится — тому на выход. И неважно, кто ты — Аль Капоне или мать Тереза — будь добр, собирай чемоданы.
Так, стоп, опять ты за свое. Поменяй картинку. Внуков, там, представь или домик у моря. Спокойная смерть в шезлонге на белом песке, бокал шампанского, выпадающий из дряхлой руки… Лет через тридцать, а лучше сорок. Вот, совсем другое дело! И надо бы заставить себя хоть немного поработать. И сварить суп. Отвезти Колю в бассейн и прослушать, наконец, вебинар по реставрации. У нее как раз час будет, пока Коля на тренировке. И что-то, что-то еще. Господи, она опять забыла про Сашину куртку!
День третий. Пятница
Уфф, наконец, позвонили. Час «икс» в понедельник. Еще три дня неведения. Ей придется вставать утром с постели, двигаться, общаться, улыбаться как ни в чем не бывало. И Саша наверняка потянет всех на каток. Что она ему скажет, если вдруг? «Нам нужно поговорить?» или так: «Мне нужно сказать тебе что-то важное». Ох, такое только в плохом фильме услышать можно. Она представила выражение лица мужа: брови приподнимаются, взгляд застывает — то ли тоска, то ли тревога, и в это время обязательно звонит телефон. Он с облегчением бросается к трубке — какая-никакая, но отсрочка. Ну что же. Нормальная мужская реакция. Тогда, может, лучше так: «Прости, я вас очень подвела» или «Сегодня наша жизнь изменилась и никогда уже не будет прежней». О нет, лучше уж плохой фильм, чем дешевый водевиль.
А что он скажет ей в ответ? «Мы справимся вместе»? «Мы тебя обязательно вылечим»? «Не беспокойся, я все устрою»? А если нет? Если ей придется все снова делать самой? Тогда она точно не сдюжит. Ладно, опять она бежит впереди паровоза, может, ничего говорить и не придется. Надо дождаться понедельника. Все будет хорошо. Скажет потом как-нибудь, поговорить все равно придется. Давно пора.
Они не готовы, совсем ни к чему не готовы. Живут на широкую ногу, тратят все, что зарабатывают. Как будто им по двадцать, и вся жизнь впереди. Рестораны, путешествия, частная школа, дачу летом купили — Саша о ней так долго мечтал. Все запасы опустошили, и никакой тебе волшебной тумбочки — если что вдруг. А вкладывать в нее еще сколько — страшно представить! Вероника улыбнулась, подумав о муже: все-таки он у нее чудесный. Веселый, щедрый, надежный. Вот только эти его купеческие замашки ей совсем не по душе. Лучше бы с сыном в театр хоть раз сходил, чем покупать ему бесчисленные лего. Ладно, дачу как раз продать можно будет, если что. Денег-то может понадобиться уйма.
День четвертый. Суббота
Телефон призывно пискнул, потом еще раз и еще. Вероника нехотя потянулась к экрану: в группе «Девчонки» одиннадцать уведомлений. Первое же сообщение — от Светки — выбило ее из колеи. «Никусик — тебе шампусик?». И следом второе — «А Маришке винишка?» «А мне что-нибудь покрепче — и можно без рифмы!» — это уже от Антонины, и еще одно от нее же: «Я свой фирменный “наполеон” испеку, чего еще принести?» О чем это они? Вероника застыла с телефоном в руке. Черт. Какое сегодня число? Она совсем забыла! У них же завтра встреча — Татьянин день, Светка всех в гости еще месяц назад зазвала. О нет! Это выше ее сил. С ними номер «у меня все хорошо — просто устала» не пройдет — сразу раскусят. А еще наверняка петь заставят — у них без гитары ни одна встреча не проходит. Вот только песен ей сейчас не хватало.
А может, все рассказать? — мелькнула шальная мысль. Вон, Светке в прошлом году операцию делали, она ей в больницу бульоны возила с паровыми котлетами. У Светки тоже что-то плохое подозревали — они ее дружно убеждали, что это не так. И ведь правы же оказались! Живет и радуется. Светка тогда всю душу ей вымотала своими вопросами — «ведь не может, не может со мной ничего случиться? Я же хорошая, правда?» Правда. И она тоже хорошая. А еще умная, красивая и отличный дизайнер. Ага, и верная супруга, и добродетельная мать. А толку?
А может, все-таки поехать? Ну да, и превратить веселый девичник в заупокойную мессу. Будут сочувствовать, уверять, что все хорошо. Она поежилась — нет, точно не ее вариант. Не хочет она никаких уверений. И жалости никакой тоже не хочет. Чего жалеть-то заранее — только негативные сущности множить. Вероника представила, как темным лучом улетают в космос ее страхи. Потом мысленно перенесла картинку на бумагу, смяла, подожгла и развеяла пепел по воображаемому ветру. Так-то лучше. Еще успеют пожалеть, если что. А сейчас она залезет под одеяло и будет читать. Или смотреть какой-нибудь тупой сериал. И скажет Саше самому смотаться за курткой. Потому что ей страшно и не хочется никуда ехать. Только что же им написать? Надо причину какую-то убедительную придумать.
Вероника включила экран смартфона. Ничего она придумывать не будет. «Девчонки, вы меня, конечно, убьете, но я не смогу. Сорри(((». Она вдохнула поглубже и поднесла палец к кнопке «отправить». Потом немного подумала и добавила: «может, перенесем?»
День пятый. Воскресенье
Почему здесь так холодно? И что за ужасный звук? Надо заставить себя встать и прикрыть окно — с ночи осталась щель. Бррр, как захлебывается ветер, скребется в стекло. Почему она не пошла с Сашей и Колей в кино? Хоть бы развеялась немного. А теперь лежит тут одна и подвывает в унисон ветру. Надо взять себя в руки, встать и приготовить ужин. Может, это их последний беззаботный день.
Тело ватное, чужое, будто впечатанное в диван. Как она ни старалась — эта закорючка оказалась сильнее. Никакая замазка ей нипочем. Застряла в голове намертво. Что же с ними будет — с ее любимыми мальчиками? Она мысленно прижала к себе вихрастую голову сына. Поздний, любимый, порвет за него любого. Кто будет слушать его бесконечные рассказы про компьютерные игры? Гладить спинку и петь про золотой город? Радоваться его победам и утешать из-за неразделенной любви? Замкнется, уйдет в себя, завязнет в виртуальной реальности. А Саша, ее чудесный Саша, как же ему будет тяжело. Он же и сам — большой ребенок. Его тоже нужно гладить по спинке и класть по утрам обед в сумку — иначе забудет. Надо составить ему список рецептов — чем Колю на завтрак кормить, он же, кроме яичницы, ничего делать не умеет. Ну что же, придется освоить, невелика наука — кашу сварить или сырники нажарить, как-нибудь одолеет.
А если договориться? Что там обычно обещают в обмен на здоровье? Вероника задумалась. Бросить пить, курить, есть гамбургеры и картошку фри? Ничего такого она и не делает. За здоровьем следит, никому не завидует, ни на кого не обижается. А может, наоборот? Может, как раз ей надо что-то сделать? Вероника сделала глубокий вдох, закрыла глаза и попыталась увидеть себя со стороны. Она разглядела старый стул, с которого она сдирает наждачкой краску, почуяла опьяняющий запах свежей стружки и выгоревшего воска. Рядом стоит Борис Моисеевич и одобрительно хмыкает в седые усы. Старый мастер доволен ее работой. Она еще осенью обещала ему приехать — уж который год он ее в подмастерья зовет, а она никак время найти не может. Завтра она ему обязательно позвонит, а лучше сразу заедет. А то так до старости откладывать и будет.
Кажется, в коридоре хлопнула дверь. Мальчики вернулись. Ой, а она даже ужин не приготовила. Ну и ладно — закажут что-нибудь готовое.
День седьмой. Вторник

Каждая собака знает
Мама не любила запаха перегара. Когда мой папка приходил навеселе, она кричала на него уже с порога и слов не выбирала. Видимо, ей нравилось, что соседи слева выражают сочувствие и проявляют с ней негласную солидарность. А они выглядывали из-за штакетника: хмурая тетка в косынке и дед-инвалид на костылях. А справа подсматривать было некому — пустырь до самой мельницы.
Папка виновато проскальзывал в прихожую, снимал спецовку, надевал домашнее растянутое трико и невообразимую красную нейлоновую рубашку с бабочками, которой сносу не было.
— Пойдем, Рыжик, раз нас тут никто не любит, — говорил он мне и хватал на бегу кусок батона.
И мы уходили на пустырь. Там бегали собачьи орды, радостно встречая нас и провожая до забора конторы. Иногда мы кидали им принесенный хлеб. У каждой псины была кличка и характер.
— Меня уже всякая собаченция запомнила. Ты, Рыжик, животинку не обижай, и она тебя не обидит. Это же не человек, те добра не понимают.
Обычно мы брели по пыльной тропинке, и папка рассказывал: «Рыжик, это сныть. Её твоя бабушка в войну ела. А это полынь — ее от моли в шкафы мамка кладёт. А вот чертополох, он никогда не вянет. А что это за цветы — я не знаю, пусть называются баурсачки». Он доставал из кармана перочинный ножик и срезал длинные несуразные стебли дикого цикория, набирая букет для сторожихи. Мы шли далеко-далеко, как теперь я понимаю, всего-то метров за пятьсот от дома, в «Чапаи». Там собаки отставали от нас, зная нрав сторожихи.
«Чапаями» называли колхозную территорию с мельницей, током и небольшой конторой, возле которой торчал бюст героя гражданской войны, выкрашенный серебряной краской. За оградой тянулись поля. В конторе сидела баба Тося. Она всегда вязала платки из козьего пуха и кипятила чай на электрической плитке.
— Ох, дурень ты мой, — встречала она папку, — послал же бог крестничка!
Меня баба Тося привычно сажала на «ослинчик», низкий табурет, и давала кусок рафинаду. С отцом они пили чай, ели сало с хлебом и вспоминали Борьку, сына бабы Тоси, закадычного друга моего папки. Борька утонул в юности, и потому говорить о нем было и приятно, и слёзно. Сторожиха причитала: «Колюнок, бросай пить. Ты же слесарь шестого разряда!»
Потом, когда солнце садилось за пологие курганы, баба Тося выпроваживала нас домой. Она учила, как именно папке нужно просить прощения у жены. При этом они оба смеялись и косились в мою сторону. Но я старательно разглядывала бюст в папахе. Все мы вчетвером, включая Чапаева, знали, что после очередной получки снова будут крики, пустырь, собаки, контора, повинная.
Один раз мы пришли к бабе Тосе, но на двери висел замок. За пыльным стеклом виднелся тетрадный листок: «Получаю отходы. Не ждать».
— За комбикормом ушла, — разочарованно протянул папка.
Мы покрутились у памятника, делать нам было совершенно нечего. Домой идти не хотелось. Я услышала писк, съежилась и показала пальцем на кусты. Папка бесстрашно вытащил оттуда лопоухого щенка.
— А кто у нас такой маленький? — осведомился он. — А где твоя мамка? Выгнала тебя? Ты пиво пил?
Я смеялась, зажимая рот ладошками.
— Придется усыновить! — вздохнул папка.
По дороге к дому мы пересекли пустырь, но собаки в щенке своего не признали. Отец поднимал его за шиворот и строго спрашивал у стаи:
– А ну, чей? У кого совести нет? Эх, вы, животинки бессловесные, а я вас уважал!
Собаки молчали и даже отворачивались.
— А давай его спрячем? Мамка обрадуется!— хитро предложила я.
— А давай! — Отец сунул щенка за пазуху.
Найденыш поерзал, согрелся и затих. Он высунул кургузый хвост из-под выпростанной папкиной красной рубахи. За этот хвост и дернула мамка, когда мы открыли калитку. Не подумала…
Испуганная животинка коготками пропорола на груди и животе своего нового хозяина длинные борозды. Папка вскрикнул, а мама заплакала. Красная нейлоновая рубаха взмокла от выступившей крови, а щенок шмякнулся оземь и заскулил.
— Третьего уже приносишь, дурак этакий! Куклачёв! — всхлипнула мама, прижимая вату к ранкам.
Отец молчал, покусывая губу.
— Куклачёв кошек любит! — вступилась я. — А папка мой не дурак, а слесарь шестого разряда. Его каждая собака знает. И не смей кричать больше! Никогда!

Клянусь, клянусь, клянусь
К третьему классу из всех школьных уроков я прекрасно усваиваю один. Нет-нет, даже не усваиваю, я его впитываю всем своим организмом, позволяю растечься по кровеносным сосудам, раствориться и стать чем-то вроде внутреннего императива. Этот урок прост, как ситцевые трусы: ты или в любимчиках, или тебя как будто и вовсе нет. Вернее, ты есть, конечно, но на таких дальних задворках, что счастья там не бывает и старостой тебя точно не выберут. Вот взять нас со Светкой — мы у Анны Борисовны в любимчиках все два года. И пожалуйста, то Светка староста, то я. Ну разве не счастье?
Магаданский сентябрь полыхает рыжими иголками лиственниц, сопки в красноватых подпалинах мха, стланик стелится по каменистым склонам. Через день после возвращения от бабушки из Москвы я мчусь в школу, манжеты и воротничок накрахмалены, новый ранец стучит по спине. Прошлогодние резиновые сапоги чуть жмут, надо сказать маме, она, конечно, вздохнет и попросит потерпеть пару недель до снега. Но жмут-не жмут, какая разница, я пролетаю мимо крошечного сквера за домом, карликовые березки машут прозрачными желтыми листьями, мимо Политехнического института, бросаю взгляд на большое широкое крыльцо, куда с другими преподавателями и студентами выходит курить отец, и мчусь вниз к розовому четырехэтажному зданию школы. Там Светка, и Вася, и Наташка, и Денис, все мои закадычные друзья, и наша Анна Борисовна, которая красит челку под цвет пиджака, Наташка говорит, что гуашью. Наташка про Анну Борисовну знает больше нас, потому что носит от нее записки директору и обратно ей от директора. Вообще-то записки — тайна, но Наташка проболталась Светке, а Светка мне. Взмываю на четвертый этаж, где находятся начальные классы. В этом году я уже в третьем, это значит, нас примут в пионеры, а так как я в любимчиках, значит, меня примут в первую очередь, я очень хочу непременно в первую очередь. Вбегаю в кабинет и…
С объятиями ко мне никто, конечно, не бросается. Светка кидает небрежно: «Ну чо, приехала?» Это она всегда так, когда радуется. Наташка улыбается, говорит сладенько: «Здравствуй, Женя!» — верный признак того, что для нее я лучше бы не приезжала. Наташку можно понять, без меня Светка только ее подруга, целиком и полностью. Вася вежливый, он встает из-за парты и подходит ко мне. Денис вспыхивает и утыкается взглядом в окно, как будто там за окном прямо сейчас на школьном стадионе происходит ледовое побоище. Я вижу Денисовы каштановые вихры и такие же каштановые веснушки на щеке, на той, которая не полностью повернута к окну. Большое оттопыренное ухо алеет и светится. Ах, все это ерунда, эта неловкость первых минут скоро пройдет, хотя холодок и успевает пробежать у меня внутри: а вдруг не пройдет. Но Светка уже отвлекает меня: «Ты знаешь, Анна Борисовна от нас ушла». Как ушла? Куда ушла? А кто будет ходить с разноцветными челками, вопить сиреной «а ну тишина, я сказала», громко хохотать над какой-нибудь шуткой, ставить двоечникам огромные пятерки в дневник за проблеянное кое-как стихотворение — Молодец! Я знала, что ты можешь! — кто будет ненавидеть черные банты? Кто будет давать Наташке записки для директора? Кто будет нас любить?
Я стою ошарашенная, гремит звонок, и в класс заходит какого-то невнятного вида тетенька с бледными волосами. Новая учительница… Все вскакивают и вытягиваются вдоль рядов парт по стойке смирно.
— Кто это у нас? — обращается она ко мне.
— Женя Великанова, — шепчу я еле слышно.
— Громче мы умеем?
Как она не понимает, что при незнакомых людях страшно говорить громко?
— Почему так поздно? Занятия 1 сентября начинаются. Объяснительную от родителей завтра. Твое место будет, — она оглядывает класс и кивает на предпоследнюю парту рядом с Бубновым, — там.
Нет, я не против Бубнова, мы даже почти дружим, но на предпоследнюю парту? Меня, отличницу, любимицу Анны Борисовны? Пришибленно плетусь, сажусь и в каком-то оцепенении начинают доставать из ранца тетради, пенал и дневник. Учебников у меня пока нет, Бубнов делится своими. Он вообще ничего, отец у него военный. Бесцветная учительница что-то пишет на доске, я не могу разобрать, строчки размываются, превращаясь в длинные меловые пятна на коричневом фоне. Приходится заглядывать в тетрадь Бубнова, он миролюбиво отодвигает локоть в ответ на мой просящий взгляд. И снова меня настигает окрик:
— Великанова, в свою тетрадь смотрим!
Все ясно. Теперь я на задворках. Как? Как Анна Борисовна могла от нас уйти?
Потянулась монотонная череда казенных будней. Светка, Наташка, я и еще примерно половина девочек сначала по привычке продолжаем носить белые банты каждый день, но на классном часе нам объясняют, что белые — атрибут парадной школьной формы, их полагается надевать в особых случаях. Послушно носить черные означало бы полную капитуляцию, и мы дипломатично переходим на простые резинки для волос.
Рутину задворок скрашивает только мечта поскорее стать пионеркой. Я грежу мыслями о красном галстуке, о том, как произнесу клятву «Я, Женя Великанова, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю», как старший пионер завяжет на моей шее красный галстук и посмотрит мне, конечно же, прямо в глаза, и лицо у него будет непременно серьезное и торжественное. А потом… здесь воображение дает легкий сбой, но в общих чертах я каким-то образом превращаюсь в Катю Лычеву и отправляюсь голубем мира в Соединенные Штаты Америки. Катя Лычева — мой кумир, я рисую ее портрет в обнимку с земным шаром сто пятьдесят миллионов раз.
Первую партию пионеров должны принять к 7 ноября, к годовщине Октябрьской революции. Примут самых-самых, лучших, достойных. Вторую партию, тех, кто тоже ничего, но все же менее достоин — к 23 февраля, а третью, всех подряд — к 22 апреля, дню рождения Ленина. Я все еще надеюсь, что меня примут в первых рядах, они же должны понять, что я — голубь мира, меня уже заждалось человечество.
— Свет, — завожу я свою пластинку, — а прикинь, нас в пионеры примут.
— И чо?
— Ну линейка, галстук, клятва, ты что, не понимаешь?
— Семки хочешь?
Мы сидим на железной оградке в школьном дворе после уроков. Светка не романтична. Но она мой лучший друг.
— Ладно, давай семки.
Мы грызем подсолнечные семечки, выплевывая шелуху на землю. Начался октябрь, в воздухе мечется мелкий снег, еще немного и город засыпет сугробами.
Только мы начали привыкать к бесцветной учительнице, как ее сменила другая, черно-белая. Оказывается, бесцветная была с нами временно, до тех пор, пока нам не подберут постоянную. У новой белая кожа, свисающая мешочками на щеках и под глазами, черные волосы в пучке, белая блузка, черный костюм и черные туфли-лодочки. Черно-белая учительница особенно любит уроки политинформации по четвергам.
— Дети. — Она поднимается со стула, упирается ладонями в стол, чуть наклоняясь над ним, и внимательно и слегка безумно смотрит на нас. — Сегодня я расскажу вам о встрече Михаила Сергеевича Горбачева и Рональда Рейгана в Рейкьявике. Наша страна, великий Советский Союз, хочет мира на земле. У Соединенных Штатов Америки очень много ядерного оружия, и они в любой момент могут на нас напасть. Дети! — Голос черно-белой драматически повышается. — У Рейгана на рабочем столе есть кнопка! Ему стоит нажать на эту кнопку, и, — она переводит дух, — и на нас полетят ракеты! Михаил Сергеевич Горбачев поехал в Рейкьявик, чтобы заставить Рейгана уничтожить американскую взрывчатку.
Впечатлительным не место в советской школе. Огромная красная кнопка мерещится мне в холодном предзимнем воздухе. Толстая, пахнущая сигарой рука тянется к ней, медлит, постукивает пальцами, коротко замахивается… Мы умрем? Я, Светка, Вася, Наташка, Бубнов, Денис? Умрем, так и не став пионерами? Вечером дома я рыдаю и долго не могу выдавить из себя ничего, кроме слова «кнопка». Когда отец наконец понимает, в чем дело, он вскакивает и со словами «нет, это невозможно» резко выходит из комнаты. Мама выскакивает за ним, я слышу, как в коридоре она говорит «просто надо объяснить», они спорят о политике, забывая про меня, потом, видимо, вспоминают, потому что возвращаются.
— Женечка, — начинает мама, гладя меня по плечу, — твоя учительница…
— Порет чушь! — опять вспыхивает отец, перебивая ее. Обычно мягкий и тихий, сейчас он говорит громко и даже краснеет от напряжения.
Мама вздыхает и продолжает:
— Преувеличивает. Но то, что она рассказывает вам про Горбачева — это очень хорошо.
— Мартышкин, — отцовский голос звучит уже более миролюбиво, — тебе все-таки десять лет, надо понимать.
Мне девять, он всегда путает, я привыкла.
Черно-белая учительница довольно быстро испаряется вслед за бесцветной, оставляя после себя всего ничего — навечно впечатанный в психику страх смерти от ядерного взрыва, и нам наконец-то определяют постоянную Раису Ивановну. Раиса Ивановна также быстро определяет себе в круг любимчиков. За них, а также за Васю и за Наташку нам предлагается проголосовать на классном часе, чтобы их первыми приняли в пионеры. Я тоскливо поднимаю руку, отдавая голос за «достойнейших из достойных», и вскоре на линейке в спортивном зале им повязывают на шею вожделенный галстук. Мне нестерпимо хочется с кем-нибудь подраться. После линейки я нагоняю на лестнице Бубнова и со всей силы луплю его ранцем по спине. Бубнов принимает вызов, и мы с упоением мутузим друг друга, как молодые дикие кабаны. После драки я чувствую себя лучше, но все еще не могу успокоиться. И когда мы с Наташкой случайно сталкиваемся лбами в раздевалке, что-то вспыхивает во мне с новой силой. «Ты чего толкаешься?» — воплю я и отпихиваю ее в гущу пальто и шапок. Наташка вскакивает и с криком «это ты толкаешься» лягает меня валенком. Мы едва успеваем выдрать друг другу по клоку волос, как нас растаскивают. Да и драться больше не хочется. Хочется, чтобы снова была линейка, и я, а не они, вскидывала руку в салюте и повторяла в такт ударам сердца: «Клянусь! Клянусь! Клянусь!»

Ксения Петербургская позвонит
Вечером накануне штурма вершины Эльбруса в альпинистской обвязке и шапке-петушке я кралась в знаменитый, нависший над пропастью сортир: делать тест на беременность. Убедиться, что рисковать по пути на высочайшую гору страны буду исключительно собой. К деревянному домику с окошком-сердечком горные туристы приходили фотографироваться. Самый романтичный туалет на Земле! Я переносила ботинки через сугробы и рассуждала: если залетела, поход псу под хвост. Приехать на Эльбрус, тренироваться, постепенно увеличивая высоту, вести тщеславный репортаж в Инстаграме, а на вершину так и не забраться! Потом представила себя тут же, через пятнадцать лет, рядом с голубоглазым подростком.
— Видишь сортир? — спрашиваю я. — Там я узнала о тебе.
— Вот гадость! — Он сдувает с обгоревшего лба чёлку: ему бы свалить за домики да покурить.
После манипуляции с тестом я с грохотом отворила деревянную дверь: кусочек пластика с единственной красной полоской улетел в бездну под Кавказским хребтом вместе с чуваком, которого на этот раз звали Кузей. Хохмачем и задирой. Моим несуществующим сыном. Пока, Кузя!
Сколько подростков я выдумала за последние пару лет? Пацанов, девчонок, одиннадцатилетних сорванцов и моих личных, рукотворных Пеппи Длинныйчулок? Вуди-алленовские диалоги, визг, вдохи, муж секундирует его первый бой, я зачитываю ей вслух Горчева: всё, что успевает мигнуть в сознании, пока белая поверхность теста проявляется неизменным результатом, уже тянет на сборник рассказов. По дороге к домику я ощутила запах освещенного солнцем снега. Всех этих детей не существует. А гора — вот она, манит пиком в восьми часах ходу. Она стерильно реальна, и уже утром зубья моих кошек вонзятся в её лысую макушку.
Когда альпинисты планируют штурм, их делят на группы по три-четыре человека. Каждую ведет отдельный гид, следит за всеобщим самочувствием. Если один человек из мини-группы не может или не хочет идти дальше, восхождение прерывается для всех. В горах все должны подчиняться лидеру. Среди нас были девчонки, которые трусили, а еще пара человек, у которых уже возникли физические проблемы, шла носом кровь или началась мигрень. Я открыто заявила, что планирую взойти и хотела бы быть в сильной группе. «Монстр ты, Танька!» — бросил кто-то. А что тут такого? Я готовилась, прошла акклиматизационные выходы в превосходном самочувствии… Почему какая-то клуша, которая не может разобраться со своими желаниями, должна сорвать мои планы?
После восхождения мы с альпинистами отмечали в кафешке, пили красное вино, ели мясо, напитывая тела кислородом. Гиды раздали всем маленькие значки «Альпинист России». Экран телефона с очередным поздравлением поплыл, и я выбралась на воздух. Эльбрус в сумерках был уже не великаном, а походил на сладкий торт «Панчо». Мои щёки пульсировали.
За уличным столиком, уткнувшись в телефон, сидел Кузя. Я опустилась на скамейку рядом с ним.
— Всё-таки остался?
— Что, простите? — Мальчишка дернулся.
— Сигаретки не будет? — Я щурилась, его лицо кружилось в пунше вечерних огоньков.
Подъем в час ночи. Собачий холод и ветер. Взрывная нагрузка. Спуск с высоты пять тысяч метров на две. Полбутылки красного вина. Хочу заметить, что не одна так напилась в тот вечер.
Ночью я услышала шепот: «Знаешь, почему я не остался? Увидел, как ты открещиваешься от слабачков». Жирный дым его сигареты окутал мою голову, дышать стало тяжело, как там, на высоте. Я закашлялась и нащупала на тумбочке аспирин. Села. В гостиничной комнатке было пусто.
«Галлюцинации в горах — дело житейское, — предупреждал рыжебородый гид Гриша. — Главное — вовремя разжижать кровь».
***
— Всё просто: души детей не летят к вам, — поясняет голос в трубке.
С Эльбруса прошло два года. Идиопатическое или необъяснимое бесплодие — это медицинский диагноз, который означает, что причины отсутствия беременности не выяснены.
На днях, за ужином в ресторане друзья рассказали о чумовой тётке, нумерологе. Пошутковали, но номерок я записала. Теперь, заперев дверь кабинета, чтоб никто из коллег не застукал меня за сомнительной коммуникацией, слушаю голос из трубки. Нумеролог продолжает:
— Злитесь много. На мать. На бывших. Души боятся.
— Что же делать?
— Надо приманить их. Стать доброй.
— Как это? — спрашиваю рассеянно: кто-то дёргает за ручку кабинета.
— Это вам и без меня должно быть известно.
***
Медсестра в фиолетовом костюме наклоняется и произносит:
— Татьяна Витальевна? Пойдемте.
Мы с мужем сидим на диване в клинике репродуктивной медицины. Сегодня важный день: подсадка эмбриона. В моё тело отправится единственный эмбрион, который дотянул до десятого дня, затем был подвергнут глубокой заморозке и тщательно протестирован.
Я не хотела знать пол, но, когда в почтовый ящик упало письмо с результатом генетической экспертизы, увидела XY и забыть уже не смогла.
— Будет кого тренировать, — говорю мужу. Сидим на скамейке около дома.
— Предпочитаю не думать об этом, — тихо произносит он. — Из четырех остался один. Ты ведь понимаешь, что это загубленные души?
— Брось! Давай имена придумывать.
— Таня, не стоит.
— Значит, я прохожу весь этот биохазард, а ты заявляешь, что мы губим души… Ты хотел детей!
— Я не знал, что всё будет… вот так.
Поднимаюсь со скамейки и хлопаю дверью парадной. Какого хрена? Вместо того чтобы меня поддерживать, он думает о том, как будет объясняться с батюшкой. В квартире швыряю кроссовки и вспоминаю про дурацкую необходимость быть доброй. На тумбочке мужа лежит зелёно-красная книга про Ксению Петербургскую. Юродивая смотрит на меня деревянным взглядом. Кто тебе сказал, что ему не нужно успокоение?
Когда медсестра приглашает меня на процедуру, муж остается на диване. Я оборачиваюсь и с улыбкой подношу кулак к его руке. Он бьет о мой кулак своим. Я не какая-нибудь нюня, которая лежит на плече у своего мужика, хлюпая носом. Мы желаем друг другу удачи, как настоящие пацаны.
— Каковы шансы на успех? — спросила я, подписывая договор на ЭКО пару месяцев назад.
— В вашем возрасте — сорок процентов. А вообще, этого никто не знает, — с извиняющейся улыбкой ответил врач.
В палате выдают рубище в цветочек. Переодеваюсь, и медсестра ведёт меня в процедурную. На входе уже ждет врач, лысый мужчина в очках. Взбираюсь в кресло, помещаю ноги на подставки. Свет приглушен. Справа от кресла в стене — небольшое окно. Доктор стучится в него. Окно раскрывается, оттуда показывается голова другого врача в шапочке и маске.
— Назовите себя, — обращается он ко мне. Называю. Повторяет фамилию и добавляет: «один эмбрион». Передает врачу шприц с длиннющей трубкой, по которой в мою матку сейчас отправят невидимого пассажира.
— Не волнуйтесь, — подбадривает меня врач.
Когда уже можно встать с кресла, тихо желает удачи.
В лифте смотрю на себя в зеркало. Взгляд уже поменялся? Залезаю в машину к мужу. Ближайшие две недели мне запрещены стрессы, алкоголь и спорт.
— Может, отпуск возьмешь? — предлагает муж.
— Доктор посоветовал жить, как будто ничего не происходит.
Как будто ничего не происходит, жить не получается. Еду за рулем и загадываю: «Если следующий трек Green Day, назову его Петей». Иду выбрасывать мусор, замечаю посреди песочницы забытый кем-то игрушечный красный джип и забираю его, отряхнув от пыли. Подарю сыну на совершеннолетие вместе с настоящим и в речи расскажу, как он решил остаться на земле только ради красной тачки. Гости захохочут, а я протяну ему руку и дам пять. Перед сном говорю себе: рано одушевлять! Иду в прихожую, беру с пола джип, выхожу на балкон и отправляю игрушку в дождь. В кровати дрожу, и муж растирает мне руки и ноги. Шепчет: «Так хочется верить, что всё получилось, да?» Молчу в ответ: кажется, если произнесу хоть слово, сразу станет больно.
— Сегодня задержусь, — говорю мужу на следующий день. — Мой текст будут разбирать на семинаре.
— Ты ведь нервничаешь от семинаров.
— Хочу отвлечься от ожидания, а там удачный рассказ. И я в нем уверена, — парирую я, а про себя добавляю: «в отличие от этого ребенка».
Вечером на мониторе появляются две головы мастеров, возглавляющих литературный семинар. В чате другие семинаристы приветствуют друг друга. Я тоже пишу весёлые слова, предвкушая похвалу. Один из мастеров берёт слово. Слушаю, что он говорит, и вскоре начинаю дышать во все горло. «Герои мертвые. Интриги не отыграны. Строители так не говорят. Признайтесь, Татьяна, вы же никогда не были на стройке?» «Была» — робко печатаю я в чат и одновременно читаю сообщения других семинаристов: «Мне тоже персонажи не понравились». «Все какие-то неприятные». «Недобрый текст».
— Я считаю вас перспективным автором, — подытоживает мастер. — Но, очевидно, в вашем творческом процессе что-то сломалось. Посмотрите в зеркало и спросите себя…
Жму крестик в правом углу экрана. Браузер, лица, реплики, голоса — всё схлопывается, и я остаюсь в кабинете одна. Тру свои щёки. Поднимаюсь из-за стола. Кнопкой вырубаю комп, беру сумку, надеваю куртку и спускаюсь по лестнице. Двумя этажами ниже, в пустом кабинете залезаю в стол коллеги, нахожу пачку сигарет и зажигалку. На улице жадно затягиваюсь. Скажите, пожалуйста, как сделать, чтобы душа, там, внутри меня, расслышала, не догадалась, что со мной что-то не так? Что у меня сломан творческий процесс, что я не умею отыгрывать интригу, что персонажи мои, да, что уж там, и я сама — мёртвые, недобрые люди?
Поднимаюсь домой в лифте, смотрю в свои покрасневшие глаза в зеркале и шепчу: «Господи, как мне стать доброй, чтобы этот захотел со мной остаться?»
Когда муж засыпает, выбираюсь из спальни, сажусь на диван у окна в большой комнате, смотрю на тёмно-коричневые крыши, поджав коленки под себя. Опускаю лоб на сложенные руки и тихо всхлипываю. Диванная подушка становится влажной, я время от времени затихаю, чтобы убедиться, что муж не проснулся. На всем свете только тёмный, похожий на сахарную трубочку купол церкви за окном знает меня такой. Закрываю глаза и прислушиваюсь к своему телу и сопоставляю. Я ведь знаю, как это. Как это, когда получилось. Это уже со мной было.
Мне восемнадцать, я оканчиваю первый курс и беременею от парня, с которым встречаюсь пару лет. Он говорит, что поддержит любое решение. Родители обещают тоже поддержать, но лучше всё-таки окончить университет. Советуюсь с подругами, собираю мнения и реплики, как учат собирать их для газетных репортажей. «Из текста надо вытравить себя! — кричит наш преподаватель. — Читателям плевать, что вы там думаете!» А я и не думаю ничего, я не знаю, что полагается думать и чувствовать по такому поводу. Мне нужно очень быстро определить своё будущее. И я определяю его, подбросив монетку.
— Я смогу потом иметь детей? — осведомляюсь я, подписывая договор на оказание услуги по прерыванию беременности.
— Этого никто не знает, — отвечает врач.
Сходив на процедуру, в тот же вечер пью пиво и пою Knocking on heaven’s door под гитару с друзьями. Ничего особенного не ощущаю. Тело хорошо помнит эти банальные первые признаки: легкую боль внизу живота да фоновую тошноту.
***
Утром целую мужа, умываю опухшее после своего бдения лицо. Еду на работу и следующую неделю стараюсь улыбаться, терпеливо внимаю душнарю-коллеге за обедом, в спор не лезу. Изо всех сил стараюсь хорошо себя вести перед тем, кто раздает людям детей. Медленно поднимаюсь по лестницам. Меньше говорю и больше слушаю. Пью воду. Не ем острое.
Результат анализа крови на ХГЧ застает меня на входе в офис. Решаю остаться на улице, медленно вдыхаю и выдыхаю несколько раз, как перед рывком в горах. Открываю файл. Меньше 0,0000001 %, расшифровка: не беременна.
Когда очень горько, любое вежливое слово, вот хоть от узбечки-продавщицы сигарет, мимолетная улыбка шофера в соседней машине, дружеский оттенок в интонации коллеги — мгновенно прикармливают, жадно поглощаются твоей душой. Словно окружающий мир не хочет отпускать тебя слишком далеко от берега и раскрывает навстречу хлипкие объятия.
Кидаю сообщение рыжебородому гиду Грише: теперь я смогу пойти на Казбек. На высоте следовать инструкциям обветренных людей, которые знают, куда ставить ногу, чтобы не улететь. С помощью силы воли заставлять свое тело делать то, что нужно.
Перед походом отправляюсь на Смоленское кладбище, к часовне Ксении Петербургской. Опускаю в железный ящик сочиненное для Ксении письмо, в котором во всех подробностях расписано, почему мы с мужем достойны стать родителями. Прижимаюсь лбом к стене часовни вместе с другими женщинами в платках. Силюсь получить какой-нибудь знак. Но ощущаю лишь каменный холод.
Потом иду на другую сторону Смоленки, на старую часть кладбища. Туда, где ни мой муж, ни Ксения, ни рыжебородый гид Гриша не увидят, как я сяду на покрытую пушистым изумрудным мхом могильную плиту и вопреки всем правилам подготовки к очередному походу или к очередной беременности, с удовольствием закурю.
Шарю взглядом по изломанным готическим памятникам. Может, кто-то из тех, кто здесь лежит, подскажет? Вы не видите, что я запуталась? Я забралась в размышлениях о том, почему у меня нет ребенка, так далеко, как не забиралась никогда. Пять лет ежемесячных, освидетельствованных кровью неудач, ЭКО, гормональная шиза — в то, что всё это я творю сама с собой, верить не хочется. Фигачить на пути к цели, а главное — непрерывно претворяться перед собой, что ты всего этого искренне хочешь. Что несуществующие люди стоят того.
— Если не хочешь детей, зачем их придумываешь? — спрашивает Кузя. — Письмо талантливое. Только автор из текста вытравлен. Её не проведешь.
Тушу бычок о поребрик и направляюсь к выходу с кладбища. По дороге нащупываю в кармане монетку и отправляю её вверх ногтем большого пальца. Будут у меня дети? Хлопком припечатываю кругляш к тыльной стороне кисти.
Смотрю на его блеск сквозь стылый василеостровский воздух и улыбаюсь.
— А ты хочешь? — Кузя толкает меня в плечо. — Только честно.
Я не знаю.

Между небом
Спустя сутки, проведенные в самолетах и аэропортах, весь мир сплетается в клубок коридоров и эскалаторов. Звенит металлическими голосами, объявляющими взлеты и посадки. Пристегните ремни. Найдите ближайший экстренный выход. Мир сжимается до узкого неудобного кресла, до дребезжащего подносика. Апельсиновый сок или яблочный? Просто лед в стакане, побольше льда, пожалуйста.
Спасительную капусту у меня отобрали на первой же пересадке в Фениксе, штат Аризона.
— Что это, мэм? — спросил, удивленно поморщившись, сотрудник службы безопасности, огромный, черный, белозубый.
— Салат, — промямлила я.
Английское слово «капуста» напрочь вылетело у меня из головы. Овощи провозить нельзя, и на рейсе до Филадельфии я мучительно сцеживаюсь, заперевшись в тесном туалете. Сижу, приложив к груди лед, завернутый в бумажные полотенца, пока стюардесса не начинает молотить в дверь: «Все в порядке, мэм?» Тогда я вытираю с живота белесые струйки тающего льда и выхожу. Все совсем, абсолютно, вовсе не в порядке.
В зале для встречающих аэропорта Бен Гурион я растерянно оглядываюсь. Раньше тут был мой дом, и я возвращалась сюда нехотя. Сегодня я прилетела чужая, и меньше, чем когда-либо, хотела здесь оказаться. Наконец замечаю Верку, как всегда, в самый нужный момент будто выросшую из-под земли.
— Какой приятный сюрприз! — кричу, на секунду забыв обо всем на свете.
— Сюрприз-то приятный, — бурчит Верка, — а новости плохие.
Она стискивает мою шею изо всех сил и уверенно трет где-то за ухом, пока я не начинаю снова дышать. Шепчет: «Пойдем покурим», — хватает мой чемодан и идет, разрезая толпу, не оглядываясь. Я спешу за ней. У меня простая задача — не отстать. Я автоматически делаю полшага вприпрыжку, правой-правой-левой, и иду с той же ноги, что она. Я всегда так делала в детстве, чтобы идти в ногу с мамой.
На парковке Верка сует мне в рот сигарету и подносит зажигалку. Я же бросила, думаю, и затягиваюсь. Сутки назад я катила свой оранжевый чемоданчик в сторону метро по спящей Ванкуверской улице, и представляла, что скажу маме по прилете. Она уже тогда была мертва. Я жадно затягиваюсь сигаретой, июльской израильской жарой, духотой бетонной парковки, снова и снова, пока не начинает кружиться голова.
Работница кладбища с криком «кто тут дочь?» подносит к моему подбородку огромные блестящие ножницы. Я отшатываюсь, но она ловким привычным движением надрезает мне ворот футболки. Выждав секунду, она раздраженно поясняет:
— Ты сама должна надорвать еще.
Футболка на мне Веркина.
— Это футболка подруги, — объясняю зачем-то, — я не знала, что их принято рвать.
Оптимизм или глупость — прилететь через полмира к смертельно больной матери, не захватив ни одной черной футболки? На короткий миг казенная маска на ее лице сменяется жалостью.
У Верки дома ее муж наливает мне водки.
— Зато у тебя есть дети, — говорит он. — В жизни должно быть равновесие, чего ты хотела?
Он имеет право так говорить, сам недавно похоронил мать. Я послушно пью, и он наливает снова. После второй рюмки наивная арифметика — у меня двое детей и ни одного родителя — кажется мне не только верной, но и почти утешительной.
Впрочем, папы у меня не было никогда. Он умер до моего рождения, умер всерьез — дома не было ни одной фотографии. Я подолгу разглядывала его ФИО в моем свидетельстве о рождении. На любого знакомого мужчину смотрела с надеждой. Пусть назовется заветным именем, наклонится, скажет: «Вот и моя Маняша!» — и закружит меня в воздухе. Я старательно вырисовывала в тетради наши инициалы. Мое имя-отчество, его имя.
— Мам, ты, выходя замуж, взяла папину фамилию? А почему у бабушки, твоей мамы, такая же?
— Совпадение. Наша фамилия распространенная, почти как Иванов.
Действительно, даже в классе у меня была однофамилица. Противная! А то бы я мечтала, что мы с ней сестры.
— Мам, кем был мой папа?
— Математиком.
— А какой он был?
— Хороший.
— Почему он умер?
— Попал под машину.
Память человеческая — как газ, заполняет все доступное ей пространство. Но пространство памяти, отведенное для папы, мне решительно нечем заполнить. Папа моей подруги Катьки тоже попал под машину и умер, но прежде он рассказывал анекдоты, пек блины и называл меня Матильда. Он водил нас с Катькой на море, закапывал в песок, подбрасывал вырывающихся и визжащих над водой. Однажды после развеселой возни, нахлебавшись морской воды до жжения в носу, я неосторожно поделилась с мамой — такое счастье иметь папу!
— Неужели ничего другого не было в твоей жизни счастливого?! — вспыхнула она. — Вспомни хоть что-нибудь, давай!
Я вспоминаю все счастливое, что было в моем детстве, перечитывая мамины дневники при свете синеватой лампы-звезды. Я ночую в комнате Веркиного сына на верхнем ярусе детской кровати, уткнувшись носом в щекотное зеленое пузо икеевского динозавра. Страницы дневников исписаны мелким, невыносимо похожим на мой собственный, почерком. Поспешно просматриваю ее подростковые откровения. Она мечтает стать актрисой, но робеет выйти на сцену. Мечтает писать книги, но не смеет, ведь в мире уже были Шекспир и Толстой. Обычные фантазии нерешительной, одинокой девчонки.
Я откладываю очередную тетрадь, беру следующую, листаю нетерпеливо и нахожу наконец заветные отцовские инициалы. Последняя запись сделана за неделю до нашего отъезда в Израиль: «Сегодня А.Я. зашел попрощаться. Маня тихо играла, не обращала на него внимания, и он не посмотрел в ее сторону. Не знаю, чего я ждала, на что надеялась».
Стараясь не шуршать, я аккуратно складываю все тетради обратно в черный мусорный пакет.
Всего семьдесят девять таких пакетов я вынесла из маминой квартиры. Я вполне понимаю древних людей, хоронившись вещи вместе с покойником. Когда я только зашла, мамина квартира выглядела так, будто ее обитатель выскочил ненадолго в магазин и вот-вот вернется. Как будто человек этот не падал на пол, не преодолевал ползком несколько метров до телефона, и его не увозили в последний раз на машине скорой помощи.
Я никому не отдам мамины вещи, никто и не увидит их даже. Здорово было бы залить квартиру бензином и поджечь. Вместо этого, я набиваю большие черные пакеты. Я могу унести по три за раз. Затаскиваю их бочком в дребезжащий лифт, выхожу из подъезда, под неодобрительные взгляды соседей иду направо за угол, к огромным металлическим бакам. Очередной пакет, набитый посудой, я предварительно бью с размаху о железный край контейнера. Пакет не рвется, он прочный, как шапочка для плавания, которую, готовясь застрелиться, надел Ромен Гари.
Каждому позвонившему я объясняю:
— Сегодня не стоит приезжать, здесь полно народу, а квартира маленькая. Может, в другой день?
Единственный, многажды заблудившись, приезжает из Иерусалима двоюродный дед. Он паркуется вплотную к дверям подъезда, но возмущенные соседи стерпят — на приборной панели у него знак «инвалид». Посуды больше нет, и я разливаю воду в одноразовые стаканы. Дядя Натан и раньше не пил из наших чашек, он слишком религиозен. Усаживаясь, он ерзает и кряхтит, пристраивая больную ногу. Потом достает из внутреннего кармана пиджака мятый блокнот, долго листает в поисках нужной страницы. Слюнявит карандаш и тщательно записывает адрес маминой могилы — район кладбища, ряд, номер. Дописав, перечитывает вслух, чтобы удостовериться. Блокнот его полон посмертными адресами родственников.
После его отъезда я покупаю банку кока-колы и пачку синего L&M в киоске через дорогу. Раньше я курила, потому что не верила в смерть. Мамин диагноз сделал умирание реальностью, и я испугалась. За год ее болезни защищавшая меня крепостная стена разрушалась по кирпичику и наконец пала. Я стою на самом краю бездны, беззащитная, взрослая, старшая, и снова не боюсь. У меня есть мамин адрес.
В последний вечер перед моим отлетом мы с Веркой долго ездим вдоль пустыря. С одного края он окаймлен стайкой новостроек, где живет Веркина семья. С другого обиженно скалится старый бедный район. Подходящее место — между прошлым и настоящим, убогостью и достатком. Верка паркуется, я достаю из багажника черный мусорный мешок, и мы взбираемся на песчаную насыпь. Неподалеку шумит невидимое море.
Огонь долго не занимается, ветер задувает едва зарождающуюся искру и норовит вырвать листки из моих рук. Колесико зажигалки раскалилось, я уже готова отчаяться, но наконец вспыхивает старый конверт. Я осторожно подкладываю в неторопливо разгорающийся костер письма, старые открытки и вырезки из журналов.
Верка смотрит на меня с тревогой и неодобрением. Будто ждет, что я передумаю и брошусь голыми руками спасать из огня полыхающие бумаги. «Ты хоть прочитала? — ужасалась она часом ранее, — давай я все для тебя сохраню, пожалеешь ведь потом». Сама категоричная и безапелляционная, Верка отказывает другим в праве принимать необратимые решения. Пламя разгорается увереннее. Я мотаю головой и кидаю в него толстые тетради дневников и напоследок фотографии — фотобумага горит хуже всего.
Возле Веркиной машины останавливается другая, с включенной мигалкой. Полноватый широкоплечий полицейский издали кричит: «Что происходит?» — а подойдя поближе, в недоумении хмурится. Он ожидал встретить малолетних хулиганов, а не нас с Веркой.
Я смотрю на него с вызовом. Десятки раз накануне я звонила отменить мамины счета или набирала ее приятельниц, и раз за разом вешала трубку. Сейчас я впервые произношу эти слова вслух, нажимая на каждое. Моя. Мама. Умерла.
— Мне очень жаль. — Он отходит по странной дуге, зачерпывая ботинком песок и, обернувшись у машины, добавляет: — Вы потом все потушите аккуратно, ладно?
Вскоре сине-красная мигалка скрывается за поворотом.
«Пока есть на свете непрочитанные слова, человек еще не вполне мертв», писал Ромен Гари. Я сжигаю последнюю записную книжку с именами и адресами. Последние написанные мамой буквы тлеют.
В аэропортах человек ближе к небу, а значит, даже атеист ближе к богу. Я шагаю теми же коридорами, будто отматываю назад кинопленку, будто возвращаюсь в прошлое. Расскажи я вчера Верке о том, что прочитала в маминых дневниках, и она из-под земли достала бы моего, оказывается, вполне живого отца. Но я потратила тридцать лет, пытаясь простить ему, что он умер. Я не хочу прощать ему то, что он на самом деле жив. Я прохожу из зала ожидания в салон самолета через залитый солнцем рукав. Это рукав, как и родовые пути, ведет из одного мира в другой. Интересно, похож ли он на коридор, ведущий от жизни к смерти?
февраль 2020

Моно Хло
Утренний ветер тихо проник в комнату, тронув край занавески, угол страницы. Окно показывает привычную картину — мир тихо наполняется светом. За ветками деревьев мерцают фары машин, ускоряются, исчезают. Теряют тепло фонари.
Занавес.
Кофе, цитата дня, ее новый ритуал. Что удивительно, случайная страница, строчки наугад — всегда в десятку.
…а что, если все эти библейские сюжеты призывают женщин не оборачиваться потому только, что они могут там что-то увидеть. Свою жизнь, например. Крис Краус.
Прохладная вода смывает улыбку. Свою жизнь… несокращенное имя… Куда делся хвостик я, когда? Сигаретку? Снова курю, уже без фонового раздражения. Дым уносит ночные кошмары, тебя, зачем ты приходишь, воду, снова воду, беспомощное трепыханье полумертвой рыбешки, пф-ф… Не вижу, не чую запаха весны…
Опустись на землю, Хло, на земле ты живешь, на земле. Он чувствовал, ее глаза повернуты внутрь бездонного иллюзорного мира. Он своего добился, поднялся в небо, а она брякнулась оземь. Какая драма. Несостоявшаяся актриса, просто хорошая жена мужу. А кто ты теперь?
С ней такое уже случалось. Стало больно ходить. Не пошла к врачу, впереди ждал рай. Европа, Кюкенхоф, море тюльпанов. Это была ужасная поездка, она одна, не чуя ступней, бегала мимо полян тюльпанов, нарциссов, крокусов, вверху облака цветущих вишен. А надо еще успеть съесть какой-то волшебный яблочный пирог, где это идиотское кафе, побывать на аукционе, посмотреть выставку орхидей, купить луковицы.
Не чуя ступней, вот оно, ступней не было. Только боль. Кстати, вовсе не тюльпаны ее поразили. Она впервые увидела деревья, растущие корнями вверх. И впервые поняла, каково это — жить, когда на тебя никто не смотрит. Ницше, кажется. Потом исчезла одна рука. С этим еще можно как-то существовать. Но с половиной, ох… Хорошо, левша. А как ходить? Костылю даже не на что опереться. Может, оторваться от пола? На миллиметр, еще чуть-чуть, на сантиметр. Хм, секретная левитация.
Мяса! Мяса! Будет, с кровью.
Врач: Мы называем это «с голову пионера». Почему вы не пришли раньше?
Пациент: Думал, еще есть время.
Много, много, много голов, длинный-длинный коридор голов перед преисподней. Черная река голов, черная-пречерная быль. Почему вы не пришли раньше? Не пришли… Будут — иссохшие губы, катетеры, трубки с мочой и кровью. И будет последний юбилей, корабль дураков, путешествие в Стокгольм — еще один удар под пустой дых и смертельная схватка с исчезающим телом.
Пропавшую часть тела надо скрывать. Пиджак оверсайз, камуфляжные штаны, перчатки, господи, кому ты нужна, шапка, очки. Все, пора лететь в мир, к глухим актерам. Но сначала к психотерапевту. Ты несешь домашнее задание — картинки, три ипостаси себя. Окаменевшая девочка с чашей для подаяния, девушка в черной смирительной рубашке и женщина в белом, с лотосом на голове и рогами в руках.
— О, да это больше похоже на корону!
— Корона есть. Не пользуюсь.
— Давайте сегодня попробуем одно упражнение. Вот стул, представьте, здесь сидит ваш муж. Что вы ему скажете?
Ты дрожишь, пытаешься повернуть вспять реки…
— Нет, не могу. Нет…
Кто ты теперь? Она пыталась! Вырастить новый глаз, ухо, руку, ногу, кожу. Во внешнем мире столько протезов. Можно прикрыться новой одеждой, смирение сменить на доспехи, шлейфы сетей с мертвыми рыбами на лисий хвост. Заполнить вакуум — книги, коучинги, ЖЖ, ФБ, слова, слова, слова. Обтекает, все мимо, киборг, безжизненный Голем.
Итак, мистерии, скромнее, малые. Как же изобразить на сцене ад нешаблонно? Хоспис советского образца? Опомнись, Федерико, это комедия! Камни скорби Деметры? Где-то в интернете видела развалины Элевсинского Храма. Надо с Серегой обсудить. Он, конечно, художник-самоделкин, но других нет. Ау, мечта о моноспектакле, ау, выход на сцену в белом платье. Эка боженька хло-пнул — знай свой шесток. Ты опять про монолог Гамлета? Нет, про монолог Хло.
— Послушайте, к вам приходят плакать… Дочке не хочу, она там же. Друзья испарились.
— А что с друзьями, поподробней?
— Своя жизнь, наверное. Или боятся, кусаюсь.
— Правда? А с виду…
— Пушистая? Мимикрирую. Кстати, вы заметили, что меня половина?
Психотерапевт смотрит озадаченно.
— Да, понимаю, половиной жить трудно. Через пять минут заканчиваем, попробуйте написать мужу письмо.
— Уже. В личку пишу, в фейсбуке.
Фойе.
Прежде чем идти на сцену, надо научиться играть. Но мои актеры не видят себя! Они приняли свои границы, не докричишься, жесты. Или переводчик, или приложение для слабослышащих в телефоне.
Печать: Почему вы здесь? Могли бы работать с настоящими актерами.
Голос: Не вижу разницы, они тоже не слышат. (Смех). Выполнили домашнее задание? Ну, продолжите, одним предложением — у меня есть слух и миллион долларов…
Печать: Построила бы приют для бездомных животных… куплю квартиру родителям… уютный пансионат для стариков… отдала бы деньги детям на операции по слуху…
А для себя? Честно? Хм, а ты всегда про себя… Милые мои, кто кого спасает?
Бросилась в психологию, плюнула на могилы родителей, простила, и что? Теперь в себе? Надо потратить уйму времени и денег, чтобы услышать — вы должны взять на себя ответственность. Ок, где взять? Не обучена. В лес, в дзен, прочь от себя. Восточные практики, ретриты, искусство счастья. Попутчица, нарушив «сакральную тишину», шепчет на ухо — какие-то они все убогие… Да нет, то же гнездо и птенцы — папа, мама, кушать, кушать, червяка, просветление. Теперь вам не остается ничего иного, как посмеяться. Мастер дзен.
Все, на сцену!
Нимфы жестами приглашают зрителей.
Сумрак зала, в глубине белеют остатки колонн, сверкающие в тумане острова. Лужайка Персефоны, где рыдает Деметра, грезится под софитами, внизу волнуется бездна скорбей, черное море голов. Подсвеченные застывшие лица, она идет, мимо, мимо, надгробья, даты из пункта А в Б. Хаос рождений, порядок смерти. Она идет по невидимому мосту, туда, к трону, сквозь отголоски борьбы Прометея, проклятия Эринний, стоны отчаяния Эдипа и неистовства Ореста. Где ее мимы? Где зрители? Смотрите, повешенный Один с выколотым его же вороном глазом. Сестра? Распятая на древе жизни, но отмоленная. Удалось? Спаслась? Тень отца, сгорбленная, но не укрощенная. Фантомы, не родившиеся близнецы-братья, без лиц, без имен. Мама, кого ты оплакиваешь, их, себя, всех нас? Актеры, мои актеры, где вы, ищущие посвящения? А где она, где Хло?
Персефона: Видеть себя, разве это возможно?
Эрос (возникнув из тьмы, надевает на голову Хло венок из нарциссов) жестами: Тот не поймет вполне и неба, кто не пройдет через земное и преисподнее.
Ладони вверх, беззвучные аплодисменты слабослышащих зрителей.
Персефона не понимает языка жестов. Преодолевая черные воды, Хло знает, чувствует, там он, похитивший ее Гадес. Пусть ответит за плен, смирительную рубашку, зависимость, за кухарку и за то, что бросил одну стареть, за все, за все. Пошел снег. В аду? Она не заказывала. Она идет. В центре, на ледяной глыбе развалившегося трона скульптура, согбенная фигура, спиной. Ох, полспины… Тоже половина, обоже. Не замечала, никогда не замечала. Пресловутая половина? Глупость, к черту! Но мы могли помочь друг другу. Да где там, она отчаянно отстаивала в себе богиню, а в нем бога…
Персефона (приближается к Гадесу, трогает за плечо): …не видела. Прости меня. Но и ты, признайся, не хотел, боялся видеть…
Гадес (не оборачиваясь): Иди дальше!
Персефона делает еще один шаг к мужу, проваливается в воронку льда, тонет, задыхается, глотает воду. Воздух, свежий воздух, покой, вдох-выдох, год, два. Как опустошить ум, не вспоминать, не рыдать беззвучно, вдох-выдох, еще год. Умру, сядешь и будешь писать. Да, ее моно без лого, ее поиск последней буковки имени… Все еще важно? Нет, уже нет. Вернуться, пусть в ад, еще раз, боже, пожалуйста, и посмотреть ему в глаза.
— Отразишься в моих зрачках? Вечер. Волнение свечи оживляет картину на стене — девушка над кронами корней дерева, с охваченными огнем крыльями, смотрит в окно дома. Хло открывает компьютер, страницы, сотни страниц с ее бесконечным монологом… Да, вот что пряталось… за маленькой я … Я… Я… Я…

Налицо. Автофикшн-комедия
В моей пьесе все играют в эпитафии. Сейчас объясню, что это.
<Играть в эпитафии очень просто, количество участников не ограничено, участникам не обязательно общаться друг с другом, достаточно на общей интерактивной доске водящему, а потом и всем остальным друг за другом записывать результаты. Водящим может быть любой игрок в тот или иной момент, им становится записавший исходную эпитафию. Правила изменения её каждый следующий участник придумывает сам, с каждой новой эпитафией они могут меняться. Или последовательность игроков и правила превращения эпитафий утверждаются постоянными. Как игроки договорятся между собой. Сведения берутся из соцсетей, запрещено использовать официальные некрологи из СМИ и извещения о смерти известных личностей, для источников сохраняется анонимность.>
Я уже не помню, в чём смысл — то ли играют все реально, то ли с ума схожу только я, представляя, как все в этом участвуют.
Рядом со мной в метро сидит пожилая женщина с седым начёсом под таким же седым пуховым платком. Ладно, это я к ней села. Она смотрит на меня неодобрительно — я без маски и прикрываюсь воротником, она даже гневно оглядывается в поисках, куда бы пересесть, а я думаю, что забыла тампоны, а у меня как раз сильные выделения. Я судмедэксперт. Это как патологоанатом, только по убийствам и травмам. Я каждый раз объясняю, в чём отличия, и поправляю, а потом не обращаю внимания: даже врачи не все различают, кто мы такие.
<ВИКА — в расцвете подросткового кризиса — моя дочь
АНДРЕЙ — Викин старший сводный брат — всегда немного взвинчен — не мой сын
ОЛЯ — я — Викина мама — разведена
ВАДИК — любовник Оли, то есть мой — хороший человек
НАТАША — девушка Андрея — москвичка>
Я написала книгу про свою работу, а ещё пьесу. Пятеро действующих лиц и замкнутое пространство, наша квартира. Про нашу семью. Настоящая комедия, обхохочешься. Пережив изоляцию, мы вновь попали в локдаун. Долго объяснять подробности. Примерно так: в нашу двушку вселяется сын моего первого мужа от его первого брака, не спрашивайте.
В текст влезли исправления, я дописывала что-то на обороте распечатанных листов, ставила стрелки и специальные значки в кружочках. Вместо сцен родились смерти, пронумерованные, как страницы.
<Смерть первая.
Наша двушка давно просит ремонта, перед рождением Вики мы немного подправили коридор и туалет с ванной. Нанесли на стены светлые жидкие обои, которые теперь из-за нарушений технологии вспучились и потрескались, как засохшая земля в пустыне. Подцепляешь ногтем, и вулкан разрывается длинными линиями во все стороны, между стеной и кусками обоев образуются лакуны, и кажется, если заглянуть, там будет напихан обычный подростковый мусор — фантики, обёртки, неудавшиеся фигурки из туалетной бумаги, может быть, даже сплющенные бутылки. Я стараюсь заталкивать отвалившиеся пластины на место, но обои от этого ломаются ещё сильнее и проваливаются в углубления, так что в прорехи виден сиротливый бетон. А уцелевшие куски у нас разрисованы.
ОЛЯ (с телефоном — дзынькают сообщения — читает). Блядь — совсем охерел. (Набирает номер — слышно «абонент не отвечает»). Какого хуя ты не отвечаешь — сука. (Снова набирает — «абонент недоступен». Пишет в ответ).
В коридоре остался один свободный от надписей угол, раньше там стояла Викина коляска, а потом велотренажёр, который очень удобно использовать вместо вешалки. Тренажёр отдали, даже заплатили грузчикам, чтобы его вынесли, а за ним открылась голая стена. В прошлом году во время пандемии я начала ставить там зарубки. Смертей вокруг столько, что я теряю их и записываю, чтобы не забыть. Составляю книгу мёртвых, возвращаю им жизнь.
Эпитафия: «Вчера умер дедушка, Сергей Александрович. Дедуля, прости за всё». Цель игры — заменить смертные слова: глаголы, существительные, что угодно. Результат всегда непредсказуем.
Это сообщение попалось мне в Фейсбуке, я переходила и переходила по комментариям и ссылкам, блуждала по профилям и даже не помню, у кого увидела эту запись. Случайный человек, случайный дед. Деду, наверное, положено было, надеюсь, он настоящий старик.>
Мёртвые окружают меня, смерть моя работа. Лаборантка Настя с розовыми волосами и разноцветными татуировками стучит блестящими стилетами под мою диктовку: «На правой верхней и левой нижней конечностях клеёнчатые бирки с надписью “Попов Сергей Александрович”». Многоточие, командую я. Настя воплощённый цвет в обители скорби. Давно работает, опыт, сохранила настойчивое любопытство. «От чего он умер, доктор?» — Так и представляю её подручной на ведьминском шабаше.
<ОЛЯ. У нас проблема.
ВАДИК. И.
Вадик очень рассудительный, принимает решения, давно привык держать себя в тонусе и не любит раскисать, это его способ, но этим-то он меня и бесит.
Мы как раз встретились все в разрисованном коридоре. Три этажа наскальных росписей. Самый нижний, у пола, это Викины рисунки, куда мог дотянуться ребёнок двух-трёх лет. Повыше родительские каракули. Мы упоённо расписывали чистые стены, прикрываясь образом просвещённых родителей, показывали дочери традиционную взрослую мазню — условные кошечки-собачки, непропорциональные человечки, символизирующие нашу счастливую семью, и гигантские овощи и фрукты больше человечков. Вика постепенно утратила интерес к дозволенному рисованию на стенах, мы тоже как будто увидели себя со стороны и устыдились. На свободных местах, а потом поверх наших рисунков рисовали наши друзья, кто приходил в гости. Маркерами, мелками, с восторгом, с сюжетами и историями, целые комиксы и картины.
ВИКА поднимает глаза и даже вытаскивает один наушник.
Способ дочери переживать не очень хорошие времена — отстраниться. Она меня бесит сейчас, как и Вадик. Бесят их имена на одну и ту же букву. Я смотрю в стену, чтобы не сорваться, знаю, что лучше смотреть собеседнику в глаза, что с ребёнком нужно общаться открыто и прямо, но не могу себя заставить — уткнулась в довольно натуралистичного мужчину, который замахивается монтировкой.
ОЛЯ. Нам жить негде.
ВИКА. В смысле.
ВАДИК. Действительно — в смысле. А здесь.>
Содержательный диалог, ничего не скажешь. Интонации повествовательные, поэтому записываю с точкой. Обратили внимание, что мы мало задаём вопросов в последнее время. Это, кстати, тоже вопрос. Мы говорим, как будто утверждаем, хотя очень хочется спросить, растормошить, вынуть мысли и вывернуть собеседника. На вопросы способны маленькие дети, требовательные и непримиримые, и подростки, но подростки спрашивают как-то иначе, как будто заранее готовы к обороне, не доверяют родителям и сами выбирают для себя экспертов.
<ОЛЯ. А здесь будет жить Викин сводный брат.
ВИКА. Где он будет здесь жить.
ОЛЯ. Вот что непонятного — Вик. Вот прям здесь и будет. Он здесь прописан — ты помнишь.
ВАДИК. Он тебе звонил. Или Рубцов сказал.
ОЛЯ. Нет — он не отвечает — по WhatsApp написал.
ВИКА. А папе ты сказала.>
Удивительная черта у дочери — разошлись с мужем уже несколько лет как, а последняя инстанция для неё всё равно отец. Кто не воспитывает и не заставляет сваливать грязные трусы в корзину — корзина, сука, стоит в ванной, а до ванной ещё надо дойти, идти же так невыносимо — тот и герой.
<ОЛЯ. Я же говорю — он мне и написал. Папа.
ВИКА. Ты звонила ему.
ОЛЯ. Ты слушаешь вообще. Звонила — папа не отвечает. Вот — на.
ВАДИК. Вик — мама же сказала — папа в WhatsApp написал.
ВИКА. Так позвони ему.
ОЛЯ. Господи — да не отвечает он — сама звони.
ВАДИК. Так — стоп — давайте успокоимся.
ВИКА. Я не буду звонить.
ВАДИК. Что он написал.
ОЛЯ. Что Андрей теперь будет жить здесь. Он здесь прописан — это его законное право — квартира двухкомнатная.
ВИКА. А мы где будем. Я что — буду жить с Андреем.
ВАДИК. Так — понятно — мне надо собирать вещи.
ОЛЯ. Вик — ну с чего ты будешь с Андреем. Мы с тобой вместе будем.
ВИКА. У меня что — не будет своей комнаты.
ОЛЯ. Вика — блин — а у меня будет своя.
ВАДИК. Ну там — месяц — другой. Я у матери перекантуюсь. А там видно будет.
ВИКА. А куда чердак мой. На нём Андрей спать будет. Чердак мой — стол — шкаф.
ОЛЯ. А я здесь — что — одна останусь. Без тебя.
ВИКА. Ма — а где мы кушать будем.
ОЛЯ. На кухне — где ж ещё.
ВАДИК. Ты не одна — с Викой. Я приезжать буду. Помотаюсь туда-сюда. Какое-то время.
ВИКА. А как я на кухню выходить буду — когда он дома.
ОЛЯ. Вик — не городи чушь — а. Как ты сейчас выходишь.>
Бесконечный диалог без конца и начала, попробуйте: его можно вставить в любое место в тексте, переписать наоборот, поменять реплики местами, отдать реплики другим персонажам, перепутать имена — и ничего не изменится.
Как мои герои, я пишу в WhatsApp, пишу в чат учителю. Про мальчика, который доводит всех в классе моей дочери, который агрессивен, который на учёте у социального педагога, а скоро ему предстоит коррекционная комиссия, и уже не школьная, а потом на учёт в полиции. Дочь присылает три видео из класса, где все орут, кто-то замахивается стулом, кто-то отбирает чужие вещи, все бегают и кричат. Я не люблю жаловаться — ябедничать из детства худшее слово, тем более что я частенько этим занималась. Я пишу, получаю суровый ответ про коррекционную комиссию, и теперь эти слова выскакивают на меня каждый раз, как я открываю WhatsApp. Выйти из чата. Открыть Заметки.
<Я с трудом представляю себе в одной квартире мою девочку и взрослого мужчину, которому двадцать один или двадцать три, не важно. Как будто идёшь в метро, а перед тобой ноги: обычные ноги в чёрных капроновых колготках, но икры слишком разработаны, и щиколотки непропорционально тонкие, и очень короткая юбка в складку, которая разлетается при каждом шаге, выставляя ноги напоказ. И ноги застят глаза, и дальше ты видишь уже другие ноги, но только ноги, повсюду: толстые, бесформенные, узкие, с лишними выемками, если сложить их вместе — треугольные, сужающиеся книзу, или косолапые, разные.
Я давно уже не заходила к дочери в ванную, когда она моется, а если мне приходится что-то подать ей, например, полотенце, я встречаю задёрнутую шторку, а из-за неё высунутую говорящую голову. Мы иногда обсуждаем с Вадиком взросление Вики, у Вадика есть своя, той уже двадцать пять, он всё проходил.
Делаю заметку — не забыть рассказать про историю картинки на стене.>
Не забыть рассказать про моего отца. И про что-то ещё, забыла. Забыла я — или Оля из пьесы. Тоже, кстати, вопрос.
Я писала на маке, потом передумала и начала заново в Заметках на телефоне, но IOS такая система, что всё синхронизировано, так что в айфоне открылся файл, я вырезаю оттуда куски, вставляю сюда, слетает форматирование, курсив и выделение.
Днём я работаю в морге, а вечерами в библиотеке в Бобровом переулке. Поднимаюсь сегодня на четвёртый, в наш отдел, а там охранник суп варит. Рядом кухня. Навстречу коллега. Прости, сегодня здесь дурно пахнет. И натягивает маску на нос. Охранник приехал в Москву на заработки, ночует в библиотеке по три дня, вахта, ездит в Дмитров, а уж откуда он в Дмитров попал — боюсь переспрашивать. Он говорил мне, он много со мной разговаривает, а я его плохо понимаю, он плохо говорит по-русски. В библиотеке пусто: библиотека открыта, но читателей нет. Только кажется, что сейчас взлетит суп на плите. Охранник ходит туда-сюда, с первого на четвёртый, следит за ним, я приоткрываю крышку, чтобы бульон не сбежал.
Диалоги в пьесе выглядят длинно, я зачёркиваю их. Много места занимают имена персонажей, я убираю их, оставляю только реплики.
<ОЛЯ. Кто готовит — кто убирается. Вот как ты — Вика — по дому ничего не делаешь — не получилось бы. Сам не уберёшь — никто не уберёт — не постирает. И стиральной машинки — не было. На руках стирали. Да всё же сами. И окна помыть — и обои переклеивали.
Я не сильна в нравоучениях, нечего и начинать. Хотела бы побыть подростком вместо дочери. Чтобы понимали или пытались понять. Я спрашиваю себя, откуда у меня это материнское понимание, как оно выросло, что есть оно на самом деле. Понимание или родительский инфантилизм. Чувствую все её проблемы, как будто происходит это со мной. Как будто я проживаю непрожитый свой, пропущенный подростковый опыт, навёрстываю. Только я начинаю анализировать, сразу закрываюсь и злюсь. На Вику, естественно.
Эпитафия: «Вчера родился мой дедушка, Сергей Александрович. Дедуля, прости за всё». Это простенько, но очень актуально. Я играю сама с собой, но представляю, что со мной вместе играют мои близкие. Хочу, чтобы у книги мёртвых было много авторов. Полифония, многоголосие, каждая смерть заслуживает нескольких голосов. Думаю так: по-моему, написала Вика, обычно она рвётся играть вторая, после присоединяется Вадик. Я вожу. Я всегда вожу и играю сама с собой. Если мне не нравится, что я придумала, я представляю, что это придумали Вика или Вадик.>
Всё, что произошло в пьесе, неправда, но всё, что должно было случиться с нами на самом деле, никакой не вымысел. Для меня это уже не имеет значения. Гораздо важнее, что я забыла тампоны. Или что у охранника может убежать суп. Мужчина в метро облокачивается на поручень у дверей и проваливается локтем в мою сторону. Они стоят втроём, качаются, локоть нависает перед моим лицом. Один поправляет яйца прямо на уровне моих глаз. И я ничего не могу сказать им. Я вижу страх в красных обветренных руках, покрытых цыпками, в коротких куртках, в широких порах на носу у одного — свой страх. Слава богу, через одну мне выходить. Станция метро Текстильщики.
<А если обсудить другие варианты. Разделить — разъехаться — продать. Им долю отдать — пусть выписываются.
Да — боже ты мой — я Рубцову всё написала. Он не хочет со мной разговаривать. Им не нужны никакие варианты. А Рубцова вообще ничего не интересует — разбирайтесь сами.
Да уж — квартирный вопрос их испортил.
А теперь и нас испортит.
Мы прожили весь карантин в этой двушке втроём. Слава богу, мы с Вадиком оба врачи, судебно-медицинские эксперты, не лечим, мёртвых вскрываем, выходили из дома, работали — морги не закрывались — но сразу же возвращались обратно, никуда не ездили и не ходили — некуда было. Дома целиком сидели всего лишь один раз, один месяц, когда получили положительный тест, началось всё с Вадика, потом Вика присоединилась, а у меня все тесты были отрицательные, но пропало обоняние. Люблю слово аносмия. И болела я одна из них троих. И вот теперь карантин закончился, а у нас как будто начинается заново в извращённых условиях. Разнополые взрослые и дети в ограниченном пространстве.
Ну-ну — посмотрим — как оно будет — прорвёмся — я думаю — как-нибудь.
Как мы втроём в одной комнате будем. Ты представляешь себе — ну как. Господи — да что ж за жизнь-то такая. Только вроде устаканилось — Вика подрастает — мы с тобой вот. Ты не представляешь — как это для меня важно — Вадик — как вот мы с тобой живём — ты такой хороший.
Мы с ним редко говорим друг другу откровенные комплименты, это не в правилах нашего сожительства — да, именно так оно называется на языке полицейских протоколов и допросов. Гражданский брак — это когда вы пошли и зарегистрировались в ЗАГСе, а мы просто живём вместе, правда, для краткости я всем говорю, что это мой муж. Правила сложились сами собой за годы жизни и всех устраивают.
Говори — говори ещё — чего замолчала. Так — Оль — только не плачь — пожалуйста — я пошутил.
А я не пошутила.
Ненавижу сокращения имён в речи, и никуда от них не деться, все эти Вик, Саш, Оль, Ир, есть же счастливые имена, которые нельзя сократить. Андрей, например. Тьфу. Теперь это имя нарицательное. Наша изоляция после изоляции, последствия пандемии в одной отдельно взятой семье.
Эпитафия: «Вчера сбежал мой дедушка, Сергей Александрович. Дедуля, прости за всё». Тоже так себе вариант.
Я тебя — с одной стороны — понимаю — а с другой. Были бы мы ещё с тобой вдвоём — можно — конечно — было бы у меня жить — нам вдвоём одной комнаты хватило бы. А теперь — видишь — мои своих женихов-невест привели. Да и с Викой то же самое получается всё равно. Ты только не думай — пожалуйста — если здесь будет совсем невмоготу — мы — естественно — все туда уедем. Там — конечно — как-нибудь разместимся — а уж потом решим — куда дальше.>
Убогая устная речь, засорена вводными словами, лишними частицами и междометьями — кстати, почему мне захотелось написать междометья через мягкий знак, а не через «и». Все наши спотыкания и кружения вокруг смыслов, настоящих смыслов, только подчёркивают заикание устной речи. Стоит пойти преподавать лет на двадцать, чтобы говорить аккуратно поставленными фразами. В таких фразах бесспорная правота, никуда от неё не деться.
<Да — наверно — ты прав — конечно — надо хотя бы месяц посмотреть — попробовать. Ты — как всегда — прав — но ни хрена от этого не легче.>
Я вымарываю имена персонажей, запутываясь сама, запутывая других. Что, собственно, случилось. Пишу в телефоне, это снимает важность и серьёзность процесса. К нам просто заехал чужой мужчина, мы просто перестали выходить из комнаты. Смерть стала привычкой. Что есть отсутствие — это, говорит словарь, ненахождение налицо в данном месте. Смерть присутствует с нами и сопровождает нас, но смерть и есть ненахождение налицо, как же тогда она всё время может отсутствовать с нами.
И неожиданно в историю приходит бокс. Когда вокруг сгущается коммунальный ад. Нечего листать сториз в Instagram, когда пишешь. Прошлое напоминает о себе. У знакомого боксёра была девушка, блондинка, похожая на Уму Турман, с четвёртым размером груди. Он шутил над ней, просил встать в стойку и показывал пацанам, как она руки перед грудью свести не может. Не хватает того секса, в ванной с красным вином по накурке, когда останавливалось сердце. Плоская равнина и молчаливое согласие. Неужто, чтобы отвечать на насилие и притеснения, нужно видеть, как откусили ухо или хотя бы как кровь заливает глаза из рассечённой брови.
ВИКА. Папа а что АНДРЕЙ будет с нами жить
РУБЦОВ. да,поживет
ВИКА. ему жить негде
ВИКА. я его не знаю
ВИКА. где он до этого ЖИЛ
РУБЦОВ. это его квартира
ВИКА. я его ни разу ни видела
РУБЦОВ. маленькая была,не помниш
ВИКА. Я ЕГО НЕКОГДА НЕ ВИДЕЛА
РУБЦОВ. познакометесь
ВИКА. дай его телефон
Бесспорная правота красивой речи не облегчает диалог. Орфографические и пунктуационные ошибки путь к пониманию и обретению своих.>
Текст прорастает в текст, вытесняет пьесу, между диалогами врезаются пояснения по ходу действия, а вокруг налезают друг на друга записки, как я всё это пишу. Метатекст из неудачной драмы, которая не получилась два года назад и ничего не выиграла на Любимовке. Какая разница, получится сейчас.
<ВИКА. превет)я твоя сестра))
АНДРЕЙ. о привет.это твой номер Я запишу>
Я много думаю о смерти, я всегда думаю о смерти. Я считаю смерть красивой. Усыплённое быстрым концом, мирное тело со спокойно закрытыми глазами так же прекрасно, как копошащиеся опарыши в разверстом рте. Как трёхлетняя мумия в кресле. Как сто двадцать три колото-резаных. Смерть в больших городах отняли у женщин — ей занимаются мужчины. Большие мужчины перетаскивают ваши трупы, вскрывают их, моют, красят, одевают и закапывают в землю. Женщины выписывают счета, женщины заполняют бумаги, выстраивают логистику от кладбища до кафе, готовят поминальные обеды, но почти не касаются тел.
Разложение — это свобода, повторяю я слова из чужой книги лаборантке Насте. Только оно нам и осталось. Настя работает в элитном морге и никогда гнилых не видела.
<Эпитафия: «Вчера сторчался мой дедушка, Сергей Александрович. Дедуля, прости за всё». Это точно может быть только Викин вариант, на злобу дня, так сказать, я не встраиваю активно проблему наркотиков в свой мир, я, как судмедэксперт, хорошо знаю, как это выглядит, но период активного увлечения наркоманской эстетикой прошёл, она навсегда со мной.
ВИКА, КСЮША.
Я вижу их из окна, они толкутся на карусели, голова к голове, уткнулись в телефон, открываю окно, у нас очень жарко топят в этом году — смеются. У нас такой двор со странной акустикой, или это вообще особенность всех дворов, на нашем четвёртом очень хорошо слышно, что делается внизу, все голоса и разговоры. На крыльце стоит Андрей, тот самый. Я видела его очень давно, но сейчас легко узнаю. Только что звонил домофон, я не открыла. Слышу в форточку, не всё разборчиво.
АНДРЕЙ (посматривает на девчонок, у него звонит телефон). Нет — не попал — домофон не отвечает. Ну — ничего — вечером. Или завтра. Да — да дозвонюсь я — дозвонюсь. Ну не завтра — в другой день. Куда мы торопимся. Хорош — Наташ — правда — орать — всё. Ну ничего же страшного — всё — не будем ругаться. Да — да — а то. Обнимашки.
ВИКА, КСЮША по-дурацки смеются.
Наверняка они говорят про своё любимое аниме, Вика смотрит непрерывно, даже начала учить японский по какому-то мобильному приложению. Иногда меня накрывает чувство вины, что я её не слушаю. Может быть, это не так, может быть, я слушаю её, но ей, как подростку, всего мало или кажется, что мать должна слушать как-то по-другому, но я уверена, что она жалуется на меня лучшей подруге. Сама не знаю, откуда у меня эта уверенность. С Вадиком они особо не общаются, иногда подъёбывают друг друга, ругаются, иногда объединяются, чтобы подъебнуть меня.
Из окна, прикрывшись шторой, наблюдаю странную мизансцену. Вика вроде попрощалась с Ксюшей, идёт к подъезду, тут же за ней ринулся Андрей. Я готова вмешаться. Какая-то заминка внизу, возвращается Ксюша, они заходят в подъезд все втроём. Слышу гул вызванного лифта, слышу топот, смех. Все трое на нашем этаже. Я выключила свет в коридоре и давно уже тихо стою у дверного глазка, не шевелясь, чтобы в глазок не видно было смены освещения — как будто в квартире просто темно и никого нет. Мне страшно, на площадке мужчина, которому я хотела устроить коммунальный ад, а я чувствую, как вспотели подмышки, как пропиталась футболка.
ВИКА, которая собиралась открыть дверь, просто стоит.
Я, как маленькая девчонка, тоже просто стою за дверью. Дышу. Стучит сердце — о, экстрасистолы пошли. Профдеформация: когда меня врачи спросят про жалобы, я тут же полностью доложу status praesens, как учили в институте.
АНДРЕЙ. Кажется — мы в одну квартиру. Вы здесь живёте.
ВИКА. Нет — мы не здесь живём. Пойдём спускаться.
Андрей симпатичный, блондин, но не слащавый. Худой, но высокий, лёгкая стрижка, кеды — в такой-то мороз, как в этом году, на машине, значит, приехал. Толстовка, куртка, телефон вертит в руках.
АНДРЕЙ. А мне как раз хозяев этой квартиры.
Я пришёл к вам с миром. Ещё руки, раскрытые ладонями вверх, протяни.
Эпитафия: «Вчера выпил мой дедушка, Сергей Александрович. Дедуля, прости за всё». Так и слышу, как произносят эту корявую фразу с акцентом, больше, наверное, к случаю подойдёт — с прибалтийским. Лучше бы, конечно, вчера выпили моего дедушку.
Молчаливое топтание, девчонки спускаются вниз, Андрей уезжает на лифте.
Пока Вика открывала дверь, я успела притвориться спящей, в одежде залезла под одеяло и накрылась почти с головой. Вика после школы сходила в магазин, принесла сок, «Фрутеллу», мороженое и фанту. Долго сидела рядом со мной, я почти задохнулась под одеялом, рассказывала, как они с Ксюшей спамят своими аниме в группу, где весь их класс, как Артур бесится, потому что не любит аниме. Вдруг спросила, что такое восстановленный яблочный сок, а когда я объяснила ей, спросила, откуда я это знаю, я даже растерялась. Наши источники знания в современном мире. Не хотелось бы называть только один интернет.>
<Смерть вторая.
Вика присылает мне ночью скрин переписки с Андреем, читаю утром, глаз дёргается от ошибок. Ненавижу короткие сообщения по одному слову. Число слов 9429, 9430, 9431. Я фиксирую, а с каждой фиксацией прибавляется на одно слово больше. Ненавижу чётные числа: число страниц 28, знаков с пробелами 60296.
Ты в каком классе учишься
В пятом
А или б. Или в
Я в г учился когда в 5м.там школа была на соседней улице. Карьера.
Знаю. Есть
Ты чё там учился. Она же платная.
ага. Там
Ага платная. Бабушка платила. Я ни учился ни фига, вот бабка меня туда и засунула. Думала лучче будет.
И как
Что как
Помогло.
Учится. Ни фига ни помогло.
А сейчас ты в институте
три смайлика
Отчислили после первой сессии. Учеба это не мое)))
и не мое тоже
ну блин без школы никак. Терпи) половину уже все) того) прошла
А где ты работаешь.
по разному. Так,работаю
Ты во сколько встаешь?
а ты
В 7, а мама в 6
8 выходим
Не я пожже
Эпитафия: это уже было, вырезать.>
От смерти меня морозит. В животе, где желудок, раздувается твёрдый ком, сижу в кресле в тёплой бабушкиной кофте из овечьей шерсти, пот льётся под мышками и по спине, озноб и жарко одновременно. Взяла больничный, недели на три легко можно растянуть. Шерсть пропитывается потом и пахнет мокрой псиной. Несите пино нуар, это его запах. Я несколько раз переодеваюсь, шевелю замёрзшими пальцами в носках, запахиваю крепче кофту. С каждым трупом на работе делаю охотничью стойку — я родилась в городе, откуда это во мне. Смерть дарует молчание и говорит языком тела. Мы навесили ярлыки на смертные знаки и заглушили молчание. Отобрали свободу умирать и — перестали видеть. Отделили смерть от тела и запретили телам разлагаться.
<ОЛЯ (говорит очень тихо, еле слышно). Ну что здесь. Господи — дверцу снесли же. Что за свинство такое.
НАТАША. А можно вас попросить не кричать так. Очень громко. Несите сюда. Не проходит — разворачивайте.
ОЛЯ (отворачивается к двери в свою комнату). Как это разворачивайте. Вы что — не видите — там шкаф стоит.
НАТАША. Сами виноваты — не убрали. Знали же — что приедем — Андрей предупреждал.
ОЛЯ (заходит в комнату, выглядывает из-за двери). Куда же я должна была его убрать. Куда можно убрать огромный угловой шкаф.
НАТАША. Меня это не очень интересует. Дальше тащите.
ОЛЯ (молча смотрит на всё из-за двери).
НАТАША. По очень простому праву — обычному такому — знаете — праву. Мы живём здесь.
ОЛЯ (шёпотом). Андрей.
НАТАША. Мы. С Андреем.>
Когда ты прожил весь карантин, не думая о жилье и законах, карантин заканчивается, и твоё положение заканчивается тоже. По нынешним законам несовершеннолетние дети могут находиться с любым из родителей, присутствие матери не обязательно, наверняка они это знают, но, находясь в выгодном положении, даже не считают нужным прижимать меня полностью, и это бесит ещё сильнее. Со мной можно не бороться, со мной не нужно считаться. Я точно не человек для них, не врач, не писатель. И какое имеет значение, что у тебя вышла книга, если ты родился за две тысячи километров.
<Эпитафия: «Вчера умер Пётр. Он долго мучился, рак печени, операция. Мы забрали его домой уже вечером, а ночью он умер».
НАТАША. Вот и находитесь. А то полицию вызову — что вы не даёте вселиться. Законами пугать не нужно.
ОЛЯ (уходит в комнату, оставляет приоткрытой дверь).
НАТАША. Мне прописка здесь не нужна. Законами меня не пугайте — я юридический закончила. Очнитесь. Я москвичка. И не обязана пребывать только строго исключительно по месту регистрации.
ОЛЯ (выглядывает, молчит, снова прячется в комнате и тихо закрывает за собой дверь).
НАТАША. Слушайте — я вам ещё раз повторяю. Я буду здесь находиться — когда захочу. Хоть в двадцать три — хоть до двадцать три — хоть после. Зайдите в свою комнату и не мешайте. Мебель перетаскивать.
Входит АНДРЕЙ.
НАТАША. О — Андрей — присоединяйся. У нас тут имущественно-пространственные споры.
АНДРЕЙ. Ну какие могут быть уже споры — Наташ. Мы ещё даже не въехали — ну.
ОЛЯ (выглядывает на шум).
АНДРЕЙ. Оль — ну всё решится постепенно — давайте не обострять. Шкаф сломали. Сорян — не хотели.
Кажется, я начинаю понимать этого молодого мужчину, который имеет право, но не хочет ничего решать и пытается обойтись без конфликтов. Это отличное умение — обходиться без конфликтов. Обесценивать события, имеющие смысл для других людей. Хотя в глобальном смысле он, безусловно, прав. Какое значение имеет этот чёртов шкаф.
НАТАША. Да что этот шкаф. Ты здесь прописан — а извиняешься.
АНДРЕЙ. Ну — я думаю — у нас у всех тут будет новая жизнь. Все шкафы всунем.
ОЛЯ (опять скрывается за дверью).
АНДРЕЙ. И чё усложнять. Всем мир — всё решим.
Знаешь, я в таких условиях предпочитаю, чтоб мои трусы с моими тарелками были, а не с чужими трусами.
Ненавижу своё просыпающееся бытовое занудство, такие же слова про трусы и тарелки говорил мой дядя, когда я жила в общаге. Пространство в пару квадратов, но своё. Утыкаюсь в картинку с монтировкой. Ещё жили с мужем, Викиным отцом, он уехал на дачу, он все отпуска проводил только на даче. Я работала и собиралась лететь к маме в Челябинск, я оттуда, забирать дочь после лета, она была ещё маленькая тогда, любила ездить к бабушке, сейчас не загонишь. Жара, я одна в квартире, знакомый парниша с работы, младше меня на восемь лет, зовёт купаться в Покровское-Стрешнево, я еду сразу после работы, без купальника, я не умею плавать, мальчики таскают меня за собой. Ночевать все ко мне, у меня свободные спальные места, я живу рядом с работой. От метро берём такси. Водитель, таджик, врубает музон на полную, его жигули вот-вот проскрипят днищем по асфальту, он гонит, выжимает скорость, мы просим сбавить, он ухмыляется и поддаёт ещё газа, мы орём, доезжаем живыми и отказываемся платить. Он бегает за нами с монтировкой по двору, наконец ребятам удаётся успокоить его. Без драки. Мы расходимся.
Эпитафия: «Вчера выжил Пётр. Он долго мучился, рак печени, операция. Мы забрали его домой уже вечером, а ночью он выжил». Мне хочется, чтобы это Вадик написал, мне хочется, чтобы мудрость пришла от него. Мне страшно от этой надписи. Страшно выжить.>
Как будто ты идёшь от автобусной остановки к метро и впереди мужчина, высокий, большой и с чёрными кудрями. Ты пытаешься его обогнать, а он смещается из стороны в сторону и теснит тебя, ты торопишься и вот вроде бы уже прошла между двумя столбами, которые ставят специально, чтобы машины не заезжали на тротуар, а он всё равно проходит раньше, не видя никого из-за своих широких плеч, и ты не вписываешься в проход, и отстаёшь, и недоумённо оглядываешься на жизнь.
<ВИКА, ОЛЯ дома. Поздно. Приходят АНДРЕЙ с НАТАШЕЙ, они, видимо, пьяны, говорят громко.
НАТАША. Ой — тихо как на кладбище. А где соседи.
АНДРЕЙ. Зая — да фиг с ними.
НАТАША. Расстегнуть не могу.
НАТАША. Блин — чё ты сделал — совсем запуталась. Чё делать теперь.
АНДРЕЙ. Так стащим — потом разберёмся.
Однажды к нам в общагу пришёл мой дядя, принёс шампанского, потом сбегал ещё, потом ребят в коридоре подцепил, ещё попросил сбегать. Я, говорит, хочу посмотреть, какие вы, девчонки, пьяные будете. А наутро к соседке прикатили родители полки делать. Помню их глаза и ровный ряд пустых бутылок в коридоре.
ОЛЯ (подходит к закрытой двери в комнате, тихо говорит двери). Вы на часы вообще смотрели. Перестаньте орать на весь дом.
НАТАША. Ваших любимых двадцати трёх ещё нет.
А в двадцать три вам вообще уезжать отсюда. Через двадцать минут, кстати. Так что можете не раздеваться. Иногда я бываю банальна и предсказуема.
А вы мне не указывайте — вы здесь никто — я уже говорила — и законами не пугайте.
Всем тшшш — не ссорьтесь. Оль — ты здесь живёшь — вот и живи. И мы здесь жить будем.
ОЛЯ (продолжает говорить с дверью). Я здесь живу — потому что дети не могут жить без родителей.
Слушай — отец пустил тебя сюда — вот и.
ОЛЯ (еле слышно). Отцу твоему плевать на всё и на всех.
Вот и хрен с ним. Зай — пошли — я сниму с тебя эту куртку со всем вместе.
О — вот это ты умеешь лучше всего.
Эпитафия: «Вчера умер Пётр. Он долго мучился, рак печени, операция. Мы забрали его домой уже вечером, а ночью он умер». Я дописываю продолжение: мы оставили в больнице его одного на несколько дней, мы ходили к нему, а он не видел и не чувствовал нас, наш бедный маленький котик, беги на свою кошачью радугу.
ОЛЯ с ВИКОЙ в комнате, из соседней комнаты всё время какой-то шум, вскрики.
ВИКА. Ма — они когда уедут куда-нибудь.
ОЛЯ. Вик— ну о чём ты — они не уедут — они живут здесь.
ВИКА. Чё они так орут. Иди скажи им. Они чё — не знают — что тут люди живут. Уже поздно — спать ложатся.
ОЛЯ. Я говорила — я уже ходила.
ВИКА. Мама, ты здесь была. Как ты ходила. Как.
ОЛЯ. А что как. Как самой орать и скакать по квартире среди ночи — когда мы с Вадиком тебя просим — тебе пофигу. После работы тишины хочется — а у тебя самые половецкие пляски начинаются.
ВИКА. Ма — смотри — ма — смотри — чё нашла (Показывает ОЛЕ мемы в телефоне.). Чё — не смешно — что ли.
ОЛЯ. Это тебе смешно — ты героев знаешь и понимаешь — где смеяться. А я не смотрела — тысячу раз тебе повторяла. Почему мне должно быть смешно.
Каждый день стараюсь слушать её, говорить с ней, слушать все рассказы про аниме, хотя мне, честно, трудно запомнить названия и имена. Кажется, что я взорвусь от них. Она так и запомнит меня — не слушающей, отвернувшейся. Попробуйте, поживите в шкуре подростка. Мы все были лишены этой привилегии, взрослые знали, что нам нужно, чего должно хотеться и что нам делать. Взрослые знали всё за нас. Ваши дети — ваша возможность пережить детство заново и заново помучиться подростковым экзистенциализмом. Но вы же и эту возможность проебёте.
ВИКА. Ма — ма — ма — вот — на — слушай — смотри — щас — вот — слушай — ма. (Вставляет Оле в ухо наушник). Нравится. Прислать тебе.
ОЛЯ. Нет — я такие не люблю — не надо. И вообще. Иди в душ — давай — спать надо ложиться.
ВИКА. Я попозже.
ОЛЯ. Ага — а завтра опять не встанешь.
ВИКА. Не — мам — я встану — мам — правда — встану — я попозже пойду.
ОЛЯ. Вика. Ты меня слышишь.
ВИКА. А. Что. Да.
ВИКА, ОЛЯ смотрят друг на друга молча.
ВИКА. Ма — а принеси мне бутер. Пазязяяя.
ОЛЯ. Вик — ну спать собрались — ты есть.
ВИКА. С мёдом. Ну пожалуйста.
ОЛЯ. Ладно.
ОЛЯ подходит к двери, выглядывает в коридор, слышит шум и тут же захлопывает дверь. Стоит.
ВИКА (думает, что осталась одна в комнате, в наушниках, с телефоном, что-то читает, смеётся, потом танцует. Бегает, скачет по комнате, потом останавливается перед матерью, смеётся). Оооо. А где бутер. Я царь — я бог — всемогущий — кланяйся передо мной.
ОЛЯ. Русский-то кто учить будет. Кланяйся кому — мне.
ВИКА. Я тупой, я тупой.
ОЛЯ, ВИКА обнимаются.
Эпитафия: «Вчера кот Пётр. Он долго мучился, рак печени, операция. Мы забрали его домой уже вечером, а ночью он кот». Котиков любят все.
Прорывается ритмичный шум, вскрики — судя по всему, АНДРЕЙ с НАТАШЕЙ занимаются сексом.
ОЛЯ. О господи. Да что за свинство такое.
ВИКА. Они что там — совсем ничего не понимают. Мы спать ложимся. Мам — скажи им.
ОЛЯ. Я говорила — а что толку.
ВИКА. Ну в стенку постучи — пусть им там потолок на голову обвалится. Вообще в полицию позвони.
Простая мысль про полицию, про правила совместного проживания даже не пришла мне в голову, после карантина мне кажется, что всегда было так, что мы всегда сидели друг у друга на головах. Дети чувствуют больше. Я постучала по трубе, в ответ прилетел такой же злобный стук от соседей выше или ниже, а я не могла решиться постучать в дверь к нашим коммунальным соседям.
Шум прекращается на время, потом продолжается вновь.
ВИКА. Мам — и чё делать теперь.
ОЛЯ. Ничего — спать ложиться.
ВИКА. Я в душ не пойду. Утром. Я встану завтра — мам. Правда — я встану — чесслово.
ОЛЯ. Ты встать-то не можешь — по полчаса я кругами вокруг хожу — сама раньше встаю — чтоб тебя разбудить — а тут в душ утром. Да — давай — ходи чушкой грязной. Ты же девочка — на мальчиков уже посматриваешь — а мальчики над тобой же смеяться будут. Ты же целый день ходила-бегала — потела — от тебя же потом вонять будет. Мальчикам понравится — что ли.
ВИКА. То есть ты меня сейчас вонючей назвала. Ты думаешь, это понравится. Обидно — знаешь ли.
ОЛЯ. Вика — я не называла тебя вонючей. Ты не так меня услышала.
ВИКА. Всё я так услышала. Я лучше знаю — что я услышала.
ОЛЯ. А я лучше знаю — что я говорила. Всё — надоело — даже не начинай.
ВИКА. Хорошо — ты не хочешь со мной разговаривать — так и скажи — я буду молчать.
ОЛЯ. Вик — давай спать — а. Ну пожалуйста. Пожалуйста.
ВИКА. Мам — да. Я не буду сейчас никуда выходить из комнаты.
ОЛЯ. Я тоже.
Что я могла ей сказать. Она была права, это её подростковый способ проживать ситуацию, не выходить из комнаты.
Укладываются спать. Через некоторое время.
ВИКА (что-то бормочет во сне). Съездить на новом трамвае… поделки своих музеев… (Плачет).
ОЛЯ. Вик. Ты чего. Что случилось. Иди ко мне. Ну иди — иди. Иди — обниму.
ВИКА забирается к матери в кровать.
<Смерть третья.
Эпитафия: «У меня умерла мама. Помогите, кто чем может». Вадика нет, я продолжаю: «У меня сбежала мама». Больше всего мне хочется сбежать.
ВИКА. Привет
АНДРЕЙ. Привет
АНДРЕЙ. Поздно. Чё не спишь
ВИКА. Не спица
ВИКА. А ты
АНДРЕЙ. Мне можно))) я не в школу
ВИКА. Заснуть не могла
АНДРЕЙ. Почему
ВИКА. Вапще та вы мешали
АНДРЕЙ. А мы чего
АНДРЕЙ. Мы сами уже спать легли
ВИКА. Очень шумно
АНДРЕЙ. Стены наверно тонкие
ВИКА. Да. Здесь все хорошо слышно. У нас за стенкой другой соседи телик смотрят и слышно
АНДРЕЙ. ниче се
ВИКА. А у меня 98 подпасчиков в инсте
АНДРЕЙ. Круто
ВИКА. А ты есть в инстаграме
АНДРЕЙ. Нее
ВИКА. А где есть
АНДРЕЙ. Я в контакте
АНДРЕЙ. Но я не хожу туда давно
ВИКА. А я делаю ретроак
ВИКА. Вот смотри ссылка
ВИКА. Андрей
ВИКА. Спишь
ВИКА. Спокойной ночи
ВИКА, ОЛЯ дома. ВИКА сидит в телефоне, в наушниках. ОЛЯ с ноутбуком. Они сидят так весь день. Когда кому-то нужно выйти в туалет, сначала прислушиваются к звукам за дверью, выглядывают, выходят, если никого нет. ОЛЯ сопровождает ВИКУ.>
Мы занесли в комнату кошкин лоток, теперь ей удобно — всё рядом, и пожрать, и посрать. Ненавижу это слово, но чувствую, что не могу написать другое. В голову лезут экскременты и опорожниться, а кошка просто переходит от миски с кормом к миске с водой, а потом и к лотку. Всегда поражалась и залипала на моменте, как можно изогнуться, чтобы вылизывать свой зад. Вадик зовёт кошку Гельминтой, она тонкая и звонкая, корниш-рекс, живот переходит во внутреннюю поверхность бёдер, а потом всё вместе заканчивается двумя гладкими, без шерсти, щуплыми окорочками с дырками посредине. Мне всегда хочется ущипнуть её за эти вызывающе откровенные части тела. Кошачья порнография. Домашние животные идеал погребения. В саду под яблоней, чтобы превратиться в компост, в горшке с фикусом, под окнами в углу газона. Сжечь и развеять. Без грима и бальзамирования, искреннее прощание и светлое горе. Где нет сюжета, есть смерть.
<ОЛЯ (разговаривает по телефону). Нина Фёдоровна, а вам не кажется, что это мы сами обсудим. Нет. Я не буду делать так, как вы хотите. Если бы ваш сын проживал здесь со своими детьми, пусть он сюда возвращается и живёт. Тест на ДНК. Делайте, делайте. Что хотите. Ага, не ваша внучка. Только вы материал для исследования у Вики возьмёте, а я на вас в суд подам. За моральный ущерб. Незаконное изъятие у несовершеннолетнего. А я согласия не дам. Согласие отца легко обжаловать. Он с дочерью не живёт, интересов её не представляет.
ВИКА. Я тебя ненавижу. Я тебя удалю везде. И больше не приходи к нам.
РУБЦОВ. Что случилось
ВИКА. А я не твоя дочь.
ВИКА. Ты никто.
РУБЦОВ. Даша че ты несешь.
ВИКА. Это баба нина сказала
РУБЦОВ. Бабушка просто очень переживает
ВИКА. Ага щас
РУБЦОВ. Ну сказала глупость в серцах че ты
ВИКА. Ага сказала глупость.а че она так сказала.я вас всех не хочу видеть
РУБЦОВ. Вика хватит. Мать твоя там истерики катает. Ты еще
ВИКА. А зачем она тагда анализ делает
РУБЦОВ. Кто. Какой анализ.
ВИКА. Днк
РУБЦОВ. Кто делает.
ВИКА. Баба нина
РУБЦОВ. да ну она ниче не делает. Мама там твоя воду мутит
ВИКА. Я больше с вами не опщаюсь
РУБЦОВ. Да идите вы все нах, дастали мозг выносить
ОЛЯ (разговаривает по телефону почти одновременно с ВИКИНОЙ перепиской). Слушай, я, конечно, всё понимаю, но твоя мать охерела окончательно. Она теперь заявила, что Вика не её внучка и она сделает анализ ДНК. Даа. Это ты считаешь, бабушка просто перенервничала. Вы там все охуели, что ли, на почве коронавируса. Только мать твоя сумасшедшая пусть не лезет сюда больше. Андрюше, как папе, насрать на всех, а вот тётку-то так и выживем. А я буду говорить, у нас с тобой дочь общая. Я перед ней вот в этом виновата, да, очень виновата, что в отцы ей такого выбрала. Ах ты, сука. Трубку бросил. Ну и хер с тобой.
АНДРЕЙ. Привет систр
ВИКА. Привет
АНДРЕЙ. Че за крики там были
ВИКА. Мама с твоей бабушкой ругалась
АНДРЕЙ. Аа ну бабка может
АНДРЕЙ. Она до меня знаешь как докапывалась
ВИКА. Когда
АНДРЕЙ. Да ваще. Особено когда я у нее жил много
АНДРЕЙ. много злобных смайликов
ВИКА. А ты не дома жил
АНДРЕЙ. У бабушки жил. У тети жил. У Наташи жил.
ВИКА. И чего
АНДРЕЙ. ДАСТАЛИ ОНИ ВСЕ
АНДРЕЙ. Вериш
АНДРЕЙ. Режим какой то, туда не ходи, сюда не седи
ВИКА. Ну это родители меня так тоже достают
АНДРЕЙ. Вот я и сбежал сюда
АНДРЕЙ. К вам
АНДРЕЙ. С вами догаворится можно
АНДРЕЙ. И никто не дастает
ВИКА. Эт мама тебя не трогает
АНДРЕЙ. А тебя
ВИКА. А мне указывает постояно и вопще меня не слушает
ВИКА. Я ей говорю всё, шутки разные, музыку присылаю а она вечно я это не смотрю
АНДРЕЙ. Ну взрослым не интересно
АНДРЕЙ. У них свои темы
ВИКА. Хочешь опенинг из первого сезона послушать
АНДРЕЙ. Давай
АНДРЕЙ. Ты заходи может
ВИКА. Не, мама не пустит
АНДРЕЙ. Я со своей почти не разговариваю.так иногда про погоду))
АНДРЕЙ. Думал здесь новая жизнь начнется без всех этих родаков
ВИКА. Тебе опенинг понравился. Все пока,мама теляфон забирает, мне уроки делать
АНДРЕЙ. Пока.
АНДРЕЙ. Завтра побалтаем
Этой сцены не было, но я представляю, что она обязательно должна была произойти, это навязчивая вера в неприятности.
АНДРЕЙ просыпается от грохота. Выглядывает, видит прячущуюся ВИКУ. Стучит к ВИКЕ. За дверью шорох, который прекращается тут же.
АНДРЕЙ. Вик. Ты не в школе. Оль — вы дома. Что там у вас.
АНДРЕЙ проделывает всякие действия, какие обычно совершают после пробуждения.
АНДРЕЙ (звонит кому-то). Привет — бро. Какие новости. Ничего. Опять ничего. Печалька. Лан — я на связи. Окей. Не — дома.
АНДРЕЙ бродит по квартире, ВИКА в комнате, периодически выглядывает, стоит у двери, наготове, чтобы выбежать.
АНДРЕЙ (стучит к ВИКЕ). Вик. Я слышал — ты дома. Ты чё не в школе-то. Вик — я не кусаюсь — выходи. Мы ж с тобой познакомились вроде. Ну окей.
АНДРЕЙ у себя в комнате. ВИКА проскальзывает на кухню, дверь в комнату АНДРЕЯ случайно открывается.
АНДРЕЙ. О Викуся — заходи — заходи. Чё — не в школе. Прогуливаешь. Или заболела.
ВИКА. Ну. Мама на домашнее обучение переводит. А ты уходишь.
АНДРЕЙ. Я. Не — не собирался пока. Хотя — может — попозже и пойду. Выйду. А ты чё — совсем школу терпеть не можешь.
Моё воображение можно упрекнуть в недостоверности. Вряд ли подросток с грузом всех комплексов и проблем доверится первому встречному. Вспомните себя. Вы готовы были вывалить на того, кто согласился, даже не согласился, а сам предложил с вами разговаривать, вы готовы были вывалить на него всё самое больное, чем стыдно поделиться даже с подружками. Девочка, которая год просидела дома из-за пандемии, которая всё время провела в малогабаритной двушке с матерью и отчимом, которую так подставил отец, её невольный романтический герой, на эту роль совсем в реальности не подходящий. Я бы на месте дочери бросилась к кому угодно.
ВИКА. Ну да.
АНДРЕЙ. Ну сорян — систр. Я вот отучился.
ВИКА. Мама говорит, на домашнем обучении сейчас будет лучше, надо дома посидеть.
АНДРЕЙ. А это как.
ВИКА. Контрольные только в школе писать. Экзамены. Приходить туда.
АНДРЕЙ. И вообще больше не ходить.
ВИКА. Неа.
АНДРЕЙ. Круто. А учиться дома самому.
ВИКА. Ага.
АНДРЕЙ. Дома одному учить не айс.
ВИКА. Айс — это лёд.
АНДРЕЙ. Ну выражение есть такое. Не айс. Типа не круто.
ВИКА. Ну чего, я пошутила.
АНДРЕЙ. В школе списать можно — не самому. Дружбаны там.
ВИКА. Мне списать не дают.
АНДРЕЙ. Вот суки. Упс — сорян. А подружки есть.
ВИКА. Да — Ксеша.
АНДРЕЙ. И чё вы с ней?
ВИКА. Аниме смотрим. Манга читаем. Ну — это запись аниме на бумаге.
АНДРЕЙ. Эт я знаю.
ВИКА. А ещё мы с ней в группе спамим. И обещаем — короче — убить всех — кто не любит аниме.
АНДРЕЙ. А у вас все любят аниме.
ВИКА. Не — тока мы с Ксешей.
АНДРЕЙ. Я не смотрю аниме.
ВИКА. Мы вчера всю группу заспамили — мемов накидали.
АНДРЕЙ. И чё вам было после этого.
ВИКА. Пока ничё. Вот тут — короче — смотри.
Читают вместе, смеются.
Здесь я всегда замираю: от ревности, от мучительной родительской злобы, здесь фантазия скачет вперёд и придумывает самые неожиданные и изощрённые последствия. Успокаивают эпитафии.
Эпитафия: «У меня унесла мама. Помогите, кто чем может». Или: «Меня унесла мама. Помогите, кто чем несёт».
ВИКА. Эпичненько так.
Звонок ВИКЕ по ватсапу. ОЛИНО лицо, ВИКА выключает, ОЛЯ перезванивает.
АНДРЕЙ. О, это ж мама твоя.
ВИКА. Ну.
ВИКА уходит к себе, слышно, разговаривает с кем-то.
АНДРЕЙ. А у тебя друг есть.
ВИКА. Не — нету. Мне никто не нравится.
АНДРЕЙ. Чё — совсем никто.
ВИКА. Да ну — дураки они все какие-то.
АНДРЕЙ. Вика — да чё ты — ещё понравятся.
Приходит НАТАША.
НАТАША. О — ты уже с малолетками развлекаешься.
АНДРЕЙ. Наташ — хорош — ты чё. Это ж сестра моя. Младшая.
ВИКА. Я пойду. Пока.
АНДРЕЙ. А — пока — пока — увидимся — лады.
НАТАША. И когда это вы с ней увидитесь.
АНДРЕЙ. Зай — ну чё ты — чесслово — правда — а. Ну не начинай — зая. Девочка тут вот вообще ни причём. Ну мир же — обнимашки.
На этом месте я даже благодарна этой нахальной девице, которую не могу полюбить. И снова звоню дочери.>
Отец ушёл от нас, когда мне было два, я мечтала о нём, любила мать, а мечтала до дрожи об отце. От кого-то он знал про Вику. Мать выходила замуж ещё раз, я даже писала рассказ об отчиме, неумелый и сентиментальный. Как он рисовал меня ручкой в тетради, а я хранила потом этот рисунок, но всё равно потеряла. Это история, которую я хотела рассказать об отце. Отец умер, когда я была в Москве, я отказалась от мизерного наследства — одной какой-то доли в квартире в Челябинске, у меня ещё есть два брата, мы не общаемся. Плакала о том, чего не было и не будет уже никогда.
Не могу в этом году убрать ёлку. Гирлянда перемигивается с засохшими ирисами, тюльпаны раскрылись, мы собираемся с мужем в Дагестан, Вика останется с любимой соседкой Настей. Ёлка стала невидимой, частью окружающего пейзажа, привычно объезжаю её пылесосом, дёрганый музыкальный бык начинает извергать громкие и рубленые мелодии вперемешку со словами. Дед Мороз в пыли, бусы съехали гурьбой на нижние ветки. Как будто разодранная подарочная упаковка никак не утонет в луже талого снега, держится одним углом за истончившийся лёд.
Я бесконечно кипячу чайник, пью чай и ставлю тире и точки. Тире вместо всех знаков, упростить прямую речь, убрать кавычки и двоеточия. Тире в разных программах на компьютере и телефоне делится на две коротких чёрточки или сливается в правильный редакторский знак. Жизнь пунктиром. Между отсутствием налицо. Между смертями. Хороним птичек, котиков, собачек, сыновей, родителей. Шестьдесят улиток засохли и подкрались белёсой плёнкой, раковины изъедены самим временем, останки их даже перестали вонять, грунт безжизненно серый.
Прочитала, что Угаров презирал тире — или, может быть, ненавидел. Прочитала и забыла, где прочитала, не могу найти пост. Предлагал упростить точку и сомневался в запятой. А я люблю настоящие длинные редакторские тире — вместо всех запятых. Надо отправить текст на Любимовку. Тире слепят глаза. Слепая смерть. Смерть начинает сюжет.
<ВАДИК. Вик — я тебя сколько раз просил убирать за собой. Давай иди сюда. Вон — собери мусор. И кружку за собой.
ВИКА. Щас — у меня не десять рук.
ВАДИК Перестань огрызаться — я не мама тебе. Сок весь выпила.
ВИКА. Да.
ВАДИК. А пакет кто выбросит. В одну кучу собери мусор и выкини. Ты телефон-то положи. И наушники. Не украдёт никто.
ОЛЯ. Да что ж это такое — господи.
ВИКА. Мам — чего. Мама. Что.
ОЛЯ. Слушай — мы живём в одной комнате. Понимаешь. В одной. Все. Не надо превращать её в свинарник.
ВИКА. А почему мы здесь все.
ОЛЯ. Чего — не поняла.
ВИКА. Почему мы все втроём в одной комнате.
ВАДИК. Вик — я понял — ты меня имеешь в виду. Но — если ты заметила — мы живём с твоей мамой вместе. Если ты видишь — я так же хожу в магазин — еду готовлю.
ОЛЯ. Вика — ты сейчас про что вообще. Подзабыла опять — кто здесь кто.
ВИКА. А это не наш дом.
ОЛЯ. Да нас и так отсюда выжить пытаются. Видимо — в конце концов получится.
ВАДИК. Вика — я не позволю тебе таким тоном разговаривать с матерью. Ты — сопля зелёная — со взрослыми так говорить.
ОЛЯ. А давай по-честному. Это не наш дом — это твой дом. Мы сейчас с Вадиком собираемся и уходим. Мы найдём — где жить — а ты оставайся. С братиком и с папашей. Вот и живи с ними. А они тебя отсюда окончательно выживут. Наглая тварь.
ВИКА. Мама — мама — не уходи. Пожалуйста. Мама. Я уберу всё. Сейчас уберу. Не уходи — мама — не надо.>
Заусенцы ободраны, кошка живёт в покрывале на кресле, мы не заправляем постель. Домашнее обучение и отпуск за свой счёт. Пока на три месяца, потом посмотрим. Я вместо репетиторов, на них денег нет, кошку перевели на корм подешевле, она блюёт каждый день и закапывает в покрывало. Ёлка стоит, контейнер с мёртвыми улитками тоже. Разложение даёт свободу, неприбранная плоть предъявляет счёт. По гамбургскому счёту. Зачем ты пишешь этот бесконечный текст, и это ещё не конец. Не можешь остановиться. Пустые кожные складки под кошкиным животом светятся на солнце. Хочется, чтобы о нас сказали словами из какой-нибудь книги — ищу эпитафию для одиноких матери и дочери, скончавшихся в одной комнате, из которой они не выходили со времён пандемии. Хороший был бы конец.
<Трёхактная структура, последнее усложнение перед кульминацией и медленным занавесом: скандалы с жильцами, с дочерью, с любовником, Олю переклинивает, она считает, что дочь принадлежит ей, стала её собственностью, засаживает Вику в комнате, сама сидит с ней, расстаётся с Вадиком. Вика поначалу переписывается с одноклассниками, над ней издеваются, потом удаляют из общей группы. Оля ничего этого не замечает.>
Ты нечаянно зависаешь, как будто пришёл с работы, собрал тряпкой крошки со стола, образовал из них кучку поближе к краю, а потом отвлёкся, оставил тряпку и крошки тут же. И всё время так.
Скобки потерялись, курсив тоже пропал. Слышен шум.
НАТАША. Андрей — да ты что — господи. Помогите.
ОЛЯ выбегает в коридор, дверь в другую комнату открыта, АНДРЕЙ лежит на кровати, НАТАША его трясёт, АНДРЕЙ никак не реагирует.
ОЛЯ. Что случилось.
НАТАША. Да не знаю я. Без сознания.
ОЛЯ. Он хоть дышит. Пульс там. Есть.
НАТАША. Дышит. Дышит.
ОЛЯ. Воды надо холодной. Нашатыря нет у нас. По щекам похлестать надо.
НАТАША. Скорую — сейчас. (Отходит, звонит).
В глубине где-то раздаётся телефонный звонок.
ОЛЯ. Ой — это мой. Вот — блин —не успела.
Звонок в дверь, входят врачи скорой помощи. Врачи осматривают АНДРЕЯ.
Врачей не было в моей пьесе, они пришли сами. И заменили эпитафии, потому что несут за собой смерть. Они возят её повсюду в машине «03» и раздают нуждающимся. Прописывают как таблетки, как успокоительные и антидепрессанты. Они забирают с собой всех: Андрея, деда Александра Сергеевича, котика Петра и чью-то безымянную маму.
ВРАЧИ. Так. Что случилось. Сколько без сознания.
НАТАША. Да я пришла недавно — думала — он спит — а потом он захрипел так — я к нему — а он не отзывается.
ВРАЧИ. Так — баловался чем-то. Ну — говорите — если знаете. Что принимал.
НАТАША. Ну — мет нюхал иногда — но мы с ним давно договорились — что он закончил. Он перестал уже.
ОЛЯ. Он наркоман. И он здесь вместе — в одной квартире — с Викой. Господи — какой кошмар. Это же полный.
ВИКА. Мамочка — успокойся — пожалуйста — со мной всё в порядке.
ОЛЯ. Ага — не случилось. То-то я всё время думаю — чего он на взводе на каком-то.
ВРАЧИ. Документы есть его.
НАТАША. Да — сейчас. А куда его.
ВРАЧИ. В Склиф — в токсикологию.
Врачи поправляют: Сергея Александровича. Есть ли разница.
АНДРЕЯ уносят врачи, НАТАША уходит за ними.
Звонок в дверь, врывается ВАДИК, какие-то люди, соседи, школьники, видимо, Викины одноклассники, высокий молодой мужчина проталкивается через толпу подростков. За ним семенит дородная женщина в костюме и с указкой. Они говорят хором, кричат: про домашнее обучение, которое никакое не обучение, про важность социализации для детей после пандемии, важность живого присутствия в школе. Невольная дихотомия вырисовывается: живое присутствие — онлайн-отсутствие, ненахождение налицо. ВАДИК что-то кричит, что нельзя добровольно замуровывать себя, ВИКА, наверное, плачет, я не вижу её, она ушла в комнату и закрыла дверь. Женщина в костюме тихо, но очень внятно, как будто перекрикивая всех, говорит про летний лагерь.
Какие утопические мечты отправить подростка в лагерь. Вика была там один раз, подружилась с девочкой Настей, мать которой сидит за наркоту, а отец недавно вышел, по той же статье. Лагерь в Ступинском районе, ехать на электричке, потом автобусом, которого я ни разу не видела, или такси. Проезжаешь через деревню Петрово, несколько сотен метров, и ворота. Настя жила в Петрово. Когда Вика садилась в автобус, чтобы ехать домой, Настя повезла свой чемоданчик по обочине, пошла домой к бабушке. У Насти было витилиго, нежно-розовая кожа вокруг пятен и светлые смешливые глаза. Похоже, она была самой настоящей во всём лагере.
Когда это было? Кажется, лет пять назад.
У охранника в библиотеке варится свёкла, горячий землистый запах, поднимается пар.
Я у зеркала в ванной, наклонилась над раковиной, полоскала рот, струйка слюны повисла на подбородке, я не стираю её. Где я. Пьеса пришла в жизнь. Скобки потерялись.
ИНСТРУКЦИЯ
ВАДИК. Заседание двадцать третье. Продолжение обсуждения общих вопросов, зачитывание постановлений по общим вопросам, принятых на предыдущих собраниях, обсуждение частных вопросов. Итак.
ОЛЯ тянет руку.
ВАДИК. Ты опять про наркотики. Мы уже всё решили, обсудили, ты же помнишь, все меры приняли, целая сцена была.
ОЛЯ. Её вычеркнули.
ВАДИК. И правильно, что вычеркнули. Для пьесы уже не интересно, развели здесь. Итак.
АНДРЕЙ. Правила внутреннего распорядка. Обязательны для исполнения всеми жильцами данного помещения — квартиры двухкомнатной, сорок два квадратных метра общая площадь, жилая тридцать один.
ВИКА. Исходные характеристики. Район Гольяново, этаж пятый девятиэтажного панельного дома. Домофон, грузового лифта нет, балкон, потолки стандартные два пятьдесят.
АНДРЕЙ. Балкон имеет выход с кухни, поэтому в равной степени может быть использован всеми жильцами. Для хранения вещей по числу зарегистрированных в квартире устроены три отсека на балконе, один из отсеков в связи с отсутствием зарегистрированного жильца закрыт, жилец не имеет права самовольно передавать право на хранение другому жильцу. Для решения вопроса о передаче права хранения одного из жильцов любому другому жильцу созывается общеквартирное собрание, проводится голосование всех жильцов, результат голосования определяется простым подсчётом большинства голосов. Голосование признано состоявшимся, если в нём приняли участие все жильцы. При невозможности привлечь кого-либо из жильцов к участию в голосовании по объективным причинам, вопрос решается простой жеребьёвкой.
ОЛЯ. Если же жилец, получивший по результатам голосования или жеребьёвки, состоявшихся на общем собрании жильцов, право на дополнительный отсек для хранения, не может этим правом воспользоваться в силу отсутствия необходимого для помещения в отсек количества вещей или несоответствия объёма направляемых на хранение вещей объёму предоставленного отсека, жилец также лишается и права на хранение в имевшемся собственном отсеке.
ВИКА. Судьбу освободившихся обоих отсеков решает общее собрание жильцов путём устроения дебатов и голосования. При этом жилец, сохранивший за собой право пользоваться отсеком для хранения вещей на балконе, получает дополнительный голос при голосовании.
ВАДИК. Подъём жильцов осуществляется с помощью общего будильника, установленного в общем коридоре квартиры. Жильцам отводится по пятнадцать минут для посещения туалета и совершения утреннего омовения. В связи с этим будильники выставляются на разное время по числу фактических жильцов с обозначенным пятнадцатиминутным интервалом.
НАТАША. Каждому из жильцов присваивается порядковый номер, номер соответствует количеству звонков будильника, ответственность за отслеживание своего будильника лежит на самих жильцах. Пользование местами общего пользования вне закреплённого графика запрещается.
ВИКА. В случае возникновения необходимости у жильца смены времени своего будильника, созывается общее собрание жильцов не менее чем за три дня до предполагаемой перемены времени. На собрании сначала, как предписано общим порядком, избираются председатель и секретарь. Председатель и секретарь собраний меняются на каждом очередном и внеочередном собрании.
ВАДИК. Отбой жильцов осуществляется также по будильнику в строго установленное время, одинаковое для всех. Время отбоя не может быть изменено по просьбам жильцов и даже на общеквартирном собрании. Часы бодрствования удлиняются и отбой переносится один раз в году, в ночь с тридцать первого декабря истекающего года на первое января года надвигающегося.
ОЛЯ. Для всех жильцов устанавливаются правила внешнего вида. Длинные волосы должны быть собраны в монолитную причёску, заплетены в косы, чтобы не попадали в носы к окружающим. С этой же целью запрещаются ношения курток, пальто, шуб, плащей с длинным ворсом, особенно с оторочкой капюшонов и воротников.
АНДРЕЙ. Женщинам предписано ходить без макияжа, накладные и наращенные ресницы, волосы и ногти строго запрещены. Если женщина является владелицей молочных желёз больших размеров, для неё предусматривается отдельный регламент передвижений по жилищу с одновременным запрещением на передвижения по местам общего пользования остальных жильцов. Сюда же относят все случаи гигантских или просто очень больших и больших окружностей бёдер, ягодиц, животов.
ВИКА. Всем жильцам в местах общественного пользования запрещено носить наушники любых моделей, а также слушать музыку и любые другие записи с помощью средств звуковоспроизведения.
ВАДИК. Для чистки ушей следует использовать горелые спички, бывшие в употреблении, и небольшие фрагменты ваты обыкновенной, на которые необходимо заблаговременно её разделять и расфасовывать согласно потребляемому минимуму из расчёта два фрагмента на жильца раз в неделю.
ОЛЯ. Горелые спички также в целях экономии подлежат повторному использованию для поджига дополнительных горелок плиты при работе уже одной из них. В целях экономии после слива жидких, полужидких пищевых отходов и разных пищевых взвесей, как то: чайной заварки, помоев различного содержания, — воду в унитаз из смывного бачка не спускать, а дождаться, когда кто-либо из жильцов воспользуется туалетом по естественной надобности и смоет всё вместе с испражнениями. Туалетной бумаги отматывать не более чем по два фрагмента, отрывать строго по перфорации.
ВАДИК. «Вместо туалетной бумаги в целях экономии можно использовать функцию омывателя биде, что позволяет, не вставая с унитаза, очистить теплой водой свою заднюю часть. Функции биде можно использовать путем нажатия на кнопки управления, установленные в стороне от унитаза. Если контрольная панель не установлена, можно использовать пульт дистанционного управления на стене. На рисунках рядом показаны различные функции, за которые отвечают соответствующие кнопки».
НАТАША. Стоп, это не наша инструкция, у нас биде нет.
ВАДИК. Да. Тут так написано, читаю. Вот ссылка на источник, потом посмотрите в сноске.
ОЛЯ. Правилам поведения школьников в общественном транспорте должны обучить родители. «Объяснить, как правильно заходить в автобус или троллейбус, выходить из него. Объяснить, что в транспорте нельзя: толкаться, стоять у входа, обязательно снимать рюкзак, уступать места инвалидам, престарелым людям. Лучший способ усвоения этих и других несложных правил — личный пример».
ВАДИК. Ссылку кинула.
ОЛЯ. Да, создала отдельное Приложение к Инструкции, потом можно ознакомиться, кому интересно, у нас входит в основной текст только Инструкция.
НАТАША. Правила вступления в тайные общества. Я готовила материал, изложу своими словами. Итак, что там. Тамплиеры, масоны, иллюминаты, Opus Dei, розенкрейцеры… Умберто Эко, глоссарий к Маятнику Фуко.
ВАДИК. У меня инструкция по эксплуатации утюга. Здесь целая книга. Предлагаю перенести на следующее собрание. Давайте проголосуем. Кто за.
АНДРЕЙ. Ещё вот приписка. Эпитафии и рисунки стереть или закрасить.

Не приходи
— Как все прошло? — Мама отрывает взгляд от слегка помятой черно-белой фотокарточки.
На журнальном столике россыпь фотографий вперемешку с открытками, сложенными пополам тетрадными листами в клетку и вскрытыми конвертами. Посередине — серая коробка из-под обуви с побитыми углами, где под еще одной стопкой фотографий прячутся пакетики, футлярчики и мешочки.
— Хорошо. Девчонки здорово все организовали — напитки, закуски, горячее, музыка. Были почти все.
Вчерашний вечер встреч еще звенит в тяжелой от вина голове — мелькают снимки мужей и жён, детей, питомцев, летом, зимой, в Турции, в Греции, на озере, на даче, в машине.
Мама берет очередное фото из коробки и цепляет кончиком снимка веревочку холщового мешочка, из которого сначала выскальзывает гладкая коричневая дужка, а затем и вся оправа с толстыми зелёными стёклами. Очки падают на столик и стремительно скользят к краю, а потом на ковёр, прямо к ногам Лены. Одна дужка отлетает в сторону, оставив оправу вращаться на выпуклом мостике.
— Ничего страшного. Такие сейчас не носят. — Мама делает быстрое движение, чтобы встать с кресла.
Но Лена уже вертит в руках части очков — двойные шарниры вывернуты на сорок пять градусов. Она аккуратно приставляет отломанную дужку и сажает конструкцию на нос:
— Как же папа их носил? В них все такое болотно-зеленое.
Лена засовывает части очков в мешочек, затягивая веревочку, и закапывает в самый низ коробки. Сквозь плотный тюль за окном розовеет здание школы с темными окнами. В потоке бесноватых снежинок оно, как всегда, безмятежно. Лена упирается лбом в стекло — холод приятно расползается в сторону висков. С третьего этажа пятиэтажки видна широкая дорога, отделяющая длинный ряд подъездов от школьного забора, покрытая блестящим плотным настом. Снежная пыль вихрится, закручиваясь в воронки, то оседая, то вновь поднимаясь от земли, хватает обрывки далеких воспоминаний и с силой швыряет их в обледенелый наст.
***
«Сегодня не приходииии. Не приходиии». — Из глубины шкафа нарастает шуршащий хриплый бас и уносится в углы комнаты.
Рисунок на обоях перед глазами из огромного расплывчатого пятна постепенно складывается в сложную композицию цветов, геометрических фигур и точек. Сестренка спит на соседней тахте, тихо посапывая. Дверь в комнату закрыта, но Лена слышит голос мамы:
«Сегодня не приходи», — и дальше что-то неразборчиво.
Лена приподнимается. Грубое жаккардовое покрытие тахты больно врезается в локти. Мама с кем-то тихо, почти шепотом, говорит по телефону. Из соседской квартиры доносится монотонный речитатив диктора телевидения. Значит, еще нет двенадцати. Сегодня за ужином не было папы. Когда он дежурит, он всегда приходит на ужин. Иногда на десять минут, иногда на целый час. И это может быть в шесть часов вечера, а может и в одиннадцать. Сегодня, видимо, много больных. Папа работает в районной больнице реаниматологом-анестезиологом. Он даёт наркоз во время операций и запускает сердце, если оно останавливается. Если его не будет на месте в нужный момент, больной умрет.
Лена на цыпочках делает несколько шагов по направлению к двери. Свет фонарей пробивается сквозь занавески, пятнами высвечивая части фигур и цветов на стенах. Знакомые скрипучие плашки паркета маленькой прихожей остаются нетронутыми, и из-за угла открывается темная гостиная. Отсюда, оставаясь незамеченными родителями, Лена с сестренкой часто посматривают телевизор поздно вечером. Сейчас, в темноте, и телевизор, и вся мебель в комнате как будто увеличились в размерах и похожи на черных чудовищ. Мамина фигура застыла у окна, разделив его ровно на две части. Тюль сбился складками над ее головой. Из открытой форточки веет январским холодом. С улицы доносится чей-то разговор.
В какой-то момент фигура отделяется от окна и кошачьим шагом движется к телефону. Круг аппарата кудахчет с маленькими перерывами шесть раз, шёпот пронизывает тишину:
«Они не уходят. Их уже четверо, и у одного в руках что-то блеснуло — похоже на нож. Очень прошу тебя, не приходи». — Последняя фраза звучит хрипло, с каким-то отчаянием.
Откуда-то появляется странная дрожь. Ленины колени отрывисто шуршат об стену, стремясь выдать ее присутствие. В памяти постепенно всплывают события прошлой субботы, когда папу избили в подъезде. Грохот, доносившийся из-за входной двери, был похож на резкие глухие толчки. Лена тогда подумала, что соседи выносят диван из квартиры, и он ударяется о стены подъезда, не помещаясь в пролеты. Папа зашел в квартиру шатаясь, прикрывая нос окровавленной рукой. Левый глаз, веко и бровь слились в распухшее малиновое пятно. Он отворачивался, как будто стеснялся такого своего вида. Лена испугалась, а потом папу стало очень жалко. Так жалко, что в животе сначала что-то сжалось, а потом скрутилось в тугой узел. Она не плакала, сама не понимая почему. Она не помнит, плакала ли мама. Но помнит, что очень быстро в квартире появился участковый. Его провели на кухню и долго о чем-то беседовали.
После того вечера папа достал с антресоли старые солнцезащитные очки. С толстыми темно-зелеными стёклами в квадратной коричневой пластиковой оправе стиля 60-х, они прикрывали только часть малинового пятна. На черно-белых фото молодой папа в этих очках позировал — где-то сидя с гитарой в руках, где-то стоя с мамой на фоне крутых скал Ладожского озера.
«Эти ребята уже не школьники, сидят здесь по вечерам, выпивают, матерятся, курят непонятно что и справляют нужду прямо в подъезде. Я должен был прогнать их, я должен защитить наших девочек», — объяснял потом папа маме.
Лена не раз была свидетелем того, как папа делает замечание мальчишкам. Сюда, в крайний к школе подъезд, они на переменах прибегали покурить. Папа вежливо просил их уйти, и мальчишки, обычно, недовольно бурча что-то, убегали. Но однажды вечером, чтобы попасть домой, Лене пришлось пройти мимо компании взрослых незнакомых парней. Они сидели на лавочке около подъезда. Рядом стояли пустые бутылки, повсюду валялись бычки. Она помнила, как тогда ей стало не по себе — взгляды, которыми они ее провожали, показались ей пугающими, почти звериными.
Фигура мамы все еще темнеет посередине окна, голоса на улице не утихают. Уже в кровати Лена смотрит на обои. Три точки, четыре точки, одна точка, опять четыре точки — рисунок повторяется, и она проваливается в глубокий сон. Папа не пришел на ужин в тот вечер. Через несколько дней папиных обидчиков арестовали. Мама долго еще дежурила у окна по вечерам, всматриваясь в темноту. А папа продолжал гонять мальчишек около подъезда. От январской истории остался какой-то странный привкус — вспоминая о тех событиях, Лена чувствовала легкую тошноту. Воспоминания приходили как-то сами, непроизвольно. Особенно когда ей попадались навстречу прохожие в темных очках. Ее начинало мутить. Она старалась не смотреть на этих людей, пряча взгляд и обходя их стороной.
***
— Смотри. Какие мы здесь с папой молодые. — Мама протягивает черно-белое фото. Счастливый и веселый папа в темных очках обнимает молодую красивую маму в окружении скал Ладоги. А под очками папины глаза, прищуренные от улыбки и устремленные в объектив будущей жизни.
Мамина рука ложится Лене на плечо и сжимает его крепко и нежно. Щелчок ключа в замке, еще раз — папа с дежурства пришел.

Не разговаривайте с неизвестными
«Я, наверное, помешал». Заявить такое — почти худшее, что мог сделать незнакомый человек, подсевший к тебе на лавочку. Хуже только то, как прицельно он ее выбирал перед тем, как подойти — вокруг было море свободных. «Эта лавочка какая-то особенная, каждый раз, когда я иду мимо, на ней сидит красивая девушка». А это было уже совсем плохо.
Удивительно, чем занят этот человек — отдыхает днем в понедельник на Патриарших — он немолод, не очень опрятно выглядит, с обветренным лицом. Одет как хиппи — цветастая рубашка, шорты, сделанные из джинсов, какая-то несуразная торба за плечами, откуда выглядывает нечто вытянутое — то ли палка, то ли трость. Даже смешно, что в голову хоть на секунду могла прийти мысль о том, что он вышел проветриться из ближайшего офиса. «Я музыкант», — сказал незнакомец, не дождавшись вопроса. «Могу что-нибудь сыграть тебе». Палка оказалась странным духовым инструментом, кажется, кустарно сделанным им же самим. Когда он переключил внимание на свою якобы музыку, стало не так неловко его разглядывать — татуировки на руках, напоминавшие руны, которые плохо видно было под слоем браслетов, стягивающих запястья, как веревки.
Он издал последний гудящий звук и отложил инструмент. «Квадратное кольцо? Ты человек-логик! Все квадратное — и циферблат часов, и форма ногтей. Четверка. Твое число — это четыре. А как зовут?» «Норма». Почему-то хотелось, чтобы имя стало ему известно в последнюю очередь. Мужчина рассмеялся. «А что там?» — он придвинул руку к спинке лавочки, где лежала наспех захлопнутая тетрадь. Без сомнения, он увидел ее еще до того, как сел. «Я кое-что сочиняю здесь, по учебе». Едва ли это должно быть интересно.
«Я покажу тогда, что у меня», — быстро сменил тактику незнакомец. Он расправил смятый в кармане каталог — тот, что подсовывают под дворники машин. С фривольными девушками на обложке. Протянул ей. Парой секунд, которые понадобились, чтобы дотянуться до ближайшего мусорного бака, он тут же воспользовался и пролистал рассыпающуюся, оставленную на миг без присмотра тетрадь. «Какой же ты художник, если пишешь только прозу», — изобразил удивление он. «Что? Художник? Но я не пишу художественное». Он ведь не мог за секунду прочесть.
— А сколько тебе лет? Мне, например, девять. Пять плюс четыре.
— Хм, ну а мне два.
— Два — значит одиннадцать?
Смешно, но даже истинный возраст в таком контексте казался преуменьшенным и несерьезным. Зато ему подходил более чем. Увидев, как в сторону скамейки летит мяч, мужчина тут же вскочил и отбил передачу, чем раззадорил совсем маленького спортсмена, которому на вид можно было и правда дать года два. «Вот он понимает, что и зачем делает», — махнул мужчина в его сторону. «Порой больше нас с тобой понимает».
Как же его звали? В самом начале он представился — имя было совершенно обычным и даже вряд ли ему подходило. Мужские имена вообще запоминались почему-то очень плохо, за исключением одного. Когда они только познакомились с Якубом, казалось, что и на имя-то это не похоже, это слово звучало как нечто, принадлежащее другу, и как будто отчасти ей самой, как будто выдуманное. Почти невозможно было представить, что где-то еще на свете ходят Якубы.
Другие, подходившие познакомиться, были безликими людьми с апломбом — через секунду после их самопрезентации имена вылетали из головы сразу же, как избыточная информация. Когда они с Якубом первый раз встретились, он был не таким — озорным, немного застенчивым. «Я Якуб», — шепнул он на ухо — на курсах итальянского всех рассадили по кругу, они оказались соседями. Это было первое занятие. Не было никакой уверенности в том, нужен ли вообще итальянский, если уже много лет безуспешно пытаешься заговорить по-английски. Якуб же, казалось, с нетерпением ждал начала этих курсов, он едва мог от волнения внимательно слушать, как будто постоянно скрывал свою смешливость. «Мое имя никто с первого раза точно не запомнит», — продолжил Якуб.
«А я Норма». Якуб настолько оживился, что даже хохотнул, чем привлек внимание преподавателя. «Норма! Нас таких двое, да одногруппники мозг себе сломают нас запоминать». Она не улыбнулась: свое имя она ненавидела вплоть до того, что могла представиться по-другому втайне от родителей, которые были против того, чтобы ее называть хоть как-то иначе.
Сегодня вечером она так долго просидела в кофейне на Тверской, собираясь с мыслями, что опоздала на встречу с ним впервые за много лет. Такого она не позволяла себе в Москве никогда, равно как и в их далеком родном городе, где они с Якубом делали маленькие, едва заметные шажочки навстречу друг другу, надолго замирая после будто бы ненамеренного очередного сближения. Раз — билеты на показ в рамках недели итальянского кино, два — ужин в пиццерии возле дома Якуба, три — чтобы не пришлось ехать на другой конец города, он уговорил ее прийти переночевать в его старой футболке на матрасе, который едва удалось разместить рядом с его разложенным диваном.
Дальше все смешалось. Он убеждал ее, что, если она мечтает о журфаке, нужно ехать в Москву, о которой он только и говорил последнее время. Она гордилась им и немного завидовала, узнав, что его приглашают на работу в крупное издательство переводчиком с итальянского. А ведь когда-то, считаные дни, они были на равных, тогда, когда вместе учились здороваться по-итальянски.
Как будто в Москве он взял бы и сказал ей, мол, ты так выросла за последние годы, а ведь я всегда верил в тебя; я понял, что ты талантлива, с тех пор как наша итальянка прочитала вслух твое сочинение, помнишь? Но ничего такого, в ее голове он просто улыбался — как в тот день, когда его необычайно обрадовало, что она Норма, что он не один такой Якуб — а дальше было пусто. В его международной компании его имя больше не смущает никого, а ее не перестает вызывать болезненные ассоциации.
— Ты могла бы не бросать курсы. Переехала бы сейчас в Италию, там всем было бы наплевать, как тебя там зовут.
— Я всегда хотела писать, а делать это могу только по-русски. Как можно написать не на родном языке? Как будто бы тогда чужими словами придется описывать чужие чувства, чужую жизнь. Письмо — оно идет изнутри.
Как будто бы должно идти. Конечно, должно. Это продолжение автора. Но разве ее тексты на самом деле такие? Сегодня она узнала, что никакой больше не автор. Как вообще теперь можно что-то утверждать.
— Мне кажется, если я не переживала ситуации, в которых находятся мои герои, тексты получаются ненастоящими.
— Это про что? Про журналистику?
— Я боюсь, что про все. Один мужчина спросил, кто я, писатель, что ли? Я ему сказала, что журналист. Он ответил, что для начала я никогда не пробовала по-настоящему работать, поэтому и думаю, что журналист. Он откуда-то уже знал, что я разочаровалась тогда, на первой практике в универе.
— Подожди, это какой-то преподаватель?
— В каком-то роде.
Он и про Якуба знал — так и сказал, дословно: с чего ты, мол, взяла, что у тебя есть отношения, если ты даже ни разу ни с кем не спала.
Диагноз, который он ей поставил, гремел у нее в голове, удивительно, что Якуб не слышал раскатывающегося по всему миру — по всему ее телу — эха от этих слов: она не может, не чувствует, она и правда не чувствует, что за чушь, неужели это правда. Но все остальное ведь было правдой. И даже то место на коленке — след от падения с велосипеда в детстве на острый гравий — точно на него указал. «Здесь уже не болит, а ты еще боишься боли».
Дома она несколько раз осматривала себя в зеркало в тех самых джинсах: не слишком узкие, плотные, темные — это совершенно невозможно. Резко сдернула их. Насколько унизительно она себя ощущала без одежды. Худую голень перечеркивал темный, как свежий синяк, шрам. Это знакомое унижение от своей наготы и дрожь от прохлады, даже если секундами ранее казалось, что в комнате тепло — то же чувство возникает, когда снова и снова перечитываешь свой рассказ. Он кажется надуманным и плоским, как будто писать совершенно не о чем, нет еще того стержня, необыкновенного яркого опыта, который ложится на страницы так, будто описываемым событиям стоило произойти только для того, чтобы быть запечатленными.
«Не понимаю, если он никто, зачем ты его слушала. И успокойся ты насчет практики. Просто пойдешь в издательство, стажеры точно нужны, я уточнял, а потом, может, и на должность младшего редактора возьмут». Спасительный голос Якуба в голове больше не работал. Она сделает всего два движения, и сомнения прекратятся.
«В связи с личными обстоятельствами… Прошу прощения за срыв наших договоренностей. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество… в будущем» — в газету РБК. Что ж, отправить? Они спросят: а как же ваше сопроводительное письмо, которое вы подали вместе с заявкой на практику. Наверняка ведь впечатлились, прочитав про «сплю и вижу себя в роли корреспондента, который вещает из гущи событий, пишет цепляющие тексты». Сплошное вранье.
И, наконец, ему. Заметка в телефоне с номером уже лежит в папке «Удаленные», благо айфон еще долго хранит неосмотрительно стертые следы присутствия случайных людей в нашей жизни.
«Если вы помните меня, это Норма».
«Здравствуй, Норма. Я ждал с минуты на минуту от тебя письма, как же я рад, что ты успела. Мой день рождения послезавтра. Но ты, пожалуйста, завтра приезжай. Нам будет о чем поговорить. А потом останешься на праздник?»
У нее нет ничего приличнее старых джинсов и простого, уже застиранного белья. Бежать скорее в магазин? Какой абсурд, как это может быть важно, когда впереди невероятно волнующее. Как будто все тайны этого мира будут разгаданы, если удастся разгадать эту. Можно даже попытаться представить, что шрам не уродует тело, а даже красит его, как естественная татуировка, как тонкая нить, собирающая, сплетающая все Я воедино.
От волнения ей захотелось взять ручку и написать, каково это, но она дала себе обещание — больше ни единого слова от той старой Нормы. Будильник на 7:45 — ехать в Московскую область. Незнакомец ведь в чем-то ошибся: якобы она не может испытать настоящее чувство. Но что же тогда творится с ней сейчас, волнение сдерживать уже невозможно, и что было тогда, когда в комнате Якуба она страдала, что не может сказать ему, как же неудобно на этом дурацком матрасе. Как этот опыт мог быть фальшивым, если ее сердце совершенно неумышленно разрывалось пусть не от любви к другу, но от обиды за то, как он со своими советами, своей рассудительностью и даже своей постоянной смешливостью слеп, и что он мог бы получить, если бы видел в ней кого-то больше.
Ее разбудил не будильник.
— Ну вот, спала, значит, еще. Я по какому поводу — ответ мне прямо сейчас про тебя нужно дать. Пойдешь ты к нам в издательство или нет. Я тебе забыл, что ли, сказать, что нужно решить уже сегодня?
Якуб звучал деловито, отрезвляюще. Сразу забывается вчерашний абсурд, недодуманные мысли срочно освобождают место нацеленным и решительным — так происходит перед звонком на урок, когда впереди трудная контрольная работа. Совсем не так реагируешь на звонок любимого человека.
Девять утра ровно, 9:01 — уже можно набрать номер — «Здравствуйте! Я Настя, Яков дал мне ваш контакт». «Настя, чтоб еще раз понимать, что мы друг другу подходим — только в детском отделе у нас открыта вакансия, это для вас окей?»

Письма моих муз
— Давай мы будем на «ты»?
Милая, я боюсь темноты.
1.
Бить первым — так учили улицы, на которых я вырос. Детство в постсоветской Алма-Ате, с вычерченными границами районов, на которые делили город банды молодых, голодных и всегда жестоких к чужакам людей. Они сбивались в стаи диких собак, которые я, еще ребенок, видел вечерами, мелькавших в свете фонарей по пустынным улицам, где мы жили небольшой коммуной людей, бежавших в свое время и нашедших здесь свой дом. Наши дома были просты — сбитые покосившиеся глинобитные стены, небольшие мутные оконца, дворик с калиткой в сад и яблони в каждом дворе, под тенью которых мы прятались от пронизывающего летнего солнца и часами рассматривали проплывающие над нами облака. Мы еще не знали о существовании границ.
Дерибас, Снежинка, ДОС, Вигвам, Штаты, Новый Свет, Салем, Золотая Орда, ЦК, Шанхай, Кизы, Багдад, Тастак, Ертек и Халифат. Также были независимые кварталы, которые нам следовало обходить стороной, а лучше и вовсе там никогда не бывать: 800, Квадрат, Городок, Драм. Мы взрослели на задворках наших школ и гаражей, где разборки с местной шпаной и детская жестокость были таким же обычным явлением, как поход в магазин за пивом для старших и постоять на «шухере» при деле. Чуть позже о нас будут снимать фильмы и складывать городские легенды, но тогда мы росли, как дикие волчата, и каждый день сталкивались с насилием и участвовали в нем — набрасывались шумной толпой на проходящего случайного человека под предлогом узнать который час, сбивали его с ног и пинали, пока кто-нибудь громко не свистнет, и через три секунды он лежит один в тишине, на снегу, захлебываясь кровью и не в силах встать.
Боль — всего лишь миг откровения, скрывающий в себе суть мира, в котором я оказался заложником обстоятельств. В полном одиночестве, среди серых стен больничной палаты. Она зовет меня по имени.
— Моро, Моро… Прими боль, не сопротивляйся ей. — Ее мягкий голос отдается эхом в пустых коридорах больницы. Ее голос — как тягучая смесь сожалений об утраченной вере в меня. Она зовет меня, она плачет. Но я не могу подняться с кровати, я не могу пошевелиться, не могу подойти к ней и обнять крепко. На мне куча трубок, проводов, бинтов — переломанный, я лишь издаю звуки и протяжное «эээмммммм».
Я уже отрываю бинты с рук, но еще кровоточат резаные раны — следы недавней борьбы с небольшой заточкой, которой меня полоснули по рукам, трогаю эти свежие раны, пока сознание не покидает палату со светло-серыми стенами, местами оклеенными желтыми газетами «Правда», «Ленинская смена» и другими изданиями, которые я, десятилетний ребенок, с интересом рассматриваю, и вглядываюсь в узоры печатных букв, и смотрю прямиком в прошлые жизни этих стен. Их построили вокруг меня, как крепость, но в результате получилась обычная тюрьма с решетками на окнах и длинными коридорами, в которых было много боли, неправды и несправедливости к тем, кто находился по другую сторону баррикад. Я здесь уже четыре месяца. Ночью я крепко сжимаю плюшевого слона — моего лучшего друга, и во сне, ворочаясь на скрипучей кровати, в холодном поту лечу вместе с ним в пропасть, на холодный кафельный пол. Вскрикиваю в пустоту, зову маму — но тихо вокруг, не могу пошевелиться. Медсестра — такая красивая, бежит ко мне, обнимает и качает на своих руках, прижимая все сильней к своему горячему телу — обещает мне, что останется со мной до утра. Теперь я в ее власти. Но сквозь сон я слышу глухой стук её каблуков, удаляющихся шагов в коридоре. Я не знал, кто она и когда мы встретимся вновь. Утром теплое горькое послевкусие развеялось, но оставило шрам и твердую убежденность в том, что однажды я её найду.
2.
Я наблюдаю за ней.
Вокруг нас мелькают фигуры уже пожилых, но статных официантов во фраках и белых перчатках в темном обеденном зале ресторана в центре Парижа. Вечер накрывает этот город тысячами огней, которые я так люблю разглядывать через витрины, в сводчатых арках которых уже кипит жизнь: стены здесь обуглены, как после пожара, мягкий желтый свет скользит по ним и отражается в бокалах, столетний дубовый паркет блестит и иногда протяжно поскрипывает под каблуками прилично одетых людей. Звенят бокалы, приборы, музыкант играет джаз. Здесь пьют и едят с таким аппетитом, что-то шумно обсуждая на незнакомом мне языке, и, кажется, здесь праздник будет продолжаться всегда, но только такой дикарь, как я, не насытится фуа-гра и супом с мидиями, дюжиной Жилордо №2, а кость от запеченного кролика встанет поперек горла и придется еще постараться откашляться от него.
Ей к лицу новые жемчужные сережки и кулон на тонкой цепочке из белого золота на бледной, почти белой коже, сквозь которую проступают плечи и кость ключиц. Я вижу, как она дышит, как мерно поднимается и опускается грудь, гипнотизируя меня. Далее руки: достаточно длинные и тонкие пальцы, кисти рук и жесты, в которых угадывается музыкальность и легкость ее характера. Так она сочиняет музыку и дирижирует жизнью вокруг нас — этими людьми, светом и даже мной. Она звонко смеется надо мной, издевается — а я еще, оказывается, никогда не дышал, никогда не слышал такого громкого и звонкого смеха. Смесь ее смущения, волнения и детской робости мелькает бликами в каждом следующем бокале вина. Она смелая девочка — держится гордо и элегантно, плавными жестами рук как бы поддерживает обрывки моих фраз, отрывки слов и рассуждения о родственной связи Иеронима Босха и Ларса фон Триера. Не подает виду, что занудство иногда бывает сексуальным и тягучим, и подкрадывающимся под столом вверх, по лоснящимся колготкам к ее острым коленям, бедрам, и теплой волной разливается внизу ее живота, вплетается шелковыми лентами в ее светло-русые волосы моя уже не слишком трезвая речь. Ее тайна скоро станет моей, спрятанной от посторонних глаз в маленькую малахитовую шкатулку, что лежит поближе к хрупкому сердцу, и ноющая тяжесть под левой лопаткой ребристой спины — та неизведанная часть её души, что всегда пряталась, но так отчаянно она стремится наружу.
Я голоден. Я нападаю.
Вкус её юности — соленая карамель — слишком сладкий, чтобы распробовать его с первого раза. И соленый, как южное море у пустого причала. Птицы летели на юг. Поздняя осень. Дежавю. Тусклый номер отеля, в который мы пробираемся, не привлекая взглядов, молчим. Я держу ее за талию, приоткрывая дверь. Она не знает, что будет за ней. Задернутые шторы и фонарь за углом. Медленно сползающие тени по стенам и плечи ее. Толкаю. Оборвавшийся крик. Стон.
— Пожалуйста, больше не надо!
Но нет. Попав в мои руки — закрываю ладонью ей рот.
— Заткнись! — Мгновенье, и земля уходит у нее из-под ног.
Размазанная тушь по щекам на лице — бью хлестким движением, глухой звук удара, и ее взгляд мутнеет. Она бьется отчаянно — бьет невпопад, по груди кулачками, но все же она слишком слаба, чтобы выдержать мой вес. Наваливаюсь всем телом — ей уже не убежать. Рвутся и трещат колготки по стрелкам. Обнаженное юное тело на мятых простынях.
Она уже молчит. Я проваливаюсь все глубже в белые простыни и запах, оставшийся на них от слез. Мир разделился на то, что было до этого, и то, что стало с нами сейчас. В тишине комнаты, погружаясь в густоту ночи — стихия накрывала и несла ее вдаль от шумных городов. Я мгновенно уснул тяжелым сном.
Утром она плакала. Провалившись в кресло и укутавшись белым одноразовым халатом, как маленький запуганный зверек — смотрит исподлобья и ревёт. Мелкая сука, впрочем. Лет девятнадцать, может, двадцать. Так я ее застал, как только открыл глаза. Слишком тяжелое похмелье для меня от губ вперемешку с алкоголем и табаком. Я встал, умылся, надел рубашку со шлейфом ее вчерашних духов. Она наблюдала за мной. Не смела пошевелиться, но все-таки задала честный и справедливый вопрос:
— Что же теперь со мной случится? Куда теперь мне бежать? — почти шепотом, еле слышно, она опустила глаза вниз, разглядывая косточки своих пальцев.
— Лучшее, что ты можешь сделать в этой ситуации — это спуститься и позавтракать со мной. Оставь свое детство в этой комнате, оставь здесь себя прежнюю и доверься мне. Пойдём.
Она нерешительно сползла с кресла. Волосы упали густой копной на грудь. Она медленно ползла по ковру к моей ноге. Кое-что она поняла сегодня. Теперь у неё есть хозяин. В ней произошло едва уловимое изменение — в уголках губ и густой тягучий мрак в ее светло-зелёных глазах. Я молча наблюдал, как её хрупкий мир качнулся вверх, качнулся вниз и разлетелся на мириады солнечных линий на ее юном лице. Я кончил.
Так появилась Весна. Её первое имя, которым я назвал эту иногда смешную, иногда задумчивую девчонку со светло-русыми волосами и зелеными, как маленькие сапфиры, глазами. Она напоминала мне майскую ночь среди лугов и леса — моя юная лесная нимфа танцевала и повелевала ветром, кормила белок с рук. Вплетала цветы в волосы и, жмурясь на солнце, спускалась ко мне в летнюю тень под деревом, и никак не понимала, отчего я все время молчу да хмурюсь. Смеялась звонко надо мной и всё в ней было солнечно. Как в то утро, которое светлыми кадрами врезалось в мою память и превращалось в фильм, в котором слишком много любви и надежды. Тем утром было слишком много и любви, и надежды.
3.
Письмо №1
Bonsoir. Mon Amur.
Пока на город спускаются летняя ночь и ливень вперемешку с запахом хвои, в тишине пустынных улиц идет человек. В шляпе с широкими полями, в двубортном пиджаке из английской шерсти, с сигаретами в переднем кармане, шагом отмеряет длину мостовой.
Встреча с утренним солнцем станет торжественным обрядом — улыбкой, покоем перед светлым днем, тишиной в океане. Среди бликов витрин, звона колоколов и бокалов.
Триумфальная арка.
Человек ждал женщину. Официант подошел. Как обычно для этого времени суток — джин-тоник: чуть больше джина, чуть меньше тоника, пару кубиков льда и лайм. Солнце уже разливалось в бокалы за соседними столами. Джин разливался по крови и отдавал легкость глазам. Моро ждал женщину — лишь бы опять не напиться.
— Ma Cherie!
«Ты ведь всегда хотела другой жизни. Слишком идеальной, чтобы оказаться правдой. Изучать французское кино, разбираться в итальянской живописи, завести мопса, что там еще? Ты ведь всегда уходила первой, не закрывая при этом дверь.
Моро ждал женщину.
Потому что право уходить первой всегда оставалось за ней. Он закурил. Рука уже не дрожала, но снова почувствовал на себе ее взгляд. Чего же она ждет? Чего же она хочет?
Она не подняла глаз, проходя мимо его столика. Он не одернул ее за руку.
Ее лицо было жестким, холодным и не выражало ни отчаяния, ни любви, ни сострадания.
Моро ждал женщину. В промозглой сырости ночи. Особенно теперь, особенно в Париже.
Но ей было уже безразлично».
4.
В голове у него было не больше мыслей, чем у изголодавшегося мартовского кота, когда замаячила возможность разжиться куском свежего мяса. Такой же мягкой походкой, как в еще недавней молодости, он шел среди узких проулков Парижа. Двигался тихо — от угла до угла, сжимая в кармане небольшой, но хорошо заточенный карманный японский нож.
Моро знал, что на него охотятся, и в любой момент нужно бить первым и быть готовым встретиться лицом к лицу с непростой правдой тех обстоятельств, которые привели его сюда, на 54 Rue Jacob, в эту пустынную ночную обитель его тайны.
Уже несколько лет Моро искал возможность встретиться с Автором. Он медленно, вымеряя шаг, приближается к парадной двери, стучит в нее несколько раз. В ответ, кроме вялого побрякивания замков, — ни звука. Скрывается в тень парадной и проходит в небольшую комнату. Свет сюда давно уже не пробивается сквозь тяжелую портьеру с бахромой — в остальном же, здесь нет ничего, кроме обшарпанных стен, старого камина, стула викторианской эпохи, книг, аккуратно сложенных в ровные колонны на дубовом полу и обычного матраца на пружинах в углу. Он сжимает нож, резким движением немного в бок и выпад вперед — единственный верный удар меж ребер и провернуть рукоять ножа до хруста в грудине. Но в комнате уже светло, и только серое парижское небо нависает над карнизами домов и лупит по ним ветром и дождем. Барабанная дробь — мелкая и быстрая, без акцентов и срывов, — сливается в почти монотонный звук. Спиной к нему сидит человек в черной рубашке свободного фасона и с закатанными почти до локтей рукавами. Он похож на дерево, которое приросло корнями к полу, стенам, стулу и парижскому окну со скрипучими кремонами.
— Зачем ты пришел, Моро? — Голос, показавшийся слишком резким и металлическим, заполнял собой все пространство внутри этой комнаты, как стереоэффект от старого эквалайзера.
— Ты знаешь, только ты и знаешь все — я пришел, чтобы убить тебя и стать свободным. — Смотрел прямо перед собой и уже был готов кинуться на него, но с удивлением заметил, что теперь и он стал похож на дерево. Пальцы прорастали грубой корой, мелкие ветки и корни расползались в стороны, вгрызались в паркет, вплетаясь в его чернеющее тело.
— Я знаю, что твоя вера в себя конечна и имеет финальную точку в далеких степях Казахстана, на Богом забытой железнодорожной станции, где день за днем ты будешь ждать свой поезд, ходить по перрону взад-вперед и кидать мелкую гальку на рельсы. Гадать по отражениям и теням от огня в своей кибитке, где же она сейчас, когда уже выйдет из прибывшего вагона, второпях поправляя махровый платок на голове и вглядываясь сквозь толпу в твои потускневшие впалые глаза. Там твои корни, там ты станешь свободным, там ты станешь настоящим деревом, быть которым просто — достаточно просто им быть.
— Почему ты «слишком искушен» для того, чтобы не рассказать ей всю правду? Почему упоминается «непростая» правда? В чем ее сложность? Смелость героини приведет к верности героя? Что скрывается за этой цепочкой? Как связаны смелость и верность? Есть ли в этой цепочке место любви?
Беглец. Моро уходил от ответа. В тоже время очень хотел узнать, не испугается ли она другой стороны его жизни, в которой он прячет самые мрачные фантазии и желания. Он берег ее от жестокости и правды, но в тоже время соблазн обладать ей был слишком велик. Он пошел на риск. Ей же предстояло решиться пойти за ним, через боль и признание своей жертвы для него. Правдой было то, что он всегда любил ее, но для такой любви нужна смелость называть все своими именами, в том числе и пороки, которыми легко прикрыть слабость и желание избежать лишних проблем с моралью и законом. Он в подробностях рассказывал про то, что и как будет делать с ней если она все же решиться пойти. Она согласилась.
В ответ на её обещание быть покорной, он дал своё — быть верным.
— Чем ты занимаешься «повстанец новой информационной войны» по ночам? Станет ли это частью текста?
Бунтарь. Сила возмездия перекинула его на обратную сторону баррикад, отбросила в тень — и теперь он стал повстанцем в этой войне. Моро был связан с организацией деятельности повстанческих групп и созданием для них условий, в которых они вели пропаганду «Открытого Мира» — террористической группы, проповедующей парадигму нашего общего существования без государств и лидеров. В них мало кто верил, но те, кто знают об этом вокруг нас и их много. Это часть истории Моро, возможно просто легенда.
— Психоделики, стимуляторы — это всегда измененное состояние сознания. Будет ли оно представлено как один из пластов внутри текста, или весь текст будет раскрываться именно в измененном сознании?
Дикарь. «Хипи-флипи» это почти так же, как «Буги-вуги», только вместо «буги» — розовая таблетка экстази с аббревиатурой RICH, а вместо «вуги» кусочек сахара, пропитанный хорошей кислотой. Это можно сравнить с вхождением в зону турбулентности и резкой потерей высоты — проваливаешься в один момент куда-то, и больше не контролируешь ни тело, ни то, что происходит вокруг, ни то, что недавно ты называл «узнать себя лучше». В глазах сначала темнеет, но потом ослепительный свет прожекторов пробивает сквозь веки и «я» растворяется, «меня» больше нет. Маленькая смерть приходит в черном вечернем платье, ползает по кровати медленно, и рассказывает какие способы встретиться с ней выдумали и синтезировали люди за последние несколько десятков лет. Она обворожительна и мила, кокетничает и смеется, раскладывая черные пакетики на зеркальную поверхность стола. Он в очередной раз стал ее заложником и уже не сопротивлялся ее обаянию, зная в какое чудовище она превратится чуть позже, под утро, когда придет время расплачиваться с ней за промелькнувшую бессонную ночь.
Очередной трип по закоулкам ночного центра, под дикое «техно» в свете прожекторов привел его сюда: в эту комнату с задернутыми наглухо шторами и скомканной, как его жизнь, постель.
Эти люди ночью в очках. За темными осколками стекол они скрывают большие и черные, как смоль зрачки и свой взгляд в пустоту — слишком дикий и полный отчуждения. Бывает, что люди просто веселятся и танцуют всю ночь, но Моро же не слишком любил веселился — он сидел в махровом халате в гостиничном номере, включил винил и танцевал, как Бог — он был, как буря в красной пустыне, поднимавшая в воздух песок и хлеставшая по его смуглому лицу в этом диком танце.
— Как связаны вещества и дилемма предать себя/предать других? И какова роль героини в этой ситуации?
Она ждала его на улице. Шел снег. На ней была элегантная шляпка с несколькими перьями, серое кашемировое пальто и перчатки, которые она аккуратно сняла перед тем, как подойти к нему. Подсела на лавку и стала говорить о необходимости спасти душу, о муках и жертве Христа, о приюте для всех страждущих и о том, что невыносимо смотреть, как небрежно теперь он относятся к себе и попыткам спасти его. Признавалась в любви и жаловалась, что слишком часто люди путают ее (любовь) с игрой в поддавки без права остаться в живых.
Все стало слишком зыбко и едва коснешься — рассыпается на мелкую серую пыль и остается на кончиках пальцев её мечта — быть свободной, любимой и любящей женщиной. Теперь единственный путь — через желтую дверь на втором этаже, через арку направо, на домофоне №1 и постараться увидеть свое отражение в камере над головой. Это заведение стало последним приютом для уже потерявшего надежду, бродящего в халате и тапочках на босую ногу Моро. Он выздоравливал. В конечном итоге, тишина и лес за окном — все, что сейчас ему нужно для решения остановить гонку за острыми ощущениями и переступить грань, где он оставался честен с собой и вновь обретал смысл существования. Она стала этим смыслом, она протянула ему руку и крепко сжав, просила не оставлять ее больше, держать крепче. Любить её. Он прощался с прошлым, перерождался, как феникс под капельницей и внимательным присмотром врачей. Рекомендованный режим дня: крепкий сон, жидкая каша по утрам, витамины, прогулка в парке, группа адаптации и поддержки, после обеда уборка, физические нагрузки, процедуры, ванная, немного чтения и опять крепкий сон.
Пейте больше воды, поправляйтесь.
— Герой и героиня (во всех ее воплощениях) говорят друг с другом на языке насилия. Почему их объединяет именно такой выбор? Какова роль насилия для того пути, по которому идет герой? Расскажите о том, какова на самом деле героиня?
Может ли акт насилия стать актом искусства?
Это немного извращенная идея арт-терапии. Быть не только жестоким, но и красивым воплощением, в котором участвуют две противоположности — жертва и ее мучитель. В пространстве между ними наэлектризованное напряжение, которое можно разрезать ножом, но существует договоренность о методах и формах этого насилия, о крайних болевых точках и эмоциональных границах друг друга, переступать, которые нельзя.
Герой и героиня — они прежде всего исследователи допустимых границ. Для них — это возможность доверять друг другу больше, изучая на собственном опыте истинные мотивы жертвы и садиста. В этом они похожи, но противоположны друг другу.
Она — провоцирует, он —действует.
Героиня — юная девушка, выросла без отца на окраинах небольшого промышленного города, с матерью и отчимом, подвергавшим ее унижениям и инцесту. (К сожалению, слишком правдивая история для многих женщин). Ее травма — это вызов исследовать и принять боль, а значит и освободиться от нее. Он — ее проводник, поможет пройти не самым легким, но честным путем к исцелению и любви. И, возможно, спасется сам.
.

Поезд из Москвы
Наутро в Москве стало морозно: всю ночь шел снег. Созвездия тюльпанов расцвели на импровизированных прилавках — восьмое число, март. Вообще-то, Москва еще спит: выходной день. Спят мои милые тетушки — обе двоюродные, тем вечером принимавшие меня в гостях. Спит в тетушкином серванте альбом с потревоженными вчера фотографиями. Не спит только одна: она у меня в руках, на ней — мой отец, он с гитарой, взгляд уверенный, как и положено двадцатилетнему. Дергаю молнию на рюкзаке, захлопываю дверь и спускаюсь к выходу. Этот отель мне давно знаком, он часто принимает меня в командировках, но на этот раз я приехал не работать. Девочка на стойке администратора улыбается, я машу рукой и забываю ее лицо. Дверь крутится, таксист сияет, автомобиль идеально чист, следующая остановка — Ленинградский вокзал. Домой.
…Замок мягко щелкнул, круглая ручка повернулась, и Макс швырнул школьную сумку в сторону своей комнаты. Дома было тихо и пусто. Макс и мама жили вдвоем — уже больше десяти лет назад мама и отец развелись, у отца другая семья. С отцом они встречались коротко, раз в полгода, когда тот, моряк, возвращался из долгого рейса. Макс ждал подарков, но отцовские беседы казались слишком нравоучительными. Сын прятался за маской вежливости, хотя возразить было нечего, по-честному говоря. «Ты вот музыкальную школу тянул-тянул, да и бросил. Стал ходить на футбол — и тоже несерьезно. Взялся учиться в радиокружке — и тоже приходится заставлять», — говорил мягким голосом отец, и от стыда хотелось сбежать. Или хотя бы защищаться! Этот бородатый человек, о котором мама и бабушка говорят не то с осуждением, не то с сожалением, и называют «Сергей» — словно бы само это имя — воплощенное осуждение и сожаление — кто он такой, чтобы его нечастые появления могли изменить привычную картину мира? Он добрый — да, он дарит интересные вещи, но что ему надо взамен?
Поезд мягко тронулся. Сосед достал бутерброд. С рыбой. Отец когда-то ловил рыбу в Анголе и прислал два письма — «с промысла», как тогда говорилось. Бисерным почерком перечислял скудные новости из однообразной жизни моряка. Тогда письма вызвали удивление: никогда он не писал мне, и вот вдруг сразу два. Мне тогда шестнадцать было, что ли, совсем другие вещи интересовали — курить, свобода неограниченная, гитары и джинсы. Тетушка вчера говорила — отец свою вторую жену нашел во время плавания, она работала на его судне в лаборатории.
…Старый плед в маминой комнате вдруг оказался не на месте: обычно свернутый в углу дивана, он теперь расстелился по всей диванной спине, оранжевой шкурой на зеленом. Мама между тем никогда так не делала при Максе, так что тут была загадка, и такое уже не в первый раз. Совпадало лишь одно: неизменно выяснялось, что в эти дни отец был на берегу и заходил. Но почему он приходил, пока Макса нет дома? А зачем тогда?
У них с мамой был разговор, уже когда отца уже не было в живых. Удивительная загадка оранжевого пледа была разгадана: мама и отец встречались. Оба они уже создали свои независимые миры и новые семьи, и у отца уже родился сын в новой семье, но они продолжали соприкасаться, украдкой, будучи взрослыми, положительными, ответственными, скованными по рукам и ногам людьми.
Станция Тверь. Кресла в «Сапсане» хороши — обнимают и убаюкивают, как в автомобиле. У отца была «девятка», похожая на вишневую рыбу. Внутри пахло настоящим, взрослым. Бензин, отцовский одеколон, курево. Отец крутил руль, скучно играл джаз, было во всем этом что-то неразборчивое и важное. Сколько раз вспоминал я эти моменты — вот бы догадаться и спросить отца, заговорить с ним о своем, пусть бы рассказал мне все, что захотелось, уж я бы слушал, слушал, впитывал. Но нет же. Мчались и трепались о пустяках.
…Сигареты продавались пачками и поштучно, и каждая была уникальна: ароматная, размеченная по белой части бледными полосами, а по желтому фильтру — крапинками, с четко выписанным мистическим названием: «Стюардесса», «Родопи». Иметь при себе собственные сигареты было роскошью. Студентом Макс был безденежным, поэтому курили одну на двоих или троих, жадно смотрели на обладателей целой картонной пачки. Отец курил, как взрослый, как моряк, и имел полное право судить Макса, как несмышленого: и вредно это, и денег стоит, но уж никак не тех, что выданы мамой на обед. Они мотались по отцовским делам, он сам позвал с собой за компанию. А когда у отца закончились сигареты, они завернули к рынку, где в линейку выстроились бабушки, торгующие нехитрым: и сигаретами тоже. Отец остановился перед столбиками коричневых пачек, разложенных на газете. «Одну». Повернул голову к сыну: «Ты куришь?» Неожиданный вопрос не позволил собраться с мыслями и выдать самый безопасный ответ. «Да». Взгляд отца чуть застывает, «Негодяй, — улыбается он: — Тогда две».
Следующая станция — Вышний Волочек. Когда-то я пугался отцовских бесед — отец умел говорить так, что ты невольно становился взрослым рядом с ним. Потом оказалось, что взрослым быть заманчиво — например, у нас с отцом могут быть свои секреты. Затем отца не стало, а секретов, наоборот, прибавилось — сложных секретов, атрибутов беспокойной души. С мамой делиться таким было нельзя — волновалась бы, переживала. Для хранения секретов выбирались личности из мира больших людей: бессмертный поэт, известный музыкант. С ними не надо было вести диалог — достаточно было мысленно обращаться к ним. У каждого из них были отцовские черты, словно сам отец мой поджидал меня в разных образах, чтобы поговорить и выслушать. Все эти образы блекли со временем, и однажды окончательно истончились черты поэта и растаял облик музыканта. Не исчез только отец. Он неизменно появлялся, когда дело требовало настоящего, безотлагательного мужского разговора. И абсолютного доверия, как самому себе.
…Они вместе шли по больничному двору, отец — в халате. Больница была недалеко от университета, где Макс проводил дни, но забежал в больницу, когда мама попросила: «Максим, зайди к отцу, он хотел бы повидаться с тобой». Что такое «рак», Макс не понимал, а отец выглядел так обычно, и об обычном же и говорили — отец расспрашивал, Макс рассказывал, в мире ничего не менялось. Через два месяца мама сказала вечером: «Вчера я съездила к Сергею и попрощалась». А спустя полгода пришел безутешный ноябрь, глина на могиле осыпалась и пронзительная скрипка вязла в сыром воздухе. Макс стоял там вместе со всеми, а отца здесь уже не было.
Поднялся с места сосед, потянул сумку с верхней полки. В вагоне зашумели. Петербург, конечная. Вдалеке осталась Москва, где еще живы люди, помнящие отца. На краю вселенной — Калининград, портовый город, отцовская юность, друзья, пластинки, мама — тоненькая девочка, играющая Шопена, негромкий голос, Балтийское море, концерты Высоцкого, старая «девятка», паспорт моряка, надпись на надгробии. Я теперь много знаю об отце и продолжаю его узнавать. Я нахожу отца среди воспоминаний, он обращается ко мне со старых фотографий, и слова его слышны в тихом тетушкином голосе. Но с еще большей заботой я храню память о наших встречах. И я теперь понимаю, что в тех нечастых разговорах он обращался не просто ко мне, шестнадцатилетнему, тогдашнему, незрелому. Он говорил со мной, как с тем, кому предстоит вырасти и приблизиться к нему. Говорил словами, в которых я находил заботу и помощь и в свои тридцать, и в сорок, и сейчас, когда через два года мне станет столько же, сколько и отцу, когда он закончил жить на земле. Уже нет на свете моей мамы, и там, где они сейчас, теперь снова они могут разговаривать друг с другом. Я думаю, обязательно говорят и обо мне. Идут по узкой калининградской улочке между каштанов и беседуют. Поравнялись со мной, и вот уже мы шагаем вместе. Моя мудрая мама незаметно отстает от отцовского бодрого шага, чтобы мы на минутку остались друг с другом. Отец смотрит на меня и улыбается вопросительно. И я отвечаю. Я говорю: «Папа, я слышу, я тебя понимаю. Спасибо, папа».

Пока ты жива
То, что горе может случиться так внезапно и вторгнуться в твою жизнь так бесцеремонно, в пятницу вечером, через ватсап, еще спасибо, что не голосовым, показалось мне очень бестактным. Вся свадьба мигом куда-то отъехала. Из реального в руке остался только телефон с открытым чатом.
Когда такое случается с другими, до стыдного хочется узнать, что говорят, как проявляют эмоции. Когда переживаешь это сам, до последнего не можешь поверить в то, что это действительно происходит, и оттого кажется, что настоящий ты стоишь где-то сбоку, а может, и вообще танцуешь себе дальше на свадьбе и ничего не случилось, но ты все-таки тут, мама взяла трубку, и поэтому надо открывать рот и что-то говорить.
Бессвязный разговор с обеих сторон, будто мы не говорили, а хватали ртом воздух. Как, что. Я запомнила свою же фразу «любые деньги», сказанную чужим голосом, будто позаимствованную из дешевых сериалов. Никакие деньги тут, конечно, были уже ни при чем. «Надежда звонила, сказала, перелом лобной кости».
Как в замедленной съемке, я убрала телефон в сумку, допила вино одним глотком, расцеловалась с женихом и невестой и села в такси. И уже там — разрыдалась. Беззвучно, безостановочно. Так, что водитель не выдержал и, завершая поездку, спросил: «Все в порядке, уважаемая?»
Я ругала себя вслух: «А ну, прекрати рыдать немедленно!», но это не работало. Я думала о какой-то ерунде: как выглядеть красиво на похоронах, например, и мне становилось стыдно. Но когда я не думала об этом, перед глазами вставали додуманные картинки ДТП, и это было еще хуже: бабушка лежит на грязной дороге, кровавое месиво, ее раздевают на больничной койке.
Бросить все и лететь сразу? А работа? Найти кого-то, кому все передать? Все доделать и уже тогда лететь? Как бы поступила хорошая внучка?
Я набрала папе и, задыхаясь, булькая, попросила совета. Через пять минут пришло сообщение от мамы: «Отец говорит, ты не можешь полететь?» После развода они общались редко, например, когда меня некому было встретить в аэропорту, или вот как сейчас, когда кто-то умирает, так что немудрено, что они перестали друг друга понимать. Могу я полететь. Но первой все-таки полетела мама.
Когда летела я, сутки спустя, я уже знала, что Надежда все напутала, и это была не лобная кость, а лобковая, и даже не перелом, а трещина. Мама залетела в реанимацию прямо с самолета. Мне хотелось повторить ее подвиг, но меня не пустили: «Идите-идите, мы ее завтра в стационар выписываем, возвращайтесь ухаживать».
Мама уже успела сходить с дедом в ГАИ. «А вы, собственно, кто?» — спросил гаишник деда. «А он такой: “Я близкий родственник!”» — рассказывала она, и мы впервые за все это время рассмеялись. Дед с бабушкой разошлись, когда маме было восемнадцать, и бабушка с тех пор называла его «этот». Мы с мамой общались с дедом тайком от нее. Примерно так же, как я с папой. Поэтому, наверное, я до сих пор не замужем: не хочу разводиться.
«Лечу я на космическом корабле, сижу где-то сзади. Тут пилот оборачивается и говорит: ваша остановка, полезайте в люк! А я им говорю, нет уж, сами полезайте!» Бабушка рассказывала нам про свое путешествие на тот свет, а мы слушали, затаив дыхание.
В палате оказалась сломана одна койка, и мы уговорили лечащего врача никого на нее не класть. Говорят, до меня там спала старушка девяноста пяти лет, и я все думала, так же ли она съезжала всю ночь по наклонной, как я, или умещалась на какой-то одной половине.
Кто-то должен был с ней остаться. Может, если бы я не любила с детства больницы, я бы еще задумалась. Вместо этого я в два стремительных заезда на бабушкину квартиру перевезла все содержимое маленького, собранного наспех, в слезах и ужасе, чемодана в больничную тумбочку, и окончательно въехала.
Побудки не было, но я сама просыпалась часа в четыре и ждала до первых градусников. Дверь в палату была всегда открыта, в коридоре всегда горел свет, будто нам не было положено ни частной жизни, ни темноты. В дверь заходили кто и когда хотел — врачи с обходом, медсестры с уколами, уборщицы со швабрами.
Больница, детский лагерь, поезд-плацкарт, монастырь, аэропорт. Откуда во мне эта любовь к общему месту? Месту, где люди рождаются, играют, работают и отдыхают, едят и едут, болеют и молятся, умирают и лежат мертвые вместе. Человеческое общежитие. Маленькие мирки, которые крутятся по своим орбитам.
Может, это память тела, ведь я не только родилась в больнице, но и провела в ней первые лет пять. В три месяца у меня обнаружили дефект ног, который исправить советская медицина могла только постоянными операциями. Мама тогда оставила работу и устроилась нянечкой, чтобы быть со мной. Теперь была моя очередь.
Лечащим врачом у бабушки оказался тот же доктор, что и у меня в свое время: ортопед. Первое, что он сказал во время осмотра: «Вам надо хорошо какать». Бабушка кивнула. Сначала как раз это и не получалось. Но потом мама по бабушкиной наводке принесла нам варенье из рябины, и дело сдвинулось.
Смерть отступила, вернулась физиология. Я меняла судно, засучив рукава, дыша ртом, считая до двадцати. Рано утром, после завтрака, после обеда, перед сном. Через три дня я думала, что не смогу отмыться от этого запаха никогда. Мне было стыдно: оказалось, что живого человека любить гораздо тяжелее, чем мертвого. Как же так?
На четвертый день я вышла на улицу, будто в магазин, а сама набрала папе и призналась ему в поражении. Я сказала, что надолго меня не хватит. Я не понимала, как сохранить уважение, достоинство, отношения с бабушкой. Я не знала, как с этим справляются другие люди.
Папа не знал тоже. Он рассказал, что когда его мама, моя другая бабушка, была при смерти, он судорожно искал деньги на сиделку, узнал, как это дорого стоит, просил тетю взять это на себя. Я подумала, что это что-то женское — и встречать людей, которые приходят в этот мир, и провожать их из него.
Папа положил мне денег на карту. Дед снял накопления с книжки и отдал маме. В этом было что-то трогательное — будто мужчинам единственное, что остается, это присылать деньги.
Мама приходила к нам по вечерам и ложилась со мной на кушетку. Весь день она разбирала бабушкины завалы и рассказывала, как нашла два савана («Тебе куда второй, два раза, что ли, помирать собралась?» — и мы смеялись), перечисляла список вещей, которые она приготовила на выброс («Попрощайся с ними», — говорила она бабушке. «Да уже попрощалась», — говорила та, и мы смеялись).
Бабушка как ни в чем не бывало рассказывала: «А Надежда-то как перепугалась, она подумала, у меня череп проломлен», на что мы ей с горькой усмешкой отвечали, что ее Надежда не только сама перепугалась, но и нас перепугать успела.
Приходили вереницей бабушкины подружки из числа тех, кто еще мог ходить, и когда бабушка в десятый раз пересказывала им историю про полет на космическом корабле, мы с мамой тихонько смеялись, уткнувшись друг в друга. Потом я выходила провожать маму до проходной, и этот момент всегда мучительно хотелось продлить, но это было невозможно.
Бабушку стали готовить к выписке.
— Мам, — сказала я, когда мы с ней стояли у лифта. — Давай наймем сиделку.
— Бабушка не поймет.
— Это невозможно. Я с ума сойду.
— Давай мы ей скажем, что тебя на работу вызвали.
— А ты?
— А я останусь.
— А поехали все ко мне? Я буду работать, снимем квартиру большую.
— Нет, ты что, — спокойно сказала мама и зашла в лифт.

Привет, Илюша
Привет, Илюша
Пишу тебе впервые за сорок лет
Прости, было некогда и не до тебя, если честно
Прости, вру — просто боялась тебя, боялась, окажешься кем-то другим
Шпионом, агентом, энкавэдэшником
Ты, наверно, шагнул в Берлин отсюда, с Силезского вокзала, когда приехал в сорок восьмом
Хотя и покружил здесь на бомбардировщике за три года до этого
Как ты смог вписаться в обитель вчерашнего врага?
Моя мечта — это машина времени, на которой я могла бы сгонять к тебе
Может быть, мне удалось бы предупредить тебя, остановить то убийство и ты бы жил
Я обязательно должна оказаться в Берлине 8 декабря 1948 года, чтобы понять, что там случилось
Ведь после случая с тобой полетела с колес вся советская военная администрация в Германии, все пошло не так
Ты знаешь, но не скажешь
А я распутываю по узелочку твою большую тайну
Давай тебя порадую сначала: вчера состоялась твоя премьера!
Первый игровой монгольский фильм «Сын Монголии» на экранах
Только представь, в 2020-ом «премьера» картины 1936 года!
Ты удивлен, но у него давно затерялась русская звуковая дорожка, и твой супер истерн никто не мог посмотреть
Мне удалось его озвучить с актерами, на Мосфильме, представляешь?
Ты там лежишь у них в виде «дело номер» в архиве, порылась
Ничего фоточка
Кстати, фильм — угар, ты молодец, зрители смеются и выходят довольные
Черно-белое кино — дико скучно, ну кто его будет сегодня смотреть после нетфликса
У американцев такие сериалы, днем сел смотреть, а следующим днем вспомнил, что не ел
Нет, я работаю, конечно, просто все сидели дома во время ковида и смотрели кино
Это как в твою молодость лютовала испанка, и Вера Холодная умерла от нее совсем юная
И что вы тоже не ходили тогда по киношкам и сидели по домам — вот не верю
Ты даже не представляешь, сколько версий твоей смерти я накопала за последние два года И это после того, как мы всю жизнь даже не говорили о тебе
Только бабушка Милица сказала, что тебя отравили в Берлине
Причем отравили «наши»
Вот так она сказала, и больше ни слова, мне было тогда шестнадцать
Не приходило в голову спросить, что значит «наши»
Потом бабушку сбило машиной, она была такая жизнелюбивая, элегантная
Балерина Большого, тебе же нравились танцовщицы
Жаль, вы так и не пожили вместе, это все из-за Берлина, да?
Зачем тебя туда понесло?
Теперь я все знаю, мне выдали распечатки из военного архива
Никогда не думала, что столько просижу за пыльными папками в закрытых помещениях
Такого количества официальных писем в жизни не писала
И все для того, чтобы пробраться к тебе поближе
Мама — твоя малышка Ника — даже не знала, где ты похоронен
Я всегда думала, что в Берлине, но в прошлом году нашла тебя в Петербурге, на Преображенском
Так долго искала по колено в снегу и нашла тебя по расколотой могиле
Все были припорошены белым, а твоя — провалилась
Я сразу дернулась к тебе, к этой черной дыре
Так и знала, что это ты, с тобой все время что-то не так
Потерла изголовье и прочитала Трауберг Илья Захарович
Потом и мама ездила к тебе, впервые в жизни, ни я, ни она не верили, что это случится
Помнишь ее? Вашу фотосессию, после которой ты уехал и уже не вернулся
Ей было шесть, холодная девочка с бантом, ты обнимал ее для снимка, помнишь?
Это была единственная фотография, по которой мы знали тебя
И больше ничего, ноль
Ты писал ей письма с фронта, она недавно нашла, потому что я мучила ее — почему ей все равно?
Почему ей неинтересно, где ты лежишь, с какой стати ты вдруг снял первый игровой монгольский фильм
Почему вдруг Берлин, отчего погиб молодым — прошел войну, а мир не прошел, — и кто тебя убил
Она на все пожимала плечами
Мисс скорбное бесчувствие
Меня это просто бесило, как так?
Мам, это твой отец!
Ну и что, я его не помню
Кто-то оставил тебя без отца! Надо было выяснить, кто
О чем ты говоришь? Времена были другие
Что значит другие, мам? Тебе было все равно, так и скажи
Да, мне все равно
В общем, она полезла копаться в шкафах и нашла твои письма к ней
Она и сама просветлела — поверь мне, ей это несвойственно
Она ни разу в жизни не улыбнулась
Ты писал такими загадками и ребусами, чтобы миновать военную цензуру
А мать их и сегодня как орешки щелкает, она умная
Но скажи
Как можно писать письма двухлетней девочке на пяти страницах плотным шрифтом строчка к строчке про воздушные бои и балет?
Ты же писал эти письма не ей, а бабушке Милице?
А она тебе отвечала?
И откуда взялась невеста, кстати
Илья, я все знаю
И почему мама такая, теперь понимаю
Я тут нашла хронику твоих похорон
Причем не одну!
Ты в курсе, что твои похороны проходили в разных местах?
Я не верила своим глазам, как помпезно они прошли
Сначала в Берлине сняли сюжет в немецком киножурнале «Очевидец», гроб в хрустальном катафалке, это улет
Для съемок подогнали?
Навряд ли так и прокатили в нем по советскому сектору
Потом в Ленинграде, с процессией по Невскому, несли твой портрет, Черкасов, Козинцев, твой брат, я все искала глазами бабушку
Но оказалась там не она, а твоя невеста
Как неожиданно, правда?
Оказывается, в Ленинграде тебя ждала Люба, танцовщица ансамбля Моисеева
На съемках с Любой познакомились, да?
Или попозже?
Сели мы на кухне у Марии, внучки твоего брата Леонида — смотреть хронику твоих похорон, и заметили даму в каракулевой шапке
Она притиралась поближе к твоей урне, к портрету с красной звездой, в самые первые ряды, эта дама
И что думаешь, Мария стала бормотать, — дама в каракулевой шапке, дама в каракулевой шапке, — полезла в альбомы и — нашла ее портрет все в той же каракулевой шапке
С надписью на обороте «Люба Фомичева, невеста Ильи Трауберга, должна была выйти за него замуж, но он умер в Берлине в 1948 году при странных обстоятельствах»
Мы потом курили молча
Знаешь, а бабушка так и не вышла замуж, ты готов это услышать?
Она не согласилась на раннюю пенсию балерин, стала костюмером в Большом
Слава Зайцев делал комплименты сшитым ею нарядам, она шила платья всем подругам из Большого
Готовила воздушные торты и пироги, которых нет в «Большой кулинарной книге», где не хватило бы красок их напечатать
Эффектная кармен — представь, она так и осталась одна, твоя Милица
По тому единственному фото мы, конечно, знали, что ты был красавчик
Прочли потом, что тебя называли советским Тайроном Пауэром
Когда тетя Ира — дочь твоего брата Виктора — она жива, я ее нашла! — передала мне твои портреты, я не могла оторвать глаз, вот это профиль
Сейчас такие фото выложить в тиндере, и…
Но ты всеми днями зависал с актрисами и балеринами, зачем тебе тиндер
Представь, я читала эти письма от разных актрис, писавших тебе в послевоенный Берлин
Там, на студии ДЕФА, ты погрузился в дела построения нового социалистического кинематографа, а письма шли
Я сидела в архиве, затаив дыхание, раза три выбегала из читалки подышать, не ожидала, что сдавит
Ведь я тебя никогда не видела, сдался ты мне
И вдруг — так мало воздуха
Так что, у мамы правда был брат Гарик или все это — попрошайничество, тень послевоенной нужды и всеобщего вдовства?
А почему другая актриса тайно ото всех передавала этой даме большие суммы от тебя?
Я маме не показываю эти письма, но отсканировала их все, конечно
Какая-то мразь поместила их в архив на всеобщее обозрение
Вместе с актом освидетельствования твоего трупа и официальной версией якобы естественной молодой смерти, и это в архиве по искусству
Ты там единственный с такой постановочной подборкой, все акты без подписей
Тебя кто-то постарался очернить
Очень постарался
В истории советского кино остался только твой брат Леонид
Леонида, если знаешь, травили в Ленинграде как главаря космополитизма через три месяца после твоей гибели
От горя он ослеп, твой брат
А тебя … стерли ластиком, как говорит Меньшиков в «Утомленных солнцем»
Ты ведь знаешь, что твой труп на следующий день сожгли в Баумшуленвеге, чтобы скрыть улики?
А какие именно улики, Илья?
Скажи мне, что они хотели скрыть?!
Будь я сейчас в 48-ом, не пустила бы тебя к этому Гансу Клерингу
Я знаю, что смерть на его вечеринке была публичной версией, в которую никто не верил
Будто ты пил водку
Или даже просто ел за большим столом в полуголодном Берлине
Тебе стало дурно, и ты прилег до утра
Ведь ты не верил Клерингу, не думаю, что «прилег»
Тебя процитировали в одной из западных послевоенных газет, в Шпигеле, что ты ему не доверял
Я могу понять, почему
Он работал потом на Штази
А в СССР был завербован еще до войны
Ты и сам это прекрасно знаешь
В сорок восьмом начался раскол берлинских секторов
Холодная война, блокада Западного Берлина, все дело в этом?
Ты узнал от своей подруги — актрисы Лило Мессен, что ее отец, на которую делает ставку новое правительство, бежал в западный сектор, прокляв советский контроль?
Ты не стал доносить о готовящемся побеге?
В мгновение из «культурофицера» ты превратился во врага социалистического лагеря, да?
А что у тебя было с переводчицей Таниевой, преданной тебе болгаркой, освобожденной из концлагеря, которая сразу после твоей смерти отравилась газом?
По-моему, ее откачали
Уточню, если хочешь
Ты чудовище, Илья
Малышка Никуся точно бы сказала о тебе так
Она правильно делала, что не искала тебя
А я из-за тебя дни провожу в архивах, не в объятиях мужчин
Теряю свой последний шанс, как выражается мать, для нее я давно отколовшаяся льдина
С того света почуяв нашу близость, ты пришел ко мне в том сне
Забравшись ко мне под кожу, повел по коридору навстречу опасности
Сказал, что хочешь показать мне своего убийцу
Коридор вел в комнату, дверь которой была нараспашку и упиралась в неубранную постель
Я видела, как все залито кровью
За дверью кто-то был, мы приблизились
Но он выстрелил, и я проснулась от внезапной смерти
Он не дал мне себя разглядеть, Илья
Но я продолжаю искать твоего убийцу
А знаешь, что Герхард Денглер оставил устное свидетельство, что ты умер на проститутке?
Его тогда же и уволили со студии, этого Денглера
Кто-то снял с ним интервью в начале нулевых, пока они все были живы, ветераны ДЕФА
Стены поплыли мимо, когда на мейл упал перевод архивной записи
Увидев мое лицо, он бы также насмехался, старый дурак?
Честно, я хотела бросить расследование
Он сказал, что один знал правду и тихо смеялся над торжественным прощанием с твоим гробом
Он вообще думал, что его могут услышать твои потомки?
Но Денглер — сумасшедший сталинист, перевоспитанный из гитлеровца в Красногорске
Говорил, словно мстил в будущее
До этого я нашла интервью с другим сотрудником ДЕФА Калом Хансом Бергманном
Он убеждал, что тебе сделали укол ядом, потому что ты был братом Леонида-космополита
И обе эти версии — для отвода глаз
Ты узнал, что студия ДЕФА — лишь витрина акционерного общества «Линза», которое разрабатывает ядерное оружие?
У меня по правую руку горит Полярная звезда
В Москве такая редкость, когда что-то светится в небе
Скажи мне причину — женщина или ядерная бомба?
А я уже на три года старше тебя
Ты ведь там не стареешь?
Все такой же красавчик?
Твоя внучка

Причины возвращаться
Через час нужно отправить ТЗ копирайтеру, а передо мной лист с парой ссылок из первой страницы «Гугла». Я вслушиваюсь в хриплые звуки японской флейты, но лаунж-радио не помогает настроиться.
Я постоянно смотрю в окно. Меня отвлекают даже снежинки, и дело не в том, что я не хочу работать.
Утром 31 декабря Дмитрий Сергеевич заберёт нас из аэропорта. Дорога в дом бабушки и дедушки под неловкую беседу. Что, как родители, Карин? Нормально, работают? Как сама? Всё так же в затворничестве? Слав, давай я Виктору Германовичу позвоню, он устроит всё. Ну как хочешь, а в музыкалке норм за полтинник после консерватории?
Дома Ольга Вячеславовна унесёт куртки и не позволит Славочке вешать одежду. Из комнаты выплывет Тамара Степановна в неизменной сиреневой шали. Следом — скромный Макар Андреевич.
— Славочка, наконец-то приехал!..
Приехал, конечно же, Славочка. Карина не приехала — она осталась в Москве, в прошлой жизни, когда она не знакома со Славочкой и не приезжала на Урал забрать ребёнка из дома.
Карина, конечно, врёт. Её заметят и скажут неуверенный комплимент, вроде «Как замечательно выглядите!» Тамара Степановна будет холодна, хотя и пожмёт руку. Обязательно спросит: «Как здоровье? Как мама с папой? Замечательно…»
«Слава Богу за всё». Так ставится точка в расспросах о семье Лавровых.
Состав из пятерых Анастасьевых-Барских и одной Лавровой рассосётся из коридора. Славян с отцом — варить новогоднюю солянку. Её хорошо есть после встречи Нового года на горнолыжном склоне, замёрзшим и красным с мороза. Матери семейств — накрывать стол. Я и Макар Андреевич сиротливо сядем перед телеком молча смотреть старые фильмы, которые показывают каждый последний день года. И дедушка робко спросит: как там столица? Не посещали спектакля или выставки? Вот, Кариночка, хочу Тамарочку на «Хануму» сводить, но она ни в какую…
Снег усиливается, ветер жалобно воет в вентиляционных шахтах. От московской зимы неуютно, она затягивает в сырость с мокрыми дорогами даже при морозах. Плюс предстоящих каникул — снова побыть в нормальной зиме. Взять доски, отправиться на Волчиху. Падать с подъёмника, разматываться по склону и реветь, ведь не получается с первого раза. А должно обязательно. Но всё же собираться с силами и ползти вверх, засунув под мышку прокатную доску.
Возможно, я накручиваю себя. Однако уже четыре Новых года подряд проходят по известному сценарию.
В замке поворачивается ключ. Славян не мог закончить работу так рано. Я снимаю шлемофон, иду в коридор.
Славян стаскивает обувь, не наклоняясь и не расшнуровывая. Когда он приходит домой злой, то не снимает наушники. В напряжённом молчании он кидает рюкзак и удаляется в ванную. Проходит вечность, пока он выключит воду, вытрет руки и повесит полотенце.
— Димон сказал, что школа не вывезла 2020, и нас всех попросили.
***
Димон — идеальный человек для запуска стартапа. Горящий идеями, заряженный двигать команду и впаривать продукт агрессивным маркетингом. Он занял деньги, купил оборудование, нанял преподов по вокалу, фано и гитаре. Последним до 28 декабря 2020 числился Славян.
Сейчас Славян сидит на кухне и крутит чашку с остывающим чаем. Я не осознаю настоящего, будто меня разбудили и заставили решать логарифмы. Никто не умер и не заболел. Но меня сковало чувство потери, если бы Славян сказал, что лишился не работы, а руки.
Но он выглядит буднично, словно ничего не случилось. Словно не нужно разносить Димона, обвинять пандемию, кризис, весь мир. Вот-вот допьёт чай и пойдёт мыть плиту или настраивать электруху.
— Что делать будем?
— В смысле?
— С работой?
— А. Новую искать. Тридцатого придёт расчёт, внесём за январь за квартиру. После праздников начну искать место.
— Ладно. Только ты не говори своим, окей?
Губы Славяна дрогнули в ухмылке, он косится на меня.
— Нет, блин, я уже рассказал.
***
Конец декабря — время, когда не работают или работают до последнего. Стремятся закрыть проекты и не тащить в новый год кучу дел. Из последних сил я заставляю себя заполнить табличку в Excel, но мыслями уже в утре 1 января.
Славян заходит в комнату. Он не говорит, но я чувствую взгляд между лопаток и оборачиваюсь.
— Короче… денег не будет.
— Почему?
— Расчёт не пришёл. Я списался с ребятами, им тоже. У Димона тельчик выключен.
С каждым словом его голос становится выше. Он ходит по комнате, как встревоженный тигр по клетке.
— Давай подождём, мб объявится.
— Дак чо ждать-то? — Славян бесится и быстро машет руками. — Десятого числа хозяйка напишет. Я ей чо скажу? Завтра в аэропорт ехать, билеты на аэроэкспресс по пятихатке…
— Ни сцы, возьмём шеринг. Хозяйке с моей зп отдадим.
Ворча, он выходит из комнаты. Подождав, я беру телефон.
На «запаске» лежит три кеса. Ещё 15к отложены на поездку. Полтинник — моя зп. Из него 35 — на квартиру.
***
Уральцы — удивительные люди. Если Дмитрий Сергеевич говорит, что встретит, не значит, что без Тамары Степановны. Если бабе Тамаре «нужны квитки за квартплату», их нужно забрать 31 декабря. А Сергеевич не может отказать дорогой тёще.
Славян оживлён и рад возвращению домой. Я натягиваю капюшон и пытаюсь раствориться в обивке «Октавии». День не задался с утра: рейс задержали на час из-за метели, а сейчас она перерастает в пургу.
Машины толкаются у выезда из аэропорта, протискиваются на объездную, чтобы вырваться на трассу. Мы стоим на выезде дольше обычного.
— Что творится. Хорошо, что заранее выехали. — Отец Славяна показывает навигатор. — Всё стоит до Санаторного. А дальше вообще мрак какой-то.
— Может, рассосётся?
— Фиг знает. Передавали метель, дак кто ж думал, что такая хренотень начнётся?
Выезд из города занимает пятнадцать минут, в худшем случае — тридцать. На нечищеных дорогах мы встреваем на час с лишним. Сергеевич ворчит, баба Тамара — хранит хладнокровие.
До Нового года девять часов.
Радио теряет сигнал — мы выбрались на тракт. Здесь здорово ехать и наблюдать, как вырастают из земли камни, превращаясь в исписанные Витями и Настями скалы. Здорово, когда не толкаешься по односторонке среди тайги, где не ловит связь и телефон показывает «Только экстренный вызов».
Через некоторое время мы перестаём двигаться.
— Пойду посмотрю впереди.
Славян выходит следом за отцом, и я остаюсь с бабой Тамарой.
Меня сковывает ужас. Кончится бензин, сядет аккумулятор, и мы будем встречать Новый год среди пурги. Без горячей еды, тёплой одежды и с квитками за квартиру.
— Кариночка, не холодно?
— Нет, спасибо, нормально.
Это мне сейчас не холодно. А когда сядет аккум?
— Как родители?
— Нормально… К бабушке с дедушкой поехали.
— На дачку?
— Ага.
— Молодцы. Гулять будут?
— Наверное.
Почему они не возвращаются? Может, поругались с другими водителями, и сейчас им нужна помощь?
Дверь открывается, Славян падает рядом со мной. Сергеевич садится на водительское.
— Фуры не едут.
— В смысле, не едут?
— Резина не цепляет. Крутят колёсами на месте, в горку никак. Их потихоньку объезжают. Ничего, через пару километров съезд на сады, проскочим.
Ветер за окнами и визг покрышек фуры, когда мы проезжаем мимо. Иногда кто-то обменивается парой слов. Если поднять руку, можно дёрнуть за невидимые струны и услышать, как звенит напряжение.
— Меня, короче, уволили.
Я закрываю глаза и желаю провалиться под кресло. Но взрыва Везувия, который я ожидала, не последовало.
— Дак как так-то? — Сергеевич поворачивается в кресле.
Дальше должно быть: а давай я позвоню Васе, а давай Пете? Но Славян просто рассказывает о последних днях — так же буднично, как двадцать восьмого на кухне. Мир почему-то не рушится, из горла бутылки не вылетает ифрит, сметающий всё на своём пути.
Баба Тамара отчаянно ругает Димона. Вот его на «Первый канал» к Малахову! Ба, нет там уже Малахова. Тогда к Соловьёву. При чём тут Соловьёв? Один фиг, черти все!
Ком, который давно стоял у горла, задушит меня или вырвется наружу. Сама не ожидая, я начинаю реветь.
На меня смотрят три пары глаз, а я не могу выдавить из себя ни слова. Груз обиды, который не давал мне покоя почти пять лет, рухнул, пробив дамбу. Я всеми силами пытаюсь взять себя в руки и что-то всхлипываю. Что мне очень стыдно. Я виновата, что мы уехали. А хочу жить здесь, и Слава хочет. Зря мы в эту Москву… Сейчас были бы дома и готовились встречать Новый год.
Это из-за меня мы застряли в тайге и метели.
Баба Тамара что-то говорит, берёт за руку. Её ладони сухие и тёплые, и пусть она заберёт все квитки на свете, только больше не видеть бы её монстром в своих глазах.
— Сейчас нас затопит! — Сергеевич достаёт из бардачка пачку столовых салфеток и протягивает мне. — Я вас, молодёжь, понять не могу. Вы в Москву зачем поехали? Чтобы пробовать?
— Ну…
— Дак и пробуйте.
Слава с отцом о чём-то оживлённо спорили, пока мы крались мимо фур и выскакивали на трассу. Баба Тамара переключилась на меня: в год, когда они с дедом Макаром женились, была такая же пурга. Барские всегда играют свадьбы зимой, традиция. «Октавия» сворачивает с трассы и протискивается на заметённую дорогу к садам. Через полчаса, в 22:14, нас встретят встревоженные мама и дедушка Славяна. Теперь уже не до солянки: быстро в душ, по горячему чаю с настойкой и — встречать Новый год.
Пурга закончится к одиннадцати утра 1 января. Первый день года мы встретим с лопатами, разгребая проезд из садов. Я ещё не знаю, что это будут лучшие новогодние каникулы за последние пять лет. Но, кидая снег и болтая с Сергеичем, наконец-то почувствую себя дома.

Прогулка
Откуда ни возьмись, набежали облака, над морем повисла туманная дымка. Она погасила синеву моря, закрыла сиреневые горы и разноцветные домики. Так и любовь иногда прячется, притворяясь невидимкой. То ее так много, что сияет все солнцем, улыбкой дня, и так же глаза видят. Это слово хочет стать невидимым, потому что слишком часто звучит у меня, и желание ее слишком велико.
Двое на корабле, где каждый капитан, и ветер в лицо, и плеск волны за бортом, и за борт — все нерешённые проблемы.
При встрече — вспышка взгляда, его — зелёного, моего — синего. Близость, тайна, преображенный в правду мир, где все настоящее, и ты в нем есть.
Хватает небольшого вранья. Вместо того чтобы сказать: «Я не хочу сегодня гулять, хочу побыть один», он отменяет свидание, отговаривается необходимостью вести сына к врачу. Звоню позже, чтобы узнать, как сын. А может, просто услышать голос. Попадаю на жену. До мобильных телефонов было ещё далеко. Сын здоров, а его нет дома. Сжимаюсь, холодеют руки. Словно это конец. Утешаюсь придуманными объяснениями.
При встрече прошу мне никогда не врать. Мирюсь его миром, утрачивая свой, тоже получается обман. Туман меняет очертания, изъян невидим.
Иногда туман падал, как сон.
Тогда в декабре умерла мама. Все случилось так неожиданно. Мама никогда не болела, никогда. Только все отдалялась от нас в последний год. Ничего не спрашивала про мужей, детей, когда мы с сестрами приезжали в гости на день рождения или праздники. Ничего не знала про наши почти одновременно умирающие браки. Ей как- будто было не до того. Да и что могла сказать мама? Сами во всем виноваты, делаете не то, выбираете не тех. И еще — я вам говорила. Как будто сама что-то знала про эту жизнь. Ни знаний, ни полезных навыков. Мне все еще трудно наводить порядок в шкафу или открывать запечатанные коробочки. Хотя я все же инженер-математик и кандидат наук, между прочим.
А чем мама жила тогда? Уже не узнаешь. Поездки к родителям были обязательством. И вдруг — инсульт, две недели без сознания, в больницу не взяли. Тяжелый случай инсульта — не транспортабельна. Отец вообще был никакой, потерянный от беспомощности. Сидели по очереди с ней. Пытались понять, узнает ли нас, держали за руку, задавали вопросы. Ушла, не придя в сознание. Похороны, холод минус двадцать, ветер, снега нет. А я ничего не чувствовала — мама умерла, и что? Не умели говорить о смерти и о любви. Только когда комья замороженной земли тупо и холодно ударились о крышку опущенного гроба, полились слезы, словно меня опускали в яму. Слезы были теплые, но сразу замерзали. Как будто однажды и меня поцеловала Снежная королева, оставила складывать из льдинок магические послания.
После девяти дней — к Марку Шагалу, к его полетам над крышами родительского дома.
Купила билет в купе, презрев экономию, мечтая о дорожном одиночестве.
Сына оставила с сестрой, объяснив поездку командировкой. «Муж объелся груш», еще не съехал, но на него нельзя положиться.
Вот и вокзал. Погружаюсь в запах дороги, мазута шпал, вагонной пыли, чая с лимоном, «дай мне напиться железнодорожной воды…» — в наушниках синхроничен БГ. Вхожу в вагон первая, даже освещение не включено на полную мощность. Легкий сумрак, обещающий тайну. До-придумываю тайну. Вагон уютно покачивается, как корабль перед отплытием. До отправления осталось двадцать минут, по-прежнему в купе одна. И вот главный момент в дороге — отрыв, начало движения. Мимо уезжает перрон, огоньки города, вокзала, размываются фигуры и лица. Похоже на воспоминания. В дороге совершаются открытия, приходят ответы. Надолго тону взглядом в подводной темноте окна. Замечаю появившуюся в дверях женщину…
Добрый вечер, я Ева…
Из сна выдергивает проводник, собирающий билеты. Попросила чаю с лимоном. Долго сидела с чаем, добавив туда немного коньяка, и все пыталась припомнить продолжение сна. Ева. И что?
В Витебске, расспрашивая удивленных спешащих прохожих, среди утонувших в сугробах домов разыскала тот дом. Он был, как и соседние дома, занесен снегом, но дорожка к дверям не расчищена и нет никакого музея. Долго стояла и смотрела в небеса Шагала, пытаясь разглядеть там на прогулке его и Беллу, летящих среди облаков.
От поездки осталось ощущение ищущего взгляда, и Ева из дорожного сна.
Женька любила смотреть на облака. Они похожи на мысли или на сны. Вот птица, раскинувшая крылья, и большущая рыба со светящимся глазом солнца, опустишь взгляд на море на секунду — и рисунок изменился.
«Хрупко то, что не имеет возможности меняться», — он подарил ей Фицджеральда «Ночь нежна» с такой надписью — от себя. Хрупкость отношений царапала Женьку. Слова звучали утешеньем.
Облака невозможно удержать, а мысли можно, как и сны. Часто их старательно записывает. При записи они все равно меняются. Но что-то происходит и с ней. Меняется теченье жизни. Развелась с мужем, встретила любовь, родила сына, рассталась с любимым. Стали ближе сестры и друзья. Но по-прежнему взгляд убегает в облака и упускает что-то важное здесь.
Когда выбирала институт, чтобы учиться психоанализу, все решил Музей сновидений Фрейда в Восточно-Европейском Институте Психоанализа в Питере. Музей сновидений — как это вообще возможно? Жить и учиться в Питере тоже было ее давним желанием.
Завтра уезжает.
Все в ней бурлило радостью, до мурашек. Наверное, любовь к переменам была каким-то наркотическим желанием этого состояния. Гм, надо подумать об этом.
Младшего сына пристроила к сестре, старший женат, а Женя опять студентка. И надо попрощаться с подругой. «Мобильник это счастье», набирает Наталью.
Надо бы устроить прощальные посиделки. Конечно, она тоже всегда рада встречам, как и Женька. Поручает ей швепс.
Их любимый напиток — водка со швепсом. Вкус и действие как у шампанского, время действия удлиняется. Приготовила жюльен, жареный сыр, салат. Все как они любят.
«Наша трепетная дружба, мое настоящее, где несомненно тепло, и любовь, которую можно высказать. И ни в чем нет вранья. Храню, как сокровище».
Сначала бокал за встречу.
Второй — за исполнение мечты, так жаль, что у тебя не сложилось, Наташ.
Хотели вместе учиться, но у Натальи семья в приоритете, не получилось.
«Буду с тобой всем делиться, сама знаешь».
«Жюльен классный, очень вкусно. Буду скучать по тебе».
Женя улыбается. Готовка не ее конек, а, скорее, слабое место. Любит радовать подругу и получать ее похвалу.
Готовит ещё два коктейля.
— Кстати, ушла с работы все же. Сон помог, сама удивилась ему. Приняла как знак верного решения.
Они часто делятся своими сновидениями.
— Ха.Сижу в приемной у Ленина Владимира Ильича. Народ передо мной заходит с просьбами, он их журит, наставляет. А я тут сижу и трепещу со своими вопросами. В реальности, помнишь, меня круто подставила коллега, лишили премии, злюсь, но виню во всем себя, такой контекст. И вот сон.
Подошла моя очередь, он вышел и приглашает в кабинет, заходи, мол. Я поднимаюсь с корявого жёсткого стула и, прищурившись, смотрю ему в глаза, поводя головой в сторону остальных просителей, неожиданно чеканю: «А не пошли бы вы на х…, Владимир Ильич!» Остальные просители со страхом смотрят на меня. А я что? Будь что будет. Зато я послала на х… вождя мирового пролетариата! И гордо удаляюсь.
Обе хохочут.
— Утром пошла увольняться.Пытаясь объяснить, почему ухожу, рассказала сон подруге Лене. Та пробормотала скептически: «Да, это важная причина».
Она, между прочим, вообще сны не ценит!
Осень забросала питерские улицы красно-золотыми листьями кленов.
Первый день учебы в Восточно-Европейском Институте Психоанализа. Институт на Петроградской стороне, Большой проспект, 18. Старинное здание, мраморная лестница, мозаичный мрамор на полу, зеркала отражают плавающее в них солнце. Первые прикосновения к тому, что станет твоим надолго, новорожденность, свои отражения в зеркалах новой реальности. Первая лекция «Введение в психоанализ». Зачарованная, чувствую свою причастность к тайнам бессознательного. Всматриваюсь в другие лица, нас здесь много, около семидесяти человек.
Все, похоже, немного заблудившиеся в «сумрачном лесу», со своими вопросами.
Заняла место на первой парте, внемлю лектору, как первоклассница. Тяну руку с вопросом.
— М. М., вы сказали, что терапия может длиться долго, несколько лет. А как же пациенты выдерживают? Нельзя ли придумать, чтобы побыстрей все происходило?
— А вы куда-то торопитесь? В вашей жизни быстро происходят изменения?
— У меня — да. Если мне что-то не нравится в моей жизни, я ее меняю. Вот почему я здесь. За любимой профессией.
— Вам сколько лет, такой вот нескромный вопрос.
— Мне… сорок пять. — Убавила пять лет на всякий случай. — А в чем вопрос-то?
— Быстро вы дошли до любимой профессии, — с улыбкой ответил М.М….
По аудитории пробежали смешки.
Тогда я не подозревала, какая длинная дорога мне предстоит. Просто нырнула, влекомая бездной, в которую долго всматривалась.
Мы выбирали себе терапевта. Сначала казалось, что психоанализ это такой магический кристалл. Начнешь вместе с терапевтом смотреть через него на свою жизнь, в центре которой главная проблема, с которой пришел, и пошло-поехало, все станет понятным, и от этого проблема, став осознанной, по Фрейду, растворится. Но оказалось, ей нужна другая магия.
И как-то на лекции я это почувствовала. Лектор была Фея. Она казалась юной и мудрой, и чем-то напоминала пантеру Багиру. «Да-да, и Фея, и Багира». — Женя улыбнулась своим мыслям. Голос завораживал, тема была про символы, сказки и сны. Она провалилась туда, не видела ничего вокруг, только следила за ней, ее словами, которые затащили в сказку про золотое блюдечко и наливное яблочко, про открытый неведомый мир, про зависть, смерть и возрождение. Елена продолжала лекцию, превращаясь, приближаясь. Шутила, улыбалась, иногда смущалась. Была живой, настоящей, не из сказки, вовсе нет.
За окном шел снег, ветер крутил последние листья. Лекция закончилась.
— Хочу к ней в терапию, — сказала подруге.
— Слишком хороша для меня, — заметила та.
— Для меня как раз…
Выйдя на привычный перекур, увидела там Елену — тоже с сигаретой. Сделать важный шаг здесь оказалось проще. Договорилась о встрече, не веря в возможность.
Через речку Карповку по арочному мосту, слева кафе, направо — Психоаналитический центр, кованая ограда, сквер во дворе, мраморные ступеньки, тяжелая дверь. Дрожь в коленях, и испуганной птицей бьётся сердце. Уютные сумерки кабинета, теплая лампа в углу, Елена Прекрасная в кресле, мое кресло напротив, кушетка.
Начался разговор, который был психоанализом. Непривычно говорить о себе. Сразу родилось доверие — от ее внимательного взгляда, молчаливого слушания и слышания. Нигде и никогда так. Мы словно собирали мои потерянные пазлы. Происходящее было похоже на сон, в котором случались события со мной, мне не знакомой. Елена словно держала меня за руку, и в сон входила реальность. Как кропотливое восстановление текста, где о слове догадываешься по контексту. И слово «любовь» читалось нездешним звучанием. Один час, равный новому началу жизни через какую-то иную точку пространства-времени, через черную дыру, где они меняются местами.
Вышла из ворот, переходя через Карповку, увидела на кафе справа название «Маргарита». Имя мамы. Взгляд расплывался, по воде плавали пять черных, блестящих в свете фонаря уток, загорелся зелёным светофор. Шел дождь, или просто был влажный вечер, или мои слезы.
Иду по Питеру, и со знакомой улицы за углом знакомого дома вдруг сворачиваю в арку и выхожу в возникший невесть откуда двор. Сажусь на лавку, прикуриваю и сквозь улетающий дым вижу двор своего детства. И она, маленькая девочка, забытая в этом дворе всеми в упавших сумерках. Девочка задумчиво ковыряет песок, ничего не пытаясь строить, монотонно набирает и высыпает его, а в окошках дома уже горит свет, и там садятся за круглый стол под висящим абажуром, с пирогами и сладкими плюшками, которые она так любит.
Запомню этот дворик и приду в следующий раз. Ночью во сне она обнимает маленькую девочку, шепчет ей сказки в нежное теплое ушко и обещает никогда не забывать про нее.
Долго добираюсь до дома каждый раз после хождения туда, не знаю куда. Так называю свои встречи с терапевтом.
Утром по пути в институт начинаю всматриваться в лица прохожих, пытаясь увидеть в них скрытые тайны, задумчивость, грусть и улыбки. И чувствую любовь, в этом нет ошибки. Облака по-прежнему проплывают в небе, качаются крыши домов, шпили Исаакия и Адмиралтейства, если запрокинуть голову. Под ногами пружинит дорога, по которой иду, не торопясь, чувствуя в своей руке теплую руку другого.

Пролетарий
1.
Очередная стальная решётка вышла из-под прокатного станка. Режущий гидравлический пресс со скрежетом отрезал её от стального полотна, и та с грохотом упала на бетонный пол. Через несколько секунд процесс повторится. За эти секунды нужно вдвоем с напарником поднять упавшую решетку, оттянуть её на несколько метров и уложить в штабель. Решетка весит килограмм шестьдесят. Я не проработал и часу, но у меня уже отваливаются ноги, плечи и поясница.
В напарниках у меня был Обама, нелегал из Конго. Настоящий такой гетто-нигга из фильмов про настоящих таких гетто-нигг: широкоскулый, огромный, с банданой на лбу и золотой цепью на бычьей шеяке. Вообще-то, его звали Кристианом, а свое погоняло он получил за то, что носил майку «Obama for your mama». Он работает без устали, я едва за ним поспеваю.
Закидываем последнюю решетку на верх штабеля. На это у меня уходят последние силы. Жестами предлагаю Обаме взять тайм-аут. Минуту, всего одну сраную минуту. Он отрицательно качает головой и кивает в сторону бегающего туда-сюда Миши, начальника смены.
2.
На собеседование в агентство по трудоустройству я попал только с третьей попытки. В первый раз я проспал, потому что мы с товарищем пережрали ЛСД и сутки гуляли по Тель-Авиву. В следующий раз я не смог прийти, потому как умирал с жесточайшей похмелюги, упившись накануне в сопли на концерте «Gogol Bordello».
До этого я два месяца не мог заставить себя даже думать о том, чтобы выйти на работу. Последние три года я работал бариста. Сама работа мне нравилась. Ну то есть, мне нравилось готовить кофе. Виртуозно рисовать сердечки и листочки туго взбитым молоком в раскаленном эспрессо. За несколько лет я добился в этом определенного мастерства. Но меня выворачивало от самой мысли о том, что придется снова ходить на собеседования в рестораны и кофейни, стараться понравиться хозяину, корчить из себя жизнерадостного идиота, обслуживать упырей-клиентов…
3.
Собеседование проводила полная тетка с уставшим лицом. Записав имя, фамилию и возраст, она начала расспрашивать об образовании и опыте работы.
— Я писатель…
— Кто-кто?
— Бариста, говорю.
— Для барист у нас ничего нет.
— Я еще в телемаркетинге работал…
— К сожалению, без квалификации могу предложить либо салфеточную фабрику, либо ночные смены на арматурном заводе.
— Знаете, я, вообще-то, в колледже полтора года учил экономику. Знаком с офисными программами, имею представление о бухгалтерском учете…
— Дипломы или опыт работы есть?
— Нет.
— К сожалению, без квалификации…
— Хорошо, беру арматурный завод.
«Хотя бы неделю, а там посмотрим…» — подумал я, взяв направление на работу.
4.
Квалифицированной рабочей силой были китайские гастарбайтеры и русские израильтяне: фрезеровщики, сварщики, монтажники. Остальные были чернорабочими, в прямом и переносном смысле. Те, которые в прямом, представляли едва ли не весь африканский континент: суданцы, эфиопы, эритрейцы, нигерийцы. Среди тех, которые в переносном, были я и Валера-Хэм, угрюмый дед, получивший своё прозвище за окладистую седую бороду, придававшую ему сходство с Хемингуэем.
Смена начиналась в шесть вечера и заканчивалась в шесть утра. Двенадцать часов на осмысление ситуации, в которой оказался. Вспоминаю свою последнюю работу в кафе. Прохлада кондиционера, прихипованные официантки, уютные запахи кофе и сдобы, завтраки и обеды, гашиш с поварами перед закрытием… Устал работать с клиентами? Вот и ворочай железяки теперь, пролетарий ебаный. Продолжай семейную традицию.
Мой отец по десять часов в день под палящим солнцем сваривает швы в вонючих нефтяных цистернах. Мама уже тринадцать лет смотрит за стариками в богадельне. Их жизнь в Израиле состоит из тяжелой работы, ипотеки, счетов и долгов. Они скатились на несколько ступеней вниз по социальной лестнице и безропотно тянули лямку, старея и глупея на глазах.
Они из тех эмигрантов, которые даже и не пыталась выкарабкаться. Так живут их друзья. И друзья друзей. И тринадцать лет я слышу: «Если надо — будем пахать!» Где угодно, сколько угодно. Они смогли — смогу и я.
5.
Двенадцать часов завода — и ты на свободе. За следующие двенадцать часов ты должен успеть приехать домой, пожрать, посрать, поспать — и снова бежать на завод, и все это для того, чтобы просто продержаться на плаву. Мой бег от реальности закончился тем, что она меня настигла и вкатала в асфальт. Зато без офисного рабства, ага.
В станке что-то вышло из строя, и работа застопорилась. Воспользовавшись паузой, закуриваю. Коршуном налетает Миша:
— Какого хуя ты сел? Нет работы — бери метлу и подметай. Здесь пиздячить надо! Если что не нравится — завтра не приходи.
Выкидываю сигарету, беру метлу. Мне нужна эта работа. Нужна. Этот пидор не заставит меня её бросить…
— Бросай всё на хуй, пошли обедать! — хлопает меня по плечу Хэм.
ПЕРЕРЫВ!
6.
Разбившись в столовой по этническим группам, трудяги с аппетитом поедают обед. Запихиваю в себя сухой бутерброд. Проходящий мимо китаец-сварщик угощает китайской сигаретой. Говнище редкостное, кстати. Сигарета, в смысле. Хэм, задумчиво ковыряясь в зубах спичкой:
— Вот смотрю я на тебя, Рома, и удивляюсь. Вроде руки-ноги на месте, вроде и не глупый… Нахуя тебе этот Освенцим? Ладно я — алкаш, но ты-то что тут забыл?
— А я здесь на самом деле не работаю.
— Это как так?
— На самом деле, я преуспевающий экономист, а складывать в штабеля железки это мое хобби.
— А если серьезно?
— Если серьёзно, то я и сам не знаю, какого хера я здесь делаю. Карму отрабатываю, наверное…
— Карма-хуярма. Ты по-людски скажи. А то взяли моду…
— Ну, это что-то типа наказания за бессознательную жизнь. Чистилище.
— А, ну эт как у всех. Я вон тоже раньше поваром в «Хилтоне» работал. Тогда я еще на человека был похож. Пятерка в месяц, плюс социальные условия, плюс сверхурочные, плюс пищеблок дважды в день. И на людей хоть посмотрел, не то что эти хари здесь… Мадонна, помню, приезжала. Банкет на двести рыл накрывали, на всю ее свиту. Капризные все, как бабы. Этот не жрет то-то, тому недожарено, тому пережарено, этот аллергик, тот вегетарианец… Тфу! Да и не люблю я ее, Мадонну эту. Таланту — ноль, и пизда как шляпа… Потом эти приезжали, как их, блядь… Ну пидоры эти, что-то, с модой связанное…
— Депеш Мод?
— Ага, точно. Их тоже кормили. Внучка просила автограф взять, но какой там! Охрана не подпустила, только морды мельком увидел. А за концерт аж пятьсот шекелей содрали! Пидоры и есть. Ну я внучке билет все равно купил, подарок на тринадцать лет. Пусть добрым словом меня поминает.
— А сюда ты как попал?
— Да пробухал я работу-то. Сначала пил только дома по вечерам, потом начал вмазывать на смене. Поймали, пожалели, сделали предупреждение. Я сначала держался, а потом в запой ушел на неделю. Ну и выпиздили меня к ебаной матери, само собой. Теперь я железяки таскать буду, пока не сдохну или пока на пенсию не выйду. Тоже, стало быть, наказание мне такое Бог послал, за непутевость мою…
7.
В обоссанной кабинке туалета взрываю припасенный косяк с гашишем. Не самое мудрое решение, если твоя работа связана с тасканием тяжестей. Да и насрать.
В цеху Хэм о чем-то совещается с Мишей. «Забери меня отсюда, дедушка…» — вспомнил я чеховскую классику, глядя на старика. «Как штырит-то! Зачем же я так накурился?»
Закончив переговоры с начальством, Хэм подошел ко мне.
— Пойдешь со мной на прокатку стальной арматуры. Смотри в оба, не зевай… Порвётся трос — ебанёт так, что мама не горюй. Да, и еще опилки хуярят во все стороны, так что глаза береги. А следующий этап нашей воспитательно-трудовой терапии — галеры и урановые рудники! Гы-гыы…
Хэм запустил станок. Вспомнив емкое двустишие о мудиле, который не соблюдал технику безопасности, я нагнал Мишу и попросил выдать защитные очки и респиратор. Мишу просьба позабавила: «У нас очки и респиратор из дому приносят».
«До конца смены, — пообещал я себе. — Несколько часов, и всё, завтра не вернусь. Пошло все в пизду…»
Моя работа заключалась в том, чтобы поправлять ломом стальной трос, наматываемый на катушку. Почти сразу глаза, ноздри и рот набиваются стальной стружкой.
Я положил на землю лом, снял рабочую куртку, повесил ее на станок и пошёл в сторону раздевалки.
— Ты куда пошел?! – нагнал меня Миша.
— Домой.
— Или ты сейчас возвращаешься, или завтра можешь не выходить.
— Ты меня, конечно, извини, Миша, но на хую я вертел такую работу…
8.
Я шел домой, встречая рассвет. Снова ушел в никуда. Эйфория временной свободы. Я испытывал это чувство каждый раз, когда меня увольняли или когда я уходил сам. Не будет больше мучительного подъема с постели, переполненных автобусов, работы, к которой не испытываешь никакого интереса, начальников-самодуров…
Навстречу мне шел заспанный рабочий люд. Белые, черные, желтые, смуглые, женщины, мужчины. Они спешили занять свои места за конвейерной лентой, за кассой супермаркета, за станком, метлой, лопатой, бетономешалкой… В безумной гонке на выживание они смогли сделать то же, что хорошо удалось моим родителям, и никак не получалось у меня — подавить в себе протест.
«Работу любить надо, а не бегать от нее!» — как-то поделился со мной житейской мудростью один дедок, восемнадцать лет простоявший за конвейером на цементном заводе. Как и все дедки, проработавшие четверть жизни на заводе, он был на полголовы ебанутым, но доля правды в этих словах есть. А я пока в бегах. Очередная попытка сломать себя закончилась провалом. В борьбе за существование коллективный заводской дедок выиграл очередной раунд.
Дома ждали неоплаченные счета, кукурузные хлопья, засохший кетчуп и туманное будущее. Опять просить денег у родителей? Гоню от себя эту мысль, хотя уже наперед знаю, что позвоню маме. Опять я неправильно живу, опять я не умею тратить деньги, опять из меня ничего не выйдет.
Мама, как всегда, знает лучше. Все так. Ну разве что рассказы пишу. Иногда даже неплохие.

Пуповина
Март 2000
Невыносимая пустота внутри… Боль во мне ещё не остыла, она разливается вдоль позвоночника, заполняет растёкшееся по кушетке тело. Сестричка перерезает пуповину и прикладывает кричащий багровый комочек к груди. От влажного прикосновения я вздрагиваю. «Чужой» — приходит в голову. Есть в этом существе что-то инопланетное: сморщенное тело, непропорционально большая голова, худые, поджатые, словно пружины ноги. Оно завораживающе сжимает и разжимает длинные полупрозрачные пальцы. Ладони, словно щупальца, скользят по коже, стискивают грудь с удивительной для такого крошечного существа силой. Голова незряче тычется в разомлевшую плоть и нетерпеливо впивается кукольным ртом в скукожившийся сосок.
12.04.2013
11:55
— Вы отправили отчёт?
— Не успел…
— Хм! А ноги Волошиной в курилке обсудить успели? Срок вчера был! Мне что, всю работу за вас делать?
— Не орите на меня! Я, между прочим, старше…
— Отправляйте сейчас же! В сопроводиловке напишите, что сервер не работал!
— А если проверят?
— Поленятся.
— А мне потом отвечать?
— Хотите, чтобы шефу за просрочку навтыкали? Как ребёнок, ей-богу… И друга своего предупредите: пусть про сервер подтвердит, если Москва наберёт.
— Мгу… Татьяна Владимировна, а про Волошину откуда…
— Алло?! Нет, не подписала ещё. Свет, давай завтра, у тебя там чёрт ногу сломит… Не могу говорить, приёмная набирает… Да!.. Опять?.. Кто ещё будет?.. Иду.
12:55
Душно. Хоть бы окно открыли. Правый висок пульсирует от боли. И спазган не выпьешь… Задолбал со своими совещаниями. Ну вот, перед глазами замельтешило. Вчера после работы два часа мариновал… Не успела ужин приготовить… Историю у Нюши не проверила… Выговор ему подавай, на собственного зама. Может, зря сказала, что оснований нет? Вон, как взбесился, до сих пор ручкой щёлкает… Дочь?
Не могу разговаривать, напиши
Сегодня в семь родительское собрание
??? Оно же во вторник
Перенесли
Ты дома?
Да
Пообедала?
Да
Пельмени варила?
Да. У меня за контрольную по матану 5
Умница! А что с историей?
Написала вроде
Почему вроде?
Одного вопроса в учебнике не было
Ясно! С тенниса придёшь – набери!
Ок
Люблю тебя, моё солнышко!
И я тебя люблю!
Чёрт, у меня же невролог в шесть.
Сегодня в семь родительское собрание, я не успеваю, а ты?
Сегодня не могу, никак. Буду не раньше девяти. Целую.
В виске что-то лопнуло. Ладно, опоздаю немного. Глубокий вдох. Не смотреть на солнце. Палочка, ещё одна… ровнее… Как там у Светки? Я просто сдаю себя в аренду… за довольно приличную плату, плюс соцпакет… Выдох. Не забыть прорабу ответить… плитка в коридор… розовая или беж? Вдох. Расслабить плечи…
18:34
Вспышки света в темноте. Душно. Ремни давят на голову похлеще железной арматуры. В ушах барабанит.
— Может ослабить немного?
— Женщина, не дёргайтесь! Стандартная процедура, детишки спокойно сидят.
Детишки? Снова вспышка. Привязывают они их, что ли? Лоб взмок. Вдох… Ярко-жёлтый всполох. Ох! Дёрнуло, перевернуло, как в невесомости. Сдавило грудную клетку… Обвивает шею. Тесно. Выдох, снова вдох. Душит… Медленно, но верно. Нет! Вырваться! Вперёд к свету. Подальше от сдавливающих толчков. Голова сейчас лопнет. Не могу больше:
— Снимите это! Эй! Слышите меня?
Скрежет стула подо мной. Свет! Нормальный свет. Цокот каблуков по плитке.
— Первый раз такое вижу! Взрослая баба, а ЭЭГ испугалась!
Холодные пальцы касаются подбородка, нащупывают пряжку. Наконец-то.
Свобода…
— Доктор, что это было?
— Паническая атака… В вашей медицинской карте есть отметка о двойном обвитии пуповины вокруг шеи при рождении… Какие у вас отношения с матерью?
— А это здесь причём? У меня не психосоматика! Написано же — внутричерепная гипертензия.
— Вы врач?
— Юрист!
— Так что по поводу матери?
— Я с семнадцати лет живу самостоятельно, так что, может, всё-таки перейдём к делу? Я же не оплачивала сеанс психотерапии…
19:40
— Женщина, вы куда?
— Собрание, седьмой «а»!
Ещё пару ступенек и налево. Гудят, даже здесь слышно.
— Здравствуйте!
Мама Лили? Может, к ней? На первой никого, лучше сюда… Журнал уже передали, придётся до конца сидеть… Когда электронный дневник нормально заработает? Похоже, Алёна Валерьевна выступила. Вон как они на неё наседают… В старой школе классную на руках носили, а здесь? Хвалите нас за наши бабки! Что за люди? Сейчас Сталынёва попрёт. Ну вот, что и требовалось доказать. Взгляд у Алёны какой. Жалко её. Поддержать бы как-то.
— А вы чего лыбитесь? Думаете, ваша дочь лучше? — вдруг вызверилась Лилина мать.
— Вы мне?
— Да, ваша Маша, между прочим, курит, а сегодня на перемене Ковалевскую чуть не задушила. Весь класс видел. А вы, Алёна Валерьевна, почему молчите? Любимицу выгораживаете?
Кровь обожгла лицо:
— Моя дочь курит? С чего вы взяли?
— А вы посмотрите её страницу «ВКонтакте»!
— Алёна Владимировна, это правда?
— Я не видела… На Машу не похоже…
Отыскиваю взглядом Ковалевскую:
— А Ладу ей зачем душить, они же подружки?
Та хлопает приклеенными ресницами, выводит, медленно вытягивая раскачанные губы:
— Может, наедине обсудим?
Бред какой-то! Они что, сговорились?
21:03
Наконец-то этот курятник угомонился…
— До свидания!
Перед глазами туман. Зато голова перестала. Главное — не столкнуться ни с кем в коридоре… Ковалевская? Ну и юбка, а каблуки? Прости, Господи… О чем с этой можно разговаривать? Если по чёрной лестнице, то разойдёмся.
— Татьяна Владимировна, я вас жду…
— Простите, не заметила.
— У наших девочек проблемы…
— А?
— Я узнала от Лады, что у Маши страничка на одном сайте, она там фанфики размещает.
— Что это?
— Рассказы, но содержание у них… как бы это сказать? Сексуального характера.
— В смысле?
— Мгг… про геев… Я почитала… Там такое… Посмотрите сами, я вам ссылку скинула. Её ник — Диана.
— Откуда у вас мой телефон?
— В журнале посмотрела.
— Спасибо, я разберусь…
Ковалевская покачивалась. Из её огромного сливового рта сыпались какие-то слова. Ухватить их суть не получалось. Я пошла прочь. Сквозь туман ступеньки казались жутко оранжевыми, в гулком проходе фонил стук каблуков. Моих? Или её? Моих.
Ненавижу сумерки. Рельсы забора… Стук-стук… Лужи. Какие отвратительные: грязные и оскалившиеся. Откуда их столько? Куда всё несётся? Дома? Улицы? Боже, зачем так гудеть? Оглохнуть можно… Крыльцо нашего подъезда. Наконец-то! Чёрт! Колено… Ступенька? Откуда здесь эта ступенька? Второй… третий? Сколько ещё? Пятый… Какой противный звук у звонка! Кто это? Мои глаза, мои волосы… моя дочь?
— Мам, ты чё такая мокрая? Зонт забыла? У тебя кровь на ноге… Что случилось?
— Папа дома?
— Нет ещё. Ты чего на пол? Тебя трясёт. Тебе плохо? Может, скорую?
— Не надо! Скажи, ты куришь?
— Нет, с чего ты…
— Мне Лилина мама… Покажи страницу «ВКонтакте».
— У меня там ненастоящая сигарета…
— Не ври! Дай сюда рюкзак! Открывай…
— Вот же… Это что? Жвачка? В виде сигареты? Дыхни… Не пахнет. Заедала чем-нибудь?
— Мама я не курю. Смотри… Сфоталась с ней. Круто же получилось!
— Удали сейчас же!
Может, всё это ошибка? И стерва эта губастая соврала?
— Достань мой телефон из сумки… Давай сюда… Кто такая Диана?
— Диана?! Я не знаю!
— Смотри мне в глаза! Боже, ты врёшь! Я знаю этот взгляд, эта поволока! Не ври, только не ври… говори правду! Это твоя страничка?
— Да… Мамочка, не плачь, только не плачь… Я всё удалю…
— Ты получала удовольствие, когда это писала?
— Да… Мам, мне страшно, ты так странно качаешься…
— Но как?.. Откуда ты всё это?..
— Читала, а потом повторяла, мне помогали. Там есть редактор. Он подсказывает.
— Подсказывает он! Твари поганые развращают несовершеннолетних!
— Бета… Она…
— Бета?.. Что я не так делала? Ведь всё для тебя… Я плохая мать, да?
— Мамочка, ты самая лучшая!
— А Ладу ты зачем душила?
— Сволочь, разболтала про это всему классу.
— Кошмар! Все знают? Боже, так вот оно что! Эти презрительные взгляды… Теперь позор расползётся по всему городу… За что?
— Сказала, что просто так, скучно было. И Артёму про мои стихи… А он посмеялся.
— Ты пишешь стихи?
— Да! Я люблю его… любила…
Метроном в груди отключился. Туман рассеялся. Остались только эти глаза — распахнутые, влажные, с огромным чёрным зрачком посередине, смотрящие не по-детски, с вызовом, незнакомые… чужие!
28.06.2017
— Ну что ж, начнём? Расскажите о себе. Кто вы?
— Я? Мм… даже не знаю… мать… жена… юрист?
— Работаете?
— Сейчас нет.
— Почему?
— Взяла тайм-аут… Всегда мечтала стать писателем.
— Какие у вас отношения с матерью?
— Мне с ней непросто…
— Она любит вас?
— Жизни без меня не представляет…

Сто шестьдесят на восемьдесят
В июне у меня в квартире оказалось сразу четыре ванны. Это без учета ванны, которая находилась в ванной.
Нужно было решить, куда поставить ванны, если в ванной уже есть ванна.
Я посмотрела на ванны. Ванны стояли в коридоре.
Расставлять ванны я решила по принципу: чем больше вес, тем меньше движений.
Я читала, что самые тяжелые — чугунные ванны. Две чугунные ванны я решила оставить в коридоре.
Самая легкая — акриловая ванна. Акриловую ванну я решила поставить в комнате.
Но в конкуренцию с акриловой ванной вступила ванна с наклейкой «повышенной комфортности».
Очевидно, в комнату нужно ставить ванну повышенной комфортности. А акриловую ванну придется поставить на кухню.
Я пошла на кухню — сразу с акриловой ванной. На кухне для ванны не было места. Я решила задвинуть ванну под стол дубовый на шесть персон. Теперь за стол нельзя было сесть. Точнее, можно было сесть, но для этого нужно было всем шести персонам опустить ноги в ванну. Я села за стол и опустила ноги в ванну. Я представила, что смогу ужинать и одновременно греть ноги в ванне. Но тут я вспомнила про ванну повышенной комфортности и вытащила ноги из акриловой ванны.
Ванна повышенной комфортности оказалась очень глубокой. Очень длинной. Очень широкой. Я не смогла поднять ванну. Тогда я решила толкать ванну.
Толкать ванну оказалось сложнее, чем толкать дедушкину машину. Ванне мешал ковролин. Мне тоже мешал ковролин. Но Мария Михайловна — хозяйка квартиры — думала иначе.
Я решила приподнять ванну над ковролином и тащить ванну за нос. За нос я дотащила ванну до комнаты. В комнате было много места — можно было поставить любую ванну. Но для ванны повышенной комфортности подходил только эркер с большим окном.
В эркере стоял торшер. Фикус. Весы. Гантели. Диск здоровья «Грация» — тренажер для талии и живота. Я использую диск «Грация» трижды в неделю по двадцать минут.
Я втащила ванну в эркер. В ванну я поставила — торшер, фикус, весы, гантели, диск для талии и живота. Так все, что было в эркере, осталось в эркере.
Я вышла из комнаты и увидела на ковролине след от ванны.
Было сложно понять, что это след от ванны, если бы этот след не вел к двум чугунным ваннам. Я поняла, что чугунным ваннам достанется в первую очередь. Мария Михайловна подумает, что именно чугунные ванны я тащила по ковролину, а не ванну повышенной комфортности.
Чугунные ванны нужно продать раньше, чем придет Мария Михайловна. Мария Михайловна придет в конце месяца. Еще в зоне риска — акриловая ванна. Из коридора Мария Михайловна всегда смотрит на обеденный стол из дуба на шесть персон. В общем, ванны нужно продать до прихода Марии Михайловны. Лучше все сразу.
Я зарегистрировалась на «Авито». Больше всего для продажи ванн подходила категория «Ремонт и строительство» подкатегории «Сантехника и сауна». В объявлении я предложила купить сразу четыре ванны со скидкой 20%. То есть одну ванну можно было купить за 1500, а сразу все ванны за 4800. Это очень хорошая цена для четырех ванн. Еще нужно было добавить фотографию. Я добавила фотографию ванны повышенной комфортности в эркере с фикусом, торшером и диском «Грация».
Первым позвонил Петр. Петр хотел купить одну чугунную ванну. Я подумала, что это неправильно — оставлять одну чугунную ванну без другой чугунной ванны. Петру не нужны были две чугунные ванны.
Потом позвонила Елена. Елена хотела непременно ванну повышенной комфортности. Зачем мне доставать торшер, фикус, весы, гантели, диск «Грация», когда у меня есть три абсолютно пустые ванны? Елена не захотела пустые ванны. Это к лучшему — комплект из четырёх ванн, одна из которых повышенной комфортности, можно продать быстрее.
Потом позвонила Ольга Аркадьевна. Ольга Аркадьевна просила измерить длину и глубину всех ванн и сообщить результаты. Я сделала то, что просила Ольга Аркадьевна. Ольга Аркадьевна сказала, что точно возьмет какую-то одну ванну. Но какую именно ванну возьмет Ольга Аркадьевна — она не сказала.
Вечером пришел перевод 1500 р. от Ольги Аркадьевны О. В сообщении Ольга Аркадьевна О. написала «За ванну».
Это удача. Разместить объявление — и в этот же день продать ванну.
— Здравствуйте, продаете четыре ванна, да? — рано утром меня разбудил телефон.
— Это Жахонгир говорит, да.
«Жахонгир» Жахонгир произносил с паузой — как будто он Жахон Гир.
— За четыре пицот дашь, да?
— Я в Химках, быстро приеду, да.
— У меня машина, за час заберу все ванна, да.
На фразе «все ванна, да» я вспомнила о ванне Ольги Аркадьевны.
— Одну ванну уже купили.
— Купили, да?
На фразе «купили, да» я вспомнила, что не знаю, какую ванну купила Ольга Аркадьевна.
— Комфорт повышенная, да?
Для Ольги Аркадьевны я могла бы достать из ванны повышенной комфортности торшер, фикус, весы, гантели и диск «Грация».
— Или чугунная, да?
Для Ольги Аркадьевны я могла бы даже разделить чугунные ванны.
— Акриловая тоже заберу, да. Мы ремонт делаем, пилитка кладем, любая ванна нужна.
Я представила акриловую ванну Ольги Аркадьевны с плиткой Жахонгира.
— Все ванны уже купили.
— Может, пилитка для ванн есть, да?
— Нет. Плитки. Нет. Да.
После Жахонгира мне звонили со всех номеров. Всем номерам я говорила, что жду Ольгу Аркадьевну.
На следующий день я сама звонила на все номера — до Жахонгира. Все номера говорили, что они не Ольга Аркадьевна.
Через шесть дней я сняла объявление.
— Нашли покупателя? — в ответ пришло сообщение от «Авито». — Поздравляем!
Я нажала «да».
И продолжила жить с пятью ваннами.
***
В конце июня позвонила Мария Михайловна. Меня не было дома. Зато дома была Мария Михайловна.
— Яна, я была поблизости. — Мария Михайловна начала издалека. — Я хотела забрать стулья дубовые на дачу.
Я начала думать, что говорить Марии Михайловне про ванны.
Но Мария Михайловна сама начала говорить про ванны.
— Я думала, ты преподаешь в институте.
Я услышала, как дуб ударяется об акрил.
***
В июле в ванне повышенной комфортности к фикусу добавился рододендрон.
В августе над чугунными ваннами появилось зеркало-олень.
В сентябре акриловая ванна покрылась пледом — так теплее сидеть на стуле.
***
16 сентября позвонила Ольга Аркадьевна.
— Яна, я вернулась с дачи, могу забрать ванну.
Ольга Аркадьевна говорила так, как будто вернулась с дачи в июне.
— Это какую ванну?
Я решила отвечать так, как отвечала бы Ольге Аркадьевне, которая вернулась с дачи в июне.
— Повышенной комфортности.
Я подумала о трех ваннах, которые зря стояли.
— Правда, муж сказал, нужно было брать чугунную.
Я посмотрела на две чугунные ванны под зеркалом-олень.
— Ольга Аркадьевна, ванна повышенной комфортности ждет вас. А еще акриловая и две чугунные, — зачем-то добавила я.
— Не берут? — Ольга Аркадьевна радостно сказала мне.
— Осталась чугунная! — Ольга Аркадьевна радостно сказала кому-то другому.
— Не берут.
— Не сезон. — Ольга Аркадьевна сказала мне.
— Все на дачах. — Ольга Аркадьевна сказала кому-то другому.
Я вспомнила Жахонгира, который не был на даче.
— Я перезвоню, — сказала Ольга Аркадьевна.
***
Я представила Ольгу Аркадьевну, звонящую из заснеженного декабря.
***
Ольга Аркадьевна позвонила через пятнадцать минут.
— Яна, вам сейчас придет перевод за чугунную ванну, которая сто сорок на семьдесят. Это моя подруга Нонна. Нонна Григорьевна А.
Ольга Аркадьевна позвонила через тридцать шесть минут.
— Яна, вам сейчас придет перевод за акриловую ванну. Это Игорь Игоревич С. Я его не знаю, но знаю его сестру.
Ольга Аркадьевна позвонила через восемь минут.
— Яна, вам сейчас придет перевод за ванну повышенной комфортности. Это Жора. Юра Ефимович К. Наш сосед.
Ольга Аркадьевна, которая не звонила все лето, звонила четвертый раз за последний час.
— А мы тогда заберем чугунную.
— Сто шестьдесят на восемьдесят. — Ольга Аркадьевна сказала кому-то другому.
***
Вечером в тот же день приехал Жора, Юра Ефимович К., и забрал сразу все ванны. Так благодаря Ольге Аркадьевне я заработала шесть тысяч вместо четырех восемьсот.
***
На следующий день зазвонил телефон. Я крутила диск «Грация».
— Яна, это Ольга Аркадьевна.
Я перестала крутить диск «Грация».
— Я вчера купила у вас ванну.
Ольга Аркадьевна сказала «вчера».
— А у вас, случайно, нет человека, кто может ремонт сделать недорого? Ванну поменять. Плитку положить.
Я вспомнила Жахонгира.
— Жахон Гир. В два слова, — сказала Ольга Аркадьевна кому-то другому.

Тиндер и другие болезни
— У тебя зависимость от Тиндера, — пишет лучшая подруга.
— Лучше от Тиндера, чем от наркотиков.
Скидываю ей фотку.
— …Подожди, это который чайная церемония или который бар-хоппинг по KFC? Я путаюсь в твоих свиданках.
— Я в них сама путаюсь.
Что было за три года в Тиндере? Я ходила на два свидания в день, стараясь, чтобы встречи не пересекались. Списывалась там с психотерапевтами (гештальт за 4000? Серьезно?). Закатывала глаза от «молодых спортивных пар», ищущих третью. Открывала приложение на свиданиях, пока мой партнер отходил заказать еду. Я пыталась продать билеты на футбольный матч (спойлер — неудачно). До утра разговаривала по телефону с девушкой, которая кричала «Приезжай в Мытищи!» Меня в Черногорию звали, какие Мытищи, а?
Купить Tinder Gold, еще и за полцены? Кто я такая, чтобы отказать себе в удовольствии посмотреть 635 лайкнувших меня человек? Поставить возраст 50+ в надежде, что найдется интересный собеседник? Пожалуйста! Написать всем, с кем мэтч был год назад? С радостью!
Но начиналось всё совсем не так.
***
— Попробуй, там есть адекватные профили, — уговаривает подруга.
— Зачем? Я не смогу построить отношения с незнакомым человеком. Что я ему предложу? Я не работаю, из дома-то часто выходить не хочу. Даже фотографий новых нет.
— Да любую поставь, по угару скачать можно же?
По угару — можно. Я ставлю фотографию шестилетней давности (справедливости ради я не сильно изменилась).
Пойти с незнакомцем на встречу? Давай хотя бы попереписываемся, вдруг ты маньяк какой-нибудь. И вообще, нас сначала заинтересовать друг в друге что-то должно.
Так что я листаю Тиндер, но на свидания не хожу. Когда к весне мне становится лучше (спасибо моему третьему антидепрессанту), я соглашаюсь встретиться с парнем, который просто периодически пишет «Привет, как дела?» Он клинический психолог, и удивлен, что я шарю в тонкостях его специальности. У меня свой багаж заболеваний, друг, но не буду же я рассказывать об этом на первом свидании. Мы больше не увидимся, но я пойму: с незнакомыми может быть не страшно. Позову гулять парня, катавшего мне смешные полотна. После встречи он пошутит в сообщении, я отвечу. Переписка прекратится.
Ночью я напишу пост в закрытый блог, в котором спрошу у Вселенной, почему мне так плохо, а утром пойду на свидание.
— Белое или красное?
— Я на таблетках, временно не пью.
— Антидепрессанты, что ли?
— И они в том числе.
Он снова предложит взять бутылку вина и пойти к нему домой. Мне настолько скучно, что я пойду к нему и без вина.
Он предложит встречаться. Я совру, что не думала о долгосрочных отношениях. Не могу же я сказать: «Ты целовался как школьник и ты вообще никакой». Я чувствовала больше, когда просто сидела рядом с чуваком, который позвал на выставку.
Потом меня «бросит» психиатр. Уйдет в частную практику. Я буду целый день гулять с кем-то из Тиндера, а мысли — только о том, что меня оставил человек, которому я доверяла. Ладно, это просто врач, тебе ничего не должен. Не привязывайся к людям. К вечеру начнет бить током. Я опоздала с приемом таблеток на четыре часа: привет, brain zaps, и мне кажется, что я не дойду домой.
Затем я встречу Джеймса, мы сходим в ирландский паб, посмотрим Испанию-Португалию.
— Чего ты хочешь от Тиндера?
— Без понятия.
— А чем планируешь заниматься дальше?
— Без понятия.
Он уедет в Англию, мы будем переписываться про футбол и иногда флиртовать. Но я понятия не буду иметь, хочу ли я отношений. Он вернется, но мы перестанем писать друг другу. Я закрою Тиндер почти на год.
Летом я схожу на свидание с мудаком, который встретит меня фразой «Ну, ко мне мы точно не поедем», и расскажет, как девочке из Нанкина предложил сходить в японский ресторан. Я закрою Тиндер до осени.
А потом увижу там Алексея («Ищу девушку для серьезных отношений») и сразу пойму — это оно. Мы посидим в кафе, он поцелует меня в щеку на прощанье, а когда выйдет из метро, я открою Тиндер. Напишет Алексей №2: «Ты рядом живешь? Подойдешь к ТЦ?» Подойду, не домой же идти. Где я была? С подругой в центре пересекалась, ага. Он будет меня смешить. И спрашивать о планах на будущее. Какие планы на будущее, я лежу и в стену смотрю большую часть времени. Но у меня есть любимый фильм. Слушай про «Часы», короче.
В итоге второму я напишу «Извини, у меня намечаются отношения», а с первым мы подпишем «официальную бумагу» на салфетке в «Бургер Кинге» и скинем в чатик друзьям.
Это десятый человек с Тиндера, прямолинейный, иногда чересчур, но мне нравится, я сама такая. Он забавный, милый, добрый. Но у меня ощущение, что я встречаюсь с подростком. Нет, не стоило признаваться мне в любви через неделю после знакомства. Не надо было спрашивать, хочу ли я жить вместе: я вижу тебя третий раз в жизни. Нет, я не буду изменять тебе с девушкой, если мы поженимся. Эта шутка из твоего любимого фильма — отсылка к Монике Левински. А, ты не знаешь, кто это. Да, Ленин — это мумия.
Плюс ко всему Леша ужасно безграмотен. Он никогда не исправляет опечатки. Меня раздражает каждое его сообщение. Однажды я буду сканировать медицинские документы. Он спросит:
— Какие, там же только паспорт и полюс?
Полюс, блядь! Какой, Северный или Южный?
— Я удалю Тиндер, — напишет он мне.
— Я его брошу, — напишу я подруге.
Я не выдержу. Найду предлог: ты напугал меня шуткой про детей, я не хочу детей и замуж. Я не готова к серьезным отношениям («с тобой» не произносится). Он очистит переписку, ну что за детский сад. И когда через три дня напишет мне, что не понял всех причин, я выдавлю что-то вроде: «Мы интеллектуально разные».
— То есть я тупой? Ну да, в МГУ же не учился.
— Ты просил назвать причину — я назвала.
Я снова чувствую одиночество и пишу себе: не впадать в очередной депрессивный эпизод. Мне правда лучше одной, я не буду портить свою жизнь из-за другого человека.
Я помучаюсь недели две. А под Новый год зайду в Тиндер с био «Ищу тусовку на НГ».
И найду человека, с которым, кажется, мы похожи во всем. Даже аллергия на одно и то же — на пенициллин. После долгой переписки с намеком на отношения мы сходим на свидание. Я получу «Будем друзьями?» на следующий день. Спрошу почему — «Не готова к отношениям». Она потом обновит профиль («Ценю в людях честность»), не удалив меня из пар. «Тоже ценю в людях честность!» — отвечу я.
— Ничего не хочу, — напишу подруге.
— Да камон, один человек тебя зафрендзонил.
— Это тринадцатый человек с Тиндера. Мне надоело. Проще одной.
— Не проще, если ты так говоришь.
— Дай пострадать.
А еще я обнаружу опухоль в груди. Мне, после всех моих болезней, казалось, что рак просто заглянет в организм и помашет ручкой, сказав «Не, тут и без меня проблем достаточно». Пока врач будет заполнять карту после УЗИ, я зайду в Тиндер.
Буду ехать домой и думать: мне одиноко и скучно. Скучно и одиноко. Я умру в одиночестве. Мне надоело ходить по врачам, надоели эти бесконечные болезни. Психиатрам не нравится один препарат, а неврологам другой. Но без первого у меня трясутся руки, а без второго я не могу спать. Вы можете уже решить этот вопрос? Соберитесь на коллоквиум, ну или подеритесь хоть, что ли.
И тут я встречу самого смешного человека с самыми тупыми шутками.
— Знаешь правила этикета? Идем в приличный ресторан.
Мы пойдем в KFC пить пиво по акции. Напьемся и будем писать сначала его парам, а потом моим.
В феврале я впаду в кураж. Рекорд — пять свиданий в четыре дня, на два из них с похмелья после новоселья у друзей.
Я научусь отказывать. Тому, кто не поймет намеков, честно скажу: «Отношений с тобой не хочу. Врать не буду. Извини».
Схожу на свидание с наркоманом из Питера. Мы понравимся друг другу, а потом он поставит условие: либо ты пробуешь со мной МДМА, либо ничего не будет. Жалко, парень казался умным.
В марте я переживу двадцать дней ожидания результатов биопсии. И я вас заклинаю, пожалуйста, не говорите человеку с Bi-RADS 4, что у него нет рака и он зря беспокоится.
— В рак это сейчас не переродится, но нужна операция, вот список обследований перед госпитализацией, собирайте.
Всё. Ни слова о том, насколько срочно нужна. Ни слова о том, как всё проводится. «Я бы удалил». Потрясающе.
Идут слухи про карантин. Я обзваниваю клиники и горячие линии, чтобы узнать, проведут ли операцию. «Сейчас оперируем только онкологию, но хирургическую комиссию все равно пройдите». Зачем собирать анализы, если плановые операции отменят? Мне потом позвонит онколог и успокоит: ждите месяца полтора. Месяца через полтора даже не снимут ограничения. Зато на лето я забуду об операции.
Когда закончится карантин, я снова открою Тиндер:
— Это свидание? Мне приносить цветы и конфеты?
Теперь я волнуюсь, свидание ведь. Но я тебе нравлюсь (стоило ли переживать?)
Потом ты приедешь ко мне с цветами и засосом. Я не ревную: не умею ревновать. После твоего отъезда лежу в пьяной эйфории то ли от алкоголя, то ли от влюбленности. Неделю я ничего не делаю. Я жду встречи.
«Ты мне нравишься, ты мне нравишься, ты мне нравишься», — как песня. Я слушаю это, а отвечаю лишь однажды.
Беру такси до тебя на последние деньги. Ты уже пьяная, но мы выпьем еще. Поговорим на кухне и переспим (не рви футболку, мне в ней завтра домой ехать). Я не могу заснуть. Слушаю, как ты разговариваешь во сне.
У меня проблема — я не помню цвета твоих глаз. Я не запоминаю цвет глаз.
— Карие, как и у тебя.
Мы друг о друге почти ничего не знаем. Мы не обсуждаем наши «отношения».
Ты напишешь, что больше не можешь со мной видеться: есть кто-то другой. «Всё произошло параллельно». Я буду читать это в холле поликлиники. Здорово. Обожаю оказываться на втором месте. Я спрошу потом, зачем было приезжать ко мне, дарить цветы, звать к себе. И эти бесконечные «ты мне нравишься». Ты не ответишь.
Я напьюсь и буду целоваться с самым пьяным мужиком в баре у дома друзей.
Психиатр спросит, случилось ли что-то конкретное. Скажу, что нет. Повысит антидепрессант до двадцатки. Я выпаду из жизни на два месяца.
Буду видеть тебя во всем. Сок с мякотью — ты его ненавидишь. Вороны тащат что-то из мусорки — ты их обожаешь.
В ноябре — четыря дня в онкологии. Со мной в палате — только онкобольные. У меня есть риск того, что опухоль окажется злокачественной. А всё, о чем я думаю перед операцией, — ты.
— Пойдем попозже, в час-два, — скажет лечащий врач. Я буду ждать до трех. И когда медсестры выкрикнут мою фамилию, я обрадуюсь: вырежьте уже, сколько можно.
— Сейчас будет чуть-чуть покалывать и закружится голова, — говорит анестезист. Потолок поплывет.
Я просыпаюсь в палате. Я ничего не помню. После наркоза трясет. Эластичный бинт сдавливает грудную клетку. В компрессионных чулках жарко.
Я открою Тиндер в больнице — вдруг там сидят симпатичные ординаторы? Глупо, конечно, но в онкологическом не хочется заниматься ничем. В один день мы даже не включаем свет.
К концу ноября восстановлюсь после операции и буду снова ходить на свидания. Встречу еще человек шесть, с которыми мы больше не увидимся.
А потом кто-то очень понравится мне в переписке. Но я знаю: такое уже было. Не повторять ошибок. До первой встречи — никаких надежд.
Но после встречи она скажет:
— Спишемся, ладно?
И напишет тут же, прямо из метро.

Ты станешь ракушкой морскою
Цепенея, лежала около часа. Подумалось еще — такое первый раз. Чтобы вот так, парализованная, расплющенная каменной глыбой ужаса, распласталась на кровати, не в силах пошевелить ногами-руками. Старалась не дышать, зубы сомкнув плотно. Помаргивала, пялилась в полутьму, опасаясь, что опять вернется… Оно. Черное.
Две недели назад ушла моя мама. За месяц до смерти, слабеющая, постоянно спящая, она куталась в плед, забиваясь в уголок дивана. Шелестел телевизор. Она не слышала его. Как-то вечером сказала тихо, подняв худенькую желтоватую руку, указывая на пальму в углу:
— Зачем на пальму накинули пальто? Мне кажется, там кто-то стоит… в черном.
Я посмотрела на пальму.
— Там никого нет. И пальто тоже нет.
Скорая несла нас сквозь трескучий февраль. Мама держала меня за предплечье. Время от времени ее почти прозрачные пальцы сжимали, теребили ткань моей куртки. Будто она проверяла, что еще здесь, рядом со мной. И хотела ухватиться, чтобы не соскользнуть.
Поплыла бесконечная вереница капельниц. Они вились прозрачными змеями вокруг ее маленького тела, вонзали жала в вены, капали отравленным ядом. Мама махала на них руками. Но капельницы не боялись ее, обступали с каждым днем все плотнее. Ее кожа начала пахнуть растворами, изо рта шел едкий запах лекарств. Она уже не пахла как человек.
Я удивлялась, что это тело, накачанное препаратами, еще живет и двигается. Я хотела, чтобы наступил перелом в одну или другую сторону. Пусть мама стремительно поправится, явив миру чудо. А если невозможно, пусть умрет быстро и без мучений. Иногда я думала, что способна ее убить, если она будет мучиться. Просто подойти и задушить подушкой.
Каждое утро, входя в палату, я замирала у двери. На ближней койке сидела оплывшая женщина-глыба, непрестанно тыкая пухлым пальцем в смартфон. Другая вечно спала, завернувшись в душный кокон серого одеяла. На койке у окна худенькая старушка в зеленом байковом халате, звала протяжно и тонко: «Ма-а-ма, ма-а-ма». И тянула руки вверх, вяло шевеля в воздухе иссохшими пальцами.
Моя же мама лежала, неотрывно глядя в оледенелое февральское небо. Прошло шесть лет, но не перестаю задаваться вопросом: о чем думала она?
Последние дни я ночевала в больнице, болтаясь в вязком пространстве между сном и явью. Дремала чутко. Мама все порывалась куда-то идти, и когда она начинала шуршать тяжелым одеялом, пытаясь вставать с кровати, меня вышибало из тьмы.
— Мама, куда ты?
Она испуганно озиралась.
— И как мы сюда с тобой попали, Женя? Как случилось такое, что мы теперь здесь живем?
— Скоро мы выйдем отсюда. — Я взбивала ее подушку, мягко брала за плечи и укладывала обратно.
За несколько дней до ухода сознание ее изменилось, она стала похожа на ласкового радостного ребенка. Силилась улыбнуться, хотя лицевые мышцы уже не слушались. Она округляла рот, пытаясь произнести слова. Я зачарованно наблюдала эту странную незнакомую мимику, я хотела запомнить все.
В тот вечер гладила ее руку, говорила, вспоминая радостные моменты нашей жизни. Их оказалось так много, что я боялась не успеть перечислить их все.
— Когда ты поправишься, уже этим летом, мы обязательно поедем на море. — Несколько раз за вечер я повторяла эти слова.
Мама радостно кивала.
Она любила море, но так редко ей удавалось вырваться к нему. Она была существом морским. Заплывала далеко-далеко, делала с морем любовь. Мне бы хотелось, чтобы умерла она на берегу, лежа в воде. Волны трогают ее легкое тело, забирая тревогу, боль. Песчинки трутся о кожу, маленькие рыбки осторожно щиплют пальцы ногах. Она чуть шевелит пальцами, улыбается. Волны накатывают вновь и вновь, шепчут о чем-то, треплют волосы. Мама понимает их разговор. Смахивает с лица клочья шипящей пены. Море баюкает и поет. Море знает о многом. Пусть бы умерла она в теплых волнах морских. Так думала я, сидя на краешке койки, держа обмякшую ее руку с голубыми реками тонких вен.
Утром маленькое тело лежало на каталке. Ногти на ногах покрыты морковным лаком — успела накрасить перед больницей. Я трогала ее кожу, она не была ледяной. Казалось, мама просто заснула. Гладила по голове, снова и снова, будто это могло успокоить ее перед дальним путем.
Краем глаза заметила, как придвинулись две смазанные фигуры. Санитары взялись за каталку, чтобы везти тело в морг. Но я не дала. Одна из фигур что-то буркнула и подергала каталку. И тогда я развернулась и отчетливо произнесла:
— А хочешь, я тебе в морду дам?
Потом наступила та ночь. Я лежала в темноте в полудреме. Вдруг сквозь сон отчетливо почувствовала — кроме меня, в комнате есть кто-то еще. Дернувшись, выпрыгнула из сна. Неслышно скользя, подплыла черная высокая фигура. И, склонившись над кроватью, произнесла хрипло, вкрадчиво:
— Дорогая…
И удалилась неслышно. А я лежала парализованная, не в силах пошевелиться. Поняла, кого видела мама в углу своей комнаты, там, рядом с пальмой.
Через несколько лет ушел близкий друг-алкоголик, хлебнув паленого пойла. Позже умерла любимая собака. Черная фигура бродила совсем рядом, охотясь за моими близкими, принюхиваясь к моим следам. Радость из меня будто высосали, я жила вяло и нехотя, оглядываясь через плечо.
Пришел 2020-ый. Восьмидесятилетнего отца увезли в больницу с COVID-19. Через неделю он ушел, подключенный к ИВЛ.
Я перестала выходить из дома. Следила, как растет кривая смертности. Долго перемывала, брызгала спиртом продукты, привезенные на дом «Перекрестком».
Это случилось в первых числах нового года, когда действительно верилось, что все страшное осталось там, в мутном больном 2020-ом. Уже засыпала, когда спину лизнул огромный ледяной язык. Вирус прокрался через все мои мыльные преграды и спиртовые заслоны.
39 градусов, 100 ударов сердца в минуту, постоянная жажда. Я то прятала голову под подушку, то вдруг резко садилась на кровати, оглядываясь вокруг. Все казалось, что снова появится она — темная, худая, вежливая. И уже не уйдет просто так. Барахтаясь на краю ватного сна, я видела набегающие друг на друга морские волны. Они затопили все мое тело.
Как только открыли границы, купила билет. Девятичасовой перелет в Таиланд. Ночь в душном хостеле Бангкока. Долгий путь на автобусе к берегам Сиамского залива, мимо рисовых полей и бескрайних пальмовых плантаций. Паром на маленький полудикий остров. Крошечное бунгало в джунглях.
В маске с трубкой я плыла минут сорок вдоль скалистого берега, плотно заросшего деревьями с крупными мясистыми листьями. Подо мной расстилался коралловый риф. Рядом с дном зависла пара пятнистых каракатиц, похожих на инопланетные корабли. Я двинулась к ним, они умчались, растворившись в голубом. Ярко-желтые рыбы-клоуны носились среди ядовитых щупалец розоватой актинии. Зеленый переливчатый спинорог неторопливо обгрызал водоросли с больших темных камней, кося на меня серебристым глазом.
Из водонепроницаемой поясной сумки я достала маленький целлофановый пакетик. Надорвала осторожно. Пересыпала в ладонь, сжала, почувствовав легкую колкость. И отпустила. Серые песчинки праха, медленно танцуя в потоках воды, опускались на дно, смешиваясь с песком.
— Мама, ты станешь ракушкой морской. Будь счастлива здесь.
Краем глаза заметила движение справа. Из-за камня за мной наблюдала небольшая донная леопардовая акула.
Я вернулась в Москву. Спустя пару месяцев в ФБ мне написала приятельница Лайт, предложив стать соведущей в онлайн-встречах «Death Cafe» в «Ресурсе».
«Беседы о смерти — глобальный социальный проект», — писала Лайт. Первое кафе было открыто Джоном Андервудом в Лондоне в 2011 году. Теперь встречи проходят в семидесяти четырех странах мира. Люди просто встречаются, чтобы за чаем поговорить о непростых вещах.
Меня в грудь толкнуло что-то горячее. Не раздумывая, согласилась. Я искала это пространство многие годы. Я устала ее бояться. Я хотела говорить о ней.
На первую встречу в zoom пришло восемнадцать человек. Я вглядывалась в лица, маячившие в окошках. Долго собиралась, прикрывала глаза и пила маленькими глотками прохладную воду. Наконец, сделала глубокий вдох и начала:
— Хочу рассказать свою историю. Моя мама умерла. А потом пришло оно. Черное.
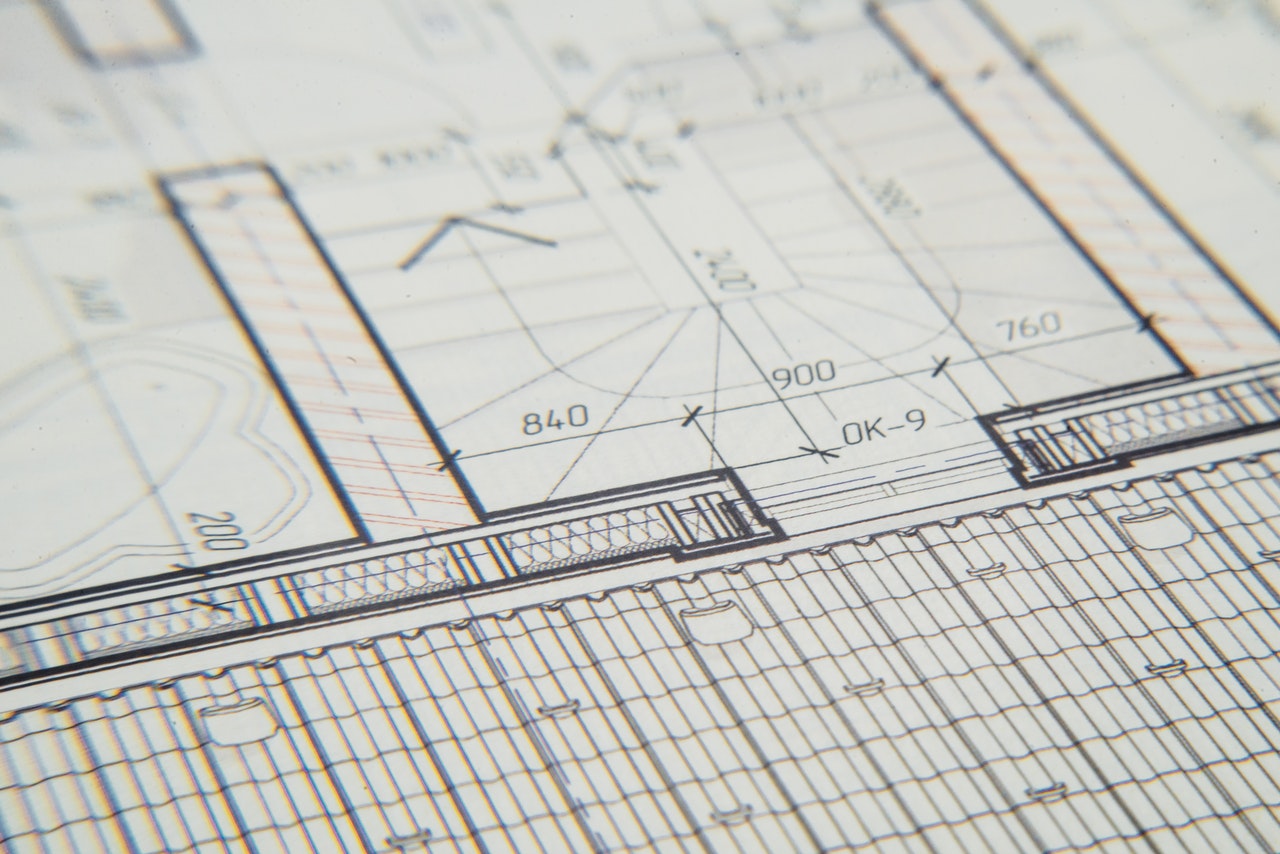
Фрида
Фрида была единственным человеком в моей жизни, при разговоре с которым мое сердце бешено ускоряло ход, выскакивало из груди, эхом колотилось в ушах.
А познакомились мы душистым летним днем — Фрида искала архитектора, и я приехала к ней смотреть дом, который предстояло достроить.
Выйдя из машины, я старательно задышала хвойным нагретым воздухом и не заметила свежевырытой строительной траншеи. И сразу провалилась — не больно, но траншея оказалась глубокой. Вокруг все чирикало, звенело, совсем рядом раздавались голоса, а я сидела в глубокой канаве, не понимая, как выбраться. Кричать «спасите» казалось глупо, и после долгой возни я вылезла наружу самостоятельно, вся в земле, икая от смеха.
Голоса раздавались из строительного вагончика, люди окружили его плотной толпой, на меня никто не обратил внимания, и я встала рядом с мужчиной, напряженно вытягивающим и без того длинную и тощую, с непрерывно двигающимся кадыком шею, старающегося не пропустить ни слова — из вагончика слышался прекрасно поставленный женский голос.
— Что происходит? — не выдержав, спросила я.
— Меня увольняют, — апатично ответил он, полностью поглощенный происходящим.
Женщина в вагончике меж тем продолжала:
— Я доверила ему снабжение стройки, а он обобрал меня! А ведь я помогала ему, относилась к нему, как к родному, дочь его выдала замуж, оплатила свадьбу…
Шея беспокойно завращалась и наконец повернулась ко мне. Вид мой нисколько не смутил его, и, посмотрев сквозь меня, он озадаченно сказал:
— Дочь выдала замуж, говорит… А ведь у меня дочери никогда не было…
Тогда я и узнала, что в вагончике ораторствует Фрида.
Договорились мы с ней очень быстро, точнее, говорила она — предстояло завершить проект и достроить дом, начатый сыном Фриды, уехавшим в Америку.
Гонорар мой Фрида тоже обозначила сама, и когда я, услышав сумму, попыталась слабо возразить, объясняя, что за эти деньги работать невозможно, Фрида величественно прервала меня.
— Не благодарите, — сказала она, — я всегда плачу намного больше, чем получаю, но ничего не поделаешь, уж такой я человек.
И я малодушно согласилась…
Фриде были доверены огромные средства ее влиятельной семьи и поставлена непростая задача — построить дом приемов, рассказывающий о своих обитателях.
Ей было под семьдесят, несколько лет назад она овдовела, победила смертельную болезнь — ее жизнелюбие помогло преодолеть все невзгоды.
Она мучилась бессонницей, просыпалась рано и мчалась на встречу со мной. Она нуждалась во мне, как в воздухе, я должна была вселять в нее уверенность в том, что мы справимся и построим дом, который её прославит.
Фрида контролировала производственные процессы, ничего не понимая в происходящем. Она самолично мерила линейкой вертикали стен и приобрела строителям белые халаты и полотенца для рук, а ещё ввела в распорядок дня обязательный для рабочих послеобеденный тихий час.
Рабочие тихо матерились сквозь зубы, на сдельной оплате труда они готовы были работать круглосуточно, но теперь вынужденно теряли целый час — непосвященного человека наша стройка приводила в изумление.
Фрида не оставляла меня ни на минуту, мы вместе объезжали салоны, выбирая мебель, предметы декора, и каждый раз, как я наблюдала, как Фрида гипнотизирует окружающих, я замечала у ее собеседников знакомые симптомы — учащенное дыхание, горящие щеки, паралич воли.
Несомненно, Фрида обладала удивительным магнетизмом и привораживала людей. Она бесконечно рассказывала мне невероятные истории: о том, как в нее был влюблен красавец-актер, кумир всех женщин, или как она отбила корабль от нападавших пиратов. Я знала, что ее семья занимается морскими перевозками и действительно владеет флотом, но воспринимала ее рассказы скептически, полагая, что это байки экстравагантной старухи.
Как-то, обсуждая эмиграцию своего сына, Фрида вдруг сказала:
— Я всегда была и буду патриоткой. Я замуж не вышла второй раз из-за любви к Родине.
И тут же рассказала мне историю о том, как она ездила на остров Вандербильдов по их личному приглашению, и глава семейства тут же втрескался в нее по уши. На званом вечере со множеством гостей он сказал: «В присутствии всех я предлагаю этой женщине руку и сердце и хочу, чтобы она стала счастливой здесь, в моем доме, вдали от своей Родины».
Фрида рассказывала с патетикой, я лениво слушала, не принимая ее всерьез.
Спустя какое-то время у Фриды появилась наперсница, добрая и сострадательная Зинаида Ивановна, выписанная Фридой из Днепропетровска для разговоров и совместного времяпровождения. Мне стало легче: Зинаида Ивановна взяла на себя бремя ранних утренних побудок. Когда-то она была однокурсницей Фриды, окончила институт искусств, но в силу бедности и отсутствия работы приехала в Москву пестовать Фриду.
Однажды я застала Зинаиду Ивановну в слезах, пакующую чемодан.
— Что случилось? — испугалась я.
— Уезжаю, — горестно ответила Зинаида Ивановна. — Фридочка сказала, что мы больше не сможем быть вместе, аура у меня плохая, ей не подходит…
— Но вы же подруги! Может, она раздумает?
— Нет, не раздумает, если она что решила, то это окончательно… Вот и Вандербильду тогда отказала, а уж как он ее уговаривал…
Я как вкопанная уставилась на Зинаиду Ивановну.
— Так это правда? Он действительно делал ей предложение? Откуда вы знаете?
— Я сопровождала ее на острове…
А дом строился, Фрида, ничего не понимая в происходящем, обладала удивительным чутьем и всегда угадывала верное решение. Она выбирала самое лучшее, понимала ценность дизайна, даже если эстетика его и казалась ей чуждой.
Невзирая на символическую оплату моей работы, я испытывала к Фриде благодарность — ее дом стал для меня местом, где я могла реализовать любые творческие задумки.
Однажды летом, на третий год стройки, я бродила по участку, рассматривая завершенную работу. Участок получился чудесный, во всем соблюдалась мера. За забором остановились девушка и юноша, они загляделись на дом, на сад.
— Как красиво! Можно зайти на участок, посмотреть? Тут ведь еще никто не живет? — спросила девушка.
— Конечно, заходите!
Гордость так переполняла меня, что я провела их по участку, показала дом.
На следующий день я улетала с сыном на неделю к морю. Краткосрочные каникулы я получила от Фриды с трудом, проведя с ней серию подготовительных бесед. Такси уже ждало у подъезда, когда раздался телефонный звонок от помощницы Фриды — оказывается, вышел утренний номер уважаемой газеты с моим интервью на первой полосе. В статье говорилось о постройках «новых русских», о неправедно нажитых деньгах, а Фриду в статье называли «мадам Брошкина».
Помощница предложила мне немедленно приехать к Фриде.
— У меня самолет через два часа! И что я ей скажу? Я же не знала, что эти прохожие — журналисты!
Помощница звонила еще несколько раз, у Фриды подскочило давление, ей вызвали скорую. Она кричала в трубку, ей хотелось скандала, устроить разнос, как тогда, в вагончике. Я чувствовала себя оскорбленной, но в душе поселилось непонятное чувство вины перед Фридой, ведь я не смогла ее защитить… В какой-то момент я даже сказала сыну, что мы никуда не летим, но когда он горько заплакал, взяла сына за руку и пошла к такси.
Фрида позвонила мне первая: после моего возвращения из отпуска мы не разговаривали больше месяца.
— Я хочу съездить в Америку, к сыну, — сказала Фрида. — И хотя вы предали меня, вы должны закончить начатое, ведь дом почти готов.
Эта встреча оказалась последней — больше мы с Фридой не виделись.
Никто больше не контролировал меня, наступила долгожданная свобода для творчества, но вдруг оказалось, что вдохновения больше нет и мне страшно не хватает Фриды. Только тогда я поняла, что в нашем тандеме она была главным источником энергии — яркая, артистичная, увлекающаяся, затягивающая на свою орбиту…
Иногда весной, когда цветет сирень, я еду на работу специально мимо дома Фриды. Там теперь часто сидят художники, рисуют фасады с острыми фиолетовыми крышами с оттенком баклажана, который Фрида так любила.

Хлеб с отрубями
В автобусе. Восемь утра. Я возвращаюсь с ночной смены. Моя жизнь течет в обратном направлении. Я домой — спать, а они работать. Каждый, кто не дремлет, бросает на меня взгляд и тут же снова возвращается к экранам телефонов. Иду в конец, там есть свободные места. Можно полчаса вздремнуть. Только собираюсь закрыть глаза, как приходит сообщение от Юльки: «Купи хлеба с отрубями». Пока соображаю, что ей ответить, справа приземляется парень. Тощий, с обжигающим взглядом, будто ищет собеседника. Даже не собеседника, а, скорее, слушателя, чтобы молча внимал. Я уже ученый, стараюсь на него не пялиться. Не найдя жертвы, он включает музыку на телефоне — автобусяне, йоу, чего киснем?! Биты и басы набрасываются на сонных пассажиров. Как можно быть таким беспардонным идиотом? По лицам вижу, эта мысль посетила не только меня. А ты, водитель, царь и бог на плюшевом троне — принципиальный во всех случаях, но только не сейчас. Молчишь? Ладно, в окно буду смотреть через соседку. Ничего она такая. Читает «1984» Оруэлла. Рядом ее сын в худи с принтом Кайю, уткнулся в телефон — играет. Глаза слипаются. Хочется спать, а перед этим бутылку пива. Детсадовский и с телефоном, блин.
Первый раз я пошел в детский сад в пять лет. В эстонский, где по-русски никто не говорил. Сказать, что я любил туда ходить, это соврать, мягко выражаясь. Да я тогда и не стеснялся, матерился, как стройбатовец, пока не получил по губам от матери. И вот в первый день в садике я задружился с таким же мелким отщепенцем. Как мы с ним сошлись, не знаю. Мой новый друг — Матиас — хилый и пугливый, решил, что я немой и меня можно не бояться. В конце смены к нам подошел мальчик с квадратным лицом и веснушчатыми волосами и забрал кораблик моего нового друга. Матиас в слезы. Я, недолго думая, вломил по квадратной голове и стал тягать его за волосы, пытаясь стрясти веснушки. Враг стремительно сдавался. Справедливость восторжествовала. Зло наказано. Можно досрочно идти в октябрята.
Дома вместо торжественных чествований меня ждали противные щи с огромными кусками капусты и воспитательная беседа о вреде кулачного боя при построении социальных отношений, установлении горизонтальных связей и вообще решении любых конфликтов, а также строжайший запрет бить кого-либо. Любую проблему можно решить на словах с помощью переговоров — так они и сказали, а отец добавил — первым бить нельзя, и уточнил — за волосы нельзя таскать тем более, ты ж не баба…
Видимо, кто-то неосторожно посмотрел ему в глаза, и теперь на весь автобус под рэпчик этот тип что-то громко зачитывает из газеты и возмущается.
— Извини, приятель. У тебя классная музыка, но не мог бы ты ее выключить? Спать охота.
— Я тебе не приятель. И с какой радости ты меня перебиваешь?
— Извини еще раз. Пожалуйста, выключи музыку и не шуми.
— А попросишь на коленях?
…
— Так я и думал.
Я отворачиваюсь. Соседка осуждающе втягивает воздух через уголки губ и непонятно, то ли это шипение адресовано мне, то ли ее просто все бесит. Из сумки у нее торчит буклет какой-то школы — там на ракете счастливый ребенок летит на луну. Креатив, конечно. Почему ребенок летит в космос? Всех уже достал на Земле?
Я в коридоре школы. Со стены улыбается портрет Юрия Гагарина. Рядом эстонец-старшеклассник приподнял Дениску за концы пионерского галстука. Дениска вытягивается, словно пытается поймать ртом мыльный пузырь. Мне надо всего лишь этого урода ударить, чтобы мой друг мог вздохнуть. Я перевожу взгляд с улыбки Гагарина на синеющего друга и начинаю петь Интернационал. Первым делом после того, как Денисыча спасает учительница, он сипит — друг еще называется! Ну сработал же гимн. Подмога подоспела, и драться не пришлось.
Сосед перестал орать и теперь громко чавкает — пытается заглотить футовый саб, давится, и вся начинка сэндвича летит в стороны. Часть приземляется на мои джинсы. Смахиваю на пол. Пытаюсь отвлечься, чтобы не натворить глупостей. У остановки, рядом с аптекой, мужик в сланцах и пижаме выгуливает боксера. Тот упирается задней ногой в дерево. Хозяин собаки безразлично смотрит на меня сквозь стекло и отхлебывает кофе из бумажного стаканчика.
На стеганом одеяле в большой комнате лежит рыжий с тигровыми полосам Рокки. Огромная щенячья голова. Торчащие ребра вздымаются очень редко. Меня отправляют на другой конец поселка за ветеринаром. У страха и смерти есть запах, по крайней мере, у животных. Липкий и сладкий. Надо бежать. Он бы побежал ради меня точно. Но я иду обычным шагом, да еще и самой длинной дорогой. Ноги как будто вязнут в асфальте. Так меньше шансов нарваться на уличные неприятности в виде «семки есть?» или «дай закурить». Ну и привлекать к себе ненужное внимание скучающих соседей не хочу. Будут потом думать не пойми что и обсуждать. Несколько лишних минут погоды не сделают. Ведь так?
Незаметно вытираю слезу. На место мамаши с ребенком садится девчонка с красными волосами. Прямо как у моей Юльки, когда мы только познакомились. Любитель громкой музыки отпускает ей комплименты на грани. Но ей вроде понравилось, и начинается словесная игра, я между ними и какого-то хрена это должен слушать. Закрываю глаза, чтобы хоть этого кривляния не видеть.
На дискотеке дрожит не только танцпол, но и воздух вибрирует. Качает. Я наблюдаю, как моя Юлька встраивается в ритм и пропускает через себя музыку. У нее неплохо получается. Стробоскопы замедляют время. Вот к ее круглому заду в мини-юбке тянется чья-то рука и крепко сжимает. Она останавливается, убирает руку и вопросительно смотрит на меня. За спиной у нее стоят двое накачанных ребят в кепках. Ну, не вариант разбираться. Это даже не проблема, успокаиваю я себя. Они ошиблись. Гопники, не дождавшись реакции, уходят. Она в недоумении. «Ну ты и тряпка!» Я отмалчиваюсь.
Юлька снова присылает сообщение: «Ты где? Купи хлеба с отрубями». В окне мелькает уродливый офис колл-центра. Первый рабочий день. Сижу в столовой и, охуевая, слушаю, как бородач в тюбетейке радуется терактам в московском метро. Мне очень нужна работа, поэтому не стоит даже ввязываться в дискуссию. Разве я смогу вернуть убитых или переубедить радикально настроенного коллегу? Начнем спорить, я могу и не сдержаться.
Почему-то пахнет сладким и щекочет нос. Блядь, он теперь вейп раскуривает. Я смотрю ему в глаза и представляю, как душу его за воротник — свожу скрещенные запястья и перекрываю кровоток в сонной артерии. Видимо, что-то изменилось у меня в лице. Он прячет вейп и делает музыку потише. Моя остановка. Выхожу.
— Тема, ты хлеб купил?
— Извини, забыл.
— Ну и что мне теперь есть? Я тебе десять раз напомнила!
— Поешь багет. Я устал и забыл.
— Ну, что ты ноешь все «устал, устал»!
— Слушай, ну чего ты? Сидишь дома, у тебя полно времени. Сходи и купи.
— Ты охренел? Ты обо мне заботиться должен. Мужик, называется.
Она психует, злобно взмахивает полами халата и скрывается в ванной. И это вместо — здравствуй, дорогой, ты устал с работы, вот тебе завтрак приготовила. Что я опять сделал не так?
Справа от меня стоит ванна, закрытая шторой. От ванны веет приторным холодом. Я сижу на крышке унитаза и смотрю на обои. Зеленые полосы сливаются в мутное пятно. Чтобы не стошнило, отворачиваюсь. На туалетном столике взгляд мой вязнет в лужице воды. В ней ржавеет подставка с зубными щетками и плавают красные комки слизи. Тошнота подступает еще сильнее. Я хватаю первый попавшийся тюбик, открываю его и полной грудью вдыхаю. В носу щиплет от резкого запаха дезодоранта. Тут я слышу, как капает вода. Стук падающей воды захватывает все моё внимание, а потом вдруг стихает. Я случайно касаюсь влажной шторы, отдергиваю руку и иду к выходу. Что-то колет ногу. На полу, и в углах особенно, собрались комки шерсти и пыли. Я толкаю дверь. На двери покачивается короткий розовый халат.
Сын спускается к завтраку. Я приготовил его любимый какао и бутерброды с арахисовым маслом.
— Папа, а где мама?
Я улыбаюсь — вышла за хлебом.

Хроника одного переезда
Из Москвы провожали меня с веселыми лицами — кого позвали, кто пришел сам, кто принес кружку, кто гитару, кто вообще ничего, кто и по-русски не говорил. Съели все, и свое, и соседское, пили водку, почему-то польскую. После водки гости просили чаю, но пить не стали, и он уныло затягивался мутной пленкой на столе.
Разговоров с того вечера почти не осталось. Остались вымазанные малиновой помадой края посуды, да еще скрип двери — каждые две минуты норовил кто-то выскочить покурить и пропадал с концами в четырехугольнике замерзшего осеннего балкона. В той бездне встречались люди случайные, их проводили под фальшивыми документами или же втягивали на веревке через окно. Тенями скользили они с этажа на этаж, со вздохами проносились по длинным коридорам и оседали на балконах, где наполняли бычками и без того переполненные пепельницы.
Время было позднее, гости начинали подтягиваться к двери. Они по очереди обнимали меня и твердили, как им будет меня не хватать — и спорили, кому больше, а я только фыркала про себя — глупости, скучать ни им, ни мне будет некогда.
С меня было довольно сбрасывать вечерами в коридоре с ног разбухшие от воды ботинки, по утрам натирать их тряпочками с пузырящимся кремом и идти заново месить московскую грязь. И тогда-то в углу прихожей притаился чемодан с выдвинутой телескопической ручкой, на которой всем телом обмякло мое черное пальто.
Стоял сентябрь, лето в Румынии еще не закончилось. Ветер, примчавшийся расшевелить сомлевший от жары, грустно глядевший сухими глазами аэропорт, буйным движением спутал мне волосы, стоило только ступить из автоматических дверей. Ко мне подкрался мужчина, совсем неслышно, несмотря на внешнюю неповоротливость. Под мышками по его футболке расползались темные пятна пота. Жестикулируя, пытался заманить меня в сторону припаркованной машины, древней, как Египет, — я качала головой, меня должны были из аэропорта забрать.
Большое пропыленное тело города гудело, люди торопились с работы. Это тело, как я узнала, изощренно пытали, сначала бомбардировками и землетрясениями, потом серийными застройками, уничтожавшими понемногу его прежний облик. И хотя некогда этот город назывался «маленьким Парижем», увидев его нынче, может, и захотелось бы умереть, но совсем не от восторга и умиления. Я смотрела в окно на проплывавшие мимо меня сооружения, напоминавшие порой груды развалин, среди которых время от времени вспыхивали православные кресты.
В этот день я приехала в Бухарест.
Начался мой «медовый месяц» в новой стране. Его я провела на периферии Бухареста, напоминавшей гигантскую станцию техобслуживания.
Из окна моей комнатенки можно было увидеть прогуливающихся по полю коров, пережевывающих жвачку. С другой стороны общежития за деревянной церковью стояла онкологическая больница — лысые пациенты в халатах бегали через дорогу к мини-маркету. Кроме шипучки и шоколадок, купить там было нечего.
Я имела основания злиться, но не злилась — мой медовый месяц был в разгаре. Вместо того чтобы насылать громы и молнии, я мечтательно бродила по центру, между музеями по Шоссе Киселева, и везде мне виделась гармония парных предметов. Я много фотографировала, и на моих снимках всего было по паре: две качели на детской площадке, два желтых тополиных листа, упавшие рядом на землю, две розы на кусте. Ничего не надо было придумывать, парность вещей казалась натуральной.
Но роман у меня был не с городом.
С тех пор как Андрей забрал меня из аэропорта, все свободное время мы проводили вместе, часами бродили по осеннему парку. Солнце было теплое, ласковое. Бывают такие дни — не хочешь, чтобы они заканчивались.
Мне нравился этот парк поздней осенью, хотя я знала, что история его была «с начинкой». Больше полувека тому назад в нем на входе стояла статуя Сталина, парк так и звался, без премудростей, «Парк И.В.Сталин». Статую снесли только после выноса самого Сталина из Мавзолея и выбросили на задворки врастать в землю и покрываться мхом.
С вождями и коммунизмом Румыния покончила образом быстрым и кровожадным, в день Рождества Христова, самый светлый и любимый у румын праздник. Вывели из казармы и расстреляли того, кого прежде звали то героем нации, то титаном современности. Есть теперь у румын такая приговорка — «лучше мертвый, чем коммунист», ее любят твердить юнионисты, ратующие за возвращение Бессарабии, передвигающиеся больше по ночам, вооруженные до зубов аэрозольными баллончиками с желтой краской.
Медовый месяц закончился с осенью — в ночь на первое декабря погода переменилась, наутро повалил снег. Тогда-то я и отругала себя за переезд: какой дурой надо было быть, чтобы уехать из Москвы в этот город, неуютный и грязный в начале зимы. Мне перехотелось выходить на улицу — и я все время проводила в общежитии наедине с двумя кроватями, одна из которых пустовала, с электрической плиткой, на которой полчаса нужно кипятить воду для чая, с единственной сменой старого белья на кровати.
Это было начало трудной зимы, из которой приходилось выкарабкиваться, как из волчьей ямы. Ностальгия моя была не сладкой тоской, а горькой отравой, которую насильно заливают в рот: и вот уже пища становится противной, вода — непригодной для питья. В супермаркетах я стала задерживаться в отделах алкоголя. Потом у меня появилась компания. Помню только то, что мы всегда брали бутылку водки на четверых или пятерых, чтобы занять в клубе столик.
Андрей ни о чем не знал, пока как-то ночью не приехал ночевать. Меня не было до утра, я вернулась вполовину трезвая, пропахшая дымом, с размазанной по лицу косметикой и, не глядя на него, завалилась спать.
Решив, что можно еще что-то спасти, вечером он предложил уехать на выходные в Сибиу.
За двадцать минут до того, как он бросил меня в темноте смотровой площадки, я и подумать не могла, что этим кончится.
Наша поездка не удалась, мы не ссорились, но и не говорили. Из Сибиу выехали около шести, намереваясь добраться до Бухареста к ночи. Через пару часов Андрей нарушил молчание:
— Ты как, устала? Была тут мысль заехать кое-куда…
— Куда это?
— Сама увидишь. В особенное место.
Когда я увидела, то согласилась: да, особенное. Но не наше место. Известное ему задолго до меня.
Поначалу мы стояли и смотрели плечом к плечу, едва касаясь рукавами одежды. Под нами в нескольких сотнях метров лежал залитый электрическим светом Брашов. Потом он повернулся ко мне, и я поняла, что он решил меня поцеловать — и была готова к поцелую, но не к тому, неприятному, жадному, захватившему меня ртом. Потом пришли в движение его руки, обхватили и стали грубо мять. Я отстранилась и пробормотала, что не могу так. Не нужно было видеть лица, чтобы понять, что он злится, слышно было его шумное дыхание.
— Почему? — спросил он.
Я стояла лицом к ночной панораме. Ответить было нечего. Потом я услышала за спиной шаги. Но повернулась, только когда хлопнула дверь машины.
Я видела, как он зажег свет в салоне, услышала заведенный мотор.
Я громко позвала:
— Андрей! — но он не смотрел на меня. Машина тронулась вниз по дороге, откуда мы только что приехали.
Я осталась на смотровой площадке в двухстах километрах от своей унылой комнатенки, в темноте, посреди горного серпантина.
Кто-то, может быть, и совладал бы с гневом — но не Андрей. Тогда ему было трудно справляться с эмоциями, как и мне. Поэтому после первого желания — увидеть свет фар его автомобиля, появилось неистовое второе — чтобы на серпантине он не справился с управлением и слетел в пропасть.
Ни одно из этих желаний не сбылось.
Зима прошла, и стало легче вставать по утрам. Я свободнее говорила на румынском, меньше времени проводила одна, с облегчением понимая, что хлюпающая, засасывающая чернота уже позади.
Пасху я встретила в деревне. Цвели абрикосы, оплетал шпалеру упрямый виноград.
В доме поскрипывала от старости мебель, блестела облицованными боками печь, из комнат выглядывали наивные лица святых, прибранные полотенцами. Хозяйка увела нас в дальнюю комнату, где хранился сундук с приданым, а в нем — вышитое ее молодыми руками постельное белье, ни разу из сундука не вынутое. Смущаясь и радуясь, раскрывала она перед нами новые вышивки.
После обеда и двух рюмок сливовой цуйки я ушла к себе. Взяла телефон и увидела входящее. Еще не открыв его, поняла: оно от Андрея. Виртуально мы остались друзьями, хоть и не общались. Он писал, что открыл свою фотостудию, ищет девушку для съемки в целях рекламы, приглашал меня попробовать.
На съемку я приехала. Ни о чем не спрашивая, он взялся за камеру.
Закончив снимать, сел за стол, уткнулся в компьютер. Я спросила, когда будут готовы снимки — он пообещал, что выложит их на сайт через неделю.
Ни через неделю, ни потом снимков не появилось.
Андрей не писал, и я не писала, просто было не о чем.
В Бухаресте я прожила еще восемь лет.

Январь
Возьми.
Звонкое Б, ударное О, рычащее Р и лживое, извивающееся, как змея, самовлюбленное Я. Ты ждешь И? Здесь не будет И. Это имя твое, возьми.
Тело.
Любовь. Я нашла ее в теле.
Я нашла любовь в кончиках пальцев ног, я нашла любовь в ступнях и пятках, я нашла любовь в лодыжках, голенях и в подколенных ямках. Я нашла любовь в запястьях и в сгибах локтей, в подмышечных впадинах и в лопатках. Я нашла любовь в том, что делают пальцы, когда любое движение тела артикулирует тело в пространстве. От лобкового симфиза и до лобной кости — целое тело любви. Мое тело.
5/10/20
Бледно-желтая капля света медленно ползет по стене. Кончики пальцев смыкаются в попытке контролировать положение ногтей под ногтями, образуя дрожащую сферу.
— Это напряжение. Я всегда его чувствовала, знаешь, когда мне было лет двенадцать, мы ездили в Сочи, и у меня есть фотка, где я рядом с ним стою, вся натянутая, как струнка. И я помню, как мы фоткались, в эти моменты мне казалось, что я прям ну вот идеальной должна быть рядом с ним.
По едва ощутимому движению темных прядей волос, упавших на плечи, я понимаю, что она наклонилась корпусом чуть вперед. Не нахожу смелости посмотреть ей в лицо, и она остается тенью где-то на периферии зрения.
— Сейчас бы я назвала это… небезопасностью. Ну это как, я не знаю, аэрозолем брызнули в воздух. Ощущение постоянной небезопасности. Он мог от всего… Просто начать орать, как-то грубо схватить… Однажды он схватил меня за шею, ударил затылком о стену и начал душить и говорить при этом «я тя породил, я тя и убью». Знаешь, это так тупо. Мне было лет четырнадцать. И я помню этот зеленый диванчик свой детский, со слониками. И вот это вот. Цитируем классиков, блядь. Я вообще не понимаю. Недавно я думала, типа, мне этот момент наверно так запомнился по жизни, как какое-то самое яркое впечатление. Ну, типа, там столько детского еще трепета, и в то же время страха смерти уже, и шока от жизни какого-то… Я не знаю, что вообще сравниться может с этим ощущением. Может быть, я его как-то ищу, пытаюсь повторить, ну… Иначе как все это объяснить. Ну я просто не знаю, как себе это объяснить.
— Скорее всего, он видел в тебе источник импульсов, с которыми боялся не справиться. Отсюда желание уничтожить тебя, как источник. Он не понимал, что источник — не ты. На этом нам надо остановиться сегодня. Остановимся?
Капля на стене разгорелась и превратилась в оранжевый прямоугольник. За окном проколоколил трамвай, стал слышен шум толпы. Я оторвала спину от софы. Она уже сидела ровно, откинувшись на спинку кресла, смотря куда-то перед собой.
Мое.
Пухлые губы с малиновой помадой и зубы, выпирающие немного вперед, выдувает чуть ли мне не в лицо, рассказывает, что недавно курила один косяк с ковид-плюс. Бледная, светлые волосы с дрожащей челкой, держит тонкую сигарету тонкими пальцами, говорит, что никогда не переживала насилие: ни в семье, ни в школе, ни на работе, ни от мужчины, ни от женщины, вообще никакого насилия. В блестящих штанах, с сумкой Gucci под мышкой, стряхивает на пол, сидит на кортах, возмущается, что Сон написала в чате, что проклянет всех, кто говорит «поэт» вместо «поэтка».
— Какая, блин, разница? Она совсем ненормальная?
— Это делается для того, чтобы голоса женщин стали заметней в культуре.
— А так, блядь, что, незаметно, что она женщина? Пусть ноги раздвинет. Стихоплетка.
— О, то есть феминитивы тебя не смущают?
— Стихоплет, стихоплетка. Нормально. Но поэтка — бред.
— Почему? Что ты чувствуешь?
— Несерьезность какую-то. Поэт — он где-то не здесь, он за гранью добра и зла, а поэтка — она вот, пишет в чате мне гадости.
— Меня беспокоит больше, что все это обращает нас в дуальность. Добро и зло, поэтка и поэт. Как будто есть только два голоса, две стороны, и я должна что-то непременно выбрать…
— Ой, а мне кажется, что нам вообще навязывают весь этот дискурс. — Это говорит та, что никогда не переживала насилие. Она докурила одну сигаретку и теперь нервными пальцами слепо вытягивает из пачки вторую. — Вот моя мама врач. М-м, спасибо. Ну и что, кто-то назовет ее врачка? Смешно же. Или докторка. Ну что это.
—Может, среди врачей и так всегда было много женщин?
— Ну нет, — двойной тап по фильтру красным ногтем, — известных женщин врачей не так много. А вообще, я не знаю. Надо почитать… Нет, я вообще к феминисткам отношусь нормально… Просто они…
Я тушу бычок о дно стеклянной пепельницы и выкидываю в открытое окно. В доме напротив горит свет. Я выпила шесть бокалов воды по числу чистых месяцев. Пока держусь. Свет горит только в одном окне-глазу — как напутствие, что всегда надо быть начеку. Остальные окна-закрытые веки — спят.
— Я слышал, здесь можно пробраться на крышу… Ты не знаешь как?
— Что? Я здесь в первый раз.
— О, вы уже познакомились? — Подходит Игнат, ради которого все мы здесь сегодня собрались. На нем темно-синяя гавайская рубашка с ананасами, боа из розовых перьев, серебряные блестки на острых скулах, в левой мочке сережка-крестик.
— Как приятно встретить кого-то в гавайской рубашке в октябре, — говорю я и тянусь обнять Игната.
— Вот, познакомьтесь…
Зачем-то называю тебе свое имя, а ты называешь мне свое. Ну и, пожалуй, остановимся на этом?
На столе расставлено шесть стопок. В каждой из них — «Абсолют». Пьем залпом. Не получается проглотить с первого раза — ужасные ощущения. Выпиваю в два захода. Морщусь. Как же невкусно. И зачем только все это. Никогда больше не буду пить. Гадость. Гадость. Гадость. Гадость. Закидываю голову для второго глотка. Новопредставленный мне знакомый Игната рыжий и очень высокий — метра два. Широкие накачанные плечи. Выпирающий, цвета молока, кадык. Кожа прозрачная, сухая, сероватая, словно калька, прожженная бычком. И все лицо в этих следах от бычков, и из каждой маленькой дырочки сочится золотой свет. Такие вещи приходят сразу: «будет». Можно расслабиться. Отойти в туалет, поправить мейк, посмотреть на свое отражение в зеркале. Идеально. Идеально. Идеально. Идеально.
И.
Город, разломленный на части. Мы стоим возле ровной, залитой светом стены. Мы молча любуемся катышками на перчатках. Серый однообразный асфальт безмолвен. Ни случайный прохожий, ни одинокая машина не тронут его своими гладкими или рифлеными подошвами. Никто не посмеет смахнуть пожухлого листа с его холодной морщинистой щеки. И мы, только мы, стоим на этом асфальте, залитые солнцем, как студеной водой. Молчание, отхлебывание чая из термоса, снова молчание. Нейросеть читает стихи. Золотая игла Петропавловки блещет в спину. Мы мчим по Литейному мосту, словно опаздываем на последний на свете поезд. Перед тем как нырнуть в сине-зеленую тень улиц, машину выносит чуть в сторону, и мы едва не выезжаем на встречную полосу. «Даже если умру, не страшно, всего и так достаточно», — почему-то слышу я голос.
Когда я записываю твой номер себе в телефон, то случайно промахиваюсь в имени. Получается новое, со смешным и милым окончанием «ия».
Доброе утро, милое сердце. Как ты?
Кажется, я спал целую жизнь. Ночью проснулся от озноба, и колотило, будто в квартире минус сорок. На сегодня ни плана, ни заданий, ни даже какого-то «я в ударе»: обычный день, чтобы чувствовать свою уязвимость. Приезжай ко мне. Оставайся насовсем. Лучшего времени для этого как будто не придумаешь…
4/11/20
Выбрось.
Его тело не знало сострадания.
Изящные ладони с длинными пальцами и тонкие запястья были словно из другого комплекта. Дальше руки ширились и раздувались в плечах. Спина ровная, как если бы вместо позвоночника вставили железную балку. Я никогда не видела, чтобы он сидел скрученным или сутулым, когда по много часов работал за ноутбуком. Плечи расправлены, грудь немного навыкате, если прикоснуться к мышцам, можно услышать, как они гудят. Я подолгу давила пятками ему на крестец, гуляла босыми ступнями по широкой спине. Ложилась на его тело, как на водный матрас, накачанный напряжением, словно напряжение только и могло удерживать вместе все его разрозненные части. Мне бы быть с ними всеми в одном бассейне, медленно перебирать ладонями маленькие разноцветные шарики, пересобрать атомы в какие-то другие молекулы. Вдруг что-то можно изменить, хотя бы на химическом уровне. С ним не было хорошо ни на каком уровне, это было что-то другое, странное. Какая-то иная физика, какая-то отчуждающая биология. Спина белесая, цвета рыбьего брюшка, вся истерзанная и источенная, как и лицо, веснушками. Бедра и икры туго накачаны, а щиколотки из того же комплекта, что и запястья. Тело, окруженное ореолом неуязвимости, но такое же мягкое мясное кровяное кожное волосяное костное тело. Тело изначально тонкое, но с навязанной формой. Формой отсутствующей, внетелесной, и от того совершенной. Непобедимой формой отца.
Себя он не знал и не видел, и потому смотрелся в меня как в зеркало. Все, что можно было оценить, было предано оценке. Все, что казалось лишним, должно было быть уничтожено. Он кропотливо работал над тем, чтобы не пропустить ничего, что не соответствует форме: работа сальных желез на голове и волосяных луковиц на теле, состояние ногтей на руках и ногах, тонус мышц, строение скелета, состояние ротовой полости, звуки рта при жевании и даже гигиена ушных раковин. Я вся была разобрана и оценена по частям. Все, что не соответствовало — вымачивалось в дрожащем стыде, а затем подвергалось канселингу. Мое тело — любовь — стало для него территорией.
Однажды я пришла с прогулки и, сняв шерстяной носок, увидела, что на моей ступне, аккурат на бугорке под большим пальцем, чернеет круглая клякса. Наверное, снег, попав в ботинок, растаял, и стелька отдала свою краску носку, а затем мне. Я сразу побежала в ванну и долго терла кляксу мылом, мочалкой, ногтями. Она не уменьшалась, не исчезала, не растворялась. Упрямая клякса знала свои границы. Я так и сидела на краю эмалированной ванны, опустив ступни в воду, и долго смотрела, как из крана льется вода. Посмотри на себя со стороны. Стало душно, и я потянулась закрыть кран, но в густом пару уже не различала, в какую сторону нужно крутить. Тело обмякло, рука соскочила с хромированной ручки, раздался всплеск.
Когда Оля вышла из ванной, в квартире было темно. Он сидел в тусклой желтизне настольной лампы и настраивал скрипку — все, что осталась ему от отца. Изящной ладонью сжимал верхний колок, затягивал, отпускал. Снова сжимал, затягивал, и как чувствовал, что вот-вот, отпускал. Оля присела рядом с ним на софу. Он не посмотрел на нее и ничего не сказал, словно ее здесь и не было. Он смотрел куда-то перед собой отрешенно, отсутствующе. Нарастал странный, едва различимый гул. Оля спросила, что это за звук, но он не ответил. Посидела немного, хотела было тронуть его за плечо, как вдруг, рассекая воздух, резко взлетела, и, издав свое последнее «ля», безвольно обвисла струна.
Вон.
Я открываю глаза, я вижу голое тело на синем бархатном покрывале. Я вижу кровь на теле. Покрывало свидетельствует, что, придя домой, я сразу бухнулась спать. Свидетельств присутствия посторонних в доме нет. Я не понимаю, откуда кровь. Ничего не болит. Я смотрюсь в зеркало. Рассечение подбородка. Рана довольно глубокая. Я звоню Игнату, но он не отвечает. Свободной рукой ищу в сумочке антисептик. Что, блядь, вчера было?! Шесть месяцев чистоты! Теперь все сначала! Шесть? Или сколько, не помню. Следов крови на пуховике нет, только на теле. Снова набираю Игната, но его телефон отключен.
23/01/21

ЯСЖП
Они взглянули на меня так, что я сразу же захотела дотронуться до лица, чтобы удостовериться, что там не пустое место. Равнодушные, уже через пару мгновений эти лица задвигаются в приветственных улыбках.
— Надежда, — чуть выделяю «е», просто чтобы вспомнить, как звучит мое имя, перед тем, как в меня полетят его производные, а я соглашусь на одно из них.
— Вы вовремя, — роняет один из остролицых и долго и влажно жмет мне руку.
— Не умею опаздывать. — Я улыбаюсь и протягиваю руку следующему.
Синие костюмы, блестящие туфли, темные глаза: они неотличимы друг от друга — Ямазаки-саны и Жан-Поли по очереди называются.
— У вас же сейчас, наверное, еще час ночи? Мелатонин?
— Ответственность, — отвечаю серьезно, они же смеются, и сумка с ноутбуком тяжелеет на плече.
Я знаю, что каждое первое знакомство немного вульгарно. Застегнутые наглухо пиджаки чуть жмут, а ярлыки, что мы заранее навесили друг на друга, самодовольно топорщатся, словно цветные стикеры, которыми мы отмечаем этапы проекта на доске.
— …вылетаешь в пятницу, — инструктировал меня шеф, — они хотят познакомиться с тобой лично.
Страх зашевелился где-то в желудке, и холод от ладоней чувствовался даже сквозь плотный твид пиджака. Ямазаки-Сан-Жан-Поль ждёт меня в стеклянной башне у бухты Виктория!
— Справишься. — Шеф не спрашивал, а я и не спорила.
Ямазаки-Жан-Сан-Поль приводит меня в конференц-зал, показывает, как подключить ноутбук к проектору, а потом важно рассаживается вокруг длинного стола и впивается в меня десятью парами глаз. За его спинами, за прозрачными стенами зала постоянно мелькают чужие лица. Иногда хозяева этих лиц проходят так близко, что их дыхание рисует знаки вопроса на медленно запотевающих стеклах.
— Может, перерыв на чай? — тихо спрашивает Саймон спустя пару часов, когда мы остаемся с ним одни. Саймон — приглашенный эксперт, без его согласия Жан-Ямазаки-Поль-Сан не подпишет контракт. Но на самом деле, он — мой идеальный рыцарь. Саймон произносит мое имя правильно, а во время переговоров так убедительно кивает мне с высоты десятилетий экспертности, что у Ямазаки-Поль-Жан-Сана становится все меньше сомнений.
Больше всего я сейчас хочу кофе, крепкого настолько, чтобы перебить послевкусие неуверенного знакомства.
— Перерыв на чай — обязательно! — А потом, позвенев связкой браслетов под длинными рукавами пиджака, решаюсь признаться: — Но мне больше хочется кофе.
Мы устраиваемся на высоких стульях в дальнем углу кафетерия, у меня в стаканчике — двойной эспрессо. У Саймона — чай с молоком. Перед нами за идеально вымытым окном сорок третьего этажа Гонконг скалится финансовыми центрами.
— Саймон, мне нужна твоя помощь, чтобы разобраться с этим проектом. — Прыгнуть вниз головой было бы проще, чем продолжить. — Кажется, я совсем ничего не поняла.
Саймон смеется так, что маленькие стеклышки в квадратной оправе очков запотевают, и одобрительно кивает.
— It makes sense, они и сами ничего не поняли, но я тебя научу, — и он пускается в подробные объяснения.
И все становится чуть проще. И стеклянный город за окном, и средневзвешенная стоимость портфеля ценных бумаг. И единичка, дорисованная перед 2 февраля на том освобождении от физкультуры двадцать лет назад. Как говорит Саймон, все должно создавать какой-то смысл. И даже усатый монах с большими ступнями и грязными ладонями.
— Нельзя тебе тут! — кричит он на меня, замахиваясь дымящимися благовониями. — Демон! Демон!
Народ приближается посмотреть на изгнание демона, к монаху присоединяются другие, они перешептываются, а потом дружно разворачиваются в мою сторону.
На столике тихо звонит мой телефон, и Саймон обрывает себя на полуслове.
— Make sense, понимаешь? — Он встает, собирает рваные бумажные пакетики из-под сахара. — Я вниз, покурить, и продолжим?
Сегодня кондиционер в зале работает во всю мощность, и холодная струя воздуха бьет прямо в затылок. Мы пытаемся утвердить новую модель, но Ямазаки-Жан-Поль-Сан не готов к переменам, он кидается бессмысленными «а если» старой системы, и они кружат ото рта ко рту все быстрее и быстрее, пока меня не выбрасывает из разговора.
«Как насчет быстрого ланча в парке?» — всплывает на экране приглашение в скайпе от моего рыцаря. Сегодня он экспертствует где-то в соседней башне.
«Мы все еще моделируем, вычисления не сходятся, похоже, я где-то ошиблась.»
— Перерыв! — раздается слева, и я быстро поворачиваюсь на голос, в шее громко хрустит.
— Отлично, встречаемся здесь же? — И зачем я спрашиваю? В каждой стеклянной башне есть тот самый конференц-зал, где держат чужаков.
— Конечно! Начинаем в 12:30! — Жан-Сан-Ямазаки-Поль быстро исчезает из комнаты, а на часах 12:25.
«С облигациями не получается? Проверь, стоит ли у вас цена в процентах».
За оставшиеся пять минут я успеваю исправить ошибки в вычислениях на доске, постоять, прижавшись лбом к стеклу и разглядывая крошечные лодочки в бухте, и сходить до кулера за водой. Когда я возвращаюсь, уже 12:31, и Поль-Ямазаки-Сан-Жан ждет меня, разглядывая записи на доске.
— Так не умеешь опаздывать? — смеется он во все голоса.
Я ставлю стакан с водой на стол и подхожу к доске, чтобы объяснить ошибку. За спиной громко хрустит бумага, и комната наполняется чесночно-мясным запахом, от которого кружится голова и ноет где-то глубоко внутри. Я оборачиваюсь, и на меня смотрят жующие лица Сан-Ямазаки-Поль-Жана.
— У нас плотный график! А мы и так уже потеряли много времени на мелочах!
— Тогда перейдем сразу к результатам. — Я говорю громко, чтобы заглушить урчащий желудок. – А детали пришлю вам чуть позже.
Я разворачиваюсь лицом к доске, чтобы не видеть толстые надкусанные сэндвичи, и крепко-крепко держусь за маркер, пока мутный и вязкий стыд спутывает мысли и пальцы.
В пятницу Поль-Сан-Ямазаки-Жан приходит в кэжуал и весь день пестрит рубашками и неловкими шутками. А вечером он ведет меня в ресторан на последнем этаже самой высокой башни. И все время, пока мы сидим в стеклянном сердце этого странного мира, Жан-Поль-Сан-Ямазаки смеется и повторяет, что я должна вернуться на цветение сакуры в следующем месяце.
— Надежда. — Я выделяю «е», чтобы он понял, куда ставить ударение. — Правильно говорить Надежда.
Мы смотрим друг на друга долгую тихую минуту, а я вновь слышу пронзительное «Демон! Демон» и чувствую, как меня накрывает душная волна благовоний.
Тай Мо — маленький храм где-то в джунглях одноименного парка. Я оставляю розовые балетки на входе и сажусь рядом с незастекленным окном, прячу волосы, локти и колени под тонкий платок. Неожиданно под лопатку ударяет что-то горячее, я поворачиваюсь и чуть не получаю удар по лицу железным шаром с курящимися благовониями.
— За что? — Я вскакиваю и отступаю к окну.
— Демон! Желтоволосый демон! — Люди и монахи вокруг одобрительно гудят.
— Прекратите! Я могу уйти!
Но меня уже никто не слушает. Гомон все нарастает, толпа одухотворенных начинает окружать меня. И я выпрыгиваю в окно, босые пятки бьются о каменный двор. В спину ударяет горячий тяжелый шар, а за ним — радостные вопли. Надеюсь, две недели с фальшивым освобождением не напомнят о себе именно сейчас, и я бегу изо всех сил. Бегу, как никогда не бегала ни один марафон. Бегу, пока перед глазами не появляются черные мотыльки, а крики за спиной не стихают и лес не заканчивается автобусной остановкой.
Но в каменных джунглях бежать некуда.
— Значит, через месяц, Надежда, — наконец говорит Поль-Ямазаки-Жан-Сан, и со всех сторон ко мне тянутся его руки, жмут мои, хлопают по плечам.
Значит, через месяц. И еще через один. И так до тех пор, пока Эр Франс не пришлет мне поздравительную статистику о девяти днях, трех часах и двадцати восьми минутах в воздухе за полгода. А сейчас я помещаю в себя истории, как в омут хранилища, чтобы однажды пригласить всех желающих полюбоваться моим личным Ямазаки-Сан-Жан-Полем. Каждое первое воскресенье месяца осмотр бесплатный.

