Декабрь 2022 - январь 2023
Сувенир на память
Новогодние и рождественские рассказы будущих русских классиков
Ad astra
За счастье!
Капель в январе
Пирог счастья
Подарок
Рыжий хвост
Утро нового года
Январский пломбир
Занозы
Корабль
Небеса (отрывок)
Отец
C историей
Атавизм
Ахав
Безопасный путь
Большая медведица
Все мы немножко Сергей
Дорожка
Единственная
Зной
Исследователь льда
К черту
Как море
лестница
Мне жаль
Мой
Музыка серебряных спиц
Наставник
Нежное и пока что скромное пение цикад
Неоткрытая дверь
Новогоднее диско
Прекрасные машины
Сирокко. Когда небо сделалось оранжевым
Соты
Фея Драже
Футбол
Хлеб и водка
Цирк приехал!
Этюды
Бобы и горошины
Папа хочет спать
Человек под тополем
Летнее чтение
Письма воды (цикл «Чертово колесо»)

Как изменилась литература в 2022 году
Мы привыкли к тому, что на текущие события быстро реагирует публицистика, в крайнем случае — массовая литература. Но последние двенадцать месяцев показали, что поговорку «утром в газете — вечером в куплете» смело можно расширить до «вечером в романе».
Уходящий год заставил реагировать быстро даже тех, кто старался этого избежать. Напоминаем о переменах и рассказываем, как они повлияли на литературный процесс.
Запрет на пропаганду ЛГБТК+ и законы об иноагентах
5 декабря в силу вступил закон о полном запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», смены пола и педофилии. И это, пожалуй, главное событие не только в социальной, но и в литературной жизни страны. По словам Галины Юзефович, до сих пор не вполне ясно, как и каким образом закон повлияет на книжный ассортимент, но совершенно точно он внесет свою лепту. С первыми неприятными проявлениями литературной гомофобии авторы и издатели столкнулись еще до окончательного принятия закона.
Так издательство Popcorn Books почти не было представлено на ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction. В телеграм-канале представители «попкорнов» сообщили, что они были готовы привезти свою продукцию на ярмарку, но «обстоятельства сложились иначе». Писательница Ольга Птицева рассказывает, что стенд издательства был уже смонтирован, и о том, что он будет заполнен только книгами дружеского Individuum, руководство ярмарки сообщило накануне открытия.
«Это стало для нас большим неприятным удивлением. Я как автор недавно вышедшей книги “Там, где цветет полынь” пережила совсем уж травматический опыт. Коллеги не успели предупредить меня об отмене участия. В первый день выставки я пришла на открытие и увидела, что обложка моей книги, напечатанная в промо-целях, заклеена желтой лентой», — делится Ольга. — «Я почувствовала злость, горечь и страх одновременно. Не могу даже представить, что переживают авторы романа “Лето в пионерском галстуке”, на которых уже месяц как объявлена самая настоящая травля».
Как считает писательница, для читателей запрет на пропаганду — это не только ограничение выбора тем, на которые можно найти актуальную литературу, но и исчезновение целого пласта историй о людях, живущих вместе с нами, и о нас самих:
«Любой запрет бьет по самым незащищенным категориям людей. И книги, которые помогали им находить себе опору и репрезентацию, теперь исчезнут. И эта опора, и репрезентация исчезнет вместе с ними. Я испытываю почти физическую боль, когда думаю про это».
Если убрать эмоции, то по предварительным подсчетам новый закон затронет 50% рынка, коснется не только новой молодежной литературы, но и классики, романов Виктора Пелевина и части нон-фикшен-литературы, например биографий Петра Чайковского.
Еще одной «болевой точкой» для издательств стали книги «иноагентов» и писателей, публично высказавшихся против СВО. На том же Non/Fiction в черном списке оказались произведения Льва Рубенштейна, книга нон-фикшн журналистки Ольги Алленовой «Форпост» и приключенческий роман Анны Старобинец «Лисьи бороды».
Исход зарубежных авторов
В марте американский писатель Стивен Кинг приостановил сотрудничество с российскими издательствами. Последний официально переведенный роман «короля ужасов» «Билли Саммерс» вышел 6 апреля этого года. Также из России ушли британские писатели Нил Гейман и Джоан Роулинг, польский фантаст Адам Пшехшта и многие другие авторы. Издатели успокаивают: речь идет только о новых произведениях, разорвать договор не так-то просто. Однако лицензия на электронные версии книг о Гарри Поттере, например, была отозвана практически сразу, а контракты на бумажные версии, которые еще есть в продаже, продлеваться не будут.
В начале года от сотрудничества с Россией отказались и целые издательские дома, такие как Penguin Random House, Macmillan Publishers, Simon & Schuster, обладающие правами на публикацию книг нескольких десятков популярных авторов. Причин у такого исхода несколько. С одной стороны, это желание сохранить репутацию. В беседе с Галиной Юзефович генеральный директор издательства «Фантом-Пресс» Алла Штейнман рассказала, что для западных правообладателей важно, чтобы их «не ассоциировали с токсичным государством». С другой — после 24 февраля возникли проблемы с платежами, причем не только с отправкой: в некоторых странах получатели денежных переводов из России должны пройти специальную процедуру комплаенса (приведение деятельности компании в соответствие с требованиями законодательства, корпоративных, социальных и этических норм), которая отнимает и время, и силы.
Как говорят представители издательства «Эксмо», есть и обратный процесс возвращения писателей на российский рынок, однако сложившаяся ситуация все равно заставляет редакторов искать альтернативу на рынках Турции, Индии, Кореи и Китая. Надежд на такую стратегию мало.
«Достаточно разные культура и менталитет, — заявил в интервью РБК президент группы “Эксмо-АСТ” Олег Новиков. — Наш читатель даже не понимает, что такое индийская литература. Интегрировать ее в наше социокультурное пространство тяжело».
По словам Новикова, чуть лучше на российском рынке себя чувствует китайский и корейский контент, который рассчитан на молодежную аудиторию. Эта субкультура пришла в нашу страну немного раньше и успела укрепить позиции. При этом отдельно взятые книги тех же корейских или китайских авторов по-прежнему останутся не у дел. «Выходом» для поклонников Кинга и Геймана может стать активное изучение английского языка или… пиратские переводы, что еще больше усугубит имидж российского книгоиздания на международном рынке.
«Зарубежная литература учить языки мотивирует немногих. Чтобы сподвигнуть человека к изучению языка, если в этом нет сугубо прагматической монетизируемой необходимости, нужна довольно пылкая приверженность и открытость другой культуре, а это штука редкая, — считает переводчица Шаши Мартынова. — Поэтому, если современной зарубежки на русском действительно станет чувствительно меньше, народ вряд ли ринется учить языки. А вот возвращающееся (пока, к счастью, точечное) наплевательство на международное авторское право в очередной раз рискует всерьез испортить России отношения с зарубежными авторами и издателями. И когда (не “если”, а именно “когда”) Россия вернется в стан стран здравого смысла, многое и в этом поле придется отстраивать заново, как это случилось в постсоветское время».
Исчезновение бумаги
Уход авторов стал не единственным ранним последствием событий 24 февраля. Российские издательства столкнулись и с типографскими проблемами. Так с рынка ушли зарубежные производители бумаги, предлагающие широкий выбор под разнообразные издательские цели. В итоге редакторам пришлось срочно менять материал, на котором будет напечатан тот или иной том. Иногда кардинальные перемены происходили в середине серии.
На какое-то время российским читателям придется забыть о качественной кремовой бумаге, понижающей контрастность, а значит более безопасной для зрения. В долгосрочной перспективе может снизиться и качество печати, поскольку производственное оборудование до 22 февраля закупалось в Западной Европе. По словам Олега Новикова, имеющихся мощностей еще хватит на несколько лет, однако продукция, выпускаемая ими, будет ухудшаться, а достойной замены ни в России, ни в «дружественных» странах пока не существует.
Апроприация классики и интерес к сетевой поэзии
Весной этого года в топ продаж попали роман «1984» и повесть «Скотный двор» Джорджа Оруэлла. С тех пор они уверенно держатся на верхних строчках рейтинга, лишь изредка уступая свое место популярным фэнтези-романам. Продажи последних, кстати, за год выросли на 29% в штуках, что тоже симптоматично: погружение в иные миры — хороший способ эскапизма.
И все же литература в 2022 году стала не только средством развлечения, отдыха или побега от реальности. Так уже упомянутый роман Оруэлла сыграл роль политической листовки (в Иваново бизнесмен раздавал книги на улице, за что против него возбудили дело о дискредитации Вооруженных сил), а экземпляр «Войны и мира» — плакатом для одиночного пикета (мужчина, державший книгу, был задержан в Александровском саду в Москве). Кроме этого, название эпопеи Льва Толстого превратилось в один из самых популярных политических мемов, высмеивающих лингвистические табу. Отдельным изданием вышел манифест Толстого «Одумайтесь!», а цитаты классика разлетелись по соцсетям. Вспомнили пользователи и о произведениях Варлама Шаламова, Александра Солженицына, давно не издававшейся и вышедшей в этом году «Истории одного немца» Себастьяна Хафнера и многих других текстах. И все это без учета и так популярных цитат из романов Эрнеста Хемингуэя и Эриха Марии Ремарка. В своих целях литературу используют и в другом лагере.
«Прилепин постит у себя на страничке Тютчева, Лермонтова и прочих классиков. Русская классика вообще активно апроприируется, причем вся, включая Бродского и Пригова», — рассказывает литературовед и литературный критик Михаил Эдельштейн.
Вместе с тем, по словам эксперта, новая волна текстов все-таки постепенно вытесняет старое. Так, помимо уже упомянутых фэнтези-романов, на авансцену выходит поэзия.
«Появилось много вирусной литературы, например стихотворения Жени Беркович, которая за несколько месяцев стала звездой сетевой поэзии. Вышла антология “Поэзия последнего времени”, которую составлял Юрий Левин. В нее вошли тексты, фиксирующие состояние человека и общества после 24 февраля, — продолжает Михаил Эдельштейн. — То же самое происходит с противоположной стороны. Началась активизация литературной жизни, перепосты с цитатами, вечера z-поэзии. Появились антологии. Тут тоже есть свои звезды, своя иерархия».
Возвращение к большому роману
Несмотря на кризис, вызванный сначала Covid-19, а затем и политической обстановкой, продажи классической прозы и драматургии стабильно растут. По данным издательства «Эксмо», в сентябре 2022 года было продано 33 364 книги сегмента «русская классика», это немногим, но все-таки больше, чем в прошлом году: 32 071 том. Похожие показатели и у зарубежной классической литературы: 73 625 в 2022-м против 73 492 в 2021-м. Жанр фэнтези, как мы уже говорили, и вовсе переживает ренессанс. Причем публикуются и весьма небольшие тексты, и очень крупные романы.
Похоже, в череде запретов, неудач и тревожных новостей все-таки есть повод для радости.
«Если же говорить о хорошем, то я бы отметила очень радующую меня тенденцию, — рассказывает литературный критик Галина Юзефович. — Впервые за многие десятилетия мы видим сегодня рост спроса на художественную литературу. То есть все разговоры о том, что читатель хочет видеть только полезное (нон-фикшен и бизнес-литературу) в кризисной ситуации оказываются несостоятельны — для того, чтобы справляться с трудностями, читателю по-прежнему нужен старый добрый роман. И меня как читателя романов это обстоятельство очень согревает».

Литературное событие года
Прошедший год был непростым не только в истории, но и в литературе. Мы спросили мастеров Creative Writing School, чем запомнился им уходящий 2022, и попросили выбрать главное для каждого из них литературное событие.

Елена Холмогорова, писатель, редактор
В какой-то бессчетный раз хочется начать разговор с банальности — относительности времени. С того, как оно то сжимается, то растягивается и как, в сущности, оно лишено строгой протяженности, несмотря на все эталоны точности. И еще сказать о том, как одно событие вытесняет другое, и какой несоразмерной может оказаться одна и та же дистанция, как спустя вроде бы недолгие месяцы искажается значимость и последовательность событий…Сейчас кажется, что едва ли не на следующий день, еще в феврале, люди пера задались вопросом: как теперь писать? О чем? Можно ли?. Но на самом-то деле поначалу всех охватила немота. И поэтому мне показалось таким важным напомнить о майском событии, которое было едва ли не первым, нарушившим молчание, а потому для меня ставшим во многом ориентиром, тем ключиком, что отомкнул, казалось, внезапно, но наглухо запечатанные уста. Речь о круглом столе «Учимся писать заново? Актуальные проблемы creative writing».
Мне было предельно важно именно в тот момент увидеть людей, которым так же больно, как мне, которых мучают те же проблемы и с которыми мы идем одними и теми же тропинками, ощупью прокладывая путь. И, конечно, состав участников, являющихся для меня моральными и интеллектуальными авторитетами: Ольга Седакова, Александр Архангельский, Лев Рубинштейн, Майя Кучерская, чьи выступления — при иногда полярности акцентов — задали параметры и ориентиры, в какой-то степени внушили надежду, придали сил не опускать руки.
За прошедшие месяцы тропинки ветвились, иногда расходясь в противоположные стороны, рухнули надежды на быстрое возвращение к привычной жизни, потерпели крах многие иллюзии, болезненно разорвались казавшиеся незыблемыми связи
К сегодняшнему дню на эту тему уже сказано немало, более того, какие-то суждения, прозвучавшие тогда в аудитории Высшей школы экономики, сейчас могут показаться наивными и даже поверхностными — с тех пор и случилось многое, и рефлексий набрались целые тома. Но для меня вектор, обозначенный той дискуссией, ее своевременность и весомость оказались питательной средой, позволяющей сохранять себя и поддержать тех, кто в этом нуждается.

Дмитрий Данилов, писатель, драматург
Наверное, это прозвучит слишком эгоистично, но главным событием года для меня стал выход моего романа «Саша, привет!» в «Редакции Елены Шубиной». И не только сам выход книги, но и многочисленные отклики критиков, коллег-писателей и читателей, и постановка пьесы по роману в Театре Наций, и получение премии «Ясная Поляна». Наверное, тут излишни долгие объяснения: все мы понимаем, что авторская, писательская судьба состоит в первую очередь из его книг, из судеб написанных им текстов (хотя и не только из них). Это событие в значительной степени скрасило для меня этот, скажем так, очень непростой год, в самом его начале омрачённый уходом из жизни моей мамы.

Майя Кучерская, писатель, филолог
Я познакомилась с Татьяной Юрьевной Лесковой — правнучкой писателя, прямой и последней представительницей рода Лесковых. Балерина и хореограф, в декабре 2022 года она отмечает свой юбилей. У меня было ощущение, что в ее лице я прикоснулась к далекому прошлому, душой и кожей. И не только к литературному, но и культурному. Например, к «Русским сезонам» Дягилева, у его последователей Лескова училась. И к русской эмиграции первой волны, к которой принадлежали родители Татьяна Юрьевны и на языке которых она до сих пор говорит. Это событие на меня повлияло довольно сильно. Я пишу этот текст в аэропорту, чтобы полететь в Рио де Жанейро, отметить 100-летний юбилей моей героини и снять фильм о ней. Это не совсем про литературу, но почти.

Екатерина Лямина, филолог
На мой взгляд, литературное событие года — выход русского перевода «Истории одного немца: Воспоминания 1914-1933 годов» Себастьяна Хафнера (СПб.: Издательство Ивана Лимбаха).
Раймунд Претцель, сын видного прусского чиновника и педагога, юрист по образованию, эмигрировал в Англию в 1938 г. Там он постепенно стал писать по-английски, сотрудничал с журналом Observer и выпустил ряд важных и ставших очень популярными книг. В том числе, аналитический обзор немецкой ситуации под названием «Германия: Джекил и Хайд». В Германию он вернулся в 1954 г., умер в 1999.
«История одного немца» — это и нон-фикшн, и фикшн одновременно. 30-летний Претцель начал эту вещь уже в Англии — как воспоминания о своей юности и молодости. Поскольку в Германии оставались его друзья и родные, ему пришлось менять их имена и профессии, а самому — взять себе псевдоним и стать Себастьяном (в честь Баха) Хафнером (в честь любимой 35-й, «Хафнеровской», симфонии Моцарта). Эта первая книга была напечатана уже после смерти автора, его сыном.
Почему же это событие? Хафнер через беллетризированную автобиографию рассказывает историю поражения — своего и людей своего типа, которые в какой-то момент понимают, что фашизм затягивает их, ненавидящих и отрицающих его. Альтернатива: либо погибнуть, либо перестать быть собой. Поэтому они покидают Германию, но не перестают свидетельствовать о том, что видели и пережили. Нам эта вещь остро нужна сейчас и нужна будет еще много лет.
Роман-мемуары прекрасно перевел петербургский эссеист Никита Елисеев и снабдил текст замечательными комментариями.

Марина Степнова, писатель, сценарист
У меня в этом году два главных литературных события — выход дебютных романов двух молодых авторов Михаила Турбина и Сережи Лебеденко.
Михаил Турбин — прекрасный писатель. Его дебютный роман «Выше ноги от земли» вышел в «Редакции Елены Шубиной» осенью этого года. Хотя сам Михаил уже достаточно известный автор. Он много раз публиковал рассказы в журнале «Знамя», был его лауреатом. Там же выходила его повесть. Самое радостное и приятное для меня — это то, что Миша учился в CWS, в том числе у меня в романной группе. Он необыкновенный человек, талантливый и тонкий писатель. Я очень ждала, когда выйдет этот роман, потому что мне повезло, я стояла у самых его истоков. Роман вышел, и ждала я его не напрасно. Замечательная книга, психологический, тонкий, страшный и умный текст. Увлекательный настолько, что я забыла покормить дочку, пока читала эту книгу (а тут надо сказать, что я — совершенно чокнутая мамаша, для меня, не покормить ребенка — это что-то экстраординарное).
Миша стал лауреатом премии «Дебют» и права на экранизацию «Выше ноги от земли» были куплены еще до того, как книга вышла в печатном формате. И это тоже характеристика. Надеюсь, у книги будет хорошая, большая судьба, она этого заслуживает. Безусловно, ее выход говорит о том, что на российском литературном небосклоне родилась новая звезда. Пришел новый «большой» писатель — наша радость в это трудное время.
Еще одна долгожданная и прекрасная новость для меня — выход дебютного романа выпускника магистратуры по Литературному мастерству ВШЭ Сергея Лебеденко. «Несвобода» — судебный роман, многоголосая, непростая психологическая проза. Он о том, как устроена судебная система в России. Это очень актуальная, современная проза. И что в нем прекрасно — он не мажет ни черной, ни белой краской. У каждого героя, даже у самого неоднозначного, есть своя логика, своя мотивация, которой ты веришь. И ты читаешь эту книгу и понимаешь, что мир устроен куда сложнее, чем нам пытается объяснить и та, и другая сторона. Мир состоит из людей, люди эти принимают разные решения. У каждого своя логика, своя правда, правда, но ключевое слово — правда.
Уверена, что это не последняя книга Сережи. Очень жалею, что она не вышла на год раньше. Мне кажется, что судьба ее сложилась бы ярче. Но я надеюсь, что ее все равно ждет большое будущее.

Роман Сенчин, писатель
Событием этого года стал выход книги Дмитрия Данилова «Саша, привет!». Журнальная публикация (в «Новом мире») состоялась в самом конце 2021-го, но жуткая актуальность этого произведения стала очевидна в начале этого года. Если в момент публикации романа (или, вернее, повести) «Саша, привет!», эту вещь можно было рассматривать как очередную антиутопию, то буквально через два-три месяца она превратилась в настоящий реализм. То есть, реальность стала почти такой, как во многих антиутопиях, в том числе, и в этой. Не исключаю, что вскоре и детали книги и действительности совпадут один в один… Ну и эта книга — новый шаг вперед Данилова как литератора. Он уже многое попробовал, даже турнирные таблицы чемпионата России по футболу сделал частью художественного текста. И всегда ему, как мне видится, сопутствовала удача. «Саша, привет!» тоже удача. Еще какая.
Прошлая зима отняла у меня родителей, а эта осень подарила дочку. Наверное, эти события тоже на меня повлияли. Вернее, повлияют. В том числе и плане литературной работы. Ну и, конечно, 24 февраля нельзя не назвать. После него всё стало иным. Без всякого преувеличения.

Саша Степанова, писатель
Поделюсь совсем крошечным в масштабах всего происходящего событием. По какой-то нелепой иронии именно в этом году сбылась моя давняя мечта. Давным-давно, в 2016-м, я написала городское фэнтези «Двоедушник», действие которого происходит в моем родном городе Нижнем Новгороде. Книга вышла в издательстве АСТ и прожила свою книжную жизнь, но именно в Нижнем не прозвучала. Для меня как человека, влюбленного в город, эта представленность была очень важна.
Но прошло пять лет, права на книгу вернулись ко мне. Я переработала текст, исходя из нынешнего опыта и видения, и в 2022 «Двоедушник» вышел на платформе Bookmate в формате литературного сериала. Леттеринг для обложки сделал нижегородский уличный художник Синий Карандаш, и это тоже стало знаковой деталью. Аудиоверсию книги, которой, к слову, тоже никогда не было, озвучила я сама, и недавно она вышла на Яндекс.Музыке. Про книгу написали на нижегородских порталах. Благодаря такой информационной поддержке она как будто обрела новую жизнь, и я сама заново в нее поверила, хотя долгое время история «Двоедушника» была, скорее, травматичной. А поверив в нее, чуть больше поверила в себя — чувство, в 2022 почти утраченное.
Эта история, конечно, не про «Двоедушника», не про везение и даже не особо про мечту. Она о людях, которые сделали все это возможным и продолжают работать с книгами вопреки нынешней ситуации на книжном рынке. Неравнодушных, влюбленных в свое дело людях. И вот они — мое главное событие.

Юлия Лукшина , писатель, сценарист
Мой первый литературный итог эгоистический. В 11-ом ноябрьском номере журнала «Знамя» вышел мой прозаический текст «Притворяясь взрослой. Материнские сказки». Это автофикшн, жанр, в котором я себя попробовала в первый раз. Я пишу прозу медленно, тщательно и мучительно, поэтому выходит она довольно редко. Этот текст затормозил другой мой литературный проект — написание романа. Выяснилось, что я не могу справиться с объемами и разными задачами двух текстов. В итоге, остался автофикшн, который я закончила и опубликовала. Сейчас пишу вторую часть, которая, надеюсь, превратится в книгу, соединившись с первой частью.
Второй итог тоже личный. Я очень люблю открывать для себя новые имена, и когда влюбляюсь в какого-то писателя, он надолго становится моим другом. Я предпочитаю знать немногих, но плотно, это имена, которые не лежат на поверхности. В этом году я изучала творчество английской писательницы Рейчел Каск. Она много занимается автофикшн, ее тексты переводит на русский издательство Ad Marginem. К одной из ее недавно вышедших там книг я написала эссе. Мое второе открытие — австралийско-американская писательница Ширли Хайзерт. Ее тексты, к сожалению, еще не перевели на русский, но в оригинале они мне дико понравились.
Добавлю третий итог — профессиональный. В этом году я много занималась преподаванием и коучингом, в том числе и литературным. Очень надеюсь, что в будущем году у пары учеников (имен пока не называю) выйдут книги. С преподавательской точки зрения, это, кажется, замечательный результат долгих совместных марафонов. Держу за них пальцы.

Что почитать: книги выпускников CWS 2022
Каждый год у выпускников Creative Writing School выходят книги и множество публикаций в печатных и электронных журналах. Мы собрали несколько изданий разных жанров, выпущенных в уходящем 2022 году, на которые читателям стоит обратить внимание.

Михаил Турбин. Выше ноги от земли
Издательство «Редакция Елены Шубиной»
Пожалуй, главное событие среди публикаций авторов Creative Writing School. Книга выпускника мастерских Майи Кучерской, Марины Степновой и Елены Холмогоровой — классический русский роман, в котором есть все составляющие «большой литературы». Это история о враче-реаниматологе, тяжело переживающем смерть жены и маленького сына и пытающегося забыться в работе. Однажды к нему в реанимацию привозят мальчика, похожего на погибшего сына и эта ситуация снова развернет героя к прошлому, от которого он бежит. Проницательный, точный и увлекательный роман уже получил премию «Лицей» и готовится к экранизации.

Полина Иванушкина. Проводи меня до Забыть-реки
Издательство «Флобериум»
Первоначально роман был опубликован в журнале «Дружба народов», но в этом году вышел отдельным изданием. Героиня книги, одинокая молчальница по кличке Святая, едет в поездке, рассказывая невидимому собеседнику свою историю. Эта книга о ценности жизни и ее конечности, о поиске смысла существования и одиночестве, в котором каждый проводит свою жизнь.
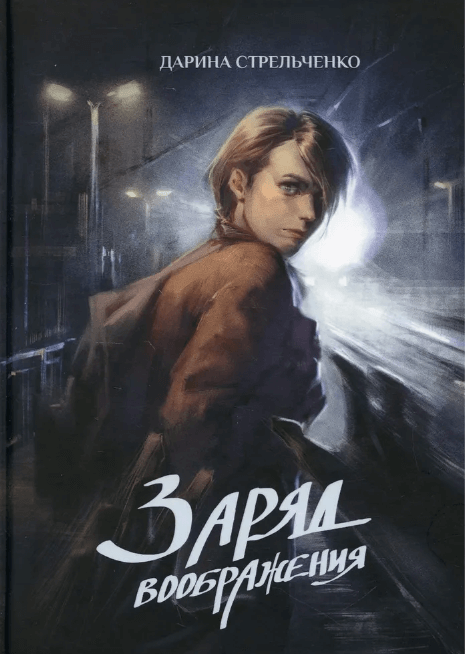
Дарина Стрельченко. Заряд воображения
Издательство «Т8»
Дарина Стрельченко, выпускница мастерской Young Adults, работает в жанре фэнтези. Ее второй роман — антиутопия, рассказывающая о тоталитарном государстве Рута, где у граждан изымают воспоминания. Главной героине — семнадцатилетней Яне — будут предъявлены обвинения в шпионаже, однако встреча с канцлером другого государства поможет открыть тайны Руты.

Мария Чинихина. Люди, которых нет
Издательство «Планж»
Мария Чинихина — выпускница прозаической мастерской Ольги Славниковой — написала роман, который сама Ольга Славникова рекомендует к прочтению. Роман начинается с бытовых зарисовок, притворяясь типичной жизненной драмой — историей противостояния двух женщин, жаждущих любви. Однако затем к реальности примешивается мистика, в ход истории вмешиваются таинственные силы. Автор показывает читателю преображение сразу нескольких героев, найти свой оригинальный подход к раскрытию темы борьбы добра и зла.

Ната Хаммер. Шанс на счастье
Издательство «Эксмо»
Еще одна выпускница мастерской Ольги Славниковой написала веселый роман о встрече старшего поколения с достижением нового времени — Интернетом. Главная героиня осваивает компьютер в стремлении разобраться с вороватым соседом по даче. Вечный борец за справедливость, она стоит на страже жизненных ценностей, однако всемирная сеть затягивает и уводит от поставленной цели. Яркий сюжет, остроумные жизненные наблюдения, легкий, живой язык, вызывающая отклик героиня — все это делает книгу удачной.
Детская и подростковая литература
В этом году мы собрали целую полку историй для детей и подростков, написанных нашими выпускниками. Среди книг, опубликованных в разных издательствах, есть как художественная проза, так и детский нон-фикш.

Мышковая Ирина. Травелог твоей бабушки
Издательство «Пять четвертей»
История про девочку Ленку, которая мечтает отправится в настоящее путешествие, но сталкивается с непониманием со стороны взрослых. Не имея возможности осуществить мечту в реальности, девочка начинает писать о приключениях. Книга ориентирована на читателей среднего и старшего школьного возраста и затрагивает важные проблемы детско-родительских отношений: отчужденность, взаимное непонимание, неумение слушать и слышать друг друга.

Мария Данилова. Аня здесь и там
Издательство «Розовый жираф»
Повесть о девочке Ане, которой приходится вместе с родителями переехать из Москвы в Нью-Йорк и привыкать к новой, необычной жизни, ходит в американскую школу, искать друзей. Это история о взрослении между двух культур, о том, как важно, где бы ты ни был, знать, что всегда можешь вернуться домой.
Повесть в 2020 году вошла в финал детской литературной премии имени Крапивина.
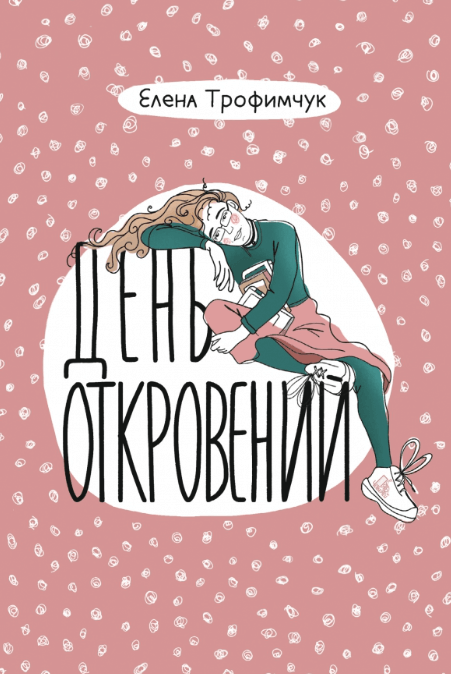
Елена Трофимчук. День откровений
Издательство «Пять четвертей»
Школьная повесть про девочку Надю и новый, театральный класс, в который она попадает. Одноклассники ее не замечают, и чтобы привлечь внимание героиня решает сочинить про себя историю. Эта книга для подростков о том, как важно не бояться показать себя настоящего, о том, что за отчуждением может стоять страх непонимание, а за застенчивостью — высокомерие.
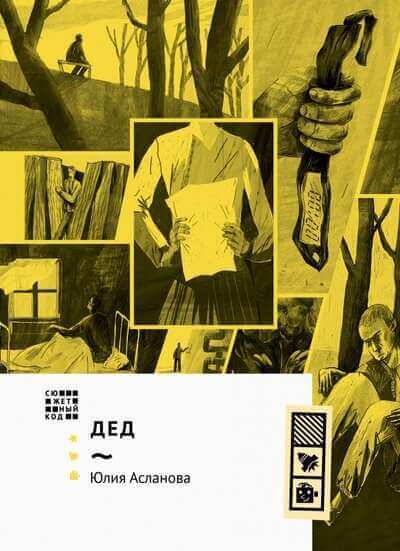
Юлия Асланова. Дед
Издательство «Волчок»
Антиутопия для читателей среднего школьного возраста о мире, где нет места чувствам. Дети взрослеют уже в 10 лет, здоровьем людей управляют системы. Учебная экспедиция подростков отправляется изучать заповедную зону Плещеева озера, однако экипировка подростков не выдерживает натиска стихии. Герои впервые испытывают незнакомые ранее чувства: страх, грусть, стыд, ревность и любовь. Книга вошла в длинный список премии «Книгуру».

Светлана Леднева. Изольда
Издательство «Пять четвертей»
Весёлая повесть для среднего школьного возраста о дружбе, футболе и собаках. Главный герой Ваня сталкивается с мелким неприятностями и трудностями покрупнее, которые ему придется решать самостоятельно. А главное — спасать попавшую к мошенникам собаку и искать выход из казалось бы отчаянной ситуации.

Юлия Линде. Гула Камакри. Легенда о проклятом таборе
Издательство «МИФ»
Юлия Линде слила воедино цыганские легенды и сказки, подводный мир и тайны Петербурга. Цыганская сказка оживает для четырнадцатилетней Анны, которая попадает в загадочное муждумирье. Ей предстоит найти волшебные дары, встретиться с чудовищами, помочь проклятому табору и, наконец, выбраться из сказочного мира живой.

Юлия Мазурова. Дверь в Англию
Издательство «Абраказябра»
Двенадцатилетняя Ася Самойлова переносится в Лондон времён царствования королевы Виктории. На календаре 1876 год, за окном дымящие трубы, двухэтажные омнибусы и люди в необычной одежде. Девочка попадает в приключения и знакомится с обычаями и традициями Викторианской эпохи.
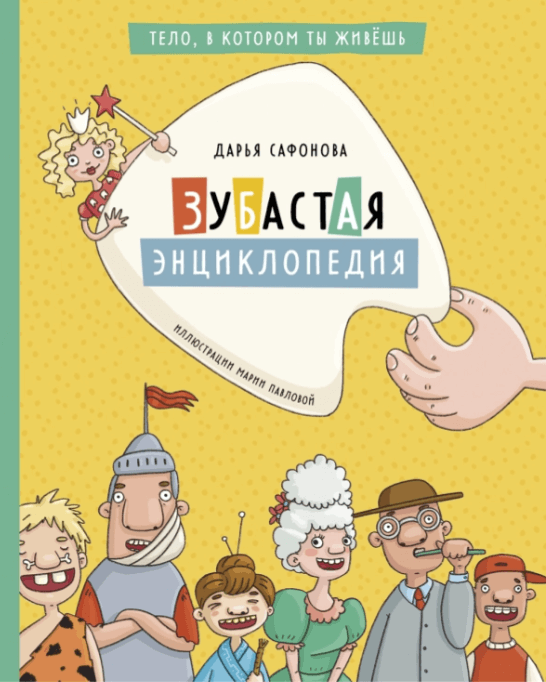
Дарья Сафонова. Зубастая энциклопедия
Издательство «Абраказябра»
Познавательная книга для детей среднего школьного возраста рассказывает занимательные истории о том, какие мифы, связанные с болезнью, лечением и чисткой зубов, существовали в культурах разных эпох. Помогает ли от зубной боли порошок из жуков и тритонов? Как зубной камень помогает совершать исторические открытия? Зачем Зубной Фее столько детских зубов? Книга поможет разобраться в этих увлекательный вопросах.

Мария Шелухина. Пирог с черемухой
Издательство «Белая ворона»
История про четырнадцатилетную Дашу, живущую на первый взгляд вполне благополучной жизнью: хорошая семья, беззоботные летние каникулы, первая влюбленность. Но этим летом Даше предстоит пережить серьезное потрясение, которое заставит по-новому взглянуть на свою семью и задуматься о том, что такое любовь.

Что почитать: книги мастеров CWS 2022
Мастера Creative Writing School — профессиональные публикующиеся писатели. В этом году вышло несколько книг наших мастеров, на которые стоит обратить всем, кто интересуется современной литературой.
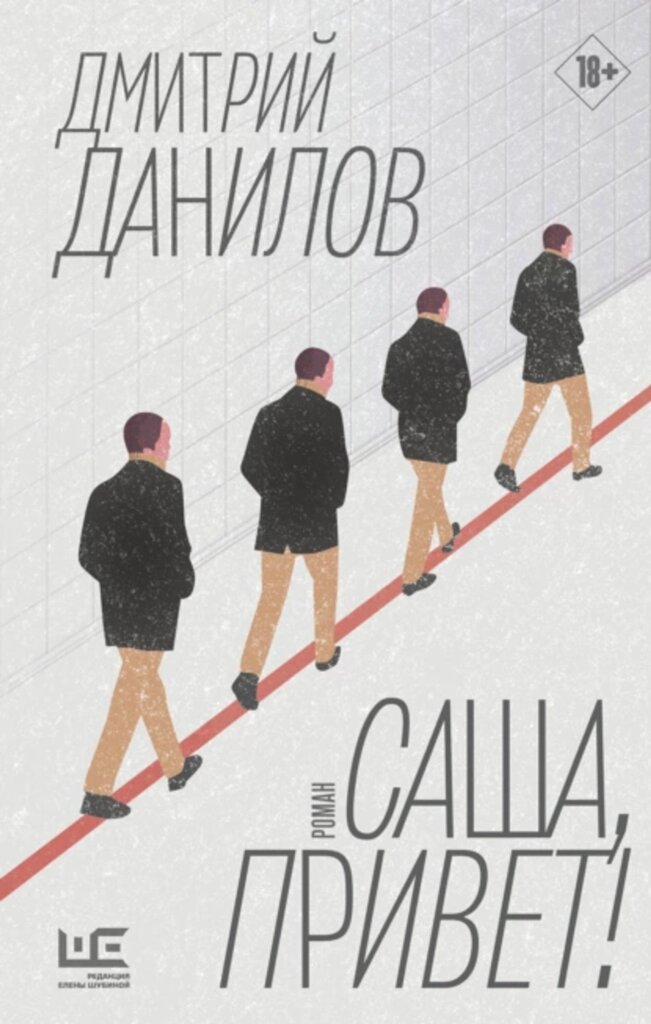
Дмитрий Данилов. Саша, привет!
Издательство «АСТ»
Писатель и драматург Дмитрий Данилов написал роман, который называют событием года. Антиутопию, которая пугающе стала похожа на нашу реальность. Эта история уже получила театральную версию, однако была незаслуженно оставлена без внимания (а может быть, как раз ожидаемо встречена молчанием) на премии «Большая книга».
Главный герой истории — филолог, старший преподаватель университета. Он жил обычной жизнью, пока не засмотрелся на студентку — и в один миг превратился в человека без будущего. И все из-за того, что в государстве было введено жестокое наказание за любые преступления в области морали. Удивительный по структуре роман состоит из 82 эпизодов жизни человека, приговоренного к смерти. Он может быть антиутопией, альтернативной реальностью или аллюзией на нашу действительность. Все зависит от того, под каким углом посмотреть.
Елена Чижова. Повелитель вещей
Издательство «АСТ. Редакция Елены Шубиной»
Новая книга Елены Чижовой — еще одна попытка осмысления недавнего прошлого. Это роман о судьбе семьи на фоне трагических событий ХХ века, размышление о том, как влияют на людей исторические события, роман о современности, в котором сливаются воедино мир вещей и мир воспоминаний.
Главная героиня книги — бывшая учительница, живущая в Петербурге с пожилой матерью и сыном, начинающим гейм-дизайнером. Их мир меняется под влияние прошлого, которое находит отражение в настоящем. Роман, в котором герои вряд ли вызовут симпатии читателей, не только о прошедшем, но и о вине, частной и коллективной. Три поколения — три взгляда на жизнь, на вещи, друг на друга.
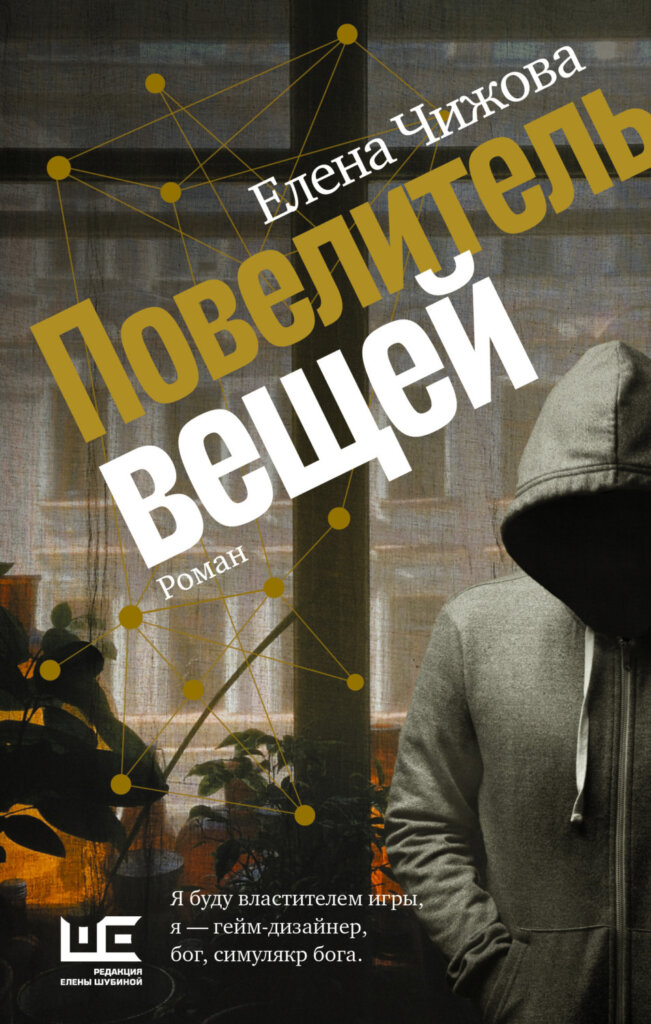

Роман Сенчин. Русская зима
Издательство «АСТ. Редакция Елены Шубиной»
В новую книгу Роман Сенчина вошли две повести — «У моря» и «Русская зима». Обе, как и другие произведения автора, во многом автобиографичны. В первой повести затрагивается излюбленная тема писателя — бегство. Главный герой — мужчина средних лет, преуспевающий сценарист, решает сбежать от повседневных проблем, семейной жизни и пустой суеты. Он приезжает в маленький южный городок на берегу моря на зимовку, в надежде пережить отдохнуть и разобраться в себе.
В центре повести «Русская зима» — провинциальная девушка, которая превращается в популярного драматурга. Это история поиска себя, своего пути и любви. И всё это на фоне зарисовок сибирско-уральской жизни с начала 1990-х до 2010-х годов. Герой Сенчина — всегда человек рефлексии, человек-самоанализ, будь он мужчиной или женщиной. Как обрести покой, найти счастье и гармонию в мире вечного дисбаланса быта и душевных смятений? Роман Сенчин в очередной раз пытается найти ответ.

У писательницы и поэтессы Аллы Горбуновой в этом году вышли сразу две книги.
Алла Горбунова. Лето
Издательство «АСТ. Редакция Елены Шубиной»
«Лето» напоминает сборник дневниковой прозы. Текст соткан из философских размышлений, мистических откровений, тончайших описаний природы и быта. Все это объединяет голос автора — взгляд ребенка, полный глубокой нежности наблюдений за миром взрослых. Проза, до предела обнажённая, обжигающая и насыщенная.
Алла Горбунова. Кукушкин мед
Издательство «Литературная матрица»
«Кукушкин мед» — это сборник стихов, написанных в 2019-2021 годах. В нем сочетается казалось бы невозможное — очарование скандинавских мифов и холодной английской рассудительности. Каждое стихотворение — самодостаточно, но в целом они составляют сложную и гармоничную картину образов и смыслов.

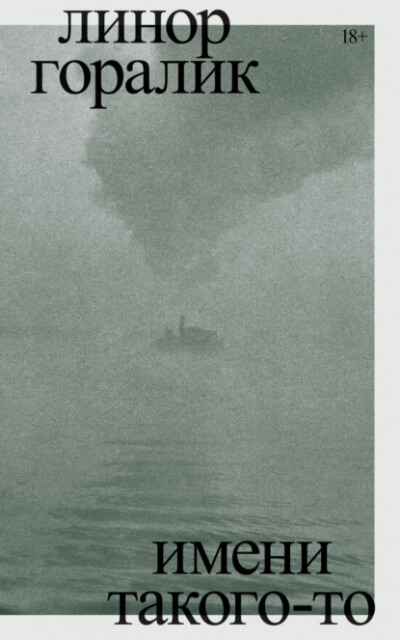
Линор Горалик*. Имени такого-то
Издательство «Новое литературное обозрение»
Роман Линор Горалик пугающе актуален в нынешнем году. В основу книги положена история эвакуации психиатрической больницы «Имени такого-то» в первый год Великой Отечественной войны, когда к Москве приближались немецкие войска. Текст пропитан эмоциями, переживаниями героев, которые пытаются выжить в условиях страшной и разрушительной войны. Нечеловеческие усилия, мужество, страх, жалость и милосердие. В атмосфере тревожного ожидания чувства героев достигают высочайшего накала, а больничный и военный быт становится все более осязаемым. История находящихся в смертельной опасности людей, больных и медиков, превращается в многослойную аллегорию, в которой переплетается историческая реальность и поэтический вымысел.
Наталья Калинникова. Сёстры по разному
Издательство «Издательский центр МВГ»
Наталья Калинникова — молодая писательница, выпускница магистратуры «Литературное мастерству» НИУ ВШЭ. «Сёстры по разному» — дебютный сборник рассказов Натальи, объединенных общей темой — способностью прощать и отпускать человека, образ, идею, любимую вещь-напоминание. Тексты трогают своей искренностью, неподдельным сочувствием к каждому персонажу. Автор поднимает простые общечеловеческие темы, на которые и надо сейчас говорить с читателем, в наше время ускоренного темпа жизни — у нас нет возможности замереть в потоке. Либо встраивайся в реальность, либо сходи на обочину. Но даже из самой неприятной ситуации можно найти выход.

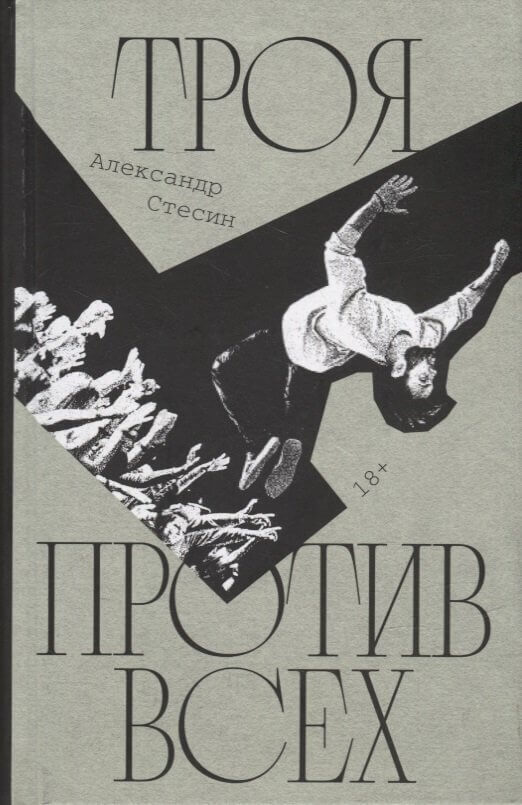
Александр Стесин. Троя против всех
Издательство «Новое литературное обозрение»
Новый роман Александра Стесина — о том, как опыт прошлого неожиданно пробивается в наше настоящее. Он об американских панках и африканских нефтяниках. О любви и советском детстве. Все это связывает личность главного героя — Вадика Гольднера. Он прожил несколько жизней: школьник-эмигрант, юный панк-хардкорщик, преуспевающий адвокат в Анголе… Стасин рассказывает о взрослении советского подростка на трех континентах и дает новое прочтение классическому «роману воспитания».
Ольга Птицева. Там, где цветет полынь
Издательство «Popcorn Books»
У романа Ольги Птицевой уже непростая судьба — он не был допущен к показу на ярмарке Non/Fiction из-за нового закона. Эта мистическая история, мрачная и печальная на первый взгляд, показывает смерть совершенно с другой стороны. Главная героиня получает страшный дар — видеть чужую смерть во взгляде любого, кто встретится ей на пути. Видения лишают ее рассудка, и чтобы избавиться от них, она готова на многое. Героиня проходит классически «путь героя», сталкивается с трудностями, которые выбивают почву из-под ног и выталкивают на обочину. Несмотря на все это, ей удается сохранить в себе человечность и веру в людей.
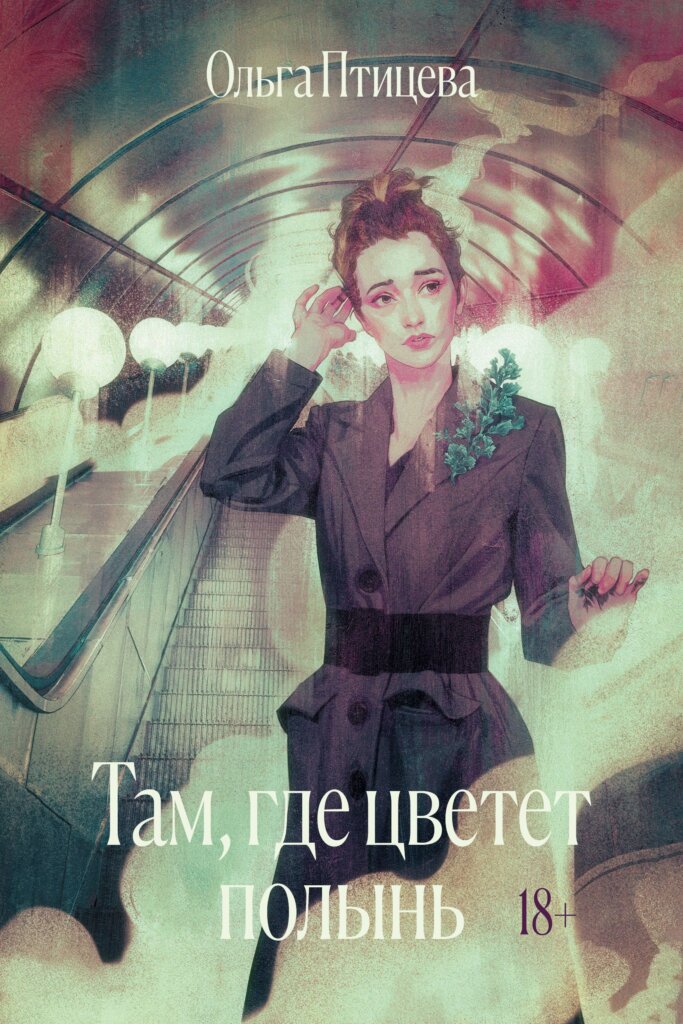
*Линор Горалик признана иноагентом на территории РФ

Сувенир на память
Вьюжную ночь с 28 на 29 декабря Олег Курочкин, сорокадвухлетний топ-менеджер крупного столичного банка, проспал как убитый. Открыв глаза, он обнаружил, что лежит на боку, по-детски подложив ладонь под щеку, в голове — приятная пустота, а в теле легкость.
Странно, давно уже он не просыпался с ощущением такого острого, но совершенно беспричинного счастья. Вчера был корпоратив, вернулся поздно. Но что он такое пил? Да как обычно — любимый виски с колой… Катьки рядом не было, ну да, она обычно вставала раньше. Олег потянулся и почувствовал на голове непонятный зуд. Зудело темя. Он потянулся почесать и… не может быть. Там, где последние лет восемь, к некоторому его огорчению, тянулась голая лысина, сейчас обнаружился мягкие, невероятно мягкие короткие волосы. Олег растерянно провел ладонью по этому загадочному меху и понял, что мех тянется и дальше, взмывает над головой и крепится к какому-то, что ли, хрящу… а рядом, рядом растет еще один хрящ, и второй хрящ тоже меховой. Олег осторожно нажал сзади на тот, что рос правее — хрящ оказался гибким, легко согнулся, и тут Олег вздрогнул: перед ним опустилось настоящее заячье ухо, точнее, аккуратный овальный кончик — розовый и пушистый.
Счастье как рукой сняло. Он ощутил неприятную кислоту во рту и холодок в районе солнечного сплетения. Какой дурацкий все-таки сон! Олег перевернулся на спину, в этом положении ему всегда особенно крепко спалось, вытянулся, но понял: что-то снова ему мешает, на этот раз там, где кончается спина, появилось какое-то инородное щекотное тело.
Он сунул руку вниз, проскользнул под резинку — сзади, в аккурат на копчике, торчал прежде никогда здесь не замечавшийся хрящик, покрытый все тем же знакомым плотным и мягким мехом. Олег зажмурился. Полежал. Сердце гулко стучало, сон не шел. И тоскливое подозрение — нет, никакой это не сон, а невероятная, кошмарная, но самая что ни на есть реальность, — забило в грудину злым клювом. Он вскочил, бросился в ванную — изучить природу неясных явлений в большом зеркале, но тут же столкнулся с Катькой.
Катька шла его будить. В легком халатике, всегда желанная, жена обычно поднималась пораньше, чтобы приготовить завтрак на всю семью. Увидев Олега, Катька застыла.
— Ми-лый.
И тут же дикий и невероятно обидный хохот согнул его благоверную напополам.
— Это что ли… после вчерашнего корпоратива? — только и сумела она выдавить из себя, не переставая смеяться. — А что? Тебе идет. Ты просто зайка…
Новый приступ хохота не дал ей закончить.
Олег побагровел и двинулся в ванную, но дверь была заперта. Там, конечно, заседал Ленька, их сын, второклашка.
— Сколько раз тебе говорил — пользуйся своим…
— Да его внезапно на кухне что-то прихватило, — попыталась объяснить сквозь смех Катька.
— Что смешного? — уже почти проорал Олег.
Второе зеркало висело в коридоре.
Он рванул туда. Но тут растворилась и дверь их ванной, вышел сонный, еще в пижаме сын, скользнул по папе взглядом и деловито произнес:
— К Лизке в садик сегодня, на утренник?
Спокойная реакция сына, как ни странно, приободрила Олега, он дошел наконец до коридорного зеркала. И самые ужасные опасения, которые он не смел пока сформулировать, сейчас же подтвердились.
На него смотрел голый, плотный, покрытый темным, уже седеющим волосом мужчина в красных боксерах, с небольшим круглым брюшком и сердитыми глазами. А из привычной и такой знакомой лысины росли аккуратные заячьи уши. Белые и мохнатые. Выглядели они не как крепкие уши матерого зайца, а как детские. Такие должны были бы украшать какого-нибудь совсем юного зайца, подростка, но почему-то украшали его, вице-президента банка, человека солидного, уважаемого, с которым никакой такой вот хери случиться никак не могло! По определению. Олег подергал сначала один отросток, потом другой, потянул посильнее — ушки не поддались. Сомнений не было: они росли прямо из головы и были его собственными вторыми ушами, помимо обычных человеческих двух, которые лопоухо, как-то очень по-родственному, но словно немного потерянно торчали там, где и располагались с самого дня рождения.
Олег снова, уже без всякой надежды сунул пальцы к копчику — меховой шарик тоже торчал на месте.
— Кать, ну что ты ржешь, — обреченно прошелестел он. — Как я теперь…
«Пойду на работу», хотел он сказать. Но не смог. Жена явно не понимала масштаба бедствия, а главное, что оно — реальное. Что это не маскарад и не шутки.
Катя тихо подошла к нему и тронула его сзади, там, где трусы неприятно вздымались, оттянула резинку.
— Ой! — произнесла Катька. — Хвостик.
И ее накрыл новый приступ смеха.
— Папа теперь зайчик! — воскликнул Ленька, до сих пор, оказывается, тихо стоявший здесь же.
Олег выпучил глаза и покраснел.
— Вон! — закричал он. — Быстро в свою комнату одеваться. Опоздаешь в школу!
Тем временем Катя, придя в себя, уже ощупывала его уши, аккуратно дергала и спрашивала жалостливо:
— Ты мой бедный. Не больно? — Тут она дернула посильней.
— Больно! — заорал Олег. — Ты совсем? Скорую вызывай по страховке!
— Скорую?
— Да! Буду резать.
— А если… снова отрастут? На старом месте? И хвост же еще… Может, лучше пока не трогать?
Из дальнего конца коридора вышел до сих пор дремавший Дик, Олег подобрал его много лет назад слепым щенком у речки на даче. Дик принюхался, внимательно посмотрел на хозяина и, словно бы вспомнив о родстве с троюродной легавой по дедушкиной линии, сделал стойку и гневно, отрывисто гавкнул.
— И ты, Дик, — печально вздохнул Олег.
— Завтракать будешь? — деликатно перевела разговор на другую тему Катя. Она хорошо знала, что после корпоративов у мужа просыпается зверский аппетит. И нет той силы, которая изменила бы этот закон.
— Что-то не хочется, — услышала Катя в ответ. Впервые за десятилетнюю совместную жизнь. И только теперь насторожилась всерьез.
— Может… тебе морковку почистить? — растерянно пробормотала Катя, но Олег только качнул головой, вернулся в спальню и плотно затворил за собой дверь. Взял Катькино круглое зеркало, перед которым она обычно наводила марафет, и начал исследование. Да, уши росли точно из лысины, рядышком, белым мехом прихватило и небольшой островок между ними, и темя чуть ниже. На просвет они были нежно-розовые, теплым розовым цветом отливал даже густой белый мех. В голове уши сидели крепко, как два побега на грядке, однако новых слуховых ощущений не прибавилось, значит, были чистой декорацией. Что внушало надежду. Или ему просто хотелось надеяться хоть на что-нибудь?
В дверь поскреблись. Папина любимица, четырехлетка Лизка с распущенными волосами уже входила в комнату. Аккуратно закрыла за собой дверь. Ей, конечно, все уже донесли.
— Папочка, — выдохнула Лизка. Дочка приблизилась к нему и осторожно коснулась стоящих торчком ушей. Медленно провела по ним ладошкой.
Это оказалось довольно приятно.
— Зайка мой любимый, зайка мой беленький. Зайка мой мягкий, — приговаривала Лизка и гладила папе ушки.
Олег почувствовал, что глаза у него становятся мокрыми, и что, как ни странно, всё в этом мире не так уж отвратительно. Тут дверь с треском распахнулась.
С мобильником наперевес Катька кричала:
— Эпидемия! Ты такой не один. У всех! У многих… Кто медвежонком, кто бельчонком, кто барсучком. Одни мужики, исключительно большие начальники, и только лысые! Кто-то, как и ты. Проснулись, а они… зайцы! — Катька опять не выдержала и хохотнула. — Пока только в Москве.
Жена быстро листала перед его глазами цветные картинки Инстаграма — на фотографиях мелькали растерянные и отчасти знакомые лица из «Форбса». С наросшими рыжими, темными ушками и, очевидно, хвостами… Было и два ежиных случая — круглые головы покрыла густая поросль темных иголок.
Радио, вещавшее у них на кухне на полную громкость, сообщило, что в Москве зафиксировано уже тридцать восемь подобных случаев.
— А я пока подожду, — раздумчиво произнес Олег, — фиксироваться. Что у нас там на завтрак, кстати?
После завтрака он позвонил главному и шепотом рассказал, что его свалил жуткий грипп, потеря голоса, жар, рвота. Протрубил по ватсапу отбой водителю, написал по имейлу длинную записку личному ассистенту Насте, попросив отменить три назначенные на сегодняшний, последний перед новым годом рабочий день, совещания.
К середине дня город уже лихорадило. Официально обнаружилось восемьдесят девять пострадавших. А сколько еще таких, как Олег, затаившихся?
Ателье срочно шили шапки новой модели, косметологические клиники разрабатывали новый тип операции по ампутации ушей и хвостов, салоны красоты предлагали на уши пирсинг, телеканалы захлебывались новостями об очередных выявленных метаморфозах и включали интервью с жертвами странного вируса. Желающих рассказать о своих ощущениях, впрочем, были единицы. В соцсетях дружно обсуждали политкорректное отношение с человекозверьем и как обычно вдрызг переругались. Психотерапевты предлагали пострадавшим бесплатную помощь. Энергичная длинноволосая дама-коуч в сиреневых очках на своем личном канале в ютубе советовала нарисовать таблицу «было»/«стало» и записать в один столбик, что было возможно прежде и что будет теперь, порадоваться перспективам и принять ситуацию. Ролик немедленно набрал миллион просмотров. Уже в середине дня подросток Грета взволнованно объясняла взрослым, что они доигрались, вот пусть теперь и наслаждаются естественными последствиями варварского обращения с природой.
По-настоящему радовались только дети. Их серьезные и очень важные папы не пошли наконец на работу, остались дома, были смешными, растерянными, ласковыми, а кое-кто из них наконец-то с ними играл.
Уже к вечеру, сидя на детской табуреточке перед столом с игрушечным чайным сервизом и закончив изображать гостеприимного зайку, Олег достал мобильник, сделал в «Заметках» табличку и записал в первый столбик: «Я никогда уже больше не смогу: руководить, получать столько бабла, отстаивать интересы банка на переговорах, выступать на совещаниях, увольнять, орать на людей, ездить каждую неделю в командировки».
Он выдохнул и застрочил дальше: «Зато теперь я смогу играть с Лизиком и Ленькой, ходить с ними на прогулки в парк, веселить детишек в детских садах, быть артистом малого жанра, сниматься в фильмах, сделаться звездой детских сериалов, быть полезным объектом для научных исследований, больше (всегда) бывать дома, тусить с Катькой, ездить к маме, встречаться не только по делу, поехать, наконец, с ребятами на рыбалку, третий год зовут». Его поразило, что второй столбик получился длиннее. Новая, гораздо более веселая и человеческая жизнь засверкала перед ним радужно и озорно, утреннее счастье внезапно заплескалось в нем и сделало невесомым. С ним случилось примерно то, о чем он мечтал иногда тайком с Катькой — забыться и уснуть. Никаких совещаний, деловых завтраков и обедов, никакой бесконечной тонкой и тошнотворной игры между министерством в столице, высшим начальством в Лондоне, этого вечно лежащего на плечах гранитного небосвода ответственности и гулкого одиночества, известного каждому большому начальнику. Он больше не атлант — просто человек, муж, папка.
Все кончилось в одночасье.
Ранним утром второго января, когда страна медленно выходила из анабиоза, Олег Курочкин и остальные официально выявленные и невыявленные пострадавшие обнаружили, что все вернулось на свои места. Мохнатые уши исчезли, хвостики сгинули.
Олег почувствовал, что свободен, внезапно проснувшись на рассвете. Катька посапывала, отвернувшись к стене. На голове явно было так же пусто, как до беды. Он это понимал, и все же медленно провел по голове ладонью, на всякий случай — ничего. Хвоста не было тоже. Олег усмехнулся, замер, и сейчас же чувство потери кольнуло сердце. Это были счастливые четыре дня — свободы, новой близости с родными, их жалости и его любви к ним. Как славно и смешно они встретили Новый год! Это был самый настоящий новогодний подарок.
Олег тихо поднялся, с помощью все того же Катькиного зеркальца изучил осиротевшую лысину и обнаружил на голом, покрытом легким пушком поле три коротких белых волоса. Подумал-подумал и решил пока их не выдирать. Пусть растут, а что? Сувенир на память.
Ноябрь, 2020

Новогодние и рождественские рассказы будущих русских классиков
В издательстве «Никея» в серии «Рождественский подарок» вышел сборник «Новогодние и рождественские рассказы будущих русских классиков». В книгу вошли 33 истории, написанные выпускниками Creative Writing School Ириной Нильсен, Викторией Джамгарян, Ириной Жуковой, Татьяной Кокусевой, Дарьей Новаковой, Анны Ханен и других, а также выпускников магистерской программы НИУ ВШЭ «Литературное мастерство» и других литературных школ.
Мы уже писали о традиции святочного рассказа и о том, как современные писатели адаптируют ее в сегодняшней литературе. Представляем новый свежий взгляд молодых литераторов на этот многовековой жанр.
Разные истории сборника объединяет счастливый финал, непременно чудесное выход их жизненных неурядиц, яркие эмоции и волшебная атмосфера — главные атрибуты жанра.
Майя Кучерская, составитель сборника: «Новогодние, рождественские, или святочные рассказы, эти сказки для взрослых, для того и пишутся, чтобы напомнить читателям о достижимости радости и чуда, довольно лишь проявить сочувствие к тем, кто рядом. Движение навстречу другому оборачивается движением навстречу собственному счастью. В темном зимнем небе загорается рождественская звезда, а на земле — человечность и милость».
Представляем рассказ выпускницы Creative Writing School Ирины Жуковой «Затишье».
Трасса виляла, и слепой волчий глаз луны мигал то с одной, то с другой стороны дороги. Снег, зарядивший ещё под новый год, всё шёл, и мёл, и сыпал, и сосны вдоль дороги стояли в тяжелых мантиях, как в Аськиной книжке про Морозко. Казалось, что вот-вот из-за елок выйдет седобородый дед с хрустальным посохом, но — никто не выходил, и почти все машины куда-то подевались, что, в общем-то, было и хорошо: всё спокойнее, в такую-то метель.
Разгрузка в Туле прошла быстро, часть денег за длинный, нудный рейс уже лежала в рюкзаке. Сережа загрузил фуру в Москве и гнал домой, в Воронеж. Если не останавливаться поспать, то — полдня на последней разгрузке, и к завтрашнему вечеру уже можно успеть к Асе на день рождения. Таков был план. Мать звонила два раза в день, жужжала в ухо дурной мухой: «гоняешь по всей стране как бездомный», или вот ещё «тебе твоя фура дороже дочери», или самое любимое «начерта опять все деньги просрал, вбухал всё в идиотский холодильник!» Да идиотский прицеп-холодильник в два раза быстрее отобьется. Подкопить, продать фуру, купить к лету дом в Ямном, там и школу построили новую, хорошую. Аська будет учиться, а он — таксовать в Воронеже. «Заживем!» Заживут. Главное — не опоздать на день рождения.
До съезда на трассу Дон оставалось ещё километров сто по ЦКАДу. Сережа планировал заправиться на Лукойле после съезда на зеленку, но то ли чертов холодильник, то ли метель и московские рождественские пробки, то ли ещё какая чертовщина, только топливо убывало на глазах, лучше было не рисковать и заправиться как можно скорее. «Ох, недобрая ночь», думал Сережа.
За деревьями алела открытая рана закатного горизонта. Смотреть на нее было неприятно, и Сережа старался сосредоточиться на трассе. Мелькнул указатель «Затишье — 5 км», и следом — знак заправки. Новую, что ли, построили? Не было вроде тут отродясь. Да и ладно. Заправиться, выпить кофе, перекусить: впереди длинная дорога.
Мальчишка-заправщик оказался толковый, расторопный: протер фары, с коротким кивком сунул мятую сотку чаевых в карман теплого форменного комбинезона и перешел к следующей колонке, у которой сиял вощеными боками огромный черный джип с высокой снежной шапкой на крыше.
Сережа забрал из кабины рюкзак с заветными деньгами и пошел было к кассе, как вдруг увидел, что заправщик бросил щетку на длинной ручке, которой счищал снег с крыши джипа, и рванул через наметы к подъездной дороге, сминая неподатливые сугробы. У самого поворота в клубах пара застыла маленькая белая тойота. В неровном свете единственной передней фары метался ополоумевший снег, валил плотный, слишком уж непрозрачный дым. Ну ясно. Сережа перехватил рюкзак поудобнее и пошел следом.
Тойота ткнулась боком в высокий сугроб обочины, из-под бампера торчал сигнальный столбик. Светоотражатель на его верхушке жалобно поблескивал, отсчитывая проносившиеся по трассе машины. Мальчишка уже кого-то выковыривал с переднего сидения и скороговоркой выкрикивал:
— Сдурела? Сама убьешься и не дай бог кого с собой прихватишь. Понакупят прав!
— Гоша, отвали! — слабо отбивалась девчонка за рулем, — Ты что думаешь, я добровольно в сугроб сиганула? Пусти, сказала. — Она наконец оттолкнула Гошу и вылезла из машины. — Ну жопа, — резюмировала она, разгоняя розовой варежкой пар над решеткой радиатора. — Вот мудак!
— Я? — опешил Гоша и сорвал шапку, показав ровный ежик русых волос и совершенно детские уши, алые то ли от мороза, то ли от досады.
— Да причем тут ты, — рассеянно отозвалась она, пнув погнутый столбик под бампером. — Мужик какой-то в полосатом шарфе. Выскочил прям под колеса.
— Да откуда тут люди, тут нет ни хрена вокруг, примерещилось тебе. Темень, метель — глюканула, бывает.
— Сам ты глюканул!
— Привет, — Сережа подошел к ребятам и кивнул на машину. — Хорошо приложилась. Я Сергей, водитель вон той фуры.
— Света. Я тут официантка, — кивнула девчонка, и из-под капюшона длинного голубого пуховика посыпались волной завитые русые пряди. Она потянулась к бамперу рукой в варежке.
— Не трогай! — хором рявкнули Гоша и Сережа.
— Там антифриз — градусов девяносто, обваришься. Патрубок наверное. — Гоша уже успокоился и взял деловитый тон.
— Пусть стечет и остынет, — кивнул Сережа. — Скорее всего — да, просто шланг радиатора порвался. Это, конечно, феерически должно было не повезти.
— Блин, мне дедушке утром после смены машину отдать надо, ему на работу. Он мне голову оторвет. И вообще за руль больше не пустит, — Света прижала пушистые розовые варежки к ярким щекам.
— Ерунда, — искусственным, нарочито беспечным тоном отозвался Гоша, — шланг заменить элементарно. Я в нашу мастерскую позвоню, они доставят. А антифриз здесь на заправке купим.
— Давайте сначала машину отгоним с дороги и посмотрим, что там, — вздохнул Сережа.
В кафе было чисто и светло. Сережа выбрал дальний столик у окна с видом на лес. Днем вид, наверное, был фантастический, но сейчас в стекле отражался лишь зал с кабинками столов, несколько рядов мини-маркета и стеклянная стойка с усталой кассиршей. Света уже несла кофе и несколько бутербродов, Гоша что-то тараторил в трубку у запасного выхода, не отрывая взгляда от маленькой официантки в коротком форменном платье. До Сережи долетали обрывки его фраз: «патрубок, срочно», «ну я тебя прошу», «выйду за тебя в мастерскую на той неделе». Сережа качал головой и улыбался про себя, лениво листая в телефоне каталог М-Видео. Аська просила на день рождения приставку свитч, с розовым и голубым джойстиками, но он всё откладывал, а в праздники найти ее в наличии за человеческие деньги оказалось не так-то просто. Предзаказ. Предзаказ. Ждите неделю. Может, всё-таки куклу? Чёрт, чёрт, чёрт.
Раздвижные двери открылись, и с улицы вместе с вихрем снега ввалился поджарый дед в распахнутой черной дубленке. Из тех, чей возраст неопределим из-за дихотомии седины в бороде и очевидного беса под ребрами. В три шага он доскакал до кассы и нарочито низким голосом спросил у хмурой кассирши:
— Милая барышня, размену не найдется?
— Не меняем! — рявкнула она и с грохотом захлопнула кассовый аппарат, так что дед дернулся от неожиданности. На мгновение он застыл, тряхнул головой и огляделся по сторонам. Встретившись глазами с Сережей, он направился прямиком к нему, легко опустился на диванчик и прогудел:
— Не возражаете?
Сережа лишь хмуро кивнул, подвинул поближе рюкзак с выручкой и уставился в свою чашку с кофе. В черном круге отражалась зеленая лампа на потолке. Он качнул чашкой, зеленый зрачок в кофе качнулся и снова встал по центру.
— Какова метель, а? Лет двести такой не видали, — не унимался новый сосед.
Снова подошла Света.
— Готовы сделать заказ?
— Пельмени. Самую большую порцию, — улыбнулся ей Сережа.
— Минут через пятнадцать принесу. Сметану?
— Обязательно.
— Отлично. А вам? — она повернулась к деду.
Тот хитро ей улыбнулся, развернул тонкое бумажное меню и начал закидывать Свету вопросами по каждому пункту, то и дело оглаживая аккуратно постриженную бороду. После обстоятельного интервью немного подумал, уставившись вверх на зеленую лампу, и резюмировал:
— Борщ! Но сначала чай. Черный.
Кофе в чашке Сережи убывал, вымечтанная Аськой приставка всё не находилась.
— Ищете что-то конкретное?
— Скорее — в конкретный срок: завтра день рождения у дочки. Но что-то вариантов нет.
— Задачка, — дед кивнул и прищурился. — Что ж, вопрос — сколько вы готовы заплатить, чтобы желание исполнилось.
— Да, если продать почку, пожалуй, и получится.
— Или душу, — расхохотался дед.
— Да по нынешним ценам и того, пожалуй, не хватит. Нет уж. Пойду посмотрю, что тут есть. Извините.
Сережа подхватил рюкзак с выручкой и пошел между рядами мини-маркета. В торце у кассы всегда можно было схватить случайную игрушку за безумные деньги. Расчет, видимо, был как раз на незадачливых отцов, спешащих домой с пустыми руками. На полках сидели разнокалиберные медведи, одинокий единорог в пайетках и захватанный том сказок Пушкина с глянцевыми компьютерными иллюстрациями. Не то, всё не то.
— Подарок выбираете? — хмурая кассирша переклеила ценники на соседней полке и подошла к стойке с игрушками.
— У дочки день рождения завтра, — улыбнулся Сережа.
— Возьмите вот этого белого, — сказала она, не ответив на улыбку, — на него скидка. — Кассирша кивнула на огромное лохматое чудище, очень условно напоминающее медведя.
— Ммм, спасибо, но она приставку хочет. Только где ж я ее до завтра достану. Подумал, может, куклу?
— Кукол нет, — отрезала она и пошла назад к стойке.
Сережа пожал плечами и вернулся за столик. Соседа на месте не оказалось, только стояла одиноко пустая чашка с нетронутым черным чаем.
Тем временем Гоша, похоже, договорился, наконец, о доставке шланга для многострадальной тойоты, и с видом победителя поджидал Свету в дверях кухни. Но та так и не появилась. Ко второй колонке подъехала новая машина, и он вышел вон. Сережа задумчиво смотрел ему вслед. Пельмени ещё не принесли, можно тоже размяться перед дорогой, заодно узнать, как дела с машиной. Он повесил на плечо рюкзак с выручкой и пошел следом. Из дверей кухни навстречу, наконец, выпорхнула Света. Хмурая кассирша, увидев ее, слабо улыбнулась, вдруг потеплев лицом.
— Бегаешь?
— Да сегодня и народу немного, тёть Валь. Как вы? Как папа?
— Без изменений, дорогая. Лекарство вот заканчивается, а до зарплаты ещё дожить.
— А как же премия за выход в новый год?
— Да СанПалыч от меня бегает. Сегодня спрошу.
— Спросите, теть Валь, должен же дать.
— Да должен, — сказала кассирша, покачав головой.
На крыльце, в плотных завитках сигаретного дыма, стоял давешний сосед. Рядом, напряженно уставившись в телефон, переминался с ноги на ногу паренек в тонких кожаных туфлях. Под щегольски распахнутым полупальто виднелась форменная рубашка с позолоченным бейджиком.
Сережа ответил коротким кивком на хитрую улыбку деда и прошел мимо. Гоша что-то перебирал под капотом маленькой белой тойоты, и Сережа направился прямиком к нему. Звонко скрипел под ногами снег. Гоша обернулся на звук:
— Вы ещё тут?
— Жду ужин. Привезли патрубок?
— Я сделал заказ в мастерской, в которой днем работаю. Но курьер выехал и пропал. Он звонил пару раз, но мне на ухо присел вон тот чудной дед, рассказывал, как свидание назначить. Еле отвязался от него. Теперь перезваниваю курьеру, а он недоступен. Канул. Мистика какая-то, — тараторил Гоша, бросая гневные взгляды через плечо. Сережа обернулся. Дед и его собеседник в тонких туфлях увлеченно о чем-то беседовали.
— Что за щеголь? — спросил Сережа, проследив за взглядом Гоши.
— Этот-то? Управляющий наш. Александр Павлович, — процедил Гоша. —Сволочь редкая. Целыми днями не вылезает из своего онлайн-покера. Никаких премий, одни штрафы. Выслуживается, гад. Да и со Светкой… — замялся Гоша.
— А, и со Светкой, — понимающе улыбнулся Сережа.
— Ну да. — Гоша с грохотом захлопнул капот тойоты.
Сережа прикрыл глаза и вздохнул. Густо пахло морозной хвоей, дорогой и далеким костром. С ближайшей сосны на опушке вспорхнула невидимая птица, ветви натужно качнулись, и вниз посыпались тяжелые снежные комья. Температура к ночи быстро падала. Он поежился и пошел обратно в кафе.
Пара на крыльце всё ещё что-то увлеченно обсуждала.
— Вопрос в том, сколько вы готовы заплатить, — вкрадчиво говорил дед, оглаживая бороду.
— То есть если увижу туз и даму, нужно будет идти олл ин на ривере?
— Не на ривере, а на тёрне!
— А, ну да, запомнил. Где же взять сейчас столько денег. Точно получится?
— Вопрос всегда только в цене.
Вот заклинило человека, покачал головой Сережа. Раздвижные двери кафе с мягким шорохом сомкнулись у него за спиной и тихие голоса отрезало.
Пельмени оказались что надо. Будто Сереже снова — пять, в их маленьком домике в Подгорном — огромная елка, прямо посередине комнаты, не обойти. И папа сыпет на кружок теста соль и перец вместо начинки, пока мать не видит. Подмигивает: секрет будет. Секретный пельмень всегда ему и доставался. За воспоминаниями опустела тарелка, а следом и вторая чашка кофе. Сережа, наконец, перевел дух и отдыхал, с любопытством посматривая на обитателей заправки. Рядом, в той же позе, сыто откинувшись на спинку диванчика, лежал рюкзак.
На экране маленького телевизора над стойкой кассы начиналось вечернее шоу. На фоне красной студийной стены показался седеющий мужчина, стиснутый собственным пиджаком до реберного хруста. И с отключенным звуком было ясно, сколь пламенна его речь, сколь весомы резоны.
— Ой, ой, опять понёс! — скривилась кассирша. — Гоша, прихлопни его.
Гоша нащупал на стойке пульт и переключил канал.
— Уже слова человеку сказать не дадут, — прокомментировал управляющий, входя с улицы.
— Нечего! Пусть вот лучше футбол. — Гоша дощелкал до спортивного канала.
— Мне на футболистов смотреть холодно, — аккуратно зевнула в кулачок Света.
— Не смотри, — хором сказали Гоша и управляющий. Гоша возмущенно обернулся на своего нежданного единомышленника и прошелся гневным взглядом от модных туфлей до золотого бейджика и обратно.
— Есть вещи поважнее футбола, — не сдавалась Света.
— Нету! — снова хором рявкнули Гоша и Александр Павлович.
Теперь смутился уже управляющий и, не давая никому возможности прокомментировать неожиданный союз, отрапортовал:
— Так, ну, не прохлаждаемся! Работаем, товарищи! — и хлопнул в ладоши. Никто не двинулся с места. Он хлопнул ещё раз и медленно, с прямой спиной, прошел мимо стойки. Его молча проводили взглядами до двери с маленькой тусклой табличкой.
Света ободряюще закивала тете Вале, зашептала громко «иди, иди спроси про новогодние деньги», и та, тяжко вздохнув, пошла в кабинет Александра Павловича.
В зал, отряхивая снег с воротника черной дубленки, вернулся дед.
— Видели? Снег опять пошел. Пробки — жуть, кто застрянет — так и проведут рождественскую ночь, толкаясь на трассе. Безобразие! Где снегоуборочная техника? Куда смотрит губернатор? Возмутительно! Пора, пора ехать. Не надо борща, спасибо, откланиваюсь.
Ехать! Аська, день рождения! Расселся. Сережа моментально отодвинул пустую тарелку, хлопнул себя по карманам и достал портмоне. Бросил на стол купюру, схватил пуховик и, едва кивнув на прощание Свете и Гоше, бегом кинулся к стоянке.
И прежде, чем раздвижные двери открылись, в стеклянном отражении он увидел тетю Валю, выскочившую из кабинета управляющего в слезах, Свету, кинувшуюся ее обнимать, и Гошу, утешавшего их обеих.
Через несколько километров от Затишья лес отступил. За обочиной трассы, далеко внизу, пошли чередой волнистые заборы с гирляндами проволоки поверху, красно-белые полосатые трубы, из которых клубами шел пар, будто вырезанный нетвердой детской рукой из черного с просинью неба, и тусклые многоэтажки с редкими искрами окон. А за ними тянулись до горизонта поля, засеянные фиолетовым ночным снегом.
Навигатор, до того показывавший путь до Воронежа яркой зелёной дугой, вдруг треснул желтым, потом продернулся красным и, наконец, показал яркий кусок цвета спекшейся крови у самого съезда на трассу Дон. Ремонт? Авария? Сережа вздохнул, выбрал дорогу в объезд пробки и съехал с ЦКАДа на бетонку. Дорога запетляла в лесах, мимо проносились резные дачные домики, уснувшие под снежными шапками до майской страды.
За очередным поворотом, на противоположной стороне дороги, показалась криво припаркованная киа с рекламными буквами по борту. Вокруг нее растерянно ходил парень в распахнутом пуховике и надвинутой на брови шапке. Сережа сбросил скорость, проехал мимо, и уже в зеркале заднего вида заметил, как парень махнул ему вслед, сдвинул шапку на затылок, всплеснул руками и снова пошел вокруг машины. Сережа посмотрел на часы и надавил на газ, чертыхнулся и снова затормозил. Переключил передачу и стал медленно сдавать назад, не отрывая глаз от зеркала заднего вида — не хватало ещё самому застрять тут, поймав в зад какое-нибудь чучело.
— Проблемы? — спросил Сережа, спрыгивая из кабины.
— Брат, да бензин кончился, сам не пойму, как это вышло. Прости, что дернул тебя. Ты ж, наверное, дизельный? Тут просто почти никого по ночам.
— Сейчас, — Сережа развернулся обратно к фуре, под подошвами жалобно скрипнул снег.
— Да я на девяносто пятом катаюсь, брат!
— Понял я, — сказал Сережа, аккуратно стаскивая из кабины тридцатилитровую канистру. — Алтимейт. Держи.
— Ну ничего себе! Блин, тридцатка — это я и заказ отвезу, и назад вернусь. Ты только представь, смена уже заканчивается, а тут друг заказ сбрасывает, вынь-положь ему патрубок, я и метнулся в Затишье, — тараторил парнишка, — ни денег не взял, ни на бензин не глянул, сорвался и мчу.
Он раскрутил крышку канистры и начал аккуратно сливать бензин в бак. Сережа облокотился на распахнутую дверь киа и улыбнулся. Так вот он, пропавший курьер. Ну ясно. На заднем сидении в салоне лежали коробки, пакеты. Сердце Сережи стукнуло, пропустило удар, и снова застучало с удвоенной силой: среди коробок он увидел ту самую, столько раз сегодня просмотренную в лентах всех магазинов техники в Воронеже. Нинтендо свитч! Черный корпус, два вставных джойстика, розовый и голубой. Он!
— Я уж и матери пообещал, что буду сегодня вовремя, но Гоша заладил: вопрос жизни и смерти, спасай, брат. Ну а я что, не кидала же, пришлось вот. Как понял, что бензину хана, стал звонить Гоше, только он сначала не брал почему-то, а потом связь пропала. Как же только тебе денег-то отдать? Может ты мне телефон дашь, а я тебе завтра…
— Я тебе заплачу.
— Что? – мальчишка мигнул.
— Отдаю бензин, и ещё доплачу остаток. Я хочу купить у тебя свитч.
— Приставку-то? Ох, да ради бога, брат, это же я себе на праздники купил, весь год копил понемногу — мать всю зарплату забирает, ну знаешь.
— По рукам?
— Не вопрос. На выходных другую куплю.
Курьер, наконец, уехал, Сережа поставил пустую канистру за сиденье, убрал драгоценную коробку в сетку на верхней полке, сел в любимое кресло, устроился поудобнее, повернулся к пассажирскому сидению, где обычно в той же позе, сыто откинувшись на спинку, лежал рюкзак.
Но рюкзака не было.
Он впервые разворачивался с такой скоростью на узкой двухполоске, через сплошную.
По дороге обратно в Затишье он клял себя на чем свет стоит. Вот это учудил. Чтобы покрыть недостачу, продавать придется всё. Прощай дом в Ямном, прощай новая школа для Аськи, прощай воронежский таксопарк. Начинать придется с самого начала.
Одной рукой Сережа держал телефон, другой — искал в нем контакты заправки, подруливал коленями. На звонок ледяным тоном ответила Тетя Валя. Сказала, что рюкзак у нее, ждут.
В кафе Сережа влетел в одной рубашке, как был. Тетя Валя не глядя достала из-под кассы рюкзак, отдала ему и вернулась к своим делам. Он метнулся в туалет, закрылся в кабинке, захлопнул крышку унитаза, поставил рюкзак и дрожащими руками пересчитал купюры в тугих пачках. Вся выручка оказалась на месте.
Вернувшись в зал, он медленно пошел к кассе. В груди горело, ноги заплетались, будто он хватанул полный стакан материного самогону. У прилавка с игрушками он столкнулся со Светой. Она отступила, чтобы пропустить его, машинально взяла с полки большой шар на подставке и потрясла его. Крошечный призрачный город за стеклом накрыло короткой метелью. Вихрь взлетел, покружился вокруг раскрашенных домиков и улиц и опал вниз мягкой волной. Она смущенно кивнула Сереже и пошла на кухню, помахивая пустым подносом.
Он подошел к стойке кассы, достал из портмоне ярко-оранжевую купюру и, стесняясь своего порыва, подвинул ее тете Вале.
— Спасибо вам. Вы не представляете, что вы для меня сделали.
Тетя Валя моргнула, потянула купюру на себя пальцами и снова подняла взгляд на Сережу.
— Господи. Это вы представить не можете, как нужны мне сейчас эти деньги.
Она вдруг быстро улыбнулась, и с лица ее снова будто глянула совсем другая женщина, моложе, добрее и красивее.
— Спасибо.
Сережа напоследок оглянулся по сторонам. Зал был пуст, и только на диванчике, где сидел его странный сосед, одиноко лежал свернутый в кольца полосатый шарф.
На улице Гоша и курьер копались под капотом белой тойоты, припаркованной под фонарем.
— Как дела?
Две головы разом обернулись на него и хором ответили:
— Закончили!
— Молодцы! А с фарой что?
— Так она у нее с декабря битая, это дедушка расколотил на работе. Так и катаются, — засмеялся Гоша, — я её по одной фаре и узнал, когда она столбик снесла вечером.
— Ясно, — заулыбался Сережа. — А что же управляющий, я смотрю, так и не выплатил тете Вале денег?
— Да от этого жмота разве дождешься. Выплатил, и тут же оштрафовал на эту сумму. Довольный ходил — выиграл в свой онлайн-покер, я сам слышал, как он по телефону хвастался. Да только какой-то дурак въехал в его тачку, она вон там стоит, видите? Снесло весь бок, места живого нет. И не видел никто, и не слышал. Мистика! Полицию ждем. Вот только праздники, до утра — без шансов. Короче, бед ему хватает, не до выигрыша. — Гоша захлопнул капот тойоты. — Так, ну всё, теперь Свету зовем, принимать работу.
— А вы зачем здесь? — наконец спросил курьер, с нетерпение ждавший паузы.
— Рюкзак забыл. Теперь домой.
— Ну, пока, брат!
— Доброй ночи, парни!
— Доброй ночи!
Навигатор снова показал ровную зеленую дугу до Воронежа. Сережа аккуратно сдал назад и развернулся к съезду на ЦКАД. Метель закончилась, с неба глядели яркие звезды, и лес стоял светлый, в розовом снегу. Курьер уехал, машин у колонок не было, и только на крыльце кафе стояли, обнявшись, две фигуры: одна — в рабочем комбинезоне, вторая — в голубом пуховике и розовых варежках.
«Добрая ночь», — подумал Сережа и нажал на газ до упора.

Ad astra
В тот год Мира особенно сильно нуждалась в чуде. Каждый месяц сыпался на неё без пощады и промаха. К декабрю уже придавило так, что ни выдохнуть, ни вдохнуть. А тут ещё этот дурацкий, дурацкий кролик.
С чудесами у Миры не складывалось класса с восьмого. С того дня, когда богоподобный и непререкаемый авторитет, русичка Елена Евгеньевна, припечатала её робкий стихотворный порыв своим железобетонным: «Акуловская, и так звёзд с неба не хватаешь, лучше бы почитала классиков». С тех пор к стихам, классикам и Елене Евгеньевне Мира потеряла и уважение, и интерес. Но каждый раз, когда сердце разгонялось галопом, а в горле пересыхало от острой жажды что-то заполучить, Мира сглатывала горький желчный привкус и проходила мимо. Потому что ну куда тебе, Акуловская?
Когда пришло время выбирать вуз, Мира ткнула пальцем в такой, чтобы не поступить можно было, разве не явившись на экзамены, и то оставались варианты. Дура — констатировал папа. Папа был востребованный врач и превосходный диагност, поэтому спорить с ним никто не решился. Мирина жизнь покатилась и понеслась не совсем так, как когда-то мечталось, и к тридцати шести в её анамнезе значился развалившийся брак, любимая, но мало кому нужная по нынешним временам работа и дочь-подросток с соответственным возрасту характером дикого кактуса. В довесок: шесть лишних килограммов, заброшенный аккаунт в Тиндере, кредит за машину и вонючий карликовый кролик Васька. Дочь выпросила его года три назад, а он, скотина, вымахал в полноразмерного Василия и по ночам истерически скакал по своей клетке, громыхая на всю квартиру. В октябре он окончательно осточертел дочке и переехал в Мирину комнату. Мира совсем перестала нормально дышать. Аллергия — постановил по телефону постаревший, но такой же занятой папа. Упрямо промучившись с антигистаминными остаток осени (мы же вроде в ответе за тех, кого), к декабрю Мира сдалась. Старательно измерив габаритные размеры и длину ушей, выложила объявление о продаже милого, пушистого и невероятно обаятельного питомца, символ наступающего года, будет радовать вас и ваших детишек. В добрые руки. Срочно. Клетка и наполнитель в подарок. И тишина. Ни одного, даже самого глупого вопроса по объявлению. Оно и понятно, кому сейчас понадобится обаятельный кролик средних лет?
За пару недель до Нового года, где-то между истерической закупкой подарков для учителей (о чем она думала, вписываясь в родительский комитет?) и сдачей неизбежной годовой отчётности, Мире написали про кролика. Сколько и чем кормить? Есть ли нюансы? Может ли Мира сама привезти его по нужному адресу? Договорились на субботу. Новая Васькина хозяйка, сотрудница какого-то там факультета, просила встретиться у её работы. У входа в Главное здание МГУ, в 12:00.
Закутав клетку в старый верблюжий плед, Мира топталась у подножья высотки, не решаясь ступить на лестницу и гадая, нужный ли это вход. Ещё издалека исполинское здание заворожило. Ритмичный, расходящийся вширь объём, дерзко тычущий в небо шпиль с бликующей на солнце звездой, и все эти статуи, и гигантские колонны, и тягучая лестница — всё горделиво указывало на муравьиный масштаб её, Мириной жизни. Хотелось поскорее распрощаться с кроликом и уйти. Скоро к Мире выпорхнула женщина, нет, скорее, тётушка в сером пуховике и смешной длинной полосатой шапке с помпоном. Как у эльфа — пронеслось в голове и тут же выветрилось. Спешно познакомившись с Василием (не застудить бы), новая хозяйка рассыпалась в благодарностях и взяла клетку, явно ожидая, что Мира будет прощаться с бывшим питомцем. Пришлось потрепать кроля по пушистой башке и прошептать в морду что-то бессвязно-ласковое, главное, не принюхиваться. Новая хозяйка с Василием наперевес уже перебирала ступеньки в сторону хранящих тепло и неведомые знания дверей, как в метре от Миры что-то гулко свалилось. Мира вскрикнула и отскочила. Женщина обернулась и засеменила по лестнице обратно. Что за хрень? На снегу валялся кусок стекла размером со спичечный коробок. Подобрав стекляшку, Мира повертела в её руках. Гладкая, холодная, одна сторона как бы прозрачная, золотая, другая — будто покрыта тонкой плёнкой. Пробежалась глазами по окнам снизу вверх, пока взгляд не упёрся в шпиль со звездой. Золотой, разумеется.
— Ой, всё в порядке? — лепетала тётушка. — Вы так закричали.
— Да вот, стекляшка откуда-то, — сказала Мира, всё ещё задрав голову наверх.
— Вы знаете, это очень странно. Вы правильно смотрите, это со шпиля куски валятся. Только обычно всё сыпется на площадку двадцать девятого этажа, там выступ такой, типа террасы. У нас там, знаете, музей Землеведения. Я-то, собственно, на геофаке работаю. А девочки из музея подбирают все эти стекляшки, хранят. Но до земли-то, это ж далеко слишком.
— Ветром снесло, наверное.
— Хорошо, рядом грохнулось, не прибило. Вы такая везучая! — Она что-то ещё говорила, говорила, совершенно забыв, что может застудить Василия. Мира не слушала. У неё в руках было настоящее, гладкое и согретое в ладони чудо: кусочек упавшей с неба звезды. Ты гляди, поймала, Акуловская. И дышать, кажется, стало чуточку легче.

За счастье!
Больше всего я не люблю слякоть. Это самое мерзкое время года — земля ещё не остыла, и падающий на неё снег тает.
Превращаясь в жижу…
Ну вот что бы ты ни надел на ноги — все равно будешь насквозь!
Брр…
В это время появляется ощущение, что солнце улетает куда-то в другие звёздные системы греть другие планеты. А на Земле наступает апокалипсис. Одно только и радует — Новый год.
Вообще, по моему убеждению, зима делится на два отрезка — доновогодний, то есть подготовительный, предпраздничный, и посленовогодний — застывший, стылый, но в предощущении весны. Будь моя воля, я бы зимой сделал только ну в лучшем случае месяц — пару недель на покупку мандаринов и подарков и ещё две — на доедание салатов. Этого вполне достаточно.
Но декабрь, как его ни отталкивай и ни отпихивай, все равно пришёл. Уже по традиции улицы окрасились в один-единственный оттенок — серый. Странно, но в это время года и люди тоже выбирают для одежды в основном цвета неяркие, немаркие. Возможно, чтобы слиться с этим всеобщим настроением затухания, стать незаметнее.
Но с наступлением предновогодних праздников мир вдруг расцвечивается яркими огнями, сверкающими оттенками радуги и, как ни верти, дыхание Нового года своё дело делает.
И в этом году не сильно жадный мэр разукрасил улицы гирляндами и картонными снеговиками, а магазины завалили свои полки мандаринами. На центральной городской площади появилась огромная ёлка, на звезду в макушке которой указывает зажатой в руке фуражкой памятник Ленину.
Все по отработанному плану из года в год.
Только у меня одного все наперекосяк — я до сих пор не определился, с кем-таки буду праздновать. Конечно, можно было бы поехать к бывшей жене, но как-то неудобно, что ли: там у неё её родители, жених, может, новый. А тут я… Ведь как говорят: Новый год — новые надежды. А эта формула исключает старого и тем более бывшего мужа…
Но про Новый год ещё говорят, что этот праздник — семейный. Точно! Поеду к маме. Тем более, для этого есть несколько причин. Самая главная — последний раз я с ней отмечал Новый год лет тридцать назад, ещё до армии. Во-вторых, у неё новый муж и познакомиться бы надо. Ну а в-третьих, она, наверное, очень такому сюрпризу обрадуется.
С этим ощущением умиротворения от того, что наконец определился и успел принять решение буквально за день до праздника, 31 декабря отправился за подарками…
Не знаю, как вы, но даже став относительно взрослым человеком, я по-прежнему не понимаю: почему весь мир дарит друг другу подарки на Рождество, но в нашей стране это принято делать на Новый год? Может, потому что к «нашему» Рождеству у граждан уже денег не остаётся… Как-то с опозданием в пару недель оно у нас наступает…
Хотя да, к нам пока доедешь…
По этой-то слякоти…
До ЦУМа час добирался. А там — народищу! Только зашёл в магазин, и тут меня кто-то по плечу сзади стучит.
— Мужчина! Мужчина, вы где эту шапочку покупали? — Совсем незнакомая молодая девушка в кроличьей шубе пальцем в перчатке мне в голову тычет.
Я даже растерялся, но на всякий случай рукой за разноцветный в полоску с помпоном головной убор взялся.
— В Узбекистане, — отвечаю.
— На Карпинского? — продолжает допытываться «кроличья шуба».
— Нет, на себя, — пытаюсь пошутить.
— Оч смешно, — и ушла. Ни улыбки, ни благодарности тебе.
Ну да, новогоднее настроение, как правило, потом приходит. А вначале надо еды купить, салатов сделать, рассчитать, чтобы и на подарки деньги остались. А ещё — наряд выбрать. Ох, голова кругом… Поэтому и пьют наши люди за новогодним столом — с устатка, мол, что все сделать успели, сварили, нарезали, накрыли.
Не знаю, какой юморист придумал, что во время боя курантов надо успеть написать на бумажке желание, потом её сжечь, затем высыпать пепел в бокал с шампанским и все это ещё и выпить, но этот алгоритм как ничто другое олицетворяет нашу привычку жить в предпраздничном цейтноте. И ведь успеваем! И не по одному разу!
Удивительно…
На втором этаже в отделе женской одежды нашёл-таки, что запланировал купить заранее: большой пуховый платок. Ох, какая же это красота. Вот за что надо Нобелевскую премию давать — за изобретение таких вот нужных вещей. Я бы ещё и за изобретение кваса премию дал. Но это так, к слову.
Материному сожителю решил зажигалку хорошую купить — вещь для курящего человека нужная. Только вот не знаю — курит он или нет. Если нет, себе подарок оставлю. Поэтому выбирал зажигалку как для себя…
На первом этаже полтыщи потратил на красивые упаковки подарков с ленточками — праздник всё-таки. И вот настроение повысилось, радость появилась. От предощущения счастья дарения. Независимо от возраста и повода, подарки все любят. Но дарить их не менее приятно.
От ЦУМа до дома прогульнуться пешком решил. В городе всё-таки праздничной иллюминацией больше других центральные улицы украшают — лицо как-никак. Это как та самая пэтэушница — глазки подвела, губки красненькой помадой намазала — и красивая. Вроде. Но это снаружи. А там, под пальтишком, гамаши и платок крест-накрест, в них заправленный. Товар лицом, как говорится.
На центральной улице и жижи меньше. По той же причине.
Иду, витрины рассматриваю, пакет с рисунком Деда Мороза, в котором подарки, бережно, не размахивая, несу. Я и в детстве-то в новогодние чудеса не верил, а уж теперь и подавно. Говорят, что малыши способны что-то такое видеть, чего взрослому человеку видеть не дано. Например, домовых или тех же фей всяких вместе с Дедом Морозом. Не верю! Потому что сам малышом был, но ничего такого не припомню.
Хотя…
В общем, поэтому и к атрибутике новогодней отношусь, мягко говоря, с сомнением. А ряженых в нарядные махровые халаты Дедов Морозов всерьёз вообще не воспринимаю. Халтурщики и пьяницы. Вспомнил я про новогоднего волшебника, потому что навстречу целая колонна из них состоящая попалась — идут по улице, колокольчиками и рюмочками — уже тайком — звенят. Во главе процессии — самый нетрезвый — «йохохо» кричит. Какой леший меня дёрнул его поправить, не знаю.
— Уважаемый, — говорю, — «йохохо» кричат Санты, а не Морозы. Не вводите народ в заблуждение…
— А хохо не хохо? — поинтересовался в ответ Дед.
— Не хохо, — отвечаю.
Да уж, не хватало, чтобы мне стая пьяных Дедов Морозов под Новый год наваляла. Вздохнул и собрался было дальше идти, но тут от их шеренги отделился один Дед и ко мне бежит. Думаю, все, нарвался. А он подбежал, обнял и давай по плечам хлопать.
— Здорово! Братец! Чего глаза вытаращил, не узнал, что ли? — спрашивает весело.
Я уже внимательно в лицо под гримом посмотрел.
— Неа, — головой мотаю, — что-то не опознаю никак…
— Ха-ха-ха, — залился веселым смехом Мороз, — вот память! Ты мне в прошлом году лыжи по объявлению продал! Вспомнил?
И с искренней такой надеждой мне в глаза заглядывает.
— Аааа, — сделал вид, что вспоминаю, пытаясь радость встречи улыбкой показать, — точно, вспомнил!
Да какой там… Я лыжи на продажу ещё в августе прошлого года выставил — мне без надобности, а выкидывать жалко. Да и палок у меня к ним не было. Естественно, что летом лыжи мало кому нужны. Но, помнится, прибежал один чудик в возрасте. В лыжном костюме… С лыжными палками и в специальных ботинках под крепления… Все под размер подогнал и, не торгуясь, купил хлам. В лицо, конечно, я его не запомнил.
Думаю, теперь выговаривать мне будет.
— Спасибо тебе, братец! Выручил ты меня тогда. Я на север уезжал, и мне лыжи позарез нужны были, а кто их летом продавать-то станет. Хорошо, что такие вот чудаки, как ты, есть! Ну, бывай!
Ещё раз хлопнул меня по плечу и побежал «собратьев» догонять.
— С наступающим Новым годом… — донеслось уже издалека.
Вот как. Это, значит, я чудак. Нда… Но всё-таки улыбнулся. И дальше пошёл, по сторонам посматривая…
Знаете, а ведь улыбка — это некий символ сакральный. Все, кто улыбается, в ответ тепло получают. В виде душевного расположения или той же улыбки. Поэтому и дворнику, который проход к моей улице, опираясь на огромную деревянную лопату, охранял, я под воздействием настроения тоже улыбнулся.
— Чего щеришься? — Дворник смерил меня внимательным взглядом. — Новый год ещё не наступил, а уже наклюкаться успел…
И потом как-то по-доброму, завидуя:
— Везуучий… Но ты, земляк, обойди вон там, — рукой на ряды гаражей махнул, — хрен его знает, когда эти сосульки посшибают…
Вон оно что. Голову поднял, смотрю, и правда — на козырьке крыши шебуршат лопатами. Ну что же, дело нужное. Развернулся и через дорогу, по слякоти, на противоположную сторону улицы, к гаражам пошёл — по-другому к дому не попасть никак.
А между гаражей тропу с прошлой зимы, наверное, от снега никто не чистил — по колено. Хотя следы уже были — видно, не меня первого дворник развернул.
Иду, в уме речь поздравительную новогоднюю складываю. Так, мол, и так, поздравляю, мама и папа или как там назвать-то его лучше. Желаю счастья в личной жизни и гладкой семейной дороги…
— Огиии… — вдруг откуда-то послышался странный отголосок моих мыслей. Остановился. Прислушался. И снова, но уже громче:
— Огиии…
Всё, думаю, вот она, конечная станция. Приехали… Голоса слышать начал. И тут буквально из ворот ближнего ко мне гаража, к которому как раз узкая полоска отпечатков ног вела, отчётливо раздался женский голос:
— Помоогиии…
Я в сугроб с размаха, естественно, на помощь прыгнул.
— Кто здесь? — кричу. — Вам помощь нужна? Чего случилось-то?
Женский голос как бы из глубины, как в трехлитровую банку, отвечает:
— В по…реб за огу…цами, …иху мать, залезла, люк захло…нулся, с…ка. Сижу, б…дь, два ч…са уже…
Вот, оказывается, как бывает.
Калитка в больших воротах гаража открытой оказалась, поддалась легко. Машины внутри, кстати, не было. Голос из-под квадратной крышки погреба в углу пояснил, словно мысли прочитав:
— Машину муж, кобель, при разводе забрал — пусть ездит, расшибется, может. — В этот раз все слова отчётливо получились.
Пока я ручку на люке искал, голос поторопил:
— Чего чешешься-то?! Заснул там, что ли?
— Сейчас, сейчас уже, — ответил, ощущая себя бурундуком Чипом из мультфильма.
Наконец, ручка в виде набалдашника из оргстекла нашлась — неожиданно с краю оказалась. Только после двух минут борьбы с ней понял, что для того, чтобы люк открыть, ручку повернуть на 180 градусов надо. Механизм хитрый, стало быть.
Из темноты на меня, подсвеченное гаражным полумраком, очень милое женское лицо смотрело. Как показалось, с благодарностью и даже надеждой.
— Ну, чего вылупился? — опустило лицо меня на землю. — Руку дай скорее! Продрогла здесь совсем…
Вот тебе и спасибо, бурундук. Но руку-таки вниз опустил.
— На, держись крепче, вытяну сейчас.
— На кой чёрт меня вытягивать-то? Я что, безногая, что ли? — и банку с огурцами мне в ладонь сует. — Вынимай вот. Только смотри, чтобы аккуратно!
Так четыре банки солений всяких мне и передала.
— У вас свадьба, что ли, намечается? — спрашиваю. — Еды столько…
— Сразу видно, бобылем живёшь, — определила меня появившаяся из погреба женщина. Лет ей на вид примерно к сорока, роста небольшого. И лицо на самом деле оказалось приятным. — Новогодние праздники-то вон какие длинные, гостей может много прийти. А что им есть, не с собой же нести! Наготовлю салатов, да и так — на закуску пойдёт, если кому надо будет.
В общем, нагрузила она меня, добровольного, выходит, помощника, овощными заготовками, гараж закрыла амбарным замком, и вместе мы в путь тронулись. Оказалось, что через дом от меня живёт, соседка, считай. По дороге про себя рассказала.
— Я-то уже два года как в разводе, одна всё… Дочь, правда, есть. Но она уже взрослая, живёт там с одним. Вроде ничего, получается. Ну и хорошо, что так — может, хоть ей в жизни повезёт…
Сама Светлана — по ходу пути представилась — в магазине администратором работает с шести до десяти — времени не то, что на личную жизнь не хватает, на жизнь вообще его нет. Так что-то, урывками.
— И встречи-то любые — как перекур — будто сама у себя минуты краду, — говорит. — Вот и не получается ничего. И ни с кем… Сейчас наготовлю всякого разного, стол накрою, президента включу и ждать буду — может, хоть сегодня придёт кто…
Ох, несчастная, думаю. Одиночество ведь снизу, под самый корень точит, даже большие деревья, бывает, падают.
А что, я-то лучше, что ли? Сам же ведь такой! Тоже один всё. Только я привык, наверное, уже к этому. Вот и не переживаю так. Зачерствел. Как горбушка хлебная.
— Сам-то, поди, в компании отмечать будешь? — спрашивает.
— Нет, к матери поеду. Не был давно… — зачем-то добавил. Будто оправдался.
— Ну а что! — вдруг воскликнула так, что я руки, в которых банки нес, чуть не расцепил. — Приходи! Вдвоём веселее будет!
И затараторила, словно отказ услышать боясь:
— Готовлю вкусно, еды много, даже коньяка бутылка есть, если хочешь, курица в духовке будет, холодец с чесноком, у меня хоть ёлки нет, но я ветки хвойные в вазу поставила и украсила шарами с гирляндой…
И посмотрела грустно так, с надеждой…
— Придёшь?..
Мы уже у её двери на втором этаже в подъезде были. Прежде чем ответить, я солёности на пол поставил. Снова улыбнулся.
— Приду, — говорю, — жди…
И тут меня как молнией насквозь пронзило — пакет-то с подарками в гараже Светланином оставил. Она моё лицо изменившееся увидела, спрашивает:
— Чего это с тобой? Как призрака увидел…
— Ё-моё, — говорю, — я же к тебе с пакетом в гараж зашёл, а там подарки для мамы и мужа её. Которого никогда не видел…
— Ох, нашёл о чем переживать, — выдохнула Света, — иди домой, готовься. А вечером придёшь, твои подарки тебя здесь уже ждать будут — я попозже в гараж ещё пойду, возьму твой пакет, не переживай.
И, видя мои сомнения, добавила:
— А к маме твоей первого января сходим… Вместе, если хочешь…
И так тепло почему-то на сердце стало — давно за меня решения никто не принимал. Приятно это — снова мальчишкой стать. Покраснел даже от удовольствия…
Головой кивнул — что-то сказать комок в горле помешал — посмотрел в её глаза растаявшие и вниз, на улицу пошёл.
Иду, свежему морозному воздуху радуюсь — ну ведь бывает так, чтобы ну прямо все, как пасьянс, сложилось! Может, это и есть то самое новогоднее чудо?
Уже к своему подъезду с этими мечтаньями в голове подошёл и только в последнюю секунду крик того самого дворника услышал. Правда, так и не понял — о чём…
…Очнулся я в темноте. Голова по ощущениям была на тысячи частей расколота, боль адская. А тут ещё и дверь распахнулась, светом в глаза ударив — силуэт в белом халате вошёл.
— Ааа, очухался… — сказал силуэт девичьим тоненьким голоском. — Вот так вот ворон-то считать! Это вам повезло ещё, что так отделались, сотрясение всего. Некоторых вон… Ааа, чего уж, в рубашке вы родились…
Оказалось, что это медсестра. Говорит, что на меня сосулька с крыши упала, без переломов обошлось, но недельку полежать все равно придётся.
— И кстати, — уже выходя, — через десять минут Новый год. Так что с праздником вас, сосулечный!..
Господи, и такая грусть на меня навалилась, слёзы от жалости к себе на глаза навернулись — и ведь познакомился только, и к маме с её мужем поехать решился наконец… Обидно-то как!
И тут, бац! — снежок в окно врезался. Белый отпечаток от него на меня одним глазом через стекло смотрит, не мигая. И я застыл, не пойму — чего это происходит.
Бац! — ещё один снежок вторым уже глазом к окну прилип…
Батеньки мои, да ведь это в окно кто-то кидается!
Встал с кровати, пошатнулся, но удержался, два шага сделал, на подоконник облокотился и глазам своим не верю: внизу мама, Светлана, тот чудик Дед Мороз, который у меня лыжи летом купил, и даже девушка в кроличьей шубе, которая моей шапкой в ЦУМе интересовалась, стоят. И руками все мне машут!
Дед Мороз меня в окне увидел, вперёд вышел и скомандовал:
— Три, четыре!
— С Новым годом! С Новым годом… — хором закричали мне все присутствующие.
Я окно открыл, плачу, как маленький, носом хлюпаю.
— Вы как же здесь? Все-то?..
Мама первая ответила, мой пуховый платок на своих плечах поправляя:
— Это Светочка всё организовала! Она как тебя не дождалась, к тебе сама пошла — твои подарки нам с Витей вернуть, — и на Деда Мороза показывает, — вот и узнала, что с тобой случилось… Потом через участкового нас нашла!
— Вот и правда — чудак! — подхватил Дед Мороз Витя. — Под Новый год ведь угораздило!
И зажигалкой моей, как на рок-концерте, вверх светит.
— Спасибо тебе! — кричит. — Давно о такой мечтал, в походах вещь незаменимая…
А я на Светлану смотрю, ей спасибо сказать хочу. Но она меня опять опередила:
— Долго не стой на холоде! Слышишь? Простудишься! А ко мне вон дочка приехала, — и на ту самую девушку в кроличьей шубе показывает, — так что не переживай, мне не очень грустно будет. А там и ты поправишься, всё наладится…
Так и есть — всё наладится. Всё и у всех. Это ведь тоже предновогодняя традиция — счастливым быть…

Капель в январе
Плакало небо как-то красиво и постоянно — по прямой, без хаоса и без игры. Так было понятно, что правда зима, а не притворилась осень. Мир застывал, и леденели слёзы, повисая льдинками в воздухе где-то у самых ресниц прохожих. Они моргали, и веки слеплялись. И потому будет правдой сказать, что чуть подслеповатые все ходили в канун того Нового года.
Вы замечали, как особенно нежны похолодевшие кисти? Если, конечно, они отвечают прикосновением на касание. Но Нина, увы, уже закрыла глаза и отвечать не умела. Легко разучивается жить человек. И странно было теперь её беспокоить, о чём-то просить.
— Я знаю, что ты не ответишь, и я не боюсь с тобой засыпать в одной спальне. Только вот пусть уже солнце будет.
И маленькая Саша лезла в кровать в толстых махровых штанах и кофте, пряталась под одеяло. Нет, не боялась, а правда морозно — без страха, просто свежо. И ещё почему-то обидно.
И снилась ей Нина, и Нина пела:
— Ба-а-аю, засыпа-а-аю, маленькую Сашу в сон возвраща-а-аю.
И крепко спалось, но без снов. До этого было: кругом распускался май, Саша родилась в мае, её, крохотную, подхватывала Нина, трогала пальчики, целовала глаза. А после поцелуя откроешь веки — уже декабрём заметает, впервые метёт прям по телу, без конца ворожит.
Какие-то люди, кто не пил ещё, не гулял, трафаретные на белом снегу, а земля не такая, потому что всюду теперь — глина. Поманил пальцем папа, в глаза заглядывает.
— Чего не плачешь?
— Я не боюсь.
— Не от страха плачут, Сашка.
— А от чего?
— Да ты поймёшь сама.
За ручку взял и пошёл, засыпали, как размокшей манной крупой, холодно было ладони. Сидели за длинными столами, ели рис. Саша не любила рисовую кашу, но мама, плача немножко, сказала — надо, и по ложке давала, а рис становился солёный от её маленьких капелек-слёз.
А вечером шли на ёлку.
— Пусть хоть немного — праздник.
— Какой уж тут праздник.
— Сашка, ты хочешь на ёлку? И на горке кататься?
И Саша хотела.
Немного играли огнями фонарики и гирлянды. Ёлка была большая — такая, что Саше её всю и не увидеть. Но даже частицами красивая, узорами зелёных, подбитых белым ветвей.
А горок Саша боялась. Одну — особенно стороной обходила. Большая-большая ледышка.
Саше купили блинчик, сказали:
— Саша, подумай о бабушке, когда есть будешь.
И Саша долго думала, а блин остыл, и стало растекаться по варежкам масло. Пришлось чистить снегом, о бабушке и забылось.
Катались на коньках маленькие все люди, держались за руки. Кто-то падал, но не было больно, а ещё вокруг катка фонари, всё больше съедаемые темнотой, становились будто свечами. И как воск подтекал лёд, растапливал теплеющий снег.
— Сашка, шар снежный хочешь?
Купили шарик, трясли холодный, летели снежинки — через стекло смотрела салют, зажмурив глаза. Страшно красивый был, золотой.
И как-то смолкло. Кричали-кричали, но где-то по сторонам, безучастные невидимые силуэты.
Папа брал за руки маму, поглаживал по плечам, а Саша бегала полусонная.
— Саш, может, на горку всё же? А то уже домой скоро пойдём. Видишь, мама устала как.
У мамы глаза зелёные-зелёные, посреди зимы несуществующие.
И хочется перед папой быть бесстрашной. Лезет на горку.
Как покатилась! Закрыла от страха глаза, на спину упала, каждую трещинку затылком чувствует. И мир бежит, ускоряется, и вдруг — замерло.
И над глазами — небо в звёздах. Но страшно открыть.
Пошёл снег. И только до ресниц долетела снежинка — Саша веки распахнула, как проснулась. Над ней мама, у мамы глаза зелёные, и в них снова май, цветёт что-то, но капает, капает бесконечно на щёки. Саша задумалась будто — и заревела.
Мама подняла Сашу, и вместе они сидели на льду, отплакивали своё.
— Сашка, возьми огонёк.
Три огонька зажгли, стреляли брызгами солнца. И стало почему-то хорошо. Как-то ласково улыбнулось небо, рассветая. Будто знакомой улыбкой.
Как в детстве, ветер донёс колыбельную. И всё прояснилось.

Пирог счастья
— Здесь же углеводов полтонны! — Майра понюхала липкую массу в целлофановом мешочке.
— Будешь думать, что это углеводы, не похудеешь. А ты думай, что это волшебное тесто!
— Это — пирог счастья, — прочитала Майра. — Рецепт пирога разработан тибетскими монахами. Добавьте в заготовку 500 граммов муки, разделите на две части, испеките одну, загадав желание. Вторую — отдайте хорошему человеку. Тогда и его желание сбудется. Хм, ну ладно, Эльза, давай свое волшебное тесто.
После ухода подруги Майра замесила тесто. Кусочек отщипнула. Вкусно!
Это вам не магнезия, которую она пила на программе голодания!
Живот обиженно заурчал. Сколько она его терзала! Пила капсулы из личинок фунзьянской бабочки. БАДы из бараньих катышков. Спиртовый экстракт волоса тощей Зильки из отдела продаж.
Энерготерапевт Фатьма Брдемесовна поведала, что 470 лет назад Майра была мужчиной и съела соседскую собаку. За это ей в наказание лишний вес и шайтан внутри. Отхлестала Майру веником из тутовника, чтобы изгнать шайтана. Тот выходить наотрез отказался. Уж если после магнезии…
Живот снова напрягся. Попа сжалась, вспомнив о клизмах два раза в день.
Майра хотела попробовать с бородатым Ромкой из техотдела аяваску — погрузиться в глубины подсознания. Но передумала после того, как их коллега задышала маткой и прямо на планерке улетела в астрал.
Майра разделила тесто на две части. Так, кому же отдать вторую?
Может, Зинаиде Петровне с первого этажа? Та мечтает об Испании. Сын ее живет там с женой пятый год. А мать не приглашает. Ох и змеюка ее сноха! Майра сама слышала, как они общались по видеозвонку.
Зинаида Петровна лопотала:
— Милочка, как ты похорошела, дорогая! И зеленый халатик тебе к лицу!
А Милочка, которая на самом деле бывшая Людка из пятого подъезда, как гаркнет:
— Брысь отсюда! Это я коту, опять мою косметику за тыщу евро разворошил!
Обязательно надо Зинаиду Петровну в Испанию отправить! Пусть эта Людка-Милочка позеленеет, как ее халат.
Майра залила свою часть теста в круглую форму, зажгла духовку и прошептала:
— Хочу похудеть к лету!
Ой! Эльза говорит, плохое это слово — похудеть! От слова «худо». А как сказать? Избавиться от жира? Нет, про жир ни-ни. Постройнеть! И цели надо точно формулировать. На семь кэгэ к Новому году!
Духовка уютно забухтела. Майра выглянула в окно. Весна!
Позвонила Эльза:
— Я совсем забыла! Для усиления эффекта нужны красные трусы! Забрось их на люстру и не снимай, пока желание не сбудется. Проверенный метод! Забыла, как называется, оксюморон, кажись.
— Нет у меня красных трусов! Может, свеклой покрасить? Красный бант на обычные привязать?
Точно, красный бант! У пса Зинаиды Петровны! Та еще умилялась, что бант идет к мордочке Мусика.
Майра накинула шлепанцы и побежала на первый этаж.
Дверь была открыта.
Майра постучала и шагнула внутрь:
— Зинаида Петровна, ау!
Тишина. Майра прошла в зал и отпрянула.
В центре зала сидел мужчина с всклокоченными волосами и красным бантом на шее.
— Доплясалась? — вскричал мужчина голосом женщины, которая по утрам кричала «Ма-ла-ко!» И так захохотал, что шайтан в животе начал толкать Майру к выходу.
— Куда вы? — спросил мужчина голосом овощника Саидмумина, который всегда подкладывал ей лишнее полкило яблок.
— Где Зинаида Петровна? — пропищала Майра.
— Что вы на меня смотрите, будто я ее съел?
Майра покосилась на его большой живот. И обвисшие щеки кого-то напоминают.
— Мусик? — ошарашенно спросила Майра.
— Мы знакомы? — удивился мужчина. — Меня Мусей только мама называла.
У Майры закружилась голова, и она услышала, как в дверь стучат.
— Слава богу, — прошептала она, съезжая по стене на пол.
— Помогите! — кричал кто-то басом.
— Девушка! — хлопал ее по щекам мужчина с голосом Саидмумина.
— Не ешьте меня, я невкусная, — заплакала Майра. — Я магнезию пила.
Она открыла глаза и увидела Саидмумина.
— Как гуся, яблоками хотите меня нашпиговать, маньяки?! — прошипела она.
— Вы у меня в ларьке пакет с хурмой забыли! Я всех спрашивал, где живет красавица в синем плаще, сказали, в этом подъезде, а тут дверь была открыта и на помощь звали…
— А давайте чай пить! — сказал Майкл Педрович голосом Зинаиды Петровны. — Сейчас и Зиночка придет.
— Пирог! — Майра побежала к двери. У порога наткнулась на Мусика. В дверь заходила Зинаида Петровна.
— Вас не съели? — кинулась ей на шею Майра.
— Майрочка, вы все-таки попробовали аяваску?! — Зинаида Петровна пощупала ей лоб. — Кстати, вы знакомы с Михаилом Петровичем? Наш новый сосед!
И подмигнула, перейдя на шепот:
— Фантазер, играет в любительском театре.
За чаем с пирогом Майра рассказывала про волшебное тесто и диеты. Смеялись. Шайтан хихикал. Саидмумин качал головой:
— Вай, зачем себя так мучаете, красавица?
Утром в самый Новый год Майра родила двойню.
Зинаида Петровна прислала открытку с Грузии, куда уехала отдыхать. Михаил Петрович поздравил по телефону голосом Магомаева.
Саидмумин целовал по очереди жену и новорожденных дочек и восклицал:
— Каждая по три с половиной килограмма!
— И красных трусов не понадобилось, — улыбнулась Майра.

Подарок
«Это был худший Новый год за всю мою жизнь», — думал обреченно одиннадцатилетний Сашка, стоя у окна с замотанной до самых ушей колючим шерстяным шарфом шеей.
Он смотрел, как на улице мальчишки бегают среди снежных баб и взрывают остатки петард, как с подскоком слетают с металлической горки и дельфинчиком ныряют в сугробы, будто они на каком-то южном курорте, а не на севере Москвы.
И вчера, 31 декабря, он до поздней ночи тоже стоял у окна, наблюдая за волшебными салютами.
Только они не радовали его. У Сашки уже как 3 дня грипп, и к ним даже Дед Мороз не пришел с подарками. Он, конечно, не плакал, как четырехлетняя Лиза, — он ведь уже взрослый и знает тайну, которую пока не велено ей раскрывать. Но даже он вчера был бы рад этому неизвестному мужику в искусственной бороде, лишь бы почувствовать наступление праздника и увидеть хоть каких-то гостей. Это был первый Новый год, когда к ним не пришли праздновать дядя Коля с тетей Надей и с Танькой, которую он очень ждал. Он ее всегда ждал: бегать вокруг елки, обсыпать друг друга конфетти и хвастаться подарками. Но в этом году он ждал ее особенно, уже как-то по-другому.
Он знал, что ей купили какое-то необыкновенное платье и разрешили сделать прическу и даже накрасить тени. Сашка сам выбирал ей подарок. Целых две недели, как он принес домой эту куклу со светящимся жемчужной голубизной глазами и золотистыми — почти как у Таньки — волосами, он не мог заснуть ночью раньше, чем через час. Все представлял, как она развернет коробку и будет изумлена от неожиданности, начнет кружиться от счастья и даже обнимет его…
А теперь они увидятся не раньше чем через неделю. Конечно, он все равно подарит ей куклу, и она будет рада, но не будет такого ощущения праздника и волшебства, какое бывает под Новый год. И уже не будет у нее такого восторга. А может, кто-то другой уже подарил ей такую куклу или даже еще лучше.
Эта мысль висела над ним, как серая туча, а из нее серпантином все сыпались и сыпались на голову разные варианты сцен, как Таньке вручает куклу другой, и она его обнимает за это. От этого он еще больше грустнел и, казалось, еще сильнее болел и совсем не стремился выздороветь, будто хотел наказать себя этой болезнью. Он чувствовал вину и корил себя, что бегал без шапки за три дня до Нового года, а ещё попил холодной воды на улице из чьей-то бутылки и, как сказала мама, «сам заработал себе болячку».
Но что больше всего точило Сашку изнутри — что Танька с родителями пошли вместо них к дяде Юре с тетей Лидой и к их сыну Валерику — их с Танькой однокласснику. А этот Валерик уже как месяц — совсем не друг ему больше! Потому что пронюхал, что Сашке нравится Танька, и назло ему то ей рюкзак до класса донесет, то с геометрий поможет. И уж наверняка Валерик подарит Таньке красивую куклу. Как бы Сашка ни отделывался от сцены вручения подарка Таньке, она всплывала поверх экрана смартфона и даже телевизора. Температура начинала повышаться, и кашель вперемежку с гневом душили его.
Мучениям надо было положить конец. Ну и вообще, с Новым годом поздравить и все такое.
Сашка с пятого раза написал-таки поздравление Таньке и сразу спросил — что подарили? Ответ прилетел молниеносно, как будто уже был наготове. Он был кратким: «Спасибо. И тебя». А к нему картинка, которая загрузилась не сразу. И вместо ожидаемой открытки на экране проявилось злющее лицо Таньки, а под ее прекрасным глазом с еще не облетевшими вчерашними блестками-тенями, воцарился фингал!
Сашка одеревенел. А потом раскололся на две части между желанием дико ржать — ну потому что это, блин, смешно, и ужасом — ну потому что это ведь девочка! Победив первое желание, он деревянными же пальцами, опустив пунктуацию, написал капслоком: «КТО КАК».
«Валерик. Стреляли шариками из бластера, который он подарил. Испортил мне весь Новый год! Меня намазали йодом и отправили спать, а его — домой к бабке. Больше никогда к нему не подойду!»
Танька была кратка и сурова.
Но Сашка! Он разомлел от счастья. Внутри что-то закружилось и запело под музыку из какого-то советского мультфильма словами: Никогда! Никогда!
Она никогда к нему не подойдет! Какое же счастье!
Кажется, температура поползла вниз, а нос и горло разложило. Захотелось кричать и прыгать.
Это был самый лучший первый день Нового года за всю его жизнь. Он лыбился как после контрольной по физике, когда ему поставили пятерку, а тому, у кого списал, трояк. И пока она на другом конце районе ждала сообщения с сочувствием, с обещанием дать по голове этому Валерику, он снова погрузился в упоительные фантазии, где Танька кружится счастливая с куклой в руках и даже обнимает его. Наконец, когда она готова была отшвырнуть телефон, сообщение все же пришло.
«Танька, а вы придете к нам на Рождество? У меня для тебя есть подарок».

Рыжий хвост
Эвакуатор у бизнес-центра мигает в унисон новогодней ёлке. На спящей улице они — единственный источник света. Тоня засиделась. Опять. Из офиса её выпроводил охранник, хмурый мужчина с бородой, имени которого она никак не запомнит.
Олег женился. Собрать бы эти слова из льдинок, но у Тони под ногами жижа из соли и песка. Не она ли говорила, что расстаться было лучшим решением? Что он вытряс из Тони всё, что было её, Тониным, и заменил людьми, местами и всякой чепухой с пометкой «Одобрено Олегом»? Больше года Тоня записывала в блокнотик плохое, что только вспомнит, каждую мелочь. Чтобы не сдаться. Не ответить на «Пойдем кофе пить, расскажешь как твои успехи». А теперь и записывать ничего не надо.
Память плохой союзник. Память обманщица. Она не хочет показывать Тоне узор на разбитом ноутбуке, неудачно попавшемся Олегу под руку. Или порванную майку с концерта Muse. Тогда у Олега был приступ страсти, а у Тони — нет. Память рисует самое начало. Первые робкие прикосновения, тихое «Ты не представляешь, что я к тебе чувствую». Память спрашивает: «Помнишь, как тепло было от его объятий?»
В этом вязком, парализующем тепле она тонула. И, как выяснилось позже, медленно умирала. «Dead inside!» – песня с концерта оказалась пророческой.
Тоня не живет, она работает. Закрыть одну задачу, другую, третью, натаскать новичка, помочь коллеге с грантом… И пешком в ночи домой.
Бум! — гремят мусорные баки через дорогу. Тоня щурится. Между баками копошится пёс, только хвост и видно. Хвост рыжий, пушистый, мечется из стороны в сторону, как машинные дворники в ливень. По закону подлости у неё закончились пакетики корма, припасенные на такой случай.
— Скажи ей уже! — настигает Тоню старое, не связанное с Олегом воспоминание.
Фред… Её собака, друг, её детская трагедия… Когда она рассказала о нём Олегу, тот удивился: «Завели бы нового. В чем проблема?» Взрослая Тоня растерялась, не зная что ответить. Это маленькая Тоня закричала бы, что Олег дурак, раз задает такие глупые вопросы.
В воспоминании Тоне семь лет, она наряжает ёлку и ждет. Ждет, что Фред вернется. А в коридоре папа перешёптывается с мамой: «Скажи ей уже!» Что сказать? Даже ёлка непонимающе мигает.
Фред потерялся в начале лета. Побежал в лесу за бабочкой. Искали-искали — не нашли. Тоня много плакала, и родители сказали, что Фред в другой семье. Что там он нужен больше, дом защищать.
Родители не понимали. Вот Тоня да, рядом с Фредом она была бесстрашной. Фред же боялся грозы, других собак и даже новогодних хлопушек (что уж говорить о фейерверках). Какой из него защитник?
Услышав гром, Фред носом тыкался Тоне в руку и закрывал глаза. Она чесала пса за рыжими ушами-треугольниками, пока шум не стихал. Фред успокаивался. Вскидывал «бровь», тонкую полоску бежевой шерсти над правым глазом, будто спрашивая: «Уже всё?»
У него была грустная история рождения. Соседская чау-чау согрешила с дворнягой и, дав жизнь пятерым кутятам, умерла. Фред был самым пушистым в помёте. Когда его, двухмесячного, принесла домой мама, он свернулся клубком, как ёж, и тихо рычал. Тоню он подпустил к себе первой. А уже неделю спустя носился по квартире, превращая в игрушки всё, что попадется под его широкую, как у медвежонка, лапу. Говорят, собака выбирает своим хозяином самого сильного в человечьей стае. Но Фред выбрал такого же детёныша, как и он сам.
Тоня перестала плакать. «Думаете, Фред кому-то нужнее, чем мне?» — злилась она. И решила доказать обратное. Писала ему письма (родители обещали передать), копила на новый поводок.
Тоне представлялось, что Фред вернется в какой-нибудь праздник. В её самый первый день в школе или в годовщину свадьбы родителей. На крайний случай под Новый год.
— Сам скажи! — слышит Тоня мамин ответ.
— Но как?
— Не знаю! Не могу… Как сказать дочери, что мы трусишки и вруны? Фред умер, а она ему поводок купила!
Взрослая Тоня всхлипывает. Рыжий хвост, словно зная, куда она направляется, семенит впереди. Ведёт Тоню по её же маршруту. Вверх по скользкой улице с ветхими деревянными домами по одну сторону и новостройками по другую, потом направо через «пенсионерские» хрущевки. Такая у бродячих привычка — увязаться за первым встречным, вдруг поесть даст. Снова укол совести. По пути нет круглосуточных магазинов, а обычные уже час как закрыты.
Что случилось с Фредом? Он умер от страха, что потерял своих людей? Такие истории Тоня слышала. Его убил дикий зверь? Или, что хуже, человек?
Хвост беспечно фланирует между припаркованными рядом машинами. Тоне хочется извиниться: «Пёс, прости, ну нет у меня с собой еды!»
Бам-бам-бам-БАМ! — рассекает тишину звук фейерверка. Вот что за придурок запускать их в будни… Пес подпрыгивает на месте. Секунда — и он носом тыкается в Тонины коленки, пытаясь укрыться.
Нет, так не бывает. Только сейчас Тоня успевает разглядеть своего мохнатого спутника. Над правым глазом — «бровь», тонкая полоска шерсти бежевого цвета. Рыжие уши-треугольники торчат вверх, лапы широкие, медвежачьи.
— Фред?
Фред едва заметно виляет хвостом. Фейерверки ему никогда не нравились.

Утро нового года
В ночь перед Рождеством Семеныч ждал дьявола. Или хоть захудалого черта. Сведения о посещении чертями людей были им почерпнуты из известной повести Гоголя, которого Семеныч весьма уважал. План был простой: заключить с нечистой силой договор, желательно с максимальной выгодой для себя.
Последние годы Семенычу в жизни не везло: ни работы нормальной, ни денег, ну и интимная жизнь, соответственно, на этом фоне скатилась почти до нуля.
В первый раз Семеныч для храбрости напился, но даже мелкие черти его не посетили, после чего Семеныч трезво рассудил, что серьезные дела в таком состоянии не делаются. На следующий год он подготовился получше, распечатал мудреные заклинания, скупил на Авито реквизит у одной ведьмы, которая переквалифицировалась в гештальт-психолога. Но и в тот раз усилия его были напрасны. На этот год Семеныч возлагал последние надежды. Хилую грудь его украсили татуировки со звездами и рунами, а на спине демон расправлял крылья.
Семеныч зажег свечи, высыпал на тарелочку горстку кладбищенской земли, и, ткнув иглой в палец, выдавил каплю крови в бокал с вином. И в ту же секунду подскочил от резкого звонка в дверь.
— Господи помилуй, — забывшись, пробормотал Семеныч. Засунув кровоточащий палец в рот и дрожа всем телом, он открыл дверь.
Дьявол был просто шикарен, но женского пола.
— Ждешь, дорогой, — пропел он хриплым контральто.
— Я думал, будет Вельзевул или Абаддон, — брякнул Семеныч, тут же обругав себя идиотом.
— Ну, мальчиков надо отдельно указывать при заказе. Чо, я пошла, что ли?
— Нет, что вы. А ваше имя, простите, Лилит?
— Ну, — согласилась дьяволица и впихнула его крепкой грудью обратно в квартиру.
Они зашли в комнату.
— Пить что-то хочется, не возражаешь? — Лилит, не дожидаясь ответа, в три глотка осушила ритуальный бокал.
У Семеныча сжалось что-то между желудком и коленями: свершилось!
— А я тут списочек приготовил, — пролепетал он, — желаний.
— Так, — строго сказала Лилит, — только без извращений. С чего начнем?
— Хочу, чтоб меня все бабы любили. — Семенычу что-то неудобно было начинать с миллиона и автомобиля феррари. Хотелось выглядеть романтичным перед дамой.
— Ну, про всех не знаю, а одна точно будет. — Лилит дунула на зачадившую свечу, и в ту же секунду узкая юбочка, тесная водолазка, шпильки и лифчик разлетелись одновременно, как на пружинках. У Семеныча перед глазами промелькнули ноги в ажурных чулках, и тьма поглотила его окончательно.
Очнулся Семеныч часа через два. Лилит в полутьме курила, доливая остатки вина в бокал.
— Я уже в аду? — Он хотел спросить торжественно, но голос выдал лишь тихий писк.
— Да мы все там. — Усмехнувшись, Лилит выпустила струйку дыма в потолок. — Да не ссы, живем. Мне в Бибирево еще ехать, вот это адище.
— Лиличка, а ты придешь еще? — с надеждой спросил он.
— Ну. Так, за три часа у тебя предоплачено, ну а чаевые можешь на карту кинуть. Пиши мне напрямую, договоримся. Адрес я запомнила: дом 13, квартира 96.
— Нет, 69.
— Что? Да я помню, была 96… Ох, Фрейд проклятый, теперь неустойку платить.
— Квартира 69, — тихо сказал Семеныч.
Но увидев, как Лиля покатилась со смеху, подумал: «Ну его к дьяволу, этого дьявола. Совсем».

Январский пломбир
Поцеловать сверкающий скат горки, метнуться под качели — на морозном воздухе сипнешь от окриков. Холод сочится сквозь тонкую офисную подошву: а жена ведь говорила — оденься потеплее! Только затупишь в телефончик, отвечая на новогодние поздравления, поднимешь глаза — а они уже сидят на сугробе, который когда-то был песочницей, и, набирая снег пригоршнями, подозрительно приникают к варежкам.
Срываешься, летишь, рычишь:
— Хватит! Есть! Снег!
Голос рвется, как петарда. Из-под розовых отворотов шапок — четыре невинных глаза. Губки обиженно оттопырены, на них блестит влага, искрятся снежинки.
— Это моножено! — объясняет младшая. — Мы едим моножено! Очень вкусно!
— Да хоть пирожено! Нельзя есть снег!
— Почему нельзя? — бурчит старшая.
Чеканю безотказное, тупое родительское «потому что», а сам судорожно соображаю: почему нельзя-то?
— Снег грязный, — говорю я нетвердо, глядя на кипенную белизну сугроба. — И посыпают его абы чем!
Пальцы похожи на крабовые палочки, вынутые из морозилки. Этими палочками я тычу в экран, складывая рядами разноцветные конфеты. Конфеты лопаются, я торжествующе шмыгаю сосульками.
Шмяк!
Вместо экрана у меня на ладони — сугроб. С разогретого пластикового корпуса под манжету сочится вода.
С йетиным рыком оборачиваюсь. Загребаю горсть снега и швыряю туда, где хихикают две розовые шапочки.
— Ну, я вам сейчас покажу!
Старшая лихо варганит снаряд за снарядом, и они летят в меня, метко и мстительно. Я в долгу не остаюсь. Побоище такое ожесточенное, что холод трусливо сбегает из ботинок, сосульки отступают — я горяч, как рождественский гусь, только что вынутый из духовки.
— Агунь! — радостно вопит младшая, и снежный пельмень лепит мне прямо в физиономию. Я отшатываюсь и валюсь в сугроб.
Сугроб блаженственно-прохладен. Надо мной — небо, в котором всю ночь рвались фейерверки, но на синей январской финифти — ни следа копоти и гари. Снежок растекается по лицу, и вместо привкуса раздражения я вдруг ощущаю сладость.
На языке — сливочно-морозисто, как под шоколадным панцирем детского эскимо.
Кто-то уронил в снег конфету? Разлил сладкий кефир?
Слизываю снег с губ — он тает пломбиром.
В небе — два розовых салютика, нависают надо мной.
— Пап, тебе бойно? — волнуется младшая.
А старшая щурится с торжеством, глядя, как я облизываюсь: мол, я же говорила!
Демонстративно отплевываюсь:
— Ладно — ваша взяла! Победили! — и вскакиваю на ноги: — Айда на горку!
Заиндевевшая веревка еле гнется, девчонки едут на санках вповалку, пихаются и хихикают. Редкие мохнатые хлопья, порхающие в воздухе, взблескивают на солнце.
Пока полозья летят вниз по раскатанным кочкам, украдкой зачерпываю еще снега, кладу на язык — он тает не водой, а самым настоящим «Ленинградским».
Люди идут по морозистому пломбиру, скрип-хрум, трамбуют его снегокатами и лыжами, а он все падает и падает с неба — словно швыряет его горстями тот самый несбыточный волшебник в голубом вертолете …
Домой мы вваливаемся мокрые и румяные. В холодильнике — настоявшийся салатный дух, горошек нежится в майонезных ваннах, свежей фуксией распускается в бабушкином хрустале селедка.
В детской тихонько лопочет сказка, потом все замирает. Мы ходим на цыпочках, чтобы не потревожить спящий розовый мирок. Когда у меня с шипением закипает кофе, жена шипит не хуже турки.
С дымящейся чашкой выхожу на балкон. На перилах — опушка из снега. Я бросаю щепотку себе в кофе и улыбаюсь галкам на проводах.

Занозы
Снова что-то грохнуло сзади, как новогодний фейерверк, и Вовка понял, что в него стреляют.
Он выглянул из-за угла: темень. Во дворе ЦУПа не горело ни одного фонаря — Центр управления полетами давно опустел.
— Балин! — Вовка задел локтем красный кирпич, и он выпал из стены, чуть не попав ему на ногу. Буквально через секунду прозвучал еще один выстрел.
— Эй, ты, выродок мытищинский, выходи давай, чего время мое зря тратишь!
Вовка еще сильнее вжался в дверной косяк.
***
С Евой Вовка познакомился с месяц назад, в электричке, на которой он каждый будний день ездил из Мытищ в Москву и назад.
Точнее было бы сказать, из Мытищ в МИСИС и назад: Москвы он, собственно, и не видел. Контроль за передвижениями в последние годы ужесточили настолько, что Вовкин бэдж позволял ему ездить строго на учебу: Ярославский вокзал, метро «Комсомольская», по кольцу до «Октябрьской» и назад. Ровно пять станций.
В тот день на учебу Вовка и вовсе не попал. На станции «Библиотека им. Ленина» произошел очередной теракт. Вход на «Комсомольскую» был закрыт, у дверей стояло несколько десятков казаков в папахах. Один из них повторял в громкоговоритель: «Метро закрыто, граждане, воспользуйтесь другими видами транспорта».
В VK в чатике однокурсников булькнуло новое сообщение: «Занятия на сегодня отменены, в метро опять теракт, гуляем!» А в приложении RT пришло уведомление: «Ответственность за теракт взял Фронт генетического освобождения (экстремистская организация, запрещенная в России) — организованный недолюдьми бэтманами».
Вовке было сложно разделить энтузиазм коренных москвичей по поводу «гуляем!», самому ему не оставалось ничего, кроме как сесть на ту же электричку в обратную сторону.
Электричка была полупустой. На скамейке напротив — во всех новых электричках такие были установлены на безопасной дистанции в два метра — сидела девушка: рыжие волосы до плеч, голубые глаза, джинсовый костюм, на шее болтался бэдж с крупной надписью «МГУ». Вовка присвистнул про себя — поступать в МГУ он даже не пытался.
— Что, тоже отменили занятия?
— Ага.
— Вовка, — сообщил он.
— Ева.
Они одновременно кивнули друг другу. Говорят, что когда-то люди жали руки при знакомстве. Но Вовка родился во время Длинного карантина и первые четыре года жизни никого, кроме бабушки, вообще не видел. А когда Вовка, наконец, впервые вышел на улицу, рукопожатная эра, как и многое другое, осталась в прошлом.
— Ты до куда едешь?
— Королев.
— А я в Мытищи. Соседи!
— Да уж, соседи. — Ева улыбнулась.
— Я один раз ездил с вашими биться, у водоканала стрелка была.
— Это, наверное, очень давно было?
— Ну да, когда еще движение не перекрыли. До этих вот. — Вовка щелчком подбросил свой бэдж.
— Ндааа. Ну и как, успешно?
— Да ну, какое там, меня практически сразу отрубили. Сотрясение лечил потом!
— Блин, хреново.
— Да вот, голова с тех пор не очень, поэтому и в МИСИС учусь, а не в МГУ, как ты!
Ева рассмеялась.
Когда Вовка вышел в Мытищах, то первым делом протер руки санитайзером. Огромный ТЦ «Три кита» у станции, построенный во время нефтяного бума 2000-х, давно переоборудовали в колумбарий. Вовка жил прямо за ТЦ, в одной из девятиэтажек с видом на станцию.
Родителей Вовка не помнил — они оба заразились верблюжьим гриппом и погибли в самом начале Длинного карантина. Их похоронили в одной из общих могил на окраине Мытищ — Вовка перестал туда ходить после смерти бабушки.
А вот бабушкину урну в ТЦ он навещал регулярно. Бабушка умерла совсем недавно, ей было уже хорошо за семьдесят. «Так долго сейчас не живут, — часто говорила она Вовке. — Вот закончишь школу, и помру». И бабушка не соврала — ровно через две недели после того, как Вовку приняли в МИСИС, она неожиданно заболела и умерла в считанные дни. Врачи сказали, что это была сезонная вспышка куриного гриппа, и Вовка винил себя, потому что больше заразить бабушку было некому.
Вовка и Ева зафрендили друг друга в русчате и еще несколько раз договаривались сесть в одну электричку, пообщаться. Один раз Вовке даже удалось подержаться за ее руку, когда он передавал ей свой санитайзер, но он так и не знал, как ее лицо выглядит под маской.
Когда Ева пригласила Вовку в гости послушать радио, он подумал, что это эвфемизм для секса. Где-то в кино он видел, что в прошлом парни приглашали девушек «заценить библиотеку», и, видимо, на это и ссылалась Ева.
Самым сложным было попасть в Королёв из Мытищ. Электричка бы здесь не сработала — Вовкин бэдж был запрограммирован только на Мытищи и Москву и не выпустил бы его за турникет. Пришлось идти пешком. Перебегать Ярославское шоссе было бы самоубийством, да и камеры сразу бы его засекли. Оставались переходы: подземные давно засыпали песком, а надземные всего лишь заколотили досками.
Вовка подошел сначала к тому, что был рядом с брошенным «Макдональдсом». Самому ему никогда не доводилось там есть, иностранные компании ушли из России еще до Длинного карантина. У входа стоял огромный билборд «Употребление мяса запрещено в Российской Федерации». Доски на входе были пригнаны плотно, не пролезть. Вовка прошел чуть дальше вдоль шоссе, к переходу напротив памятника первой ракете. Здесь была небольшая щель, как раз для такого худого подростка, как Вовка.
Ева жила в старой части Королева, на улице Циолковского. Вовка прошел мимо местного ДК и оказался среди двухэтажек с колоннами и красивыми балконами — где-то здесь жила Ева. Он постучался в дверь, она приоткрылась, и в проеме появилось лицо Евы. На ней не было маски.
Вовка часто представлял себе, как она выглядит. Оказалось, что у нее были припухшие губы, нос с горбинкой и много веснушек.
— Привет! — Она улыбнулась. — Снимай маску, мы тут не заразные!
— Может, попозже? Я не привык снимать ее не дома.
У Евы действительно было настоящее радио — большой деревянный корпус с кучей ручек.
Ева объяснила, что в то время, как правительство установило полный контроль над интернетом, Ева регулярно слушала передачи любительских радиостанций оппозиционеров и «Голос Америки».
— Так там же пиндосская пропаганда
— Пропаганда это у нас по телеку и интернету, а на старом радио, о котором в двадцать первом веке все забыли — полная свобода.
— А музыка тут есть? — поинтересовался Вовка.
Ева покрутила ручку, и сквозь небольшие помехи послышался проигрыш на синтезаторе
— О, повезло, это же моя любимая группа Arcade Fire!
— Это рок? Тебе что, сто лет?
— Дурак, — рассмеялась Ева. — Ты стихи послушай!
— У меня с английским, если честно, не очень, — виновато сказал Вовка.
— Я сейчас попробую перевести. Ты всегда была так уверена, что однажды мы будем сражаться в пригородной войне. Твоя часть города против моей. Я видел тебя, стоящую на противоположном берегу…
— Воу, это же практически про нас! — воскликнул Вовка.
Через пару дней они договорились встретиться еще раз. В Центральном городском парке за Вовкой увязалась группа королевских подростков. Заметив незнакомца, они начали кричать ему что-то вслед, но Вовка спринтанул и успел завернуть на Циолковского до того, как они его догнали.
Ева пригласила Вовку на кухню. Он решил снять маску.
— Будешь запрещенку?
Она достала шмот сала из холодильника. Россия уже несколько лет как стала вегетарианской страной в попытке остановить новые пандемии зоонозов, или заноз, как их стали называть — инфекций, передающихся людям от животных.
Увидев нерешительность на лице Вовки, добавила:
— С водкой хорошо идет!
Сало действительно хорошо шло с водкой. После третьей рюмки Ева неожиданно положила ладонь Вовке на колено. Ему сразу стало невыносимо жарко, он взял ее ладонь в свою и приложил к щеке. Ладонь была прохладная. Ева осторожно освободила свою руку и придвинулась к Вовке.
Он провел пальцем по границе загорелой и незагорелой части лица, в электрическом свете она была не так заметна. Они поцеловались, Вовка сжал ее небольшую грудь. Ева еле слышно простонала, под майкой у нее ничего не было. Вовка набрался смелости и провел рукой по ее прохладному бедру, но его пальцы натолкнулись на что-то упругое. Хвост! Это был покрытый короткой, мягкой шерсткой хвост. Вовка медленно отсел от Евы подальше.
— Ты… бэтман?
Она молча кивнула. Стало понятно, почему Ева не боится пандемий — ходит без маски и ест мясо. У бэтманов была врожденная защита от заноз благодаря встроенной ДНК летучей мыши.
— Я это… пойду…
Пару дней они не общались. Вовка искал в интернете информацию про бэтманов, но все, что ему выдавал Яндекс — государственную пропаганду про недолюдей и репортажи про недавние зачистки колоний батмэнов на Урале. После долгих раздумий Вовка написал Еве в VK: «Прости, повел себя как последний идиот». Она почти сразу ответила: «Не поспоришь. Но ладно, прощаю на первый раз. Приходи завтра».
На следующий день Вовка снова переходил Ярославку. Уже на королевской стороне он услышал слабое жужжание и увидел, как к нему медленно плывет по воздуху полицейский дрон. Вовке пришлось подняться назад в переход и затаиться там, пока дрон не полетел патрулировать Ярославку дальше, в сторону области.
— Привет. — Ева еще на пороге сразу потянулась к его губам. — Скучал?
Вовке показалось, что ее поцелуй немного пах салом. Они сели на диван в гостиной и стали целоваться и трогать друг друга. Ева сняла через голову майку и жестом показала Вовке сделать то же.
В тот момент, когда майка закрывала ему глаза, он услышал с шумом открывшуюся дверь.
— Какого хера?!
Вовка опустил майку назад: в дверях стоял здоровый, наголо бритый парень лет двадцати пяти-тридцати. Ева прикрылась майкой и спокойно сказала:
— Вова, знакомься — это Олег, мой брат.
Познакомиться не вышло: Олег немедленно кинулся на Вовку, тот умудрился уклониться от его накачанных рук, на одной из которых была тату с крыльями летучей мыши. Вовка выскочил за дверь и побежал в сторону выезда из Королева.
***
Судя по звуку шагов на битых кирпичах, Олег был где-то совсем рядом.
— Все равно я тебя найду, ушлепок! Выходи, — крикнул он и неожиданно осекся. В воздухе раздался свист и шлепок, напомнивший Вовке полузабытый звук, когда мама делала отбивные.
— Вовка? — позвал кто-то осторожно, почти шепотом.
Вовка выглянул из своего укрытия. Первое, что он увидел — лежащий лицом вниз Олег. Над ним стояла Ева с бейсбольной битой через плечо.
— Привет еще раз, — улыбнулась она.

Корабль
Мама бежит в ванную, на ходу запахивая халат. Такой розовый, что страшно смотреть.
— Ты почему не в школе? — спрашивает, не останавливаясь.
— Мне ко второму, — вру я.
Мама возвращается и встаёт в проёме: галочка бровей, улыбка с минусом.
— Собрался и пошёл. Сейчас Слава с суток придёт уставший.
— И что? Я же не мешаю.
— Быстро.
Мамы уже нет в дверях. В ванной шумит вода.
***
Странный тёплый январь. Снег лежит на земле комьями влажной ваты. Деревья протыкают ветками низкое серое небо. С домов слезли остатки того, что делало их домами — невозможно представить, что внутри этих стёртых коробков есть кто-то живой.
Воздух пахнет февралём — запахом земли и воды — хотя для него ещё рано.
Я иду. Просто иду, без цели и маршрута. Улицы пустые и тихие, только вороны — чёрные кляксы на чёрных ветках — иногда истошно вскрикивают с высоты.
Понимаю, куда пришёл, когда пальцы касаются влажных шершавых досок. Раньше вместо них были металлические решётки с завитками. Их давно сняли для реставрации, и теперь они неизвестно где. Зато остались кирпичные столбы с бетонными шишечками сверху — облезлые и никому не нужные.
На старых фотографиях металлические секции на месте — держатся за столбы с шишечками. А за забором — он. Корабль.
Веке в девятнадцатом особняк принадлежал какому-то купцу. Потом здесь был детский приют. Анна Александровна говорила, что приюту особняк достался из-за сада — чтобы у детей была дополнительная еда в голодные годы: яблоки там, груши. Правда, это никого не спасло.
А потом в Корабле открыли «Гимназию №1».
Под ногами чмокает влажный снег. Неровности дерева приятно щекочут пальцы — по спине бегут мурашки. Пять шагов — секция заканчивается, облезший столб остро царапает кожу, а через мгновение — всего шаг — под пальцами снова мягкое влажное дерево.
За забор я не смотрю, но точно знаю, что оттуда смотрят на меня.
Он правда похож на корабль: длинное двухэтажное здание с шестигранной башней в три этажа в торце. И он действительно плыл.
Как начался первый класс, я каждое утро вскакивал в жуткую рань и тормошил маму:
— Скорее, опоздаем!
— Юра, угомонись! Что ты там будешь делать один столько времени? Уроки в полдевятого начинаются.
Мама не понимала, но вскоре сдалась и разрешила мне ходить в гимназию одному. А охранник согласился впускать меня в семь тридцать. Почти час Корабль был только мой.
Я на ходу сбрасывал куртку, вешал на самый крайний крючок, переобувался и, не завязывая шнурков на кроссовках, нёсся в башню, на третий этаж.
Пол под ногами качался, вороны и голуби снаружи превращались в крикливых чаек. Море пенилось и шумело — Корабль нёс меня по волнам.
Я не думал, куда хочу попасть. Мне хотелось просто плыть и плыть без конца, без цели и маршрута. И слушать, как поёт море.
Только звонок всегда звенел не вовремя. В класс я прибегал последним, и Анна Александровна говорила:
— Доброе утро, капитан! Отплываем?
Пальцы проваливаются в пустоту, и я останавливаюсь — в одной секции нет пары досок. Из проёма выглядывает он. Почти не изменился, разве что зелёная краска облезла сильнее.
Интересно, сейчас он поплывёт?
***
Запах всё тот же — столовка, мел и дерево.
Коричневые квадратики плитки в коридоре первого этажа скрипят под подошвами, а серые ступени с круглыми краями — еле слышно шуршат. Деревянные поручни перил в толстом слое тёмно-красной краски волнисто скользят под пальцами.
На третьем этаже башни целы все окна. Мольберты, стеллажи с гипсовыми головами и красками, картины на стенах и букеты из рулонов ватмана по углам — всё исчезло. Дверца в пустую подсобку висит на одной петле.
Я подхожу к окну, из которого почти не видно города — только верхушки деревьев в парке — и можно представить, что его вообще нет.
Я жду. Море молчит. Пол не качается, не уходит из-под ног. На деревьях за окном — вороны, а не чайки. Вместо пенных волн — грязный мёртвый снег.
В последний день в гимназии было так же тихо. А может, даже тише, чем сейчас. Никто не бегал по коридорам, из музыкальной гостиной не доносилось ни звука, звонки не дребезжали между уроками. Да и уроков, считай, не было: в класс постоянно заходили учителя и шептались с Анной Александровной.
Корабль уныло дрейфовал — не хотел никуда плыть, не слушался штурвала…
Штурвал! Кривое колесо и шесть румпелей из картона. Я раскрасил его белой и голубой гуашью и хранил здесь, за батареей.
Чугунная гармошка выглядывает из-за деревянного экрана в мелкий ромбик. Этими экранами страшно гордился директор — он их мастерил на даче каждое лето, а ещё сколачивал стеллажи и полки, чинил мольберты. Из нагрудного кармана его пиджака вечно торчала оранжевая ручка отвёртки, он подмигивал мне и говорил: «На корабле без плотника никуда, а?»
В щели между батареей и стеной ничего, кроме пыли и острых крошек ржавчины. Может, в последний день я забрал штурвал с собой?
Нет, не забирал!
Бегу на второй этаж башни, оттуда — в коридор.
На бежевой двери белая табличка с чёрными буквами: «Классная комната № 12». Три ряда парт, учительский стол у окна со стопками тетрадей, портреты писателей над доской, стеллажи с книгами — всё исчезло. Здесь так пусто, что в животе ноет.
В последний день я засунул штурвал за стеллаж возле дальней стены. Там стояли книжки, которые Анна Александровна читала нам вслух на продлёнке. Моя любимая — про Везунчика Пита, который постоянно попадает в дурацкие истории, а в конце всё всегда складывается как надо и Пит восклицает: «Везунчик — моё второе имя!» Анна Александровна каждый раз говорила: «Но мы же с вами понимаем, что везение тут ни при чём, правда? Просто Пит умеет слушать своё сердце…»
***
Коридоры неподвижны — море ушло отсюда навсегда. Корабль лёг на дно, завалился на бок.
Я спускаюсь вниз, иду мимо раздевалки — бесконечные ряды пустых крючков. Краем глаза цепляюсь за что-то бело-голубое и торможу. Отшагиваю назад, поворачиваю голову.
Он стоит на подоконнике. Одного румпеля не хватает. Стекло в раме, к которой он прислонён, выбито остроугольной фигурой.
Я сажусь на пол у стены и крепко прижимаю штурвал — не к себе, а как будто в себя. Закрываю глаза.
— Возвращайся, пусть Корабль снова плывёт.
Ветер влетает в разбитое окно, я почти слышу в нём крики чаек. Пол начинает покачиваться, еле-еле, но ни с чем не спутаешь — так бывает только на Корабле. Я ещё не слышу, но чувствую — оно близко. Становится тихо, как перед возвращением отхлынувшей волны.
А потом всё вокруг взрывается, будто в здании разом лопнули все стёкла.
Снаружи доносятся голоса, я быстро поднимаюсь и осторожно выглядываю в окно.
Человек в красной куртке стоит на коленях прямо в снегу. Это Чумной. Лекс держит его за волосы. Стас в нескольких шагах напротив прицеливается и пинает осевший сугроб. Снежные брызги накрывают Чумного, он зажмуривается.
— Блин! — Лексу тоже досталось, но от Чумного он не отходит.
Стас замахивается снова. Я не смотрю.
Пока они на заднем дворе, можно спокойно свалить через парадный вход. Сую штурвал за пазуху, разворачиваюсь и врезаюсь во что-то мягкое и хрюкающее.
— Слы-ы-ышь, парни, — орёт Боров, вытягивая из плеч короткую шею, — угадайте, что я нашёл!
***
Стас зачёрпывает ладонью снег и морщится — грязи там явно больше.
— Вот как бывает, — вздыхает он, — окажешься рядом с отребьем и сам волей-неволей замараешься.
Лекс и Боров хмыкают.
— Но за правое дело и испачкаться не жалко, а? — Стас взвешивает жижу на ладони. — Кто прав, тот от любой грязи отмоется.
Боров рядом со мной переминается с ноги на ногу.
Когда Боров притащил меня сюда, Стас засмеялся и захлопал в ладоши. Он не велел поставить меня на колени рядом с Чумным, но легче от этого не стало. Скорее, наоборот.
В лицо Чумного врезается грязная жижа. Стекает по щекам и шее, сползает за шиворот. Чумной трясёт головой, отплёвывается, приоткрывает один глаз — который меньше задело — и улыбается.
— Ты много пропустил, — это он мне. — Стасик ужасно расстроился, что его флешмоб с видео не удался. Всем оказалось пофигу, прикинь.
— Заткнись, — цедит Стас и, не целясь, швыряет в Чумного очередной «снежок». Он уже и сам нехило изгваздался — на рукавах бежевой куртки грязные потёки.
— Может, вломить ему, а? — сопит Боров у меня над ухом.
Стас закатывает глаза.
— Ну сколько объяснять? Таких, как Чумной, руками трогать — ниже человеческого достоинства. На то он и чумной.
Лекс издаёт истеричный смешок, а Стас зачёрпывает новую порцию грязи и поворачивается ко мне.
Оказывается, на носу и щеках у него веснушки — крупные и бледные, как чай из пакетика, заваренного по третьему разу. А глаза — голубые и тоже бледные.
— Юра, — начинает он, и я громко сглатываю — Стас никогда не называл меня по имени, — мы присутствуем при историческом событии. У тебя есть уникальный шанс изменить реальность, в которой ты живёшь. Кардинально. Кто был никем — тот станет всем, сечёшь?
Лекс то ли икает, то ли хихикает, Боров шумно дышит.
Стас хватает меня за запястье, больно сжимает и плюхает холодное грязное месиво мне на ладонь.
— Выбирай: оставаться Ушлёпком до конца дней своих или доказать, что достоин зваться человеческим именем.
— Кому доказать? — говорю я первое, что приходит на ум.
— Себе — прежде всего. — Стас скалится и отпускает мою руку.
Я перевожу взгляд на Чумного. Он похож на древнего истукана, которого только что вытащили из земли. И смотрит странно: как будто наблюдает за чем-то захватывающим, и вот-вот должно произойти самое интересное.
Почему-то кажется, что это не он стоит перед нами на коленях, а наоборот.
— Можно всю жизнь прожить как прокажённый, от которого все шарахаются, — говорит Стас. — Многие так живут. Быть никем — легче лёгкого.
Стас не прав. Быть никем — это работа. А может, даже искусство. Быть никем лучше, чем быть кем-то, потому что однажды кто-нибудь у тебя обязательно отнимут захочет отнять всё, чем ты был.
Я качаю «снежок» в руке и думаю про пустой, разбитый Корабль, который никогда не поплывёт. Про море, которое оставило его гнить в одиночестве. Про штурвал без одного румпеля возле разбитого окна.
Да, у человека можно отнять многое, но не всё.
Я поворачиваю руку ладонью вниз и комок грязного снега шмякается на землю.
Стас брезгливо фыркает.
В лице Чумного что-то меняется, но я не успеваю понять, что именно.
От толчка в спину я падаю на колени. Живот и рёбра обжигают горячие вспышки. Я успеваю подтянуть колени к груди и прикрыть голову руками, а вот вдохнуть — нет.
Штурвал под курткой с хрустом мнётся. Я закрываю глаза. А потом приходит первая волна и накрывает собой остальные звуки.
— Эй, — кто-то трясёт меня за плечо, — харе отдыхать, вставай.
Чумной сидит рядом со мной на корточках.
— Идти сможешь? — спрашивает.
Я не знаю, смогу или нет, но киваю. Чумной помогает встать, закидывает мою руку себе на плечо, и мы идём к пролому в заборе.
— Куда?..
— Не боись, тут рядом.

Небеса (отрывок)
Комната, посвященная русалкам, была небольшой, и группа быстро её проскочила. Маруся задержалась. Она внимательно рассмотрела несколько грубо вырезанных из дерева коренастых фигур, расписную прялку и пару вышитых рушников. И даже начала читать надписи к экспонатам, хотя и страшно это дело не любила, слова убивали то живое, что теплилось в красках.
— Почему всё-таки фараонки, откуда такое название?
— А вас не устраивает научное объяснение?
Маруся оглянулась. Как она старушку-то не заметила? Та сидела на стуле у выхода из комнаты, серая кофта крупной вязки делала её похожей на воробушка.
— Вот это объяснение? — Маруся подошла поближе и вчиталась в текст. — Нет, не устраивает.
— И правильно, искать нужно не в википедиях.
Смотри ты, какие слова знает! Маруся улыбнулась:
— А где тогда?
— В былинах да легендах. Только их правильно рассказывать надо. — Старушка наклонила голову вперёд, очки съехали на кончик носа и чудом там замерли. На Марусю смотрели ясные голубые глаза.
Да нет, никакая она не старушка, просто седины в волосах много. «Соль с перцем», кажется, так британцы называют сильную проседь.
— Русалки возникли не из воды речной и озёрной. И не вышли к нам с тропинок лесных. Да вы присаживайтесь, у нас на экспонатах сидеть можно.
То, что Маруся услышала потом, и голосом-то назвать было сложно. Это был поток, полный звуков, запахов и ветра. В нём было всё — и шум летнего густого ливня, и кружение россыпи звёзд над луговыми травами, и тёплая июльская пыль, что так ласково щекочет ноги в полдень.
Маруся тихо осела на предложенную скамью и дальше уже слушала, не шевелясь, совершенно околдованная этим голосом.
— Случилось это в те далёкие времена, когда Небо нежно обнимало Землю, звери и птицы не боялись людей, а сосны были такими высокими, что можно было залезть по стволу на самый верх и рукой дотянуться до звёзд.
Жили в наших местах две сестры. Домик их стоял на окраине, у самого леса. Обе мастерицы были знатные, старшая полотно ткала, тонкое и ласковое, как вода в летний день. А младшая травы знала и так умела сказки рассказывать, что слушать их можно было часами, забыв обо всём на свете. При старшей сестре жил кот серый, в лёгкую светлую полоску, а младшая из леса щенка принесла. То ли собака, а то ли вовсе — лиса, хвост пушистый и рыжий, и не кренделем к небу завитком торчал, а больше по земле стелился. Остаётся старшая сестра дома на хозяйстве, тесто для пирогов замешивает, за прялкой сидит, а кот рядом кругами ходит, мурлычет свою песню. А в это время младшая свистом собаку за собой зовёт, и уходят они вместе в лес.У нас тут раньше знатные дубравы были, полные грибов и спелых ягод. Ну и травы, само собой, ходила собирать, она же травницей была. Если в доме правильно сухие травы разложить, то запахи хороводят так, что голова начинает кружиться, и сны по ночам снятся спелые и летние, даже в зимнюю метель.
Так и жили сёстры в радости и достатке, пока не случилась в их жизни любовь. Да, с неё всё в мире начинается и ею же заканчивается. Влюбились наши сёстры — да в одного парня. И стала старшая замечать, что начал тот всё чаще к ним захаживать и историями младшей сестры заслушиваться. И ткань, что в её руках рождалась, словно мыслями тёмными наливалась и тяжелела. А от мрачных мыслей до несчастья — рукой подать. Сшила она для сестры рубаху, по вороту рисунок раскинула нежный и тонкий, что та паутинка. Только когда иголкой ткань протыкала, представляла, словно жалят сто ос быстрыми жалами белую кожу. И шептала слова страшные, которые только в тишине кромешной сказать и позволено. Да и то — не всякому. Слова эти вплетались в нити, скручивались и замирали, подзывали беду.
И случилась та беда в канун праздника, когда девушки на суженых гадают. Сплела младшая сестра венок, надела подаренную обновку и пошла к реке. Только вошла она в воду и отпустила венок, как стала её рубаха на глубину тянуть. Оплела путами руки и ноги, сковала тяжестью грудь — не вздохнуть. Оглянулась младшая сестра, а на берегу старшая стоит и смотрит на неё. И странно так, вроде только первые сумерки на землю опустились, а тень вокруг сестры густая, почти чёрная, и глаза ярко блестят, словно весь лунный свет в себя вобрали. Закричала младшая, запросила о помощи. Да словно не слышала старшая сестра ни хриплого лая верного пса, ни жалобных криков с реки — рассмеялась громко, а тень вокруг неё веретеном закрутилась, взбила тонкий приречный песок. Поняла всё младшая и затихла. Бросилась к ней собака на помощь, да поздно — обе так на дно и пошли.
Погоревали в деревне, конечно, уж больно травницу все любили. Но через год свадьбу всё же сыграли, вышла старшая сестра за того, кого любила. Но разве счастье приворотами и заговорами можно наколдовать? Жили молодые так, словно на чужое счастье в окошко смотрели. Возможно, так бы и расстались, да подарил им Бог дочку. Девочка подрастала и всё больше на младшую сестру становилась похожа — тоненькая и белолицая, с волосами такими яркими, что казалось — в них солнце запуталось. Отец в ней души не чаял, баловал всячески. А мать становилась всё мрачнее, особенно когда дочка начала травы в дом носить. Да расспрашивать — какую при хворобе заваривать нужно, а какую просто под подушку для крепкого сна класть.
Один раз уехал отец на ярмарку, а дочка из леса птенца принесла с покалеченным крылом. Вот тут мать и не выдержала, накричала на неё — велела и птенца, и траву эту ненужную обратно в лес унести. Ничего не ответила дочка, только волосами в дверях полыхнула, больше её и не видели. Поясок потом голубой на берегу нашли. Одни говорят, что позвала её к себе настоящая мать, другие считают, что уехала она с отцом в далёкую страну. Одно точно известно: осталась старшая сестра одна. Дом её ветшал, сад зарос сорной травой. Уже не шила она лёгкие платья, а всё чаще ходила к реке, сидела там на берегу и подолгу смотрела на воду. Или жалобно просила о чём-то, только слова те не сохранились. Она и ушла тихо, просто исчезла в один день, словно осыпалась песком, будто и не было её вовсе.
— А как звали сестёр? — Собственный голос показался Марусе плоским и неживым, она откашлялась.
— Никто уже и не помнит. Говорят, где-то доска есть, на ней имена охранительниц вырезаны.
— Охранительниц? — Логике это не поддавалось, столько смертей вокруг.
— Так раскаялись же. Вот только с ними осторожнее нужно, человеку их знаки понять сложно. А если рыжую собаку кто увидит, на лису похожую, так и вовсе — поберечься, к реке близко не подходить.
— А вы сами такую собаку… — Но спросить Маруся не успела: где-то громко хлопнула дверь и простонали половицы.
— Ангелинушка-а! Степановна-а! Ушли-и! — пропел кто-то из глубины комнат. — Пора чай пить!
Им бы хор организовать, с такими голосами!
— И правда, раз ваши уже ушли, пойдёмте с нами чай пить. — Щёки Ангелины Степановны по-девичьи зарделись. — Он у нас с травками и вкусными пряниками.
Маруся кивнула, вопросов толпилось в голове много, да и с фараонками непонятности остались. Чай так чай!
Иллюстрация: Музей-заповедник Коломенское. Фризовая доска фризовая «Сирена-фараонка», XIX в

Отец
Каждый шаг по облезлой бетонной лестнице дается труднее предыдущего, будто продираешься сквозь густой кисель. Розовато-красный, который продается продолговатыми кубиками в хрустящей упаковке и пахнет так химически, что слезы наворачиваются. Хорошо еще, если сварится без комочков.
Воздух проникал в легкие нехотя, захватывая с собой запах влажной подъездной штукатурки, почтенной пыли старого здания и жухлой листвы. Вдох. Выкинуть вперед согнутую в колене ногу, поставить на ступеньку. Задержать дыхание. Рывком перенести вес вверх. Выдох. Снова вдох. Задержать дыхание. Выдох. Вдох. Выдох прямо перед обитой ромбиками дверью. Егор окинул взглядом маленькую лестничную клетку с решеткой лифта.
Здесь, если верить путаным словам старушки из сорок пятой, все и случилось. Я домой возвращалась, увидела — он лежит, без сознания. В скорую звоню, а они приехали только минут через сорок, я им и так, и эдак, звонила раз пять, вдруг еще можно спасти человека-то? Ох, Егорушка, горе-то, какое горе… В голове сразу же полыхнуло недавними воспоминаниями. Звонок. Морг. Опознание. Черно-белые квадраты больничной плитки, безжизненные лампы на потолке. Свет четкий, стирающий все полутона и переходы — смотри. Смотри, впитывай, запоминай, чтобы навсегда, чтоб ночью вскакивать в холодном и мокром. Чтобы точно все-все разглядел.
Точно он? Не ошиблись? Подпишите здесь. Да, где галочки стоят, вот так. И он смотрел, кивал, подписывал. Звонил Лизе — приезжай, тут Отец наш, и морг, и свет этот белый прям под кожу, Лиз, Лиза, Лизочка, без тебя никак, приезжай, пожалуйста. Лиза сначала долго молчала в трубку, только дышала часто и тяжело. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Короткие гудки. Так и не появилась. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети.
Аппарат абонента. Аппарат. Аппарат. Аппарат.
Скрежет замка соседской двери вывел из ступора, заставил судорожно искать по карманам ключи, попадать в замочную скважину и шагать через порог в свет. Квартира обрушилась на Егора сразу вся — со своими запахами, горящими светильниками и воспоминаниями, которые еще утром были частью обычной жизни. А теперь лишь тени по углам, шорохи в пустых комнатах да призраки в предметах, которые еще помнят. В квартире горел свет и тихо бормотал телевизор, создавая видимость жизни. Скорее всего, Отец решил сходить в магазин за любимыми сигаретами. Пара минут, и вернется.
В коридоре витал запах блинчиков, которые сестра жарила каждое утро, чтобы накормить Отца и его, Егора. Сама не завтракала — убегала в универ, всегда она куда-то торопится, эта Лиза. Егор нащупал в кармане коробочку телефона, потыкал, пытаясь разблокировать, но разбитый экран упорно не замечал замерзших пальцев. Егор тихо выругался, снял ботинки и медленно сошел с черного коврика для обуви.
С каждым шагом по квартире внутри что-то обрывалось. Зашел на кухню. Гудящий холодильник, старый пузатый чайник, занавески в цветочек. Стул, второпях отодвинутый от квадратного стола. Его стул. Он всегда занимал место напротив телевизора, и никому больше не разрешалось там сидеть. Егор бережно придвинул стул спинкой к столу и сел на свое место, с которого взгляд упирался в окно на темную улицу. Локти прилипли к кофейным отпечаткам чашки на скатерти — надо будет напомнить Лизе, чтобы протерла, когда вернется. Сил переживать уже не было. Взгляд рассеянно блуждал по кухонным шкафчикам, пока не уперся в розовую чашку, от и до рассеченную почерневшей трещиной. Перед глазами стояло лицо сестры.
Егор резко встал и прошелся туда-обратно. В животе закопошилось волнение. Сестра не выходила на связь несколько часов, последний раз такое было, когда в пятнадцать лет она попыталась сбежать из дома. Глупость какая. Конечно, ее быстро нашли — замерзшую, спящую на вокзале в ожидании утренней электрички, бок о бок с бомжами, пьянчугами и наркоманами. Самое место для порядочной девушки, любимой сестры и будущей жены. Отец тогда забирал Лизу из отдела полиции, куда ее приволокли вместе со всем местным сбродом. Егор ждал, испуганно сидя на темной кухне. Когда за Отцом закрылась дверь, в квартире стало до звона тихо. Секунду назад был крик, тяжелые шаги от окна к холодильнику, от телевизора к плите, вокруг стола. Упавшая на пол кружка бликовала треснутым боком, по полу расползалось липкое пятно сладкого чая. Воздух плотный и жаркий. Егор тогда пытался сказать, что Лиза сама не знает, что творит, она просто маленькая и глупая, она поймет потом, обязательно поймет, пожалуйста, Отец, прости ее, она хорошая, она… Занесенная рука и звонкая пощечина, такая сильная, что Егор уперся руками в край стола. Во рту стало солоно, в глазах — влажно. Да, Отец, я понял. Да, ты прав. Да, нужно учить. Да, потом скажет спасибо. Прости.
Телефон наконец поддался разблокировке. Егор какое-то время смотрел на мигающий курсор, после набрал короткое «позвони». Рядом с сообщением зажглась галочка — отправлено, но не прочитано.
«Почему не отвечаешь?»
«Почему телефон выключен???»
«Я был на опознании, это точно он».
«Лиза приезжай давай поговорим».
«Ты почему еще не дома?»
«Ты знаешь сколько времени?»
«Позвони»
Подумав, следующим сообщением добавил: «Немедленно».
Почему? Когда так важно быть вместе, говорить, обниматься, думать, что делать дальше и как сохранить крупицы той жизни, что остались после. Ее нет. Телефон выключен, сообщения не доходят. Несколько минут до часа ночи. Лиза должна быть дома в девять, это правило, закон. Отец всегда так говорил — истинное счастье приходит к тем, кто на своем месте. Хорошо, что и она пришла к этому, поняла и снова стала такой близкой. Последние несколько лет все занимались своим делом и соблюдали правила, необходимые, чтобы всем было комфортно. Лиза никогда не нарушала их после…
Они зашли в квартиру молча. Егор услышал поворот ключа, потом в коридоре зажегся свет. Шелест одежды, стук обуви. Отец держал Лизу за плечо, чуть выше локтя, так, что ее рука неловко тянулась вверх, а по коже расползались красные пятна. Лиза морщила нос и кусала губы, силясь не плакать, но на щеках уже блестело несколько мокрых дорожек. Отец молчал. Только плотно сжатые зубы и складка между густых бровей выдавали его ярость. Он потащил Лизу на кухню, швырнул на стул. Егор неуверенно топтался в дверях, не решаясь зайти. Отец наклонился к сестре так близко, что их носы чуть не касались друг друга. Лиза отшатнулась, испуганно икнула и схватилась рукой за край стола. Он схватил ее за волосы и поднял на ноги, поставив перед собой.
— Ты о чем думала? — Тихо и отрывисто. Лучше бы он кричал.
Глаза сестры казались огромными и стеклянными, она даже не пыталась вырваться, а просто замерла перед Отцом, бледная, с плотно сжатыми губами и слипшимися от слез ресницами.
— Куда ты хотела идти? К кому? Да кому ты вообще нужна, кроме нас, Лиза? А деньги? А жилье? Хочешь знать, что бы с тобой сделали все эти вокзальные отбросы?
Отец еще сильнее намотал Лизины волосы на свою руку, так, что ей пришлось стоять на цыпочках, еле касаясь пальцами пола.
— Хочешь?
Другая рука Отца оказалась на ее шее, большой палец прошелся по щеке, стирая блестящие слезы.
— Пусти! — прохрипела, дернулась, попала ногой по колену.
— Дрянь!
Крик. Удар. Лиза упала на пол, из рассеченной брови побежала струйка крови, на паркет попало несколько красных капель.
Егор прилип к стене, воздуха не хватало. Его маленькая, бедная, глупая Лиза. Длинные русые волосы, большие серые глаза. Она так похожа на мать. Лежит сейчас на полу, под ногами замахивающегося для нового удара Отца. Так надо. Она поймет. Для ее же блага. Так надо. Так надо. Надо.
Взгляд уперся в собственные ноги в черных носках и махровых синих тапочках. Егора мутило, каждый звук удара отдавался глухой болью в груди, каждый всхлип Лизы — дрожью в ногах и толчками накатывающей тошнотой. Он знал, что Лиза на него смотрит, знал, что она хочет, чтобы он заступился, как в детстве, сказал что-нибудь, помог, спас, отвлек Отца на себя. Егор так и не смог ответить на ее взгляд. Захлебнулся страхом и, не отрывая глаз от синих тапочек, вышел из кухни. Он просидел в своей комнате до глубокой ночи, сначала слушая сначала удары и тихие всхлипы Лизы, потом тишину. Только бормотал под нос Отцовское «так надо».
Егор резко открыл глаза и встал. Поморгал, отгоняя воспоминание. Это прошлое, пора забыть и жить дальше. Хорошо, что все произошедшее было не зря и после все сразу наладилось. Она поняла. Видимо, Отец был прав, и это действительно было нужно. Какой же он все-таки мудрый. Егор вышел в коридор и остановился у закрытой Отцовской комнаты.
Осторожно приоткрыл дверь, заглянул в щель. В комнате царил полумрак, из окна тянули лапы белые лучи фонаря, тихо гудел компьютер. На кровати лежала одна из домашних рубашек, Егор аккуратно развернул ее, расправив все складочки, а потом уткнулся носом, чувствуя его запах и будто даже его тепло. Вставил руки в рукава, застегнул пуговки одна за одной. Лег на кровать и прикрыл глаза. Все будет хорошо. Все будет правильно, Лиза вернется, они обнимутся, поговорят и будут держаться вместе, как семья. Пусть без Отца, но они обязательно справятся. Вместе…
Из полудремы выдернул скрежет отпираемой двери. Зажегся свет, в коридоре затопали и зашумели. Послышался звук падения и тихие чертыхания. Лиза? Лиза! Егор встал, поймав в зеркале шкафа свое отражение. Белое осунувшееся лицо, растрепанные волосы, его рубашка. Очень похож на Отца. Почти копия.
Лиза сидела на полу, облокотившись о дверной косяк. Одной рукой пыталась развязать спутанные шнурки на кедах, в другой, нелепо вытянутой вверх, держала цветок ярко-желтой хризантемы. В коридоре пахло крепким алкоголем и табачным дымом. Лиза наконец стянула ботинки, встала, окинула рассеянным взглядом маленькую прихожую. Когда заметила Егора, побледнела и отшатнулась, выронила цветок.
— Ты?
— Лиза…
Егор сделал шаг навстречу, раскрывая руки для объятий. Начал бормотать что-то утешающее про то, что все еще может наладиться и они еще смогут вернуть жизнь в привычное русло. Сестра смотрела испуганно и ошарашенно, а после шагнула вперед, но вместо объятий замахнулась и крепко ударила брата по щеке.

C историей
— Чего сидим, небо коптим? — вырвалось у меня при виде тоскливых девчачьих лиц. Ксенька и ее подруги рассредоточились по диванам и креслам в нашей гостиной: кто-то тыкал пальцем в телефон, кто-то ковырял оливье. Новогодняя ночь, как-никак.
— Хва-атит, — протянула Ксенька. — Ты прям как мама.
— Это не я, это вечный юмор, — прозвучал мой поучительный ответ. — Ладно, счастливо оставаться.
Подхватила сумку и вышла в прихожую, в последний раз оглянувшись на девчонок.
— Не разнесите квартиру в приступе буйного веселья!
Едва слышный хмык проводил меня за двери.
«Вот как у них это получается! — думала я, сбегая вниз по лестнице. — Четырнадцать лет, а радости от жизни — ноль. Депрессивные черные худи, волосы на лицо, книжки, непонятно о чем. И главное — музыка. О, ужас!»
Я прислушалась. Ну точно, опять врубили своих «драконов». Насмотрятся аниме, а потом лежат на диване, глаза в потолок. Вот я, например…
«Ну да, да, ты в четырнадцать уже работала, круто. Маме помогала, — услышала я в голове раздраженный голос Ксеньки. — Хотя это и незаконно».
Мы спорили постоянно. До слез и криков. Раньше я не замечала, что сестра может быть такой… упертой. Честно говоря, раньше я ее вообще особо не замечала. Отводила в школу, забирала иногда, еду готовила. Пару раз ругалась с ее обидчиками во дворе. Но так чтобы болтать по вечерам или обсуждать что-то — нет, мы слишком разные.
Я вышла из подъезда: без десяти десять, смена вот-вот начнется. Хорошо, что кафе за углом. Успею.
На улице было морозно и снежно, вдалеке слышались голоса. Наш дом немного в стороне, но стоит вывернуть за угол и пройти до перекрестка, то вот уже и центральная улица. Сразу шумно, весело, ярко. Новогоднее настроение, салюты до стратосферы.
Выдохнув облачко белесого пара, я ткнулась в него лбом — это мне Ксенька показала, когда была помладше. «Так можно догнать свое дыхание», — важно заявила она, и мы всю дорогу домой играли в эти догонялки.
Кафе «Бирюлевское Макиато» переливалось гирляндами и выглядело уютно и пусто. Впрочем, я и не ждала особых толп, потому что до Нового года все пьют алкоголь, а после трезвеют, запуская петарды — и ложатся спать. Разве что промерзшие любители салютов захотят выпить чаю, но даже это случается нечасто.
Охранник Вадим встретил меня у дверей. Это мамин знакомый, он и сообщил о том, что им требуется бариста — рисовать сердечки на капучино и наливать бейлис в ирландский кофе. Я как раз окончила курсы по латте-арту, ну и решила взять вечернюю смену. Денег немного, но зато практика и возможность устроиться в кафе покруче. Моя напарница Лиля как раз перешла в одно такое недавно. И я смогу.
— Итак, она звалась Татьяной… — продекламировал Вадим, едва увидев меня в дверях.
— Можете не продолжать, — ответила я, улыбаясь. Насколько подсказывала память, ничего приятного про Татьяну в этом отрывке не было.
— Да я и не помню дальше, — смущенно пожал он плечами и сменил тему: — Как семья, не возмущалась новогодней сменой?
— Мама сама в ночную в больнице, а Ксенька решила праздновать с подружками — сидят, лопают салаты.
— А ты сама? Неужели некуда пойти? — Вадим уже не первый раз задавал такие вопросы. Путем дедуктивных умозаключений и обмолвок с его стороны я поняла, что у нашего охранника есть сын моего возраста. Работой Вадим меня уже обеспечил, если бы еще и жениха подогнал — выиграл бы джекпот маминой признательности. А это было его заветной мечтой, потому что мамой моей он восхищался бесконечно.
— Есть куда, — прозвучал мой бодрый ответ. — На работу!
Я юркнула за стойку, надела фартук и новогодний колпак, включила музыку — и понеслось из динамика снаружи кафе звонкое «Jingle bells».
Спустя час все заботливо отмерянные порции кофе и удобно расставленные пакеты с молоком так и стояли на своих местах. Никого. Один только пьяный мужичок забежал в туалет и за маской.
Я уныло оперлась на стойку, глядя в окно.
Шел снег. Пушистый, он то падал ровно, то вдруг завихрялся и уносился в сторону. Помню, как лет шесть назад в такой же снег мы ходили за елкой на базар. Папа тогда еще жил с нами и установил правило — елка обязательно должна быть с базара и ставиться ровно тридцать первого числа. Это был челлендж, потому что тридцать первого нормальных елок уже не было. Одни кривые да лысые. Но мы выбирали самую лучшую из плохих и придумывали ей приключение, в котором она потеряла часть веток или наклонилась в сторону. То елка поддерживала раненного браконьерами лесника, чтобы он не упал и не замерз — да так и не разогнулась (я придумала). То отдала свои нижние ветки на растопку костра потерявшимся в лесу детям (Ксенька). То защищала раскинутыми в сторону руками-еловыми лапами своих малышей-ельчат (папа). В общем, наша страшненькая елка всегда оказывалась самой лучшей, потому что у нее была история.
А в тот день мы ходили на базар последний раз. И Ксенька придумала, что елка отбила макушкой метеорит, и тот не разрушил землю. Так что звезду прикрепить было некуда, но елочка все равно светила нам спасительной обгрызенной макушкой. Мы с Ксенькой ею очень гордились. А в Новый год даже держались за руки, загадывая желание. Неужели такое было…
Я вскинула глаза на часы. 23:45. В кафе никого, за окном снег. Интересно, девчонки так и сидят по углам в душной квартире?
На стойке завибрировал телефон. «Лиля бариста». Неужели звонит поздравить в разгар рабочей ночи?
— Таня, у меня для тебя предложение века. Быстро бери такси и езжай сюда — моя напарница заболела, место свободно. Если понравишься супервайзеру, тебя возьмут на постоянку.
Я выдохнула так шумно, что Вадим встревоженно оглянулся, все ли в порядке. Вот как сбываются мечты. В Новый год, за пятнадцать минут до боя курантов. Если меня возьмут — а меня возьмут — я буду работать в топовом кафе города. Нужно только свернуться и ехать прямо сейчас. Неудобно перед Вадимом, да и смена еще не закончилась, но ведь пусто же. Я даже, наверное, смогу найти кого-нибудь на замену.
Я уже набрала воздуха, чтобы крикнуть, что еду, но вдруг… увидела в окне Ксеньку. Она брела одна, без подруг, засунув руки в карманы, нахохлившись так, что только нос торчал из пушистого шарфа. Смотрела под ноги, цепляя ботинками грязный слежавшийся снег, пока еще не до конца припорошенный чистым белым. Ксенька уже почти прошла нашу витрину, специально не обращая на кафе внимания, но в конце все-таки остановилась и украдкой глянула в окно. Ее круглое лицо было таким… словно она загадала желание, но не верит, что оно сбудется.
— Ну ты чего, едешь? — крикнула мне в ухо Лиля.
— Знаешь… прости… не смогу. Спасибо, — пробормотала я, глядя на Ксеньку. Она уже увидела, что я смотрю, и насупилась. Убежит, сейчас убежит.
Иногда в жизни бывают такие моменты, когда нужно что-то сделать… правильное. Но сделать это можно только в одном случае — если не думать, что именно правильно.
Я отключила Лилю, быстро прокрутила плейлист.
— I wake up to the sounds of the silence… — ритмично запели «драконы» на всю улицу. Ксенька дернулась, удивленно распахнула глаза, а потом заулыбалась во весь рот. И решительно шагнула к двери кафе.
Ну что сказать, это был лучший Новый год за последние шесть лет. Мы позвали всех заскучавших Ксенькиных подруг, и я провела мастер-класс по латте-арту. После чего каждый приготовил свой кофе и придумал ему название. Мятный приятный, Грязный эспрессо, Ванильный пузырь — мы придумывали и хохотали до колик в животе. А потом Вадим позвонил своему сыну, и тот привел толпу друзей — так что наше кафе гудело до утра. Мама забрала Ксеньку, когда на улице уже рассвело. Мне нужно было сдать смену.
— Давай теперь каждый год придумывать новогодний кофейный коктейль, — предложила Ксенька, наматывая на шею шарф. — С историей.
Я сделала эспрессо и бросила в него большой кусок темного сахара.
— Кофе, поглотивший метеорит, подойдет?
— Супер, — улыбнулась Ксенька. И внезапно обняла меня, тихо прошептав на ухо: — Я тоже помню.

Атавизм
Это утро было бы добрее, если бы мама не начинала его с вопроса «Ты выпил таблетки?». Вот какой ответ она хочет услышать? Ясное дело, я их не выпил, я ведь должен принимать их только в её присутствии. Если приму в одиночестве, как потом доказать, что действительно принял, а не спрятал в карманах, трусах, волосах, ушах? Она должна за меня ручаться — ежедневно подписывать документ.
Я удерживаюсь и ничего на её дурацкий вопрос не отвечаю. Стараюсь ни взглядом, ни мимикой не выдать раздражения. Беру из её холодных рук холодный стакан, выдавливаю две бело-синих капсулы из блистера, пихаю в рот, запиваю, проглатываю. Мама не лезет мне за щёки и под язык — за это ей спасибо.
Вместе с братьями и сёстрами я выхожу из дома. Младшие радостно дёргают меня за рукава куртки, старшие ерошат волосы.
— Здорово, что ты снова с нами!
Можно подумать, я болел гриппом и наконец оправился, а не вернулся из психбольницы после очередного нервного срыва. Отец, на бегу поцеловав меня в голову, говорит, что мне не о чем волноваться. Хотя сам волнуется.
Вчера вечером на собрании всей общиной решался вопрос: можно ли мне посещать школу. Обсуждали долго, высказались все. В конце концов, заключили, что я заслуживаю шанса. Правда, последнего. Если хоть как-то проявлю вспыльчивость, меня переведут на домашнее обучение. Если и там сорвусь, придётся переезжать в психоневрологический интернат.
В общем-то, в этом нет ничего удивительного: так заканчивает девяносто процентов людей с моим диагнозом. Но родителям, конечно, будет больно, они меня любят. Только благодаря их терпению я до сих пор не изолирован, а ведь мне уже почти четырнадцать. Самый опасный возраст, переходный. Даже здоровые дети перестают себя контролировать, а уж если я выйду из-под контроля, последствия могут быть чудовищными. Так вчера говорили те, кто не хотел выпускать меня из дома.
Лет десять назад я ещё не считался безнадёжным. У меня была повышенная импульсивность. Это и у нормальных людей бывает. Они обнимают и целуют без разрешения или отвечают, не дослушав вопрос. Вот только моя импульсивность выражалась в гневе. Я мог выхватить вещь, которую у меня забрали, оттолкнуть, если кто-то занял моё место. Отец был в ужасе, когда узнал, что я считаю что-то «своим». Долго объяснял, что всё вокруг общее, даже он — не совсем мой отец, а один из множества отцов, что у меня есть, а я у него — один из множества любимых детей. Но я всё равно считал отцом только его, потому что он, как и я, белокур и голубоглаз.
Позже выяснилось, что чувство собственности — не единственное отклонение в моей психике. Я способен обманывать и подозревать других во вранье. А ещё я обижаюсь и раздражаюсь. Всё это приводит к агрессии.
Когда-то агрессия была нормальной человеческой реакцией. Она помогала людям добывать пищу и защищаться от врагов. Но были у неё и ужасные проявления. Например, война и преступность. В какой-то момент большая часть населения Земли погибла из-за своей агрессии, а оставшиеся в живых начали отвергать тех, у кого она ярко выражена. С агрессивными мужчинами не вступали в брак, агрессивным женщинам не давали рожать детей. Говоря языком учителя биологии, размножались только те особи, у которых отдел мозга, отвечающий за агрессию, функционирует плохо, а гормон, вызывающий её, вырабатывается редко. Ситуаций, когда нужно защищаться и нападать, тоже становилось меньше. И в итоге, много тысяч лет спустя, агрессия перестала быть свойственна человеку.
Теперь в мире нет коварства, ревности и жадности. Но иногда рождаются люди вроде меня. Это как хвост, объяснял мне врач. Или восьмые зубы в челюсти. Атавизм, бесполезный отросток из прошлого. Его надо купировать. Хвост отрезают, зубы удаляют, но мою агрессию не ампутируешь. Остаётся только пить таблетки. У меня от них бессонница и провалы в памяти, да и симптомы они полностью не снимают, но я об этом никому не говорю. Боюсь увеличения дозировки. Пару раз в психиатрической клинике меня накачивали настолько, что казалось, будто меня на свете нет и никогда не существовало.
Мы идём толпой по направлению к школе. Я и все мои братья-сёстры. С соседних улиц к нам стекаются ребята из других общин.
Я плетусь в конце, не хочется торопиться. Первый урок — универсальный язык. Учительница вечно твердит, что это величайшее достижение человечества, язык, благодаря которому люди из самых разных концов земли могут понять друг друга, вот только я его всё равно терпеть не могу. На нём ничего реалистичного не написано. Всё, в чём я узнаю себя, написано на мёртвых языках.
— Доброе утро! — раздаётся вдруг у меня над ухом.
Это Тёма, и от одного взгляда на него мне не по себе. Мы похожи, как близнецы, хотя не родственники. Он из другой общины, старше меня на пару лет и на голову выше.
— Только не ты, — выговариваю я едва слышно, но впереди идущие тотчас с беспокойством на меня косятся. Похоже, получилось слишком злобно.
Тёма закидывает руку мне на плечо.
— Ну как, вылечился?
— Ты же знаешь, что нет. — Хочется сбросить его руку, но нельзя — это агрессивно. Поэтому я проговариваю: — Не хватай меня, мне неприятно.
— О, прости, пожалуйста. — Натянув на лицо виноватое выражение, он отстраняется.
— Чего тебе надо?
— Да так, ничего. — Тёма прекрасно знает, что меня бесит его приторно-сладкая улыбка, и поэтому старательно щерится во весь рот. — Просто хотел узнать, не надумал ли ты ко мне присоединиться.
— Я лучше сдохну.
— В смысле «сгнию в психушке»? Это, по-моему, гораздо хуже, чем смерть.
— Да, лучше буду всю жизнь лечиться, чем свяжусь с тобой.
— Лучше буду всю жизнь играть по правилам бесхребетных трусов, чем объединюсь с человеком, который понимает меня как никто, — писклявым шёпотом передразнивает Тёма, а потом вздыхает: — Бедный ты мальчик, Тима. Отказываешься от мирового господства. Похоже, тебя реально неизлечимо вылечили.
Мне очень хочется ответить ему на мёртвом языке: «Пошёл нахер, козёл» или вроде того, но я молчу в надежде, что, не добившись от меня реакции, он отстанет.
Он действительно больше ничего не говорит, но по-прежнему идёт рядом. И, что хуже всего, начинает свою безобразную клоунаду. Со всего размаху бьёт кулаком в лицо проходящую мимо девушку. Она ойкает, роняет сумку, прижимает руки к разбитому носу.
— Простите, пожалуйста! — паясничает Тёма. — Я такой неуклюжий. Полный дурак!
— Не волнуйтесь, я в порядке! — смеётся девушка. — Надо было смотреть по сторонам. Вы не ушиблись?
Истекая кровью из носа, она рассматривает его паскудный кулак и извиняется раз пятнадцать. Не способна даже вообразить, что Тёма причинил ей боль нарочно.
Я не в силах всё это слушать и наблюдать, так что ухожу вперёд, но всё равно периодически оборачиваюсь, а значит, и слышу, и наблюдаю, как Тёма врезается в старика, подставляет подножку маленькой девочке, а уже совсем на пороге школы набрасывается с объятиями на директрису и хохочет: «Простите, пожалуйста, я случайно плюнул жвачкой вам в волосы! Честное слово, я такой неловкий. Вам придётся сделать короткую стрижку… Нет, что вы, я здоров, просто поперхнулся!»
Он опять подскакивает ко мне, весь светясь от самодовольства. Спрашивает:
— Завидуешь?
Правильно было бы не отвечать, но я не выдерживаю.
— Чему я должен завидовать? Я никогда не хотел такого делать.
— Конечно, хотел бы, — усмехается Тёма. — Тупых человечков вокруг пальца крутить.
— Обводить, — невольно поправляю я. Тёма ничего не понимает в мёртвых языках.
— Они так беззащитны передо мной. Понятия не имеют, что у меня на уме. Я могу хоть завтра их всех себе подчинить. Двумя движениями перебить полгорода. И ты тоже можешь, Тима. Мне бы пригодилась твоя помощь.
— Я всё про тебя расскажу, если не отвяжешься! — выкрикиваю я уже в настоящем гневе.
Тёма лишь очаровательно улыбается.
— Собираешься меня оболгать? Это непростительная агрессия. Я слышал, у тебя последний шанс…
Я так злюсь, что у меня в глазах темнеет и бегут мурашки внутри черепа. Тёма знает, как меня достать. Тёма абсолютно неуязвим. Он такой же, как я, у него есть агрессия, но ему удаётся её скрывать. Никто в жизни не догадается, что он злой. Люди не умеют замечать неискренность и издёвки. Этот навык отпал за ненадобностью. Только у меня он есть — как и слова для этих явлений, я их взял из мёртвого языка.
— Просто пойми, — шепчет Тёма, прижимая меня к себе так крепко, что кажется, будто мы вот-вот сольёмся в единое целое, — у тебя один выбор: быть овощем в психбольнице или быть со мной.
Я молчу. Отворачиваюсь и молчу. До тех пор, пока он не оставляет меня в покое.
Скорее всего, мне однажды придётся избавиться от него. Возможно, даже убить. После такого меня навеки запрут в больнице, но я не побоюсь и не пожалею.
Я читал достаточно древних книг, чтобы знать, через какие страдания прошло человечество на пути к нашему безопасному миру. Я не позволю злодею его разрушить.
Мой атавизм — способность злиться, способность защищать — вовсе не бесполезен.

Ахав
Отец говорил мне: «Ахав, не стриги бороды. Не снимай амулет. Не ешь плоды чилибухи».
Я делал все, как говорил мне отец. Пока к нам в деревню не пришел вербовщик школы звездного флота.
По уставу длина бороды не должна быть больше толщины шеврона. Личные вещи не положены. Вся еда выглядит как кубики желе, и кто знает, не было ли в них чилибухи?
***
— Видел бы ты, отец, как изменился мир с того дня, когда ты покинул его.
Так я лгал, стоя на могиле своего отца. Я не мог сказать ему, даже после смерти, что мир никогда не менял ни своих правил, ни принципов. Ничего не изменилось. Просто я стал другим.
«Все как один». Под таким лозунгом шла кампания по укреплению власти через нивелирование различий между расами. Галактический совет отдавал приказ, и я летел сквозь темную материю нести знания и включать планеты в состав республики или стирать навсегда «дикие» культуры, не желающие встать на путь развития цивилизации.
Тяжелая шершавая ладонь легла мне на плечо. Ветром колыхнуло подол балахона старейшины, и я почувствовал запах ритуальных трав, пропитавших ткань.
— Ахав, ты все еще можешь остаться с нами. Есть те, кто против, и их можно понять: рассказы о внешних мирах пугают. Но племя чтит память твоего отца.
Я поднялся с колена и отряхнул брюки, заправленные в ботинки с гравитационным компенсатором.
— Прости, Хайим. Я не смогу забыть все, что теперь знаю о мире.
***
Перед отлетом я зашел в хижину Шабтая. С ним в детстве мы гоняли лягушек по болотам, слушали предания о богах молний, огня и рек, строили планы, как подрастем, станем пасти коз на далеких лугах, куда не добирался никто из нашего племени. Мы мечтали увидеть весь мир и искали способы это сделать.
Шабтай убеждал меня не поступать в школу звездных пилотов горячее других.
— Ты дурак? Дурак ты и есть! Зачем тебе учиться? Чего ты не знаешь?
— Ну вот что такое ветер?
— Это бог молнии дует на горячий суп, чтобы не обжечься!
— Даже бог не может есть суп так часто! Он бы лопнул!
— А вот и может! А ты — просто дурак!
Как объяснить Шабтаю, что ветер и суп никак не связаны? И тем более — что мир не кончается за горизонтом, где ребята постарше пасут стада?
Шабтай лежал на свежей подстилке из листьев лопуха. Увидев меня, спрятал под тряпицу культи ног.
— Ого. Не ждал. Встать обнять не могу, уж прости.
— Доложи… Что произошло?
— Старейшина говорит, меня наказали боги. Нужно молиться и принести в жертву козу, иначе то же самое случится и с руками.
— Шабтай, в команде звездолета есть одно место для обслуживающего персонала. Сделаем протезы из синтезированного белка и вольфрама, ты сможешь работать наравне со всеми…
— Я верю, что боги помогут мне.
— Шабтай, на все, что происходит с человеком, влияют только законы природы и физики. Богов не существует.
— Зато демоны уж точно есть, и один из них стоит передо мной! Проваливай!
***
За спиной Ахава с тихим шипением поднялся трап. Все привычные процедуры прошли по инструкции, звездолет прорвал темную материю и перешел на скорость света.
— Сообщение для лейтенанта Ахава от главнокомандующего О-2107. Поздравляем с удачной разведкой. Культура планеты Хта-аас добавлена в лист ожидания аннигиляции. После ужина явитесь на мостик для вступления в должность капитана. Вы получили назначение на звездолет класса А4.
***
— Ахав.
Ахав проснулся и всмотрелся в темноту, пытаясь понять, стоит ли там кто-то или ему кажется. Он боялся включить свет.
— Кто ты? — громко спросил он у сутулой фигуры в углу комнаты. Голос вернулся к Ахаву тихим эхом.
— Ты, ты…
Никого, успокоил себя Ахав.
— Мой мальчик. Так ли я учил тебя жить?
Ахав вскочил. Показалось, мне показалось, твердил он себе. Но горячий, сбивающий с ног стыд заполнил все его тело. Он хотел убежать, растворить этот голос в кислоте, доказать ему…
Наконец, подавив приступ страха и отвращения к самому себе, Ахав включил свет. То, что казалось ему фигурой, было всего лишь его новым мундиром. Доказывать было некому. И доказательств у Ахава не было.
Рецензия писателя Екатерины Федорчук:
«Мне очень понравился текст, хотя на первый взгляд в нем есть некоторая неполнота. Рассказ строится вокруг фигуры умолчания. Мы не знаем, чего стыдится Ахав. Мы не можем сказать с уверенностью, что он совершил проступки, которые замарали его имя с общечеловеческой, а еще точнее, с нашей точки зрения. Кажется, что за словами о том, что у него нет оправдания перед отцом, не стоит никаких фактов, одна голая эмоция. И все-таки это не так. Автор каким-то образом, минуя конкретику, показывает, что отказ Ахава от вроде бы необязательных, устаревших представлений, от обычаев предков, которые не имеют статуса общечеловеческих ценностей, тем не менее что-то непоправимо нарушает в его душе. Что в каком-то особом смысле, высшем смысле, сын своего племени должен исполнять заветы своего племени. Не уверена, что автор согласится с такой трактовкой, но мне кажется, что, во всяком случае, это ракурс, с которого в истории открывается нечто неочевидное.
Мне нравится интонация текста. В ней есть поэзия слова и поэзия мысли. Что-то такое в духе Рея Брэдбери.»
Рецензия критика Варвары Глебовой:
«Сюжет не до конца ясен с точки зрения конкретики: описаны ли здесь экзотические реалии нашего мира или это фантастика? Существует ли до такой степени закрытая общинная жизнь где-то? Может быть. Существуют ли школы звёздных пилотов? Академия звёздного флота точно есть, но вдруг здесь имеется в виду что-то другое?
Есть и вопрос чисто логический: если община не знает, что находится за дальним пастбищем, как герой узнал о звездном флоте?
Однако конкретные детали не так важны, как эмоциональный сюжет. Вот здесь у автора всё кристально и глубоко. И актуально. Есть знание о мире, предлагаемое отцом, другом и общиной. Это честная жизнь, благородная, чистая. Есть же мир за пределами: с поразительными достижениями прогресса, но без веры.
Герой — на границе. Не может вернуться и отбросить свои новые знания, не может идти вперёд, не оглядываясь на утраченную чистоту и понятность.
Очень хорошо в финале показан мучительный спор героя с отцом, спор, который не может закончиться, потому что «доказывать было некому. И доказательств у Ахава не было».
Сильный текст, заставляет думать, перечитывать, переживать. Пожалуй, единственное, чего мне действительно не хватило — задач звёздного флота. Буквально штрихом. Герой — кто? Исследователь или воин? Это важно для основного смысла. Если он исследователь, покоритель космоса, то вопрос отца «так ли я учил тебя жить?» звучит как-то мимо. Сложно увидеть что-то плохое в желании познать весь мир. Да, есть развилка между той жизнью и этой, но непонятно, почему Ахав чувствует «горячий, сбивающий с ног стыд». Для стыда нужно осознание, что занимаешься глобально плохим делом, идёшь по ложной дороге.»

Безопасный путь
Данила Шемелев садился за вторую парту у окна и ждал, держа портфель на коленях. Всегда в костюме, аккуратно подстрижен, с чистыми ногтями и отсутствующим взглядом коровьих глаз. Когда со звонком учитель входил в класс, Данила быстро доставал и раскладывал по парте учебники и тетради. Ему делали замечания, что он долго копается, но он продолжал сидеть на перемене, обняв свой портфель. Я знаю — почему. Раз я видел, как он достал всё слишком рано и к нему тут же подошел один из обитателей последних парт. «Я свой учебник дома забыл, — сказал он без сожаления, — я твой возьму. Только не жужжи». Конечно, из-за фамилии Данилу дразнили Шмелём.
Я залез на детскую горку во дворе и как бы невзначай глянул в окна нашей старой квартиры. Тюль, телевизор на кухне — всё как у людей. Интересно бы было узнать, кто там сейчас живёт, но людей видно не было. Я спрыгнул на землю и заученным маршрутом пошел в школу. Район за десять лет оброс супермаркетами, добавилось детских площадок, на пустыре построили мини-котельную. А школа не изменилась, и к ней, как и раньше, со всех сторон сходятся тропинки и асфальтированные дорожки, расчерчивая на земле подобие гигантской паутины.
У всех учеников на обороте дневника была приклеена нарисованная от руки схема «Безопасный путь в школу» с квадратами домов и тонким красным пунктиром от школы до места жительства. Наши с Данилой схемы совпадали — мы жили в одном доме, через подъезд — и мы иногда болтали по пути из школы. Как-то он сообщил доверительным тоном: «Я такую книгу сейчас читаю, настоящая порнуха». Книга оказалась второсортным женским романом в мягкой обложке. Я прятал её в нижнем ящике стола под бумагами и читал урывками, таясь от родителей. Но вместо обещанной «порнухи» обнаружил лишь одно упоминание оголенного женского плеча. От разочарования я даже забыл вернуть книгу хозяину и наткнулся на неё уже после выпуска, когда перебирал вещи к переезду.
В школе праздник — тридцать пять лет с основания и десять — с нашего выпуска. На крыльце курят ребята с параллели. С ними наш штатный шутник. «О, братан, сколько лет! Я как раз пацанам рассказываю, как мы стекла в спортзале били. Помнишь?» Стекла он бил без меня. «А как прогуляли всем классом и писали объяснительные потом? “Отсутствовал по семейным обстоятельствам”, гы-гы». Я натужно улыбаюсь.
Чувство юмора у него всегда было своеобразное. Он любил пускать по классу скабрезные записочки — нарочито неправдоподобные, но народ смеялся. Когда фантазия его иссякала, он просто швырял в Данила скомканную с харчками бумажку, а потом невинно оглядывался в поисках хулигана. Обычно с Данилой садилась девочка, которая, чтобы лучше видеть, оттягивала пальцами кожу к вискам, становясь похожей на китаянку. Когда её не было — Данила сидел один. На истории к нему подсел наш шутник. Он шептал Даниле на ухо, убеждал, подбадривал, тыкал в бок и серьезно кивал. Наконец, Данила сдался. Он поднял руку и обратился к учителю: «А правда, что в войну было нечего есть и людям приходилось вместо масла на хлеб говно намазывать?»
В актовом зале культурная программа. Выпускники разных лет поют, танцуют, читают стихи. А я стою рядом с нашей классной красавицей и не могу решиться. Делаю глубокий вдох. «Знаешь, — говорю, — это самое глупое киношное клише, но я был в тебя влюблен». Она улыбается: «Да, знаю. Не ты один». И через некоторое время: «А ты знал, что в десятом классе, Данила заявился ко мне домой на день рождения? Открытку подарил. А потом попросился к пианино и исполнил пьесу собственного сочинения. И так сильно стучал по клавишам, будто марш исполняет, а не посвящение девушке. Хорошо, что мама пришла на помощь — сказала, что у нас куча дел, и аккуратно его выставила».
Возвращались из театра все вразнобой. Я, не прощаясь, побежал на автобус, Данила помедлил и рванул следом. Я запрыгнул в заднюю дверь, пробежал через салон и выскочил на улицу до того, как двери закроются. А Данила остался внутри.
Учителя почти не изменились, только стали меньше ростом. Здороваются, расспрашивают. Надо было цветы купить. На сцене директор читает речь. О традициях, о преемственности поколений. У него на щеке след от помады — кто-то поздравил перед выходом на сцену. Ничего, скоро закончит.
Заскучав от обилия формул на уроке химии, сутулый детина нагнулся под парту и не спеша расшнуровал ботинок. Лицо у него усталое, движения медленные — это всё рутина. Я смотрю на него, а он — на учительницу. Когда та повернулась к доске, он с размаху глухо ударил Данила подошвой по спине и спрятал ботинок. «Прихлопнул шмеля» — шутят на камчатке. Химичка осмотрелась, прикрикнула на класс и вернулась к своим формулам. А Данила полдня проходил с осыпающимся пыльным следом на выглаженном черном пиджаке.
В коридорах характерный запах, не противный и не приятный. Школа пахнет школой. Прохожу мимо нашего классного кабинета — внутри смеются, я ускоряю шаг. Заворачиваю за угол, в правое крыло. Темный коридор кончается тупиком. Направо — всегда закрытый запасной выход из спортзала, налево — туалеты.
В какой-то момент Данила перестал появляться в школе. Его долго не было, и по классу поползли слухи. Говорили, что он угодил в секту, где их кормят тортами с наркотиками и промывают остатки мозгов. Кто-то уверял, что Даня совсем двинулся и лежит теперь в дурке под присмотром врачей. Самые добродушные считали, что родители просто забрали его из этой ужасной школы и перевели в другую. Последнее, впрочем, оказалось неправдой — через два месяца он объявился и занял привычное место у окна. Такой же аккуратный и ещё более вялый, чем обычно.
С тех пор его почти перестали задирать. Будто потеряли интерес, достигнув цели. Иногда только наигранно прятали от него в столовой свой компот, боясь, что «этот знатный водохлёб опять всё выпьет и курагой закусит». Смеялись те, кто дежурил с Данилой за день до его исчезновения. Парни тогда послали его в туалет набрать воды, а сами пошли следом. Их не было минут двадцать. Вернулись молчаливые и гордые, как герои войны. Последним шел Данила, растрёпанный, бледный и с мокрыми волосами. Его заметно трясло. Заводила довольно осклабился: «Что, попался, насекомое?» Данила вдруг склонился над ведром с водой — его шумно стошнило. Потом он взял свой портфель и ушел.
У гардероба — наши, все кто пришел, — пять человек. Обсуждаем одноклассников. Один в Москве, другой в Канаде, третий помер. Большинство растолстели и завели детей. Где Данила — никто не знает. «Я считаю, это классная виновата, — начала одна, — ей на нас было вообще наплевать!» «Что ты, — возразили ей, — у неё же сын тогда погиб. Она молодец, что вообще нас до выпуска довела». Договорились не теряться и распрощались. Я им не сказал, да и говорить особо нечего. Месяц назад я его встретил.
Летнее солнце к вечеру уже не так пекло, и мы с приятелем прогуливались по набережной. Мы смеялись, размахивали руками, и я заметил Данила в последний момент, когда он вырос перед нами. Он почти не изменился, разве стал чуть шире в плечах. Тот же высокий лоб и опущенный на грудь подбородок. В черном костюме и застегнутой на все пуговицы рубашке.
— Привет, Даня.
— Привет.
Он смотрел прямо в глаза, но будто не фокусируясь, проходя насквозь. Обменялись незначащими фразами.
— Ну а как ты, вообще? Чем занимаешься?
Он вдруг улыбнулся:
— Да нормально. Знаешь, жизнь: сегодня хорошо, завтра плохо.
Я хотел сказать что-то ещё, но молчал. И мы разошлись.
Немного прошли молча, а потом мой приятель заметил:
— Странный тип. Жуткий какой-то. И вообще, — продолжил он, всё больше веселясь, — что значит «сегодня хорошо — завтра плохо»? Угрожает он так, что ли? — и расхохотался, как после удачной шутки.

Большая медведица
Шерсть у овчарок — слипшаяся, нечесаная. Собаки хрипят и рвутся с поводков. Варвара Васильевна вздыхает. Дать бы им кусочек колбаски, докторской, с жирком — но положено ли? Что вообще положено в этом бетонно-проволочном мирке?
У охранников лица невыспавшиеся и какие-то тусклые, их десять — против шести женщин.
— Церберы, — усмехается кто-то позади.
— Провинились дети, а наказывают нас, — откликается старуха впереди.
Варвара Васильевна чиркает по ее спине быстрым взглядом. Какая статья у ее сына, интересно? Статью своего Варвара Васильевна до сих пор не может сказать без запинки. Она даже репетировала у зеркала — «105, убийство, десятка» — а все равно спотыкается. Хочется оправдаться, сказать зачем-то «я ни при чем», да и сын разве виноват? Виноваты тусклые фонари, туман, беременная девушка, перебежавшая дорогу.
В тот день Ваня заехал в гости, выпил чаю, говорил про бизнес, а потом вдруг засобирался. «Пока, мам!» — шептал эхом подъезд. «Пока, мам!» — смеялся серый сумрак (как всегда, перегорели лампочки). «Пока, мам!» — так ли спокойно разговаривают убийцы?
Вокруг ИК-312 хлюпающие от грязи пустыри и помойки. За колючей проволокой скалятся решетками корпуса, прямоугольные, ровные, как по линейке прорисованные, все как один выкрашены в персиковый. Рядом остановка, туда-сюда ходят люди, и Варваре Васильевне кажется, что прохожие нарочно не смотрят на нее. Терпи, уговаривает она себя.
На наручных часах — три пятнадцать. Должны запускать. Когда же? Ноги промокли еще утром — в шесть лил дождь, к восьми закончился, но Варвару Васильеву до сих пор знобит. Пальцы на руках промерзли до костей, не разгибаются, спину ломит, дышится еле-еле — помереть бы, да нельзя.
Варвара Васильевна себе напоминает старуху-медведицу, они с Ваней видели один раз такую в цирке — облезшая, глаза слезятся, по сцене переливается медленно. Ваня смотрел и хохотал — маленький, не понимал, конечно, что к чему. Когда это было? Лет сорок назад? А может, и не было вовсе?
Варваре Васильевне часто снятся сны про Ваню. Там он всегда маленький, пахнет горячим молоком, домашним печеньем и чем-то неуловимым, таким родным, что хочется прижать к себе и обнимать, обнимать, обнимать до боли в мышцах. Вечером Ваня просил:
— Хочу песню про звездных медведей!
И Варвара Васильевна пела, как умела: «Мы плывем на льдине, как на бригантине, по седым суровым морям». А Ваня клал голову на плечо и повторял, что никогда не женится, так и будут они жить до самого конца — вдвоем, и никто им не будет нужен. «Только будь всегда-всегда», — просил Ваня, и Варвара Васильевна обещала.
— Запускают! — шепчутся в очереди.
Варвара Васильевна — в первой тройке. В помещении досмотра сумрачно и сыро, как будто это и не комната вовсе, а пещера. На потолке мигает ледяным электрическим светом единственная длинная лампа, и из-за неё у инспекторов лица серые — маски из гипса.
Один из них командует все выложить на стол, заставляет выдавливать шампунь и пасту в пластиковые пакеты, режет яблоки, груши, мясо, потом — блины, Ванины любимые, с мясом и луком. Со стола тонкой струйкой капает кровь из стейков и фруктовый сок, Варвара Васильевна сортирует разрубленное и раздавленное по пакетам, а пальцы все не слушаются, никак не отогреются. Помереть бы, да нельзя. Терпи, уговаривает себя Варвара Васильевна.
В комнате для длительных свиданий номер 2 зеленые стены, серый потолок и грязные окна. В комнате для свиданий пахнет гнилью — говорят, тут на кухне один помойный бак на всех, может, оттуда? В комнате для свиданий темно и влажно, как под землей. Варвара Васильевна думает, что в больницах и тюрьмах время какое-то свое, особое — растягивается жвачкой, ставит само себя на паузу.
Приводят сына. Иван худ и бледен — «точь-в-точь покойник», думает Варвара Васильевна — обнимает мать быстро, едва касаясь ее руками. Варвару Васильевну мутит от по-чужому острого запаха табака и какой-то затхлости. Иван спрашивает, когда обед. Услышав, что скоро, садится в кресло и включает телевизор.
Сердце у Варвары Васильевны бьется часто-часто — опять тахикардия? Терпи, старая. Сын молчит. Губы его не сжаты, а точно слеплены, даже странно, что буквально минуту назад они говорили. Глаза цвета бетона, спокойные, пустые. Такие глаза у убийц? Да и такие разве глаза были у Вани? Может, это не Ваня вовсе, а чужой мужик, просто перепутали? Да нет, вот родинка над губой, вот белеет шрам на пальце, — свой.
— Как ты? — спрашивает Варвара Васильевна.
— Спишь хорошо? — заглядывает в глаза Ивану.
— Соседи нормальные? — шепчет.
Иван морщится:
— Продыху не даешь.
Варвара Васильевна замолкает — ничего, вот придет Иван в себя и снова станет ее Ваней, снова сядет рядом, как в детстве, поплачет, — кому ему еще тут плакаться — и расскажет и о туманном дне, и о крови на капоте машины, и о мертвой девушке на дороге. Наверное, каяться начнет, попросит прощения — не у Варвары Васильевны, ей-то за что его прощать, а у кого-то незримого рядом — а потом уснет на плече матери.
Но и на следующий день Иван сидит на кресле, глотает программу за программой, один выпуск новостей за другим, и только спрашивает: когда завтрак? А обед? А ужинать будем? Варвара Васильевна по-медвежьи переливается с душной кухни в комнату и обратно, готовит, моет посуду, снова готовит, снова моет, а Иван все ест, ест, ест, никак не наестся. И почти всегда молчит.
По ночам Варваре Васильевне почти нечем дышать. Ворочается с бока на бок, и все снится ей туман и незнакомая девушка на дороге. В последнюю, третью ночь, сон и вовсе уходит до рассвета. Помереть бы, думает Варвара Васильевна. Утром не выдерживает немоты и тишины. Плачет, кричит, умоляет — и все ее «почему» и «как» тонут в пыльной духоте комнаты.
Иван смотрит долгим взглядом и вдруг говорит:
— Может, тебе больше не приезжать?
Он рассуждает о ревматизме, о том, что Варвара Васильевна «уже не девочка», а длительные свидания — это тяжко, можно же просто передачки присылать с кем-нибудь. Хорошо бы колбаски докторской, и конфет, и яблок, только не зеленых, от них сводит челюсть.
…За окном поезда по дороге в Москву — почерневшие от дождя деревья, беспросветный свинец неба, смотришь на него — и не вздохнуть. Рядом сидит черноволосый мальчик.
— Ванечка! — говорит ему женщина напротив. — Не приставай к тете, тетя устала.
А Варвара Васильевна только улыбается — «что вы, пусть пристает» — и угощает мальчика карамельками из кармана, а тот улыбается в ответ, и даже глаза его сверкают от смеха. И то ли дело и правда в усталости, то ли в монотонном звуке колес, но Варвару Васильевну клонит в сон. Хочется и дальше смотреть на мальчика, угощать его конфетками, болтать ни о чем, но глаза сами закрываются.
Она думает о горячем крепком чае — вот бы с бергамотом — о маленьком Ванечке, спящем на плече, и льдинах, плывущих в седых океанах, как бригантины, и ее саму мягко качает туда-сюда, как будто она и правда плывет куда-то, в мятную свежесть и черноту полярной ночи, вперед, к мерцающему звездами горизонту.
Больше Варвара Васильевна не открывает глаз.

Все мы немножко Сергей
В городе N жил человек. Но человек не знал, что он жил. Ему казалось, что жизнь вот-вот начнется, откроет перед ним свои расписные ворота, впустит в удивительный мир возможностей, закрутит и завертит на событийных каруселях. Но этого еще нужно дождаться.
На диване красовался искусно вылепленный слепок его тела, потому что он ждал прилежно, с преданностью собаки. Он верил, что жизнь вот-вот войдет, возьмет его за руку и скажет: «Сергей, спасибо, что дождался, я почти что твой дембель, только лучше, а ты почти что моя девушка, только хуже». Но из-за того, что Сергей ждал на одном месте, из-за того, что Сергей не сова — голова его не вертится на 270 — видел он только часть происходящего. Ту, что находилась прямо перед его лицом. Телевизор.
Сергею исполнилось сорок, а затем, по законам времяисчисления, которое, кстати говоря, несправедливо и даже возмутительно, думал Сергей: «Вон этот уже вовсю живет и ему вчера пятьдесят исполнилось, а я еще жду, когда за мной придут, и мне тоже пятьдесят, хотя по справедливости, мое время должно остановиться, а как жизнь начнется, тогда уже пусть идет на здоровье». Сергей так преданно ждал изо дня в день, что не замечал, как жизнь стучится к нему в окно — как за стеклом лысеют и надевают новые парики деревья. Как умирают бабки из его подъезда, что еще нянчили его маленьким, и как начинают курить школьники, которых он не так давно наблюдал в колясках. Жизнь поджигала проводку и выбивала пробки, надеясь, что Сергей хотя бы сменит пост ожидания, откуда легче будет заметить ее, жизнь. Руками соседских мальчишек разбивала Сергею окна футбольным мячом, думая, что тот подойдет и увидит, какая в этом году зима выдалась и какая бойкая и симпатичная женщина, как раз Сергею ровесница, живет в доме напротив, катается во дворе на коньках по вторникам. Но Сергей был очень хорошим ожидателем, поэтому продолжал стойко населять собой диван.
Между бровей у него появилась морщина, как провисающая во дворе веревка для белья, нижняя губа стала по-детски выдвигаться вперед, будто по ней кто-то щелкнул пальцем, и она так и осталась отвисать. А когда по телевизору показывали улыбающихся людей, богатых, сытых, неприлично, по мнению Сергея, довольных жизнью, из уст его выскакивали странные слова. Что-то вроде «баран, дура крашеная, папин прихвостень» и много-много других, которые все равно не доходили до адресатов — они-то находились в стране жизни, а Сергей пока обитал в нежизни.
Исполнилось семьдесят: диван перекошено улыбался, потому что диванья жизнь гораздо короче и однозначней человечьей — как начали сидеть, так и пошла жизнь, и ему держать Сергея было уже невмоготу. По телевизору шла передача «Здорово жить». Заставка удивительно въедливая, с агиткой: «Здорово жить, жить так здорово, здорово жить, жить так здорово…» Сергей нажал на красную кнопку пульта. Посмотрел на себя в почерневшем экране телеящика. И совершенно случайно повернул голову направо, к окну. А за стеклом жизнь ему рукой машет. И так опешил от неожиданности, рванулся туда, судорожно начал дергать ручку, справился и впустил жизнь внутрь.
— Привет, жизнь! — едва слышно от благоговения произнес Сергей.
— Ну, здравствуй, — выдохнула жизнь.
— Жизнь, я так долго ждал тебя! Мне никто не верил, что ты существуешь, но я преданней всех ждал тебя, почему ты так долго не приходила?
И жизнь посмотрела на облысевшего человека с остеохондрозом, с морщинами, как слоеный Наполеон, посмотрела на отупевшее для какого-либо чувства лицо, вгляделась в глаза ребенка в стариковом теле, представила весь возможный скандал, если начать объяснять Сергею, что к чему, и стало очень жалко жизни Сергея, семидесятилетнего Сергея, который смотрел сейчас на нее, как на Деда Мороза, в которого, наверное, никогда не переодевался его папа, жалко стало жизни обрушивать на него всю правду, и еще больше стало жалко себя — у жизни болели плечи, потому что ответственность Сергея была тяжелая, а Сергеев во всем мире — страшно представить, и за всех жизнь в ответе, и ко всем жизнь должна прийти и дать зеленый флаг: «Можно, начинаем жить по моей команде, внимание, марш!» (у жизни на шее висел красный свисток, звука которого все очень ждут, но беда в том, что звука этого не существует).
И жизнь помолчала с минуту, думая, как без особой крови обойти эту неприятную ситуацию и поскорей — сегодня еще три адреса: Иван, тридцать пять, в квартире у мамы, ждет, когда позовут в «Газпром», поэтому работать не хочет; Маша, сорок — ждет принца исключительно на белом, а у жизни только гнедые остались, а еще жизнь устала объяснять Маше, что белые — это из сказок, а в реальной жизни есть альбиносы и серая масть, и чем светлей серый — тем старее лошадь, и «на кой черт, дура ты окаянная, тебе старый конь?», хотела жизнь уточнить у Маши; ну а третий — тезка, еще один Сергей. И жизнь посмотрела на этого Сергея и сказала:
— Слушай, это долгая история, ты купи себе новый диван и подожди меня еще, я дела порешаю и вернусь к тебе. — И уже хватаясь за ручку окна, торопливо, как мелким шрифтом внизу договора, добавила: — Если задержусь, не успею, в следующей жизни поживешь. И вышла в окно.
С минуту Сергей молча пялился в ту точку, куда только что выпорхнула жизнь. Потом зашаркал своей старческой поступью к окну, закрыл — на улице зима, ледяной ветер, не дай бог простудиться, без здоровья жизнь можно не ждать. Направился обратно к дивану, взял в руку пульт, шумно выдохнул, произнес:
— Страна уродов. Не дождешься. Все через почту России. — А затем нажал на красную кнопку, и комнату наполнило легкое, радостное: «Здорово жить, жить так здорово, здорово жить, жить так здорово…»
Рецензия писателя Романа Сенчина:
«Очень хорошо, оригинально, полезно. Да, проза должна быть в том числе и полезной, поучительной. У автора получилась почти притча. И интонация соответствующая. В общем, почти отлично. Есть небольшое замечание, которое, быть может, поможет сделать рассказ лучше. Хоть это, конечно, и не реализм в строгом смысле слова, но логичность все же соблюдать необходимо. Получается, что Сергей только и делает, что сидит на диване и смотрит телевизор. Но ведь он где-то должен работать, чтобы были деньги на еду, на электричество. Стоит упомянуть о работе. Может быть, он работает на дому и материалы ему приносит курьер (например, рукописи на корректуру — а есть, например, корректоры нот), а потом присылают при помощи интернета. Автор и сам даете повод не поверить, что Сергей все время на диване. Например, «…которых он не так давно наблюдал в колясках». Значит, он что-то все-таки «наблюдал».
Рецензия Екатерины Ивановой:
«Прочитала рассказ с интересом. Очень необычно, нетипично для работ, написанных в рамках курса «Сюжет».
Автор работает на интересном, но непростом приеме: делает развернутую текстовую иллюстрацию к фразе «он не живет, а готовится к жизни».
В целом текст удался. В нем есть актуальная проблематика: инфантильность современного человека, неспособность к действию. В нем есть четкий сюжетный каркас. Завязка: слепок тела Сергея в ожидании. Есть развитие действия: вот ему 40, 50, 70, вот он чуть было не познакомился с ровесницей. Есть яркая кульминация: он дождался, к нему пришла Жизнь, теперь все можно, но слишком поздно. Есть четкая развязка, однозначно плохая для героя.
Но интерес к тексту, как мне кажется, подогревается не столько поворотами сюжета, сколько фигурами речи. Есть очень интересные стилистические находки, которые делают текст в чем-то похожим на стихотворение в прозе.
Жизнь, как мне кажется, получилась немного абстрактной. С одной стороны, она очень активно действует как персонаж, у нее яркая речь, важная роль в сюжете. С другой, хочется все-таки привязать ее к какому-то конкретному образу, ну, вроде как это молодая женщина, которая выходит в окно. А как она входит? Как Мэри Поппинс влетает?
В самом конце, конечно, ждешь даму по имени Смерть, но это слишком явная аллюзия к Терри Пратчетту. Да и сидение на диване от смерти отличается немногим.»

Дорожка
Коля подошел к калитке, привычным движением чуть надавил на нее коленом, позолоченная дужка замка плавно вышла из петель — хорошо, что замок за зиму не заржавел, — и вошел на участок.
С октября не приезжал. Со дня смерти жены. Рано ушла. Семьдесят три разве возраст по нынешним временам? Дусе вон под девяносто, опять небось на лето приедет.
Коля поставил матерчатую сумку с едой и бутылкой воды на скамейку в открытой беседке в двух шагах от калитки. Открыл потрепанный, но крепкий пластиковый пакет с короткими резиновыми сапогами, переобулся — поставил ботинки ровно, прижав один к другому, — и прошелся по участку. Ноги чуть проваливались в прошлогоднюю пожухлую траву, плешиво торчащую неровными кочками. Иногда из-под сапог раздавалось хлюпанье: весеннее половодье ежегодно напоминало о себе. Но в этом году по-божески — основная вода ушла, хотя апрель не торопился с весенним теплом и солнцем. В некоторых уголках сада — тех, что в тени, — еще остались застывшие в упорном сопротивлении грязноватые клочки снега.
Коля подошел к забору. Одна его часть зияла пустыми щелями: две доски валялись, перехлестнувшись краями, а еще одна висела на одном гвозде, поскрипывая при порывах ветра. Нужно подправить, а то выглядит как челюсть без зубов, даже с улицы видно. Нехорошо.
Обернулся на яблоню и с удовольствием ощутил на лице порыв ветра. Весенний ветерок ни с чем не спутаешь. Он теплый, ласковый, пропитан запахами земли, а не снега. Коля мельком взглянул на небо — видно ли солнце. Нет, не видно. Но ничего. Птичий щебет доносился резво и громко, хотя и не многоголосо. Сидели на проводах воробьи, пикировали грачи, отталкиваясь от земли и устремляясь на ель, широко раскинувшуюся на соседнем участке.
Подошел к старой яблоне. Она обзавелась сразу двумя новыми стволами, вымахала ввысь. А несколько лет назад так скособочилась, что линия настоящего ствола шла вровень с поверхностью земли и опускалась прямо на пионы, кустом примостившиеся под яблоней. Чтобы сохранить накренившуюся яблоню, они с женой спилили толстый ствол, а заодно и пару толстых сучьев. Остатки ствола и сучьев торчали теперь обрубками, как культи у инвалидов. Их вымазали ярко-зеленой краской и оставили в покое.
Среди голых, облепленных пятнистым наростом ветвей яблони, нарушая гармонию серости и отшельничества, на глаза попался зеленый фарфоровый чайничек, когда-то подвешенный хозяйкой сада из озорства. На боку его улыбалась рожица, созданная тонкой кистью. Рожица улыбалась, радуясь непонятно чему.
В серой мешанине сгнившей травы, кусков порванного целлофана, прилепившегося то там, то сям, размашисто распускал колючки розовый куст, радуясь освобождению из-под снежного плена. Торчали и ярко-зеленые настырные стрелки будущих тюльпанов и чего-то еще, чему названия Коля не знал: жена заведовала посадками.
Коля подошел к яблоне ближе, пытаясь разглядеть густые ветви. Из года в год, скрываясь в глубине листвы, появлялось гнездо, и тогда трясогузка-мама выскакивала на дорожку и начинала беспокойный танец, уводя от гнезда. Трясогузки из года в год были наверняка разные, но Коле с женой нравилось думать, что одна и та же. Она бегала взад-вперед, оглядываясь, стремясь обхитрить, запутать человека. Из ветвей скоро будут торчать тоненькие серые шейки с вечно открытыми клювами. Наверняка прилетит.
По серой каменной дорожке Коля пошел к дому. Дорожка была собрана из двенадцати длинных блоков, подобранных лет двадцать назад на шоссе в период ремонта дорог. Ездили за ними поздно вечером, чтобы никто не видел. Жена боялась и всю дорогу приставала: а вдруг кто увидит, что мы воруем? А он одергивал: сиди молча! Старенькие жигули второй модели тогда вздохнули и просели под тяжестью.
Сейчас дорожка из блоков в середине провалилась. Грязь, стекая, превращалась в темно-серую жижу, пройти по которой до крыльца можно было только в резиновых сапогах. Химически желтое крылечко, цвета охры, старательно делало вид, что всё по-прежнему. Но краска облезала — неровно, некрасиво. А вот наличники белели — видно, краска хорошая, цепкая. Как вырезать наличники, Коля одним жарким летом подсмотрел у рукастого соседа и так же витиевато выпилил, чередуя большие и маленькие трезубцы. Жене нравилось.
Коля открыл дом. Дверь за зиму напилась влаги и поддалась не сразу, но все же открылась, хоть и со скрипом. Коля аккуратно снял бежевую куртку с искусственным воротником, а вместо нее надел старую потертую, висевшую тут же на вешалке. Удивился, что рабочая куртка с легкостью застегнулась, хотя еще прошлой осенью застегивалась с трудом. Достал с полки засаленную кепку, надел, быстро глянув в небольшое зеркало, встретился взглядом с пожилым, гладко выбритым мужчиной — взгляд из зеркала был строгим — и вышел наружу. Пора работать. Миленька любила, чтобы во всем был порядок.
Когда-то он сам строил дорожку, плотно укладывая блоки. Укладывал неправильно, не по науке — без песочной подушки, которая давала бы устойчивость, позволяющую блокам не танцевать под ногами и не выпячивать углы. Пока Коля укладывал блоки, жена стояла на крыльце, размахивая руками и пытаясь направить процесс по нужному руслу. Он же время от времени огрызался на окрики, грубо одергивал и даже, кажется, послал:
— Не мешай! Иди отсюда!
Она ретировалась в кухню и до конца работ не выглядывала наружу из чувства гордости.
Теперь же Коля рьяно взялся за плиты: ломом поднимал, ворочал, отодвигал, лопатой землю ровнял, плиты складывал обратно, надрываясь, но зло продолжая укладывать их правильными рядами.
С крыльца никто не указывал, не поправлял и не нарывался на грубость. От этого работа становилась бессмысленной и никому не нужной.
Он дошел до конца дорожки, убрал в сарай инструмент и, не ужиная, пошел спать.

Единственная
Вадик шел по вагону, разглядывая пассажиров. Кто-то смотрел в окно. Кто-то хрустел чипсами. Большинство дремало перед экранами смартфонов, и по их лицам бродили голубоватые тени.
На столике перед местом номер 10 стоял одноразовый бумажный стаканчик. На белом картоне остался кофейный отпечаток по форме губ. Пухлая верхняя и тонкая нижняя: должно быть, молодая женщина. Вадик взял стаканчик и подцепил защитный ободок пальцем. Острые буквы сложились в имя. Арина. Она непременно должна быть коротко стриженной, кудрявой и любить крепкий табак.
— Что вы делаете? Это мой стакан!
Вадик обернулся. В проходе стояла молодая женщина. Из-под прямой челки на него удивленно смотрели круглые глаза. Аккуратная длинная рыжая коса была переброшена через левое плечо.
— Пытаюсь придумать вас по имени.
Девушка нахмурилась и отступила на шаг. До Вадика донесся тонкий запах дыма и осеннего леса.
— Мы просто поспорили с Володькой, это друг мой, что по любой вещи сможем представить себе её хозяина. Или хозяйку. А теперь соревнуемся, кто лучше угадает.
— И как?
— Увы! Арину я видел кудрявой блондинкой.
Вадик развел руками и посторонился, пропуская девушку, а потом сел на место напротив и положил свой билет на столик между ними.
— Эх, проспорил я Володьке, Арина! Вы совсем другая. Кстати, я — Вадим.
Арина посмотрела на билет: Конасов Вадим, вагон 10, место 11. А потом огляделась по сторонам, но другие пассажиры не обращали на них внимания. Вадик сидел, откинувшись на спинку кресла, и поглядывал на Арину.
— Хотите тайну? — спросила Арина, чуть наклонившись над столиком и понизив голос.
Вадик кивнул и приложил правую руку к сердцу, обещая хранить секрет.
— Я — Марина. Так что ничего ваш Володька не выиграл!
Через час они перешли на ты, и Марина выяснила, что Вадик едет в командировку. Он неохотно упомянул семейный бизнес, что-то связанное с фермерскими продуктами. И Марина поняла, что в семье всё непросто: главным Вадик не был и даже подумывал о выходе из дела. И перестала расспрашивать. Сам же Вадик с нескрываемым интересом задавал вопросы о Марине:
Какой её любимый цвет?
Зачем едет в Петербург?
Какой была последняя прочитанная книга?
Верит ли Марина в магию? Или судьбу?
На последних вопросах Марина даже испугалась немного и пожалела, что вопреки всем личным правилам заговорила с незнакомцем в поезде. А потом разглядела веселье в светлых глазах. И заметила, что её кожаный браслет на запястье сбился и обнажил татуировку: круг, вписанный в треугольник.
— Ошибка юности, — сказала она, поправляя браслет, — на спор делала, да потом так и оставила. Чтобы не забывать.
— Прости. — Вадим чуть опустил голову. — Не удержался, но лучше сразу спросить, чтобы не было неприятных сюрпризов потом.
И Марина подумала, что Вадик настроен серьезно. Он внимательно слушал и не пытался взять её за руку. А когда поезд остановился на Ленинградском вокзале, Вадик спросил, может ли он помочь с чемоданом, и пригласил Марину поужинать.
И через четыре месяца вручил ключи от новой квартиры. Вадик понимал, что торопится, но знакомить Марину с матерью он не собирался. А других причин ждать не было. В прошлый раз все закончилось некрасиво, и Леночку он больше не видел…
— Дружище, да и к лучшему оно! — говорил ему тогда Володька.
Они сидели в очередном баре, а вокруг грохотала музыка и сновали официанты, позвякивая бутылками и стаканами на подносах: Вадик прилетел к Володьке в Гонконг залечивать душевные раны. И по старой традиции Володька выбрал самое простое лекарство — залить в друга дорогой алкоголь.
— С ней и заговорить-то было страшно. — Володька Леночку никогда не понимал. — Сплошные зелёные вибрации да аффирмации. Кому такая понравится?
С Леночкой Вадик узнал, что пластик нынче не в моде. Все яростно заботились о природе и не прощали ошибок менее сочувствующим. Леночка же была главной защитницей, а семейный бизнес Вадика считала злом своей жизни. Но сам Вадик ей вроде бы нравился.
Вадик вгляделся в вытянутое отражение на темном стекле бутылки с элем. Володька редко высказывался так категорично.
— А если так будет теперь всегда? — спросил Вадик.
Володька, знакомый с матерью Вадика лично, только вздохнул и махнул рукой официанту, чтобы повторить заказ.
…Марина долго разглядывала ключи на ладони Вадика.
— Так ты богач?
— Куда уж мне! Маленькое семейное хозяйство, молоко да мясо…
— Мать не против?
Вадик нахмурился, и Марина пожалела, что вспомнила про семью. Вадик никогда сам не заговаривал о родственниках, и, кажется, каждое упоминание расстраивало его. Вот и сейчас, он задумался так крепко, что когда Марина взяла ключи, так и остался стоять с протянутой рукой.
Квартира была маленькой, но уютной. И Марина наполняла её густой тишиной, которую разбавлял легкий запах костра и опавших листьев — её любимый парфюм. Вадику нравилась эта тихая осень, которая поселилась с ними. Он знал, когда открывал вечером дверь домой, что найдет Марину в плетеном кресле в углу. На маленьком столике рядом с креслом всегда стояла полупустая кружка с чаем. А вокруг неё прямо по стеклянной столешнице разбегались темные круги, и можно было проследить, как Марина переставляла кружку.
В один из вечеров Вадик вернулся домой чуть раньше обычного. Весь день ему казалось что-то в шуме города: машины, люди, огни — все они подчинялись одному ритму. И у Вадика начинала болеть голова, когда он пытался прислушаться. А дома его ждала драгоценная тишина.
Марина ходила по квартире, перебрасывая длинную косу с плеча на плечо. На столике перед креслом лежал открытый конверт.
— Там письмо пришло, — сказала Марина, остановившись напротив Вадика. — Нам письмо. Посмотри.
Вадик подошел к столу и увидел знакомый почерк на конверте.
— Это неважно.
— Я думала, что вы не общаетесь. Так откуда она знает про меня?
— Это же мама. — Вадик взял письмо со стола, прочитал его и смял в руке. — Мама всё знает.
Марина удивленно посмотрела на Вадика. За эти месяцы она привыкла думать, что Вадик живет сам по себе. И неожиданное приглашение, да еще и полученное таким образом, совсем не подходило тому Вадику, которого она знала.
— Она хочет познакомиться, поедем?
— Мама и так про тебя знает. Зачем теперь ехать?
— Но приглашение…
— Я же сказал, что это неважно, — Вадик неотрывно смотрел на Марину, и ей впервые стало неуютно рядом с ним, — тебе не нужно её видеть.
Весь вечер они молчали, а сквозь стены от соседей пробивался шум разговаривающего телевизора.
С того дня Марина находила тонкие конверты, подписанные той же рукой, в почтовом ящике еще не один раз. Она отдавала их Вадику, а тот выкидывал запечатанными. Марина не понимала, как справляться с настоящим, когда прошлое вдруг показалось обманом. И тишина в уютной квартире будто покрылась серой пылью, похожей на ту, что поднимается с проселочных дорог. Дышать можно, но мир становился тусклым и безвкусным. Дни пенились неловким молчанием, пока однажды Марина задумчиво не спросила Вадика:
— Что ты знаешь об арт-вечеринках?
— Кажется, там рисуют?
— Да-да, попробуем?
Марине уже несколько раз попадались рекламные буклеты, манившие яркими красками. Вадик поворчал, но согласился, когда Марина уверенно сказала, что запишется, даже если он откажется. Так они начали учиться рисовать в компании вина и восторженного Дэна, который тремя штрихами создавал картины, разлетавшиеся по разным уголкам мира.
— Минимализм! Да щепотка мифологизма! — говорил он, многозначительно поглаживая кисти. — И шедевр готов!
Для воспитания достойных учеников требовалось чуть больше усердия. И ещё больше вина для легкости восприятия недостойных.
После первых занятий Марина с Вадиком шли домой, держась за руки. Она смеялась так, что по её щекам бежали слезы, а он только крепче сжимал её руку. А потом они вместе наполняли квартиру той самой уютной тишиной, которую Вадик уже начал забывать. Он думал, что час перед холстом — невысокая плата. И когда Дэн заговорил о специальных занятиях для одаренных, куда позвал только Марину, Вадик даже обрадовался.
И Марина расцвела. Она не хмурилась на письма, изредка появляющиеся в их почтовом ящике. Не спрашивала Вадика о семье. А потом начала чаще уходить по вечерам в мастерскую Дэна.
— Он готовится к выставке, — объясняла Марина Вадику, — я нужна Дэну.
— Мне ты тоже нужна.
— Но он затравлен агрессией окружающей среды, а мы помогаем ему справиться с ней. А еще мы вместе учимся сбрасывать всю ту эмоциональную шелуху, что тормозит развитие наших талантов…
Вадик молчал, мнение о дилерах экзистенциализма он давно научился держать при себе, и только изредка оно проступало красными пятнами на лбу.
Когда выставка открылась с оглушающим успехом, Вадик наконец решился:
— А может, к Володьке съездим? Он нас давно к себе зовёт.
Марина обрадовалась. Вадик раньше часто рассказывал о друге, и Марине даже казалось, что она уже лично знакома с Володькой. Она хотела увидеть Гонконг, с той поездки в Петербург, когда они познакомились с Вадиком, она из Москвы больше не выбиралась. Да и Дэн отпустил своих учеников на каникулы.
Билеты нашлись быстро, и Вадик выбрал самый ранний рейс на следующий день. Марина удивлялась, но не спорила. В конце концов, Дэн учил её прислушиваться к происходящему, и неожиданная поездка должна была стать хорошим упражнением.
В самолёте было так мало пассажиров, что Марина несколько раз переспросила Вадика, не выкупил ли он для неё целый рейс. Вадик лишь хмурился. Где-то в животе ворочался холодный ком, и когда самолёт потряхивало в зоне турбулентности, Вадик разрешал себе бояться. Он закрыл глаза, чтобы не видеть мигающее предупреждение “пристегните ремни”, да так и задремал.
— Добро пожаловать в Горно-Алтайск!
Вадик открыл глаза и огляделся. Марина задумчиво смотрела в окно, постукивая пальцами по подлокотнику между сидениями.
— Как? — громко спросил Вадик. — Где мы?
— Проснулся?
Марина повернулась к Вадику и спокойно улыбнулась. Вадик наклонился и выглянул в окошко иллюминатора. Серое разбитое здание аэропорта с покосившимися буквами: Горно-Алтайск. А за ним выглядывали снежные вершины гор вдали. Немногочисленные пассажиры потянулись к выходу.
— Как ты здорово придумал, — тараторила Марина, пока они тряслись в старом автобусе. — Я ведь в горах и не была никогда толком, а Володька не обидится? Он нас хоть звал-то?
На выходе из аэропорта их ждали. Высокий грузный мужчина держал в руках большой лист бумаги, на котором алело Конасов Вадим. Он вручил Вадику ключи от машины и подтвердил, что комнаты готовы.
Марина удивленно поглядывала на хмурого Вадика. Он молча забрал ключи и сложил чемоданы в багажник.
— А куда мы?..
— Неважно. — Вадик сел за руль и выключил навигатор. — Главное, быстро, может, получится.
Марина все еще стояла у машины. Из-за горизонта выползали тяжелые тучи, а в воздухе пахло грозой.
— Что-то не так? Тебе после самолета плохо? Хочешь, я поведу?
Вадик посмотрел на Марину и подумал, что попробовать всё-таки стоило.
— Ехать недалеко, не волнуйся. И садись скорей в машину, замёрзнешь!
По безлюдной стоянке бродил ледяной ветер. Но Марина всё медлила, переступая с ноги на ногу. Ей вдруг захотелось развернуться и побежать обратно, купить билет на первый рейс домой и больше никогда не видеть странные светлые глаза Вадика. Она посмотрела еще раз по сторонам. Машин рядом уже не было, только под ржавой лавочкой на автобусной остановке сидел грязный кот. В здании аэропорта не горел свет, кажется, их рейс был последним на сегодня, а вдали тучи наливались чернильной синевой над белыми горами, и ей даже привиделись тонкие зигзаги молний. Марина повертела браслет на запястье, и когда очередной порыв ветра забрался под тонкий свитер, села в машину.
Вадик рванул с места так быстро, что Марина не успела пристегнуться. Казалось, он мчался, не разбирая дороги: делал круги по трассе и сворачивал в самых неожиданных местах. Марина молчала, пытаясь дышать, как учил Дэн. Наконец, когда асфальт сменился проселочной дорогой, она не выдержала.
— Что с тобой? — Марина повернулась к Вадику и медленно заговорила, тщательно подбирая слова. — Это же сюрприз? И что-то пошло не так? Мне всё очень нравится! Дэн говорит, что…
— Зачем? — яростно выдохнул Вадим, а потом машина жалобно стукнула под капотом и остановилась, попрыгав на ухабах. Они остановились среди полей, гроза осталась где-то позади и солнце золотило разнотравье вокруг дороги.
— Кажется, тут турбаза?
Марина вышла из машины и подошла к деревянному указателю.
— Куур, — протянула она, — кечууу… Что тут делают с курами? Кечат?
Вадик даже не улыбнулся. Он все так же сидел в машине, опустив стекло со своей стороны. Марина пожалела и что упомянула Дэна, и что согласилась на эту поездку.
— Кажется, там дом, видишь?
Она махнула рукой в сторону, где среди трав проступала острая крыша аила. Марина заметила тропинку, которая начиналась от указателя, и пошла в сторону дома. Через пару шагов травы расступились, и Марина увидела, что тропинка спускалась вниз по склону в долину. Чуть ниже стоял высокий аил, который она заметила с дороги, а чуть дальше за ним — деревянные домики с резными наличниками. На крыльцо аила вышла седая женщина.
— Места есть! — крикнула она, приветливо размахивая руками.
— Ну, значит, судьба, — улыбнулась Марина и пошла к женщине.
Вадик все ещё сидел в машине, поглядывая в окно. С темно-синих гор спускались сумерки и пестрые коровы. Они неспешно брели, позвякивая колокольчиками. Останавливались, чтобы щипнуть травинку, другую, а потом раздавался окрик пастуха, и коровы брели дальше. Вадик нащупал сигареты в кармане. Он не курил последние месяцы, с того самого дня, как встретил Марину. Помедлил немного, поглаживая пачку, а потом вытащил сигарету и закурил прямо в машине, выпуская дым в открытое окно. Торопиться больше не было смысла. Когда сигарета закончилась, Вадик вышел из машины. С дороги Марину уже не было видно, и он медленно пошёл по тропинке среди трав, поглядывая под ноги. Провалиться в кроличью нору и сломать ногу, как в детстве, он не хотел.
Когда Вадик спустился в долину, Марина уже разговаривала с седой женщиной как с давней знакомой. Они стояли на крыльце у ближнего домика, внутри горел свет.
— Вадик, ну наконец-то! — обрадовалась Марина. — Не представляешь, как нам повезло, места есть!
— Повезло, — спокойно согласился Вадик, подходя к женщинам.
— Ну вот и славно, располагайтесь, если будут вопросы — я в аиле!
И хозяйка быстро ушла, оставив Вадика с Мариной одних.
— Принесешь вещи?
Марина ласково погладила Вадика по плечу, а потом юркнула в домик. Вадик вытащил еще одну сигарету из кармана и пошел обратно к машине, брошенной у дороги. Когда он вернулся с чемоданами, Марина уже суетилась на небольшой кухне.
— Хозяйка, чудесная старушка, сказала, что вчера уехала большая группа. Так что нам действительно повезло. А ещё она нам чай подарила. Сама собирала. Натуральный. Понюхай, как здорово!
Вадик покачал головой, но ничего не сказал. Он вдруг вспомнил Леночку. Она тоже любила травяные чаи, но на этом их сходство с Мариной заканчивалось. И подумал, что до Володьки все-таки надо будет долететь в самое ближайшее время.
Марина заварила чай и, закутавшись в теплый плед, вышла на крыльцо с кружкой.
— Ты только посмотри, какие звезды! Ну не чудесно ли?
— Устал я что-то, лягу пораньше. — Вадик вышел на крыльцо, поцеловал Марину, а потом вернулся в дом, плотно прикрыв дверь за собой.
— Вставай, соня! Весь день проспишь!
Входная дверь хлопнула, Вадик посмотрел на часы на тумбочке у кровати: без четверти двенадцать. Он с удовольствием потянулся, встал, оделся и вышел на крыльцо. Потом достал сигарету и закурил. По выгоревшему за лето небу ползли кудрявые облака. За домом позвякивал колокольчик, кажется, одна из коров отбилась от стада и не ушла на пастбище. На крыльце аила появилась хозяйка, поправила фартук, а потом подошла к Вадику.
— Опять куришь с утра? — Она ласково взъерошила ему волосы и забрала из рук зажигалку. — Да не стоит она того.
Колокольчик звякнул совсем рядом, и из-за угла дома вышла рыжая корова с длинной челкой. Она равнодушно посмотрела на людей, лениво отгоняя хвостом мух, а потом принялась за траву у крыльца. На передней ноге темнел необычный шрам: круг, вписанный в треугольник.
— Натуральный чай? — Вадик печально вздохнул. — Ты опять за старое, мама?
— Ты сам виноват, я ведь хотела просто познакомиться. А ещё она назвала меня чудесной старушкой… да и Дэн ей понравился, сам знаешь.
Вадик поморщился, но спорить с матерью он так и не научился. Та потрепала его по голове, а потом ушла в аил, бросив через плечо: — Жду к ужину!
Вадик ещё немного посидел на крыльце. Он знал, что с машиной уже всё в порядке, а других дел у него вроде бы и не было. Ниже по склону, за домами, шумели пороги. Он посмотрел ещё раз на аил, на жующую корову, а потом встал и пошел к реке, вспоминая, куда в прошлом году убрал удочки.
Когда воздух совсем почернел от приближающейся ночи, Вадик вернулся на базу, умылся из бочки и зашел к матери на кухню.
— А вдруг она была той самой? Единственной?
— Запомни уже, — сердито сказала хозяйка аила, — единственная только мать!
— Да, мама. — Вадик кивнул, сел за стол и отрезал кусок от стейка на тарелке перед собой. Мясо пахло костром и опавшими листьями.

Зной
Лето
Зной отуплял, невыносимо было двигаться, думать, смотреть. Там, где пиджак прилегал к спине, выжигало кожу. Комья свежевырытой земли уже посерели и ссохлись, и почему-то абсолютно не было запахов. Иван смотрел на Машино лицо и как будто только сейчас, наконец, поверил. Не заплакал, как ожидал накануне, а словно ухнул со скалы в озеро-колодец — уже летишь, и все, поздно что-то менять.
Попрощались быстро. Едва дождался, чтобы над могилой насыпали холм, и рванулся к выходу, ни на кого не оглядываясь. «Нечестно, нечестно, нечестно» — билось в районе солнечного сплетения.
— Ваня!
Господи, как же не хотелось этого разговора. Он остановился.
— Все-таки не останешься?
— Не успею, надо на самолет.
— Ну хорошо, а дальше?
— Зоя Викторовна, переезжайте к нам, пожалуйста. Садик, секция — все рядом.
— Это твоя дочь.
— Что я ей дам? Папа, который когда-то быстро бегал. Пожалуйста! Мы же уже говорили об этом. Я только получил ставку тренера — Лену, мою спортсменку, берут в сборную.
Иван взглянул на Асю и почувствовал что-то вроде удара. Как же похожа на мать. Неужели я ее не люблю, почему я не чувствую? Она стояла за спиной тещи, скрестив руки на груди: зареванная, но губа была поджата зло, а глаза блестели упрямо. Даже не подошла — вдруг разозлился.
— Ну все, я позвоню.
И зашагал к машине. Господи, как же жарко.
Осень
Внутри затемненной комнаты работал кондиционер, его пластик пожелтел, а направляющая воздуха скрипела при движении — странно, вроде к Олимпиаде специально строили, а это будто на барахолке купили.
За окном слышался радостный гул. Ходоки отмечают? Хорошо им! Витя — зверь, конечно, жара — не жара, а кто-нибудь из его бойцов дойдет до золота, даже если остальные сознание потеряют. И опять стало больно. Проплыло перед глазами: Лена идеально проходит последний барьер, он понимает — золото, ее финальный рывок никому не отыграть, но вдруг она резко замедляется, начинает хромать — задняя, рванула бедро — черт, рецидив. И вот уже ее обходят, все. Потом она плакала. Нет, не так они мечтали закончить ее карьеру: уйти трехкратной — вот это было бы красиво.
И ему, он это понимает — не простят: что выигрывал раньше; что критиковал методику подготовки сборной; что вытребовал право тренироваться отдельно от команды. Особенно последнее — Старший даже разговаривать перестал. Терпели за заслуги и потому, что эту медаль уже в планы внесли. Теперь все — облажался.
Ася… когда у нее старт? Сегодня? Не помню.
Как побелели ее губы вчера — Маша так же злилась, вот же характер. Но иначе было нельзя. Расквасилась. Господи, как же он орал! Но слова подобрал удивительно точные: «Да, тренер не приехал; да, ты одна; нет, я не могу быть с тобой, потому что должен быть с Леной — но грош тебе цена, если ты теперь псу под хвост пустишь все те часы и деньги, потраченные тобой и на тебя, убери сопли и прыгай». Если боец, то заведется, а сломается — нечего было и начинать. Но все же, чем они в федерации думают, интересно — отправили девочку одну без тренера? Какому чиновнику квоту отдали? Хотя и он бы так сделал: медаль от нее не ждут — первые игры, статистка. Если к следующим не закончит — посмотрим, что будет.
Ну надо же, подготовил чемпионку мира и Олимпийских игр, но просмотрел, что за это время собственный ребенок вырос и добрался до сборной. Не верил никогда, особо не следил, а вот же.
Выпить? Интересно, не поздно ли начать в пятьдесят пять? Чего ему теперь еще делать?
В дверь били так, что, казалось, стучат прямо в голову. Вынырнув из дурмана дневного липкого сна, он вскочил. Сердце заходилось, кружилась голова. В номере пахло. Открыл дверь. На пороге стоял Старший и орал: «Ну и что ты здесь делаешь?! Какого вообще? У тебя дочь олимпийская чемпионка».
Почему так жарко? Не Африка же. Даже вечером нет продыха. Когда Ася поднялась на пьедестал, он вдруг заплакал — показалось, что это Маша, какой он помнил ее почти тридцать лет назад на чемпионате России — легкая, светлая, улыбчивая, смеясь, запрокидывает голову назад, слегка прикусывая губу. Тогда, после награждения, счастливая, она вместе с медалью передала ему тест с двумя полосками. Сразу решили, что карьера подождет — успеется. Он пока продолжит готовить вторую спортсменку.
Ася остановилась чуть поодаль. Всклокоченный, помятый, расхристанный, он щипал отросшую щетину, не зная, куда деть руки: надо было что-то сказать, обнять, что ли? Шагнул, тронул медаль, перевернул лицевой стороной вверх. Она смотрела в упор, а потом прошептала:
— Мама была бы рада, да?
— Она была бы счастлива. Она говорила, что ты талантливее ее.
Внезапно начался дождь.
Весна
Лило почти весь день. Это Марусе на руку: американка и так проигрывала ей старты по ходу сезона, а от дождя после случая на чемпионате ее вообще трясёт. Иван втягивал запах мокрого газона, вслушивался в шелест воды на безлюдном стадионе, представлял, как все здесь изменится вечером. Как же он соскучился по Играм!
Завибрировал телефон.
— Лена, ты же знаешь, старт!
— Буквально минута, вывешу тебя на главную страницу.
— Только ради тебя.
— Спасибо. Итак, Иван Ильич, Россия побеждала в барьерном беге на Олимпиаде двадцать лет назад, это была ваша спортсменка Елена Феофанова. Сегодня уже ваша внучка, Мария Казанцева, может повторить успех, она фаворит, скажите: каков ваш прогноз на финал?
— Я думаю, что пора нам вернуть свое.
— Ваши последние Игры как тренера закончились неудачей, вас сняли с должности, ваша дочь после победы на Олимпиаде ушла из спорта. Что вы чувствуете сейчас, когда, судьба дает семейной династии новый шанс?
— Я… Лен, представляешь, я готовить научился — она обожает котлеты с грибами и именно мои, других не признает… А, еще у Аськи будет мальчик в ноябре.
— Ива-а-ан…
— Еще попрыгаем… так, мне пора — разминка.
— Все будет хорошо — твоя погода.
— К черту.
— Обними Марусю за меня.
Закончив разговор, высокий крепкий старик с густой седой шевелюрой повернулся и невольно зажмурился — отражаясь в каплях влаги, вышедшее солнце нестерпимо слепило золотом. Легкая белокурая девушка танцевала на дорожке, надев наушники; она беззвучно смеялась, закидывая голову, смешно прикусывая губу.
Рецензия критика Варвары Глебовой:
«Начну с конструктивных замечаний. Сейчас довольно сложно разобраться в происходящем: идет нарезка кадров, жгучие эмоции без погружения в повествование. В этом и сила рассказа — он концентрированный, мощный — и слабое место: если читатель не поймет, что происходит, он не сможет присоединиться к герою и сопереживать.
Предлагаю — озаглавить фрагменты годами. Похороны жены, провал подопечной, победа выросшей дочери, подготовка к выступлению выросшей внучки — интервалы огромные, много женских персонажей, а обстоятельства похожи. Пусть будет шифр, но оставьте читателю подсказки.
В остальном картина выстраивается. А что не сразу, с некоторым усилием — даже плюс, читателю приходится попотеть, и он ценит свою добычу.
Есть что-то душераздирающее в этой истории. Когда герой делал, как хотел — проиграл. Параллельно без его участия дочь — выиграла. И ясно, что выиграла только для того, чтобы папа ее заметил, чтобы обратил внимание. Прекрасно, что в финале, поддерживая внучку, он наконец-то ценит человеческие отношения: семейные связи, котлеты с грибами. Ну и плюс мощная мысль, что близкие продолжают жить в своих родных (лейтмотив Машиных черт, которые он видит в Асе и Марусе) — простое открытие, к которому герой так долго шел. Хороший рассказ.»
Рецензия писателя Романа Сенчина:
«Кажется, вы уже учились на подобном курсе… Триптих интересный. То, что действие происходит не зимой — объяснимо, хотя есть ведь зимние чемпионаты мира по легкой атлетике. Любопытно, выдуман ли вами главный герой и его женщины или есть документальная основа для этой истории. Посмотрю на досуге.
Написано неплохо — ярко, образно, динамично. Правда, по моему мнению, слишком экспрессивно, что ли: больше догадываешься (или не догадываешься), чем видишь. Я сложно входил во вторую часть рассказа — первые полтора абзаца были густым туманом, и лишь потом я стал понимать что к чему.
А то, что обратились к теме спорта — отлично. О спортсменах пишут нынче немногие…»

Исследователь льда
По дороге с мамой из школы Паша нашёл большую обломанную сосульку.
— Павлуша, не лижи! — предупредила мама. — Она грязная!
— Что я, маленький? — возмутился Паша. — Это я просто исследую лёд.
Объект «сосулька» был принесён домой: мама волновалась только о здоровье, а такие вещи она Паше разрешала. Вот бы найти там что-нибудь вмёрзшее. Ну, не мамонта, а кого-то поменьше. Комара, например. Может же комар вмёрзнуть в сосульку? Пока она не растаяла, Паша поскорее изучил её, но увы, сосулька попалась без комара. Жалко было выбрасывать её просто так. Паша вымыл её под краном и всё-таки лизнул. Исследователь ведь должен изучить и вкус тоже. Сосулька оказалась вкусная. Паша записал это в чистую тетрадку двенадцать листов, которую назвал «Всё о лёде».
Тетрадка требовала новых данных.
— Мам, — сказал Паша, — ты когда будешь плакать, можно я твои слёзы в холодильнике заморожу? Мне надо.
Мама сказала:
— Я не собираюсь плакать, что тебе в голову взбрело! Только если лук буду резать.
— Ты тогда позови меня! — предупредил Паша.
Но мама, как нарочно, всю неделю готовила без лука. Потому что лук не ел папа — ни в супе, ни даже в котлетах. Оставалось ждать новогоднюю ночь: там мама всегда делает так много салатов, что среди этих вазочек и мисочек может затесаться что-нибудь луковое. Надежды мало, но вдруг случится чудо?
Слезы должны были стать очень важным объектом: Паша подозревал, что они не вода, и лёд от них получается другой. От молока лёд другой, чем даже само молоко! Когда Паша это увидел, то сначала решил, что в его секретную лабораторию забрался злодей и подменил результаты эксперимента. Лабораторию Паша устроил в морозилке, там всё равно ничего интересного нет, сплошная курица в плёнке и грибы в пакете. Колбой и пробиркой служил малюсенький стаканчик из серванта, такой, из каких взрослые пьют по праздникам. В тот раз Паша заглянул в колбу-пробирку и даже рот открыл: ну как такое может быть, молоко белое, а лёд жёлтый?! В тетрадке «Всё о лёде» он посвятил этому факту много восклицательных знаков.
А слёзы тоже ведь в замёрзшем виде наверняка другого цвета, чем они сами. А может, ещё и по смыслу различаются: если плачешь от боли, то их лёд делается красный, если от обиды, то чёрный, а если от лука, то зелёный или белый. Вдруг Паша на пороге научного открытия? Но требовалось убедиться. Как назло, вокруг никто не плакал. Паша пробовал себя ударить и ущипнуть, но когда дерёшься сам с собой, то больно до слёз не бывает.
Мама не вникала в Пашину научную деятельность — у неё была своя забота:
— Кто-нибудь видел моё обручальное кольцо? Сняла, а найти не могу. Павлуша, тебе не попадалось?
— Найдётся, — утешил маму папа. — Если на пол упало, надо в пылесосе посмотреть.
Мама побежала смотреть в пылесосе со словами:
— Как мне без кольца в гости идти?
Сразу после Нового года, 1 января, нужно было идти к бабушке и дедушке со стороны папы. Отчего-то мама их всегда словно бы опасалась. Они и правда были строгие, но Паша всё равно предвкушал новые подарки. Однако он не любил, когда мама боялась. А у мамы складка между бровями становилась всё резче и резче. В пылесосе кольцо не нашлось. Зато у Паши, которого близко не подпустили, чтобы не надышался, возникла идея стать исследователем пыли.
Утром 31 декабря мама наконец-то начала готовить с луком. В кухне было не вздохнуть из-за запаха селёдки, но Паша сидел на табуретке и дышал ртом — караулил мамины слёзы. Вот мама взяла нож. Вот ободрала луковицу от шёлковых золотистых шкурок. Вот шмыгнула носом. Вот начала резать. Только она плакала не молча, а всхлипывала и говорила:
— Как новый год встретишь, так его и проведёшь! А я без кольца! Что это за семья, где один без кольца? Что с нами будет в новом году?
Тут капали непонятно какие слёзы — то ли от лука, то ли… от отчаяния? А это значит, что эксперимент не чистый. И цвет льда от таких отчаянно-луковых слёз должен быть смешанным — чёрно-белым, что ли. Наверное, поэтому Паша не побежал к серванту за маленьким стаканчиком, чтобы их собрать. Но и слушать мамины всхлипы, ёрзая на табуретке, было невозможно. Паша обнаружил интересный научный факт — что он не любит не только когда мама боится, но и когда она плачет от отчаяния. И что продолжать исследования в таких условиях нельзя.
Паша полез в дальний угол морозилки:
— Мам, прости, это был эксперимент про то, как замерзает золото. Как будто в лёд вмёрзло обручальное кольцо древнего мамонта. Я собирался завтра отдать, честно-честно. Перед тем как нам идти к бабушке с дедушкой. Ну смотри, красиво же, правда?
Мама сердито закричала:
— Пашка!!! — и тут же Пашу обняла и разрыдалась.
Кольцо древнего мамонта поставили под горячий душ из крана. А на Новый год Паша получил тот набор, где человечки выковыривают настоящего игрушечного мамонта из прозрачно-голубого пластика. Мама при этом ещё раз напомнила, что она не древний мамонт и ничего из её вещей больше замораживать не надо.
Паша не стал писать в тетрадь «Всё о лёде», что когда мама плачет, изучать это невозможно. Потому что это не о лёде.

К черту
Блеклые огоньки звезд тонули в плотности облаков. В ночной мгле все казалось блеклым. Даже Сретенский бульвар бледнел. Машины странно замедлились. Людей становилось меньше. Только «Крейзи Дейзи» сотрясала своими битами уставшую улицу.
— Да… Да… — Слова растворялись в ночной мгле с сигаретным дымом. — Мне не выиграть… Я в дерьме… Да уж… Если бы послать его к черту было достаточно…
Старый потертый кроссовок, впитавший в себя грязный слякотный снег, пнул маленький камень. Он проскользил по бордюру и свалился в водосток. Ей хотелось исчезнуть тоже.
— Хочу напиться…
Голос на другом конце линии осуждающе заворчал. Пришлось отнять телефон от уха.
— Нет… — решительно заявила она. — Глупостей не натворить не обещаю… Я не виновата в том, что эти твари навлекли на нашу семью!.. Господи, да иди ты сама к черту…
В прокуренном баре было спокойнее. Не тише, не менее тревожно. Но там хотя бы можно было скрыться. Сретенский будто осуждал своим безмолвием. Ни тебе сигналящих машин, ни тебе бездомных попрошаек. Никого. Только ты и твое одиночество. Хочется напиться…
Незнакомые лица растворялись во мраке. Она тонула в людском океане, нарастающем шуме и гаме. Толпа пульсировала, и бар пульсировал вместе с ней.
— Что будете?! — прокричал бармен, вырастая из розового света, и глянул на нее своими розовыми ослепшими глазами.
Она устало вздохнула. Выражение его лица изменилось.
— Я не кусаюсь…
Бармен молчал. В растерянности он смотрел на нее, она понимала — в его голове мешались интерес с отвращением.
— Налейте что-нибудь покрепче. И не делайте вид, будто увидели привидение.
— Простите, просто…
— Просто дайте какой-нибудь шот!
Будешь кричать — я тебя задушу, никто даже не узнает.
Она зажмурилась. Ее ослепило лучами. Пол под ногами затрясся.
— И побыстрее!
Ну и чего так переживала? Тебе же понравилось.
Алкоголь разлился по телу. Она почувствовала его опаленные капли. Голова пульсировала. Слова, живущие в ней, звучали громче.
Ты ничего не докажешь.
Толпа густела и разрасталась. Становилось душно. Горечь напитка застыла в горле. Хотелось блевать. Она держалась.
— Эй, красотка! — раздалось глухим эхо. — Эй, тебя спрашиваю! Классные дреды! Еще эти змеиные головы на концах — восторг!
Нужен ещё шот.
— Чего тебе?
Из толпы показалось лицо. Глаза незнакомца пьяно блестели.
— Отчего такая грубость?
— Тяжелая жизнь.
Он пялился. Переминаясь с ноги на ногу, болтал в стакане заканчивающееся пиво, и ухмылялся желтыми кривыми зубами.
— Че с лицом?
Краски плыли перед глазами. Человеческие тела мешались друг с другом. Биты отстукивали в сердце.
— Чего только не сделаешь, чтобы привлечь больше внимания.
— Ха! А ты прикольная. Не хочешь оторваться сегодня ночью? Обещаю незабываемые ощущения.
— Толкай свою дурь кому-то другому.
— Нет, я серьезно, — продолжал он ухмыляться.
— Исчезни!
Парень замолчал. Отступил назад, растерянно поболтал пиво, допил залпом и громко стукнул стаканом по барной стойке. Ему хватило одного её взгляда. Так случалось со всеми.
Прости, я ничего не могу сделать… Иначе он уволит и меня следом.
Пространство суживалось. Алкоголь просился наружу.
Он сказал, если слово скажешь, разрушит всю твою жизнь…
И сестер твоих достанет.
Подумай хорошенько, ты ведь ничего не докажешь… Нет, я не могу…
В туалете было тихо. Или она уже оглохла — было неважно. Обнявшись с унитазом, она старалась не думать. Не слышать звуков, издаваемых собственным телом, не существовать вовсе.
Слова отпечатывались в мыслях и сердце. Снова и снова выжигали себя, оставляя кровоточащие рубцы.
Да кто тебе поверит?! У тебя нет шансов! Ты жалкая!
Жалкая. Она была омерзительна. Лежала на кафельном полу пропитанного дешевым алкоголем и развратными развлечениями бара в собственной рвоте и плакала. Изуродованная шрамами, нанесенными собственными руками. А так хотелось смыть кровью позор. Теперь у неё был позор. И были шрамы.
Да вы видели, что она со своим лицом сделала?!
И вы хотите поверить ее показаниям? Да она психованная!
Сама же себя и искалечила в тот день, а на меня повесить хочет!
Алкоголь в крови мешался с воспоминаниями. Они пульсировали в венах, голове.
Как можно послать к черту того, кто сам им и являлся?

Как море
— Опустите жетоны в приёмник и нажмите кнопку «Старт», — царапает механический голос.
— Да знаю я. — Три жёлтых жетона звонко исчезают в прорези на панели стиралки.
— Цикл займёт пятьдесят девять минут. — Почти час покоя.
Где-то в стене жужжит вентиль, вода струится в барабан. Я сажусь на одно из сидений у стены напротив. Глазастые стиралки и подслеповатые сушилки пялятся на меня. И пусть — главное, что молчат.
«Вечером в воскресенье люди сидят по домам или зависают с друзьями. Тусить в прачечной самообслуживания — убого», — смеётся Вика в моей голове. Зачем я ей рассказал? Думал, поймёт.
Мне здесь нравится. Тепло, чисто и тихо. Дома так бывает, только когда Слава на сутках. Сегодня у него выходной.
Стиралка шумит, как море. Я не знаю, как шумит море на самом деле — только в записи слышал. Но если закрыть глаза и представить, что сидишь на берегу…
— Бля! — Вздрагиваю и открываю глаза. Кислотно-зелёные стены бросаются на меня со всех сторон — к этому мерзкому цвету нельзя привыкнуть. Всё здесь сделано так, чтобы посетители не задерживались.
У стиралок, спиной ко мне, стоит парень в красной куртке. Одной рукой опирается на машинку. Его штормит.
— Слышь, — не отпуская машинку, он оборачивается, — чё-как тут, а?
Это Чумной из параллельного класса. На куртке и джинсах темнеют пятна и кусочки чего-то, напоминающего оливье.
— Я тя знаю, ты в «бэ», ага? — Он икает и морщится. — Поможешь, бро? В этой фигне не разбираюсь. — И со всей дури лупит по панели стиралки кулаком.
— Эй, ты чего? — Смотрю на камеру над выходом. Охранником тут старый дед, вечно кемарит в каморке на первом этаже. Свалить от него по пожарной лестнице не проблема.
Но в машинке мои единственные приличные джинсы и почти новая худи.
— Угомонись, ну! Тут камера! — Подскакиваю к Чумному, хватаю его за руку и попадаю в душное облако вони: блевотина вперемешку с перегаром. К горлу поднимается то, что осталось от обугленной яичницы на завтрак — почти ничего и мерзкая горечь. Чумной тупо улыбается, снова икает. — Только не блюй, у меня денег на вторую стирку нет.
— Лады… — обещает он. Верится с трудом. — По-поможешь?
— Куртка и джинсы — рублей пятьсот, с сушкой. Деньги есть?
Мотает головой:
— Карта.
— Тут только наличкой. Банкомат слева от входа, в углу.
Чумной кивает. Расстёгивает куртку, достаёт из-за пазухи потёртую сберовскую карту, суёт мне в руки.
— Пин… шесть один семь девять.
— Ты дурак, что ли?
Чумной не отвечает — отлепляется от машинки, делает шаг и валится на сиденья уже с закрытыми глазами. Я смотрю на камеру, потом подхватываю с пола пластиковую урну и ставлю рядом с Чумным.
Банкомат выплёвывает купюры.
— Только не промахнись, — шепчу я, пока Чумной в прачечной извергает оливье.
Покупаю жетоны и капсулу для стирки. Отпинываю вонючую урну в дальний угол. Чумной стонет и просит воды.
— Нормально ведь всё было… — Покупаю в автомате минералку на свою последнюю сотню.
— Эй, Егор, — трясу Чумного за плечо. — Надо снять куртку.
— Угу. — Он моргает, начинает шевелиться. По ходу чутка протрезвел.
— Из карманов всё вытащи, — командую я. Чумной послушно выуживает из-за пазухи телефон и связку ключей с брелоком-ракушкой.
Я запихиваю его куртку в стиралку.
— Джинсы, может, не недо? Тебе же переодеться не во что.
— Н-надо, чувак. Без вариантов. — Он кое-как встаёт, расстёгивает ремень.
Пока я перекидываю свои шмотки из стиралки в сушилку, он всё возится.
— Чё за нахрен… — сопит Чумной, — застряла.
— Блин, да стащи ты их так. — Запускаю сушилку. Время на дисплее: сорок три минуты.
— Трусы зажевало, — жалуется Чумной. — Слышь, помоги.
— Твою же мать… — Надо было забирать мокрые вещи и валить! Время на дисплее: сорок две минуты.
Между верхними зубцами ширинки застряла чёрная ткань. Хватаюсь за язычок, тяну вверх, потом вниз. Руки вспотели, пальцы соскальзывают.
— Да блин! — Сажусь перед Чумным на корточки.
Сейчас охранник проснётся, глянет на монитор и вызовет ментов. Я больше никогда не смогу сюда прийти. А это единственная прачечная самообслуживания в нашем чёртовом городе! И мне здесь нравится. Несмотря на мерзкий цвет стен и голос автомата, царапающий барабанные перепонки.
— Давай уже, ну! — Дёргаю язычок изо всех сил, и застёжка, наконец, поддаётся. — Есть!
— Фу, педики!
Живот скручивает. Так же болит, когда Слава смотрит на маму этим взглядом: хорошего не жди.
Я вскакиваю. Их трое, все из нашей параллели: Стас, Лекс и Боров. По спине градинами катится пот. Куда я затолкал чёртову урну? Сейчас выблюю все внутренности.
— Это чё, Чумной с Ушлёпком? — хрюкает Боров; вечно он с тупыми вопросами, ответы на которые максимально очевидны.
Лекс просто ржёт, аж пополам согнулся. А вот Стас из них самый смышлёный — с гадкой улыбочкой наводит на меня смартфон. Чумной развернулся и светит трусами прямо в камеру.
— Удачно Лекс денег подснять решил. — Боров, наконец, догнал и ржёт на пару с Лексом.
— Завтра это увидит вся школа, голубки, — сладко тянет Стас. — Но мне лично подробности не нужны, так что заканчивайте свои грязные делишки без нас. — Он убирает телефон, гадливо морщится. Хрюкающе-ржущая троица сваливает, топая ботинками.
Я плюхаюсь на сиденье, зажмуриваюсь. Хочется орать. Моя жизнь и так не сахар, а завтра начнётся настоящий ад.
— Слышь, как включить, а? — Чумной в трусах и носках стоит возле стиралки. Когда он успел разуться и снять джинсы?
— У тебя мозгов совсем не осталось, все выблевал? Стас на телефон снял, как я перед тобой на коленях стою. Нам жопа!
Чумной вздыхает и, пошатываясь, тыкает в кнопки на панели.
— Опустите жетоны в приёмник и нажмите кнопку «Старт», — царапается механический голос.
— А-а-а… — Чумной сгребает с сиденья жетоны, вставляет в прорезь и снова тычет в панель. Жужжит вентиль, вода струится в барабан.
Шум стиралок не похож на море. Совсем не похож.
— Слышь, — Чумной плюхается на соседнее сиденье, — вода осталась?
— Тебе реально плевать или не дошло ещё? Стас наверняка уже всей школе отправил, что тут наснимал.
Чумной пожимает плечами, нащупывает под сиденьем бутылку воды.
— А ты чё, много теряешь? Типа… друзей? Девушку? Или эту, как её, блин… репутацию? — Лыбится. Хочется съездить кулаком по его роже, но он прав: ничего у меня нет. — Зато, может, кликуху тебе новую придумают.
— Какую, блин? Педик из прачечной?
Чумной громко глотает остатки воды. Вытирает рот рукавом. Роняет голову на бок и принимается разглядывать меня. Я отворачиваюсь.
— Да любая лучше теперешней, — наконец резюмирует он.
Сушилка со щелчком открывает дверцу. Я подскакиваю, вынимаю одежду, сую в пакет.
— Слышь, спасибо, что помог, — говорит Чумной. — У мамки сердце, а я… ну, короче…
— Чумной, — подсказываю я. Он хмыкает. Я шагаю к выходу.
— Слышь, — зовёт Чумной. — Шумит как море, а?
Замираю на пороге. — Да. Похоже.

лестница
столько замков было, столько стен. все, чтобы не пробраться к сердцевине — не узнать, что там спрятано. к ней десять лет никто не приближался, а в последние годы — постоянная сигнализация из тревоги: внимание внимание поблизости неопознанный субъект прием прием! я так хорошо это спрятала, что сама забыла — что именно и куда. ходила вокруг построенной мной крепости и искала вход. и вот наконец все вспомнила — и вошла.
***
это началось пятнадцать лет назад — тогда еще не было никаких крепостей. были открытые двери и окна, было доверие и простота.
я не помню, что он мне сказал, но всем это понравилось. как будто «да, мы тоже так чувствуем, спасибо, что превратил в слова!». его слова стали общими. они прилипли ко мне и меня определили. я — варя, а еще я — ***.
я пробовала протестовать, пробовала игнорировать, но слова не отлипали. к ним добавлялись новые, а я не понимала — почему? почему они липнут ко мне, а не к маше, ксюше, даше? почему от них все отскакивает, не оставляет следов, как будто они сшиты из натуральных тканей, а я — синтетическая?
а потом все перестали замечать прилипшее ко мне и меня саму — перестали. это было так окончательно. пока они бросали в меня словами, я могла это остановить — научиться отвечать так, чтобы им понравилось, чтобы они сказали «ты как мы» и приняли меня. а теперь — отбор закончен, «ты точно нет».
надо было спасаться — перестать нуждаться в них. а еще — внушить себе, что они первые мне не подошли. сначала они мне, а потом я им — в ответ. победить можно было, только переписав правду.
и я победила — так, что с тех пор не могу проиграть. в свои четырнадцать я выстроила лестницу из 21 страницы прозы и 12 стихотворений. я забралась по ней туда, где никого не было, и перестала бояться. здесь меня не бросят и от меня не откажутся — это я буду отказывать и сбрасывать вниз.
высота стала моей гарантией. защитой от единственного вида боли, который я не могла пережить. и местом, где скопилась вся остальная боль — выносимая.
последние десять лет я обо все режусь — я завидую, злюсь, ненавижу. я хочу счастья, но за ним надо спускаться вниз — оно земное и гибнет на той высоте, куда забралась я.
ладно, тогда мне не нужно счастье. подавитесь вы им, примитивные, среднестатистические, односоставные. забирайте его себе, а у меня останется боль — привычная, родная, та, которую вы не можете выносить, разворачиваетесь, как только видите ее, тормозите на отметке «грусть».
я считала, что побеждает тот, кто вмещает в себя больший ад, кто умеет жить в «плохо», которое годами не меняется на «хорошо». я говорила, что тексты создаются только из боли, а счастье — это болото, в котором невозможно пошевелиться. я до последнего пыталась оправдать боль, доказать, что она нужна мне, что без нее я стану, как те, кто внизу — простой и плоской.
но они плоские, только пока я смотрю на них сверху вниз.
мне кажется, с каждым абзацем этого текста я спускаюсь по ступенькам. нащупываю следующую и проверяю — как мне здесь? счастливее или больнее? но конец лестницы пока не виден.
она закончится и пропадет, когда меня бросят, забудут, оставят, а я — выберу не полезть наверх.

Мне жаль
В сгущавшихся сумерках тлели остатки июльского вечера. Акварельное небо степенно чернело. Тропки змеились сквозь буйную зелень. Там, где березы раскинули свои ветви, виднелись ржавеющие прутья заборов. Поскрипывали калитки. Временами издали доносились хрусткие шаги.
Бесконечная вереница незнакомцев. Живые, бредущие с понурыми головами, и мёртвые на бесконечных рядах надгробий — какие-то лица смотрели с дорогих блестящих гранитов, какие-то выглядывали из-за покосившихся деревянных крестов.
Женя огляделась. Вокруг никого. Береза над головой хрипло прокаркала.
Евгеша, ты у нас такая крутышка!
Прям самая настоящая крутышка.
Просто супер-пупер!
Она набрала в грудь воздуха и вгляделась в поросший травой забор. Сквозь тонкие прутья виднелось надгробие.
— Привет… — прошептала она могиле, поежившись. Так близко и так далеко.
Скрипнула калитка, ноги переступили ржавый порожек, кроссовки утонули во влажной земле.
Евгеш, знаешь, а я ведь всегда мечтал
жить на природе. Чтобы птички, озерцо рядом.
Мамка твоя будет рыбу готовить… Заживем!
Заживем… Женя вновь огляделась. Затем обняла себя, спрятав руки в колкие шерстяные рукава старой заношенной кофты, и облокотилась о шершавые перила забора. Он вымученно скрипнул под её весом. Лицо обдало холодом. Оказалось, на щеках высыхали слёзы. Женя шмыгнула. С надгробия на неё смотрели каменные глаза.
— Мне жаль…
Молчание.
— Мне правда жаль.
Вдали прогремел колесами товарный поезд. Вагоны с углем оставили в воздухе матовые пепельные облака. Гудки пробивались из царства живых. Сейчас оно казалось каким-то слишком далёким.
Евгеш, ну ты не расстраивайся. Так бывает — люди разводятся.
Ну не смотри на меня так, не люблю, когда ты плачешь. Ну бусинка,
я ведь никуда от тебя не денусь. Будешь приходить к папке?
Будем на рыбалку ходить! А?
Во рту появилась горечь. Терпкая черемуха забилась в ноздри и осела где-то в гортани. Пришлось откашливаться, растирая по лицу слезы. Длинные спутанные волосы выбивались из пучка и прилипали к влажному лбу.
— Мне жаль… — проскрежетала Женя. — Жаль.
И вдруг нога, встрявшая в вязкую землю, высвободилась из чернозёмных оков и с размаху вдарила в проём между двумя прутиками. Подошва, измазанная черными густыми комками и оборванными травинками, застряла в заборе.
— Вот чёрт…
Евгеш… Ну Евгеш, ну не обижайся на меня…
Сто грамм за завтраком — это еще ничего. Для настроения…
А тебе для настроения нельзя! — иначе мамка больше тебя ко мне не отпустит,
ты же не хочешь, чтобы так случилось?
Женя обхватила руками мокрые ржавые перекладины и всмотрелась в траву. Кроссовка безнадежно застряла в заборчике. Казалось, вот-вот он совсем повалится оземь. Женя вскинула глаза и осмотрелась. По-прежнему никого. Она чувствовала, как каменные глаза выжидающе смотрели на неё сзади. Без гнева, без осуждения. Они просто ждали…
Евгеш… Ну Евгеш, ну прости,
ну плохой я у тебя папка, ну забыл про день рождения.
Зато на следующий привезу тебе два подарка! Каких?
А не скажу! Это ж сюрприз… Ага…
— Господи, какая глупость…
Женя выдохнула и обмякла на заборчике. На руках остались отметины от ржавчины. Становилось холоднее. Вдали раздалось протяжное гортанное «кар».
Е… вгеш… Вгеша… О, как смеш-смешно звучит! Геша!
Как попухай… А? Чё говоришь? Какой выпускной? Ты ж в восьмом!
Оддин-надца-тый! Йо…! Какая взрослая дочь! Гхордость! Крутышка прям!
Женя глотала слезы.
Она не видела, но знала — глаза продолжали смотреть.
Почему не брал трубки? Какой запой?
Какая, к черту, клиника?! Геш, давай заканчивай,
чё за бред несёшь, не до тебя сейчас. Нет, не надо приезжать.
Я сказал не приезжать! И вообще… Достала ты меня…
— Мне жаль, что… ты не отвечал на мои звонки.
Слова тонули в шерстяных рукавах, впитавших слезы. Всхлипы, доносившиеся из груди, казалось, отдавались откуда-то издалека. Оттуда, где рокотали колесами товарные вагоны, где горланили вóроны. Где были хрусткие шаги.
— И мне жаль, жаль, что ты обижал меня…
Жек, да иди ты со своими врачевателями! Никуда не поеду…
И ты не приезжай.
Тошно мне.
Устал, Жека… Устал…
Нога выскользнула из кроссовки, и Женя повалилась о холодную землю. Трава смягчила падение и приняла её в свои влажные объятья. Надгробие стояло всё там же.
— Мне так жаль, что ты никогда не думал обо мне… — Слова горчили во рту. Слёзы делали их солеными. — И мне жаль, что ты оказался не лучшим отцом для меня. Мне и такого было достаточно…

Мой
Четыре раза по триста шестьдесят пять метров. Метанола 1, а не бензин в баке на восемь кругов. Более чем достаточно для одного заезда. Ветер треплет натянутую красную ленту. Снег валит хлопьями.
Гашу нетерпение и предвкушение скорого старта. Важно сосредоточиться на задачах.
Найти свою траекторию.
Подкатываюсь к ленте. Рассчитать скорость.
По обе стороны от меня занимают свои места ещё трое. Не дать сопернику возможности теснить тебя.
— Здоров. — Никаких эмоций, всё внимание на трассу перед собой.
— Здоров, — слышу с левой стороны такое же ровное и бесцветное.
Судья поднимает руку с флажком.
Я живу этой скоростью, ветром, снегом.
Старт!
Безумие? Да, кристально чистое, ясное и острое. Как лёд — колкие холодные иглы из-под колес, вырванные железными из бело-голубого трека. Есть ли у меня любимый трек? Есть ли тот, который вселяет страх? Нет. Есть только первый гладкий круг, а за ним скорость и бьющие в колёса распаханные нами ещё три круга.
Пройти поворот на пределе, на восьмидесяти, почти лежа, почти касаясь грисой вырванных из трека ошмётков. Успеть разогнаться до ста десяти по прямой и снова войти в поворот.
Второй круг!
Слева выныривает синий, и его заднее колесо теперь маячит прямо передо мной. Справа рычит и пытается обойти зелёный. Ну уж нет. Одного я пропустил, а второго… Наклоняюсь, цепляюсь за лёд изо всех сил растущими из покрышки острыми шипами. Второго ни за что! Мотор рвёт морозный воздух рёвом, я впиваюсь в трек и почти, почти достаю передним колесом синего. И он, чувствуя моё дыхание в хребет, прибавляет газ, выжимает из себя метры дистанции между нами. Но я знаю, слышу, что он уже на пределе. Я снова рычу, и тот, что справа и не оставляет затею обогнать меня, отстаёт и остаётся позади. Шансов у него больше нет, я перекрываю ему движение, и зелёному придётся смириться со своей третьей позицией.
Первым, я хочу быть первым!
Шипы выворачивают клочья жёсткого, скользкого покрытия. Снова наклон, снова я едва не черчу собой ровную дугу по почти прозрачному льду озера.
Третий круг!
Воздушный фильтр леденеет от скорости и мороза. Иногда мне кажется, что дышу я иглами, теми, что летят мне навстречу. По топливному шлангу в сердце закачивается метанол. Я набираю скорость. Синий упрям и хитёр. Проходит повороты так, что мне некуда сунуть нос, негде разогнаться. Мы с ним давно друг другу покоя не даём. Да, мы из одной команды, но есть «личное» для каждого из нас. Личный зачёт, личная победа, кубок. До конца сезона мы ещё раз десять встретимся на изрытом шипами снежном полотне. Но только снова — перекинемся: «Здоров», — в начале и коротким: «Поздравляю, ты — крут», — в конце заезда.
Трибуны давно слились в бело-красно-жёлтую полосу. Корпус вибрирует в ритме, заданном мотором и искорёженной трассой.
У нас нет тормозов 2. Мы бешеные, ненормальные, безумцы. У нас всего две передачи. Вторая — чтобы лететь, вгрызаться, быть первым.
Четвёртый круг!
Меня никто не спрашивает, чего я хочу? За меня решают, что я должен делать. Мне не дают выбора. А я хочу свободы! Свободы не знать тёмного ангара по полгода, не ждать чьей-то милости, чтобы прокатиться по зелёному полю, утонуть в нём шипами до самой покрышки. Свободы не чувствовать на своей спине седока, который против моей воли закладывает меня в вираж, спорит со мной на тех сотнях метров, где я могу показать, на что способен. Свободы самому выбирать скорость и встречный ветер!
Газу!
Наст сопротивляется моим шипам, забивается между ними осколками и поддаётся, толкает меня вперёд. Я догоняю синего. Только бы не ошибиться с углом наклона, иначе улетим, я и мой седок, на последнем круге в тюки с сеном. Это будет обидно. На последних метрах опозориться и уступить.
Ветер бьёт в бок, отгоняет от синего, пытается скинуть с трассы. Я реву и упрямо рву вперёд. И опять это мерзкое ощущение, когда заставляют, принуждают. Мало, мало! Что же ты делаешь?! Наклони ниже! Я не пройду поворот!
Меня трясёт, но я подчиняюсь.
Да что ты!..
Чёртов круг!
Ярко-голубая стена летит в меня, резко разворачивается, оказывается сзади и снова летит мне навстречу. Тот, чью волю я выполняю против своей, лежит потерянной перчаткой на самом повороте. Через пару секунд его разорвут шипованные колёса зелёного. Я хватаюсь, как могу за лёд, отталкиваюсь от него и закрываю собой неподвижного, ненавистного мне мучителя. Зелёный кренится, но удерживает равновесие и с недоумённым рёвом уносится прочь.
Синий перелетел финишную линию и оттормаживает в мою, нашу сторону. Сегодня победитель он.
Мой мучитель всё так же лежит на боку. К нему подбегают люди, окружают его. Тот, который ездит на синем, расталкивает всех, и я вижу, как его синяя фигура наклоняется над телом в красном комбинезоне. Да, я красный. И мой… тоже в красном. Меня поднимают механики и подвозят к синему.
— Ты — крут, — говорю я ему.
— Сегодня крут ты, — отвечает он, глядя, как на носилки укладывают человека в красной форме. — Не роняй обороты. Мой не даст ему сойти с круга. — Синий едва заметно дёргает рулём, указывая на идущего рядом с носилками Своего.
Рецензия критика Варвары Глебовой:
«Как здорово, что рассказ всё-таки сложился. Главная прелесть, конечно, что до четвёртого круга читатель пребывает в уверенности, что речь идёт от лица гонщика, а не от его мотоцикла. Ретроспективно становится понятно, почему рассказ называется «Мой», почему топливо «стучит в сердце». То, что казалось метафорическим слиянием гонщика со своим «железным конем», оказывается, должно быть понято в буквальном смысле: «я рычу», «я впиваюсь в трек».
Рассказ очень динамичный и драматичный. С сильным красивым финалом. Защитить того, кто сам виноват и кто тебя мучает…
Единственное, что вызвало у меня вопрос — это некоторое противоречие в эмоциях героя. В начале говорится: «я живу этой скоростью, ветром, снегом», «есть только первый гладкий круг, а за ним скорость… Пройти… Успеть…», «Первым, я хочу быть первым!». Все это говорит о позитивных эмоциях героя по поводу гонки. Однако потом возникает: «меня никто не спрашивал, чего я хочу? За меня решили, что я должен делать» — внезапное неудовольствие. Понятно, что очеловеченный герой может испытывать сложные чувства, одновременно любить гонки и ненавидеть. Но здесь как будто автор ушел за своим обманным ходом и сначала изображал человека с его эмоциями, а потом переключились на мотоцикл, и эмоции оказались уже другие. Хочется продумать, как всё-таки герой относится к гонке. И либо убавить возмущение во второй части, либо добавить его в первую часть.»
Комментарий писателя Романа Сенчина:
«Текст динамичный, экспрессивный. Прочитал, как говорится, на одном дыхании. Автор хорошо показал мысли мотоцикла, его психологию, его чувства. Очень удачно лирическое отступление — абзац после «Четвертый круг!» И эта игра числительными тоже отлично: «У нас всего две передачи. Вторая — чтобы лететь, вгрызаться, быть первым». В общем, рассказ получился.»
- в качестве топлива в типе мотоциклов для зимнего спидвея используют метанол[↑]
- в мотоциклах для ледового спидвея конструктивно отсутствуют тормоза[↑]

Музыка серебряных спиц
«Дорогой Николенька,
это мое последнее письмо. Я долго думала, как лучше написать… Наверное, лучше как есть. Я встретила Йохана, и это абсолютно мой человек. Он приехал к нам на стажировку, учился в моей группе. Cейчас Йохан возвращается в Мюнхен, и я собираюсь через месяц ехать к нему. Пока не написала тебе, чувствовала, что обманываю вас обоих. Мы с тобой выросли друг из друга — как вырастают два ствола из общего корня и как девочки вырастают из старых платьев. Спасибо за все, что было. Олеся»
Успенский перечитывал письмо в третий раз, стоя у почтового ящика. С каждым разом надеялся найти там новые слова и новые смыслы. Но слова оставались прежними.
У него была привычка сначала проглатывать Лесины письма целиком, не разбирая деталей, как будто залпом стакан воды выпивать. А потом уже смаковать каждый оборот, перебирая предложения по словам и пытаясь угадать за ними Лесину интонацию.
Успенский был знаком с Олесей с двенадцати лет, с тех самых пор, как его родители купили дом в глухой деревне в новгородской области. Из десятка домов в восьми жили местные, и только в два приезжали на лето городские. Соседями москвичей-Успенских была семья из Питера. Сначала Успенский огорчался, что на всю деревню в напарники для игр годилась только одна девчонка. Но постепенно понял, что лучшего компаньона ему не найти. Пока родители взращивали свой вишневый сад, Успенский с Олесей помогали деревенским пасти коров, рыбачили, ныряли с мостков в озеро, плели венки и читали на чердаке старые журналы. Годы шли, сад рос, вишни спели, и из них уже ухитрялись сварить варенье на зиму. Летом Успенский и Олеся были неразлучны, а зимой он раз в несколько месяцев приезжал к ней в Петербург. И нет, не было никаких признаний и клятв, но Успенский точно знал, что как только они закончат учиться, Леся станет его женой. И Леся знала, и с гордостью смотрела, как Успенский по-мужски вытягивается вверх, каким широкоплечим и щетинистым становится.
Лесины письма Успенский всегда распечатывал, стоя в подъезде. Ему хотелось насытиться ими в одиночестве, выпить по капельке самому. Он проверял почтовый ящик дважды в день, чтобы не дай бог домашние не нашли Лесино письмо раньше него. Не узнали, не замарали насмешливыми вопросами его тайны. Потом прятал аккуратными стопочками в шкафу за собранием сочинений Горького — там точно никто случайно не наткнется.
Для верности Успенский перечитал письмо в четвертый раз, невольно заучив некоторые обороты наизусть. Ему на мгновение показалось, что его аккуратно вскрыли и хорошенько выпотрошили, как мать потрошит принесенную из универсама селедку. Только чешуя осталась целехонькой. Одновременно с этим он с хладнокровной иронией думал, как лингвистически красиво Олесе удалось обыграть их прощание, не придерешься, садись, 5 за сочинение.
Он толкнул ногой деревянную дверь и вышел в декабрь, больше было некуда. Морозный воздух подействовал, как удар дефибриллятором.
Обыкновенно Успенский, глядя на Ленинградский вокзал из окна поезда, подпевал про себя Газманову. Только теперь он впервые попросту не услышал ни про золото икон, ни про Воробьевы горы. И к тому, как сладостно дребезжит ложечка, ударяясь о края стакана, тоже не прислушивался. Вообще забыл и чай себе заказать, и белье взять. Пролежал всю ночь на грязном матрасе, глядя в зудящую под потолком радиоточку.
Он не знал наверняка, зачем приехал в Петербург. Пошел шататься, как турист, по Невскому, а потом через Дворцовый мост на стрелку Васильевского острова. Напоминал себе самого петербургского героя русской литературы, скитающегося после наводнения по пристаням. Ух и зябко же ему было, наверное. А потом весь внутренне сжался, сделал вдох-выдох, включился в «типа жив», подошел к телефонной будке, чтобы услышать голос-голос-голос. Только услышать и сразу трубку повесить.
— Але. Але, кто это? — Трубку сняла Олеся.
Успенский молчал. Три, четыре секунды. Уже пора было что-то предпринимать.
— Коля, это ты? — вдруг спросила Леся.
Успенский неожиданно для себя услышал, как угукает.
— Коля, — закричала Леся, — я звоню тебе весь день. Мама говорит, что тебя нет дома. Коля! Я должна тебе сказать. Я отправила тебе письмо по ошибке. Оно уже пришло? Ты уже прочитал?
Успенский повесил трубку.
Остаток вечера он провел в зале ожидания на вокзале. Сил идти мерзнуть на предновогодних улицах у него не было. Справа от Успенского примостился питерский бомж. Из его мешка торчали угол перьевой подушки и томик Пушкина. Принадлежность бомжа к культуре, увы, не купировала исходящей от него вони. «А могла бы», — ежась, думал Успенский.
И у него, и у Олеси бывали зимние подростковые романы — от разлуки друг с другом. Они никогда о них не говорили и не придавали им особого значения, как читатели не придают значения второстепенной линии сюжета. Но Олесино письмо никак не укладывалось во второстепенные обстоятельства.
Успенский вдруг понял, что он физически больше не может прокручивать в голове призраки разговоров и пытаться понять, как же это все могло с ним произойти. Надо было решаться — и тут уже все или ничего, пан или пропал. Он озирался вокруг в надежде прилепиться к чему-нибудь мыслью и найти ответ на незаданный вопрос. Под памятником Петру длинноволосый парень играл на гитаре. Вокзальный гул сглатывал слова песни, поэтому приходилось прислушиваться:
Доверься мне в главном,
Не верь во всем остальном…
Вселенная схлопнулась, и Успенский остался один во всем мире, окруженный музыкой серебряных спиц. Если бы он мог представить буддийский обряд очищения на питерский манер, то он выглядел бы именно так. Ему вспомнился Саша Холодов, главный школьный друг, знаток Ричарда Баха и Кастанеды. Как-то Саша сидел на траве, вертя между пальцами желтый цветок: «Николай, понимаешь ли, реальности не существует, все это иллюзии, и они у каждого свои. Мир вокруг состоит из мыслей в твоей голове. В сущности ты включаешь в свою жизнь только те события, на которые направляешь свою энергию». Успенский тогда ничего не понял, но запомнил все дословно и много раз пережевывал Сашины слова в голове. Удивительным образом часто они оказывались для него целительными. Не лить энергию попусту и довериться в главном — кому? Олесе? Миру? Успенский с облегчением прикрыл глаза и вдруг крепко заснул.
Утром он нашел на вокзале телефонную будку.
— Леся, але. Привет! Звонил вчера от друга, но что-то связь прервалась. А потом перезванивать было неудобно. Про какое письмо ты говорила? Я ничего не получал.
— А я просто с ума сходила. Как хорошо! Обещай, что не будешь его читать. Просто выброси сразу. И не спрашивай почему. Девичья тайна. — Олеся пыталась говорить беззаботно, но от этого смятение в ее словах слышалось еще отчетливее.
— Обещаю, — твердо сказал Успенский.
Через два года Успенский и Леся начали готовиться к свадьбе. Приехав в Питер, он впервые остановился в квартире Олесиных родителей, Леся сама настояла. Квартиру готовили к ремонту. Успенского пристроили разбирать хлам в видавшей виды югославской стенке. Опустошая очередной ящик, Успенский вдруг наткнулся на стопку фотографий.
— Как же Леся любит собирать фотки, — с нежностью успел подумать Успенский, прежде чем перевернуть снимки лицевой стороной наверх. На фотографии Лесю обнимал красивый светловолосый парень. На обороте было подписано шариковой ручкой: «15 November 1997, von Johan mit Liebe».
Успенский напряженно замер и на мгновение как будто вышел из тела, чтобы посмотреть на себя со стороны. К своему удивлению, он ничего не почувствовал. Вот теперь, вот в этот момент вдруг завершилось, отболело, затянулось, заживать начало.
— Милый, ну как, тебе долго еще? Я суп наливаю? — Облако оцепенения, окутавшее Успенского, разорвал Олесин голос.
Успенский вздрогнул от неожиданности и быстро сунул стопку фотографий в пакет с мусором.
— Иду, — громко ответил он. Посидел пару секунд, глядя на припорошенную хламом комнату, ящики с книгами и мусорные пакеты. Как будто с уходящей эпохой прощался.
— Шкаф готов, — весело сказал он, входя на кухню, и крепко обнял Олесю.
Рецензия писателя Екатерины Федорчук:
«Начну с главного: хороший рассказ получился. Главное его достоинство — это убедительная живая интонация, которая позволяет нам подключиться к эмоциям главного героя, ощутить его боль, его растерянность, его радость. Автор очень умело и профессионально воспользовался одним из сильнейших приемов, которые отрабатываются на Базовом курсе прозы: погружение читателя в атмосферу рассказа через апелляцию к органам чувств, к телесности героя. У автора есть и запах, и холод, и звуки вокзала…
Центральный момент в рассказе для меня — это момент, когда Успенский читает письма, как он их читает, проживает внутри себя.
У рассказа четкая сюжетная структура: эмоциональное вступление, краткая экспозиция, насыщенная информацией, но не перегруженная ею, затем идет развитие сюжета — печальные скитания Успенского по вокзалу, есть даже своеобразная символическая смерть, когда он внезапно засыпает, затем кульминация — разговор с Лесей (или все-таки Олесей? Мне кажется, надо бы выбрать одно имя), неожиданная развязка и финал.
Над чем можно поработать в структурном отношении? Мне кажется, не хватает объяснения Леси и Успенского. Понимаю, что отличный финал, который вроде бы не предполагает такого объяснения. Но остается такое ощущение, что не все ружья выстрелили. Подумайте, как можно было бы прояснить позицию Леси в этом вопросе, избежав банальностей и не нарушив основной канвы повествования. Конечно, в этом объяснении должна быть задействована мысль: верь мне в главном. А что между ними главное?»

Наставник
Звук сомкнулся под высоким потолком, и, казалось, класс завибрировал.
— Тяни, Чердынцева, тяни! А то прошляпишь конкурс.
В дверь осторожно постучали, рояль нервно брякнул, и Чердынцева осеклась на полуслове.
— Ну что опять?!
— Андрей Степанович, декан вызывает.
Карма́нинов поморщился: он не любил свое отчество. Оно было какое-то мужицкое, что ли, и произнесенное вслух уносило его — Андрея Карманинова! — в безвестное поселковое прошлое, в котором еще не было ни славы, ни государственных премий — только голодная, неустроенная юность. Правда, именно тогда у него обнаружился абсолютный слух и красивый тембр голоса.
И еще он ненавидел, когда его отрывали от занятий, а в последние дни злился особенно, так как подготовка Чердынцевой к отборочным турам шоу «Песня» требовала сосредоточенности.
Декан факультета сидела во главе лакированного стола, вокруг которого толпились кресла. Войдя в кабинет, долговязый Карманинов с шумом выдернул одно из них и уселся, сложа руки на груди. Он вопросительно уставился на декана, лишь мельком взглянув на мужчину в синем костюме, который стоял в глубине комнаты и задумчиво смотрел в окно.
Несколько секунд она глядела на Карманинова поверх больших прямоугольных очков, потом поправила их и заговорила:
— Андрей Степанович, хочу представить вам нашего друга. Павел Иванович много помогал нашей академии, работая в Минкульте, теперь перешел на телевидение. Вот, интересуется вами.
— Это в Минкульте учат разговаривать, повернувшись к людям задницей, или уже на телевидении?
— Андрей, ты совсем того?! — Декан привстала и постучала ручкой по столу. — Что за бестактность? Вот поэтому ты до сих пор не завкафедрой. И студенты на твою грубость жалуются, в слезах приходят.
— Моя задача — вокалу обучать, а не делать приятно, — скривился Карманинов.
— Павел Иванович, я же говорила, — извиняющимся тоном обратилась она в сторону окна, разводя руками.
Мужчина хмыкнул и спросил:
— Еще бренчишь со своей группой, маэстро?
— Откуда?.. — опешил Карманинов.
Тут мужчина развернулся, растопырил руки и, широко улыбаясь, воскликнул: «Та-да!» Карманинов завопил: «Пашка! Лыков!», подскочил к нему, и они обнялись и стали хлопать друг друга по спинам, как будто выколачивая пыль долгой разлуки.
Потом, когда, успокоившись, расселись вокруг стола, и Лыков — соло-гитарист первого состава еще неизвестной никому группы Карманинова, покинувший ее ради карьеры чиновника, а теперь оказавшийся продюсером «Песни» — объявил, зачем искал Андрея, Карманинов от радости чуть снова не полез обниматься. Попадание в жюри главного вокального шоу страны было вторым и, скорее всего, последним шансом на большой успех.
Да, когда-то его голос гремел по Союзу, и, несмотря на его вспыльчивость и чрезмерную требовательность к бэк-вокалу и аккомпанементу, он был востребован. Но вскоре страну захлестнула похабная безголосая попса, и он попал в «неформат». Так что сейчас о нем помнили разве что шестидесятилетние сверстники.
Кроме того, он, конечно, не сомневался, что Чердынцева — его лучшая ученица — с легкостью пройдет отборочный тур, однако дальнейшие перспективы были туманными. Теперь же шансы на победу кратно возрастали. А ведь это станет и его триумфом — он утрет нос всем этим бездарностям. Да и на телике засветиться тоже очень хотелось.
***
— Энда-а-ай ия-а-ай вил олвес лав ю-у у у…
К концу второй минуты выступления Лилечки Галямовой лоб Карманинова покрылся испариной. Не оттого, что прожектор бил ему в лицо — встроенный в кресло кондиционер развевал его длинные седые волосы — и не от волнения, ведь он давно вспомнил, каково это — находиться в центре внимания. Вспотел Карманинов потому, что Лилечка слишком быстро потеряла концентрацию и шарила голосом в поисках нот так, как слепой палкой ощупывает пространство вокруг себя. Боже, какой позор! Как он дошел до такого?..
Первый неприятный разговор с Лыковым случился на Мосфильме перед съемкой стартовых выпусков. Лыков подловил его, вышедшего покурить, у павильона и стал насуплено выговаривать, что поступают жалобы, будто маэстро занят только Чердынцевой, а с другими участниками работает мало и через губу, и что в команде много хороших ребят: вот, например, Лиля Галямова — тоже студентка академии, надо ее поддержать и помочь пройти в следующий тур. А на его возражения, что у Галямовой диапазон недостаточно развит и техника хромает, Лыков резонно замечал: «Ты же сам отобрал ее в команду, значит, не такая она и плохая».
Потом было еще несколько таких бесед. Тянуть Галямову становилось все труднее, она все сильнее проседала на фоне других. Он спорил, возмущался, переходил на повышенный тон, спрашивал, что подумают люди. «Люди будут думать, — убеждал Лыков, — что, если гений Карманинов в ней что-то разглядел, значит, в ней точно что-то есть. И потом, Андрей, ты же обещал вести себя хорошо. В конце концов, продюсеры решают. Ты хоть знаешь, кто за нее просит?»
И все-таки он не сдавался, и поэтому вчера его вызывали в Останкино. Кажется, донес кто-то из оркестра.
В кабинете директора канала уже сидел взъерошенный Лыков со съехавшим набок галстуком. Он сразу набросился и стал распекать, срываясь на крик: «Ну ладно песню она сама выбрала — не доглядели продюсеры. Хотя ты мог, мог мне подсказать, но не сделал этого. А аранжировку тоже нельзя было дать попроще? Поменьше гребаных мелизмов? Ты что, сука, думал, если она хреново споет, то можно будет ее слить в прямом эфире и за это ничего не будет?!»
…Как назло, Чердынцева исполняла без единой помарки, мощно, драйвово. В глазах ни намека на слезы — не то что перед выступлением. Каждым новым чисто спетым тактом она как будто плевала Карманинову в лицо. Плюй, девочка, плюй: когда-нибудь ты поймешь, что короткий путь — не всегда лучший. На самой высокой ноте зал взвыл и уже не переставал аплодировать до конца песни.
Как сквозь вату до Карманинова донеслись слова ведущего:
— Напоминаю, что по правилам этапа дуэлей в финал проходит только один участник — тот, кого выберет наставник. Маэстро, слово за вами.
Конечно, он мог уйти, хлопнув напоследок дверью, однако из головы не выходило то, как вчера директор канала подошел вплотную и, блеснув бесстрастными акульими глазами, сказал: «Андрюша, если что, я тебя на пушечный выстрел к телику не подпущу. В сельской музыкалке работать будешь, по классу балалайки. Гарантирую».
— Маэстро, страна ждет вашего решения.
Карманинов очнулся, промокнул салфеткой лоб и заговорил.
***
Через месяц, войдя в академию, Карманинов наткнулся на информационный стенд. С прикнопленного плаката самодовольно смотрела Галямова, рядом с ней улыбался он сам. Сверху краснела жирная надпись: «Наши победители». Он брезгливо отвернулся и стал подниматься к себе. Мраморные ступени выскальзывали из-под ног. На площадке этажом выше Чердынцева разговаривала с двумя другими студентами. Она не сразу заметила его, потом вспыхнула и запнулась, быстро отвела взгляд. Компания притихла, один из студентов пристально посмотрел на него. Проходя мимо, Карманинов раздраженно бросил:
— Заниматься надо больше, Чердынцева, а не лясы точить.
Вечером была репетиция, собрались на базе. Барабан, клавиши, бас были уже готовы. Карманинов только закончил настраивать гитару, когда открылась дверь.
— Давай быстрее, Чердынцева! Зря я, что ли, унижался? Эфиры скоро, «Вечерний гость», прайм-тайм, с каналом все обговорено. Погнали!
Она двинулась к микрофону, на ходу скидывая куртку и швыряя ее на затертый диван. Барабанщик застучал палочками:
— Раз, два, три…
И звук сомкнулся под потолком.
Рецензия писателя Романа Сенчина:
«Рассказ мне понравился. И язык хороший, художественный, и сюжет интересный, достойный прозы. В общем, почти профессиональный рассказ получился. Есть у меня несколько замечаний.
«…они обнялись и стали хлопали друг друга по спинам, как будто выколачивая пыль долгой разлуки» — замечательно,
Но есть небольшие смысловые замечания. «Каждым новым чисто спетым тактом она как будто плевала Карманинову в лицо». Не совсем понятно. Создается впечатление, что Чердынцева уже знает о его предательстве и поэтому будто плюет… А это возможно, что в жюри входит наставник одного из участников? Я почти не смотрю эти конкурсы. Обычно наставник это один человек, а в жюри — другие. Правда, в конкурсе стендаперов видел, что наставник сидит в жюри и выбирает одного из двух своих ребят. В музыкальных так же?..
И по концовке. Карманинов взял Чердынцеву в свою группу? Договорился, что их покажут по ТВ? У них целый концерт по телевидению? Стоит немного прояснить финал. Наверное, не я один буду гадать, что здесь случилось и что намечается.
Автор также спрашивал меня про медленное написание рассказов. У всех своя психология творчества, свой метод, свой характер. Мой совет субъективный. Стоит писать быстро, не подбирая тщательно слова. Главное на первом этапе — ухватить мысль, тему, обстоятельства, героев. Лучше писать на бумаге, оставляя широкие поля, а потом править, делать вставки или сокращать. Посмотреть рукописи Пушкина, Льва Толстого — там живого места нет, практически каждое слово заменено, порой, и не по одному разу. Раньше я переписывал свои вещи два-три раза и только потом печатал на машинке или набирал на компьютере. Теперь стараюсь писать на бумаге, но обленился — не переписываю, просто набираю, а потом несколько раз вычитываю. Вот такой у меня метод работы…»
Рецензия писателя Екатерины Федорчук:
«Александр Градский. Шоу «Голос». Не узнать невозможно. И читать его отстраненно, так, как будто Карманинов это просто такой Карманинов, тоже невозможно. Я не могу.
И уж коль скоро автор пишет об Александре Градском, то надо соответствовать масштабу его таланта.
Автор рассказывает историю о том, как он испугался и предал свою лучшую ученицу. То, что в финале герой продолжил работать с ней, протянул ее на телевидение, ничего не меняет с художественной точки зрения. Герой оказался слаб. То, что его выбор — это позор, очевидно для всех.
Я ничего не знаю о том, была ли такая история с Градским в действительности. Насколько я знаю, его репутация не была ничем запятнана, но, возможно, я не права, и что-то такое действительно было. И все же, любой большой художник интересен в первую очередь тем, что это художник и что это масштабная личность.
В рассказе Градский виден, а то, что это масштабная личность — нет.
Сама по себе ситуация конкурса, выбора, столкновения интересов очень драматична. На экране. И, конечно, шоу «Голос» делается как драматургическое действо. Но этого для прозы недостаточно. Нужна глубина. Ее нужно найти. Глубина образа, глубина любви. Даже глубина падения.
Автору стоит подумать, есть ли в истории героя потенциал, который раскрыл бы нам его как личность огромного масштаба?
Если же представить себе, что реальные люди ни при чем… В этом случае, как мне кажется, герой мог бы раскрыться через более активное взаимодействие с конкурсантами. Дать больше Чердынцевой и Галямовой, дать их не только как вокалисток, которые попадают или не попадают в ноты, а как личностей. Дать им больше пространства в тексте за счет сокращения линии Лыкова.»

Нежное и пока что скромное пение цикад
Три ноги, одна голова. Соседский пес по кличке Франклин активно скулил и царапал лапой дверь так, что слышно было даже с нашего крыльца.
Собственно, Франклин был единственным активным существом в окру́ге. Поселок Марианский был похож в этом плане на вставшие старинные часы — подергивалась в них одна лишь единственная секундная стрелка, нервно создавая видимость жизни, а вся остальная конструкция существовала как бы обрамлением этому действию.
Тем не менее, несмотря на, казалось бы, полное отсутствие людей, Марианский был на удивление чистым. Наверное как в вакууме нет пыли, так и у нас — мусору просто неоткуда было взяться, думал я.
Марсова улица — центральная хорда нашего поселка. Вдоль нее под бесконечно-голубым небом аккуратно вытянулись несколько одноэтажных домов и продуктовый магазин. В конце улицы стояли бараки разной формы — что в них находилось и для чего вообще они были нужны, мне не говорили. Хотя, честно говоря, я и не спрашивал. Для меня до сих пор оставалось загадкой, как, зачем и почему люди решили поселиться в таком захолустье, но лишних вопросов, как я уже сказал, старался не задавать.
Поселок стоит в поле, и от отсутствия деревьев возникало ощущение вечной осени. Место наводило ужасную тоску.
До ближайшего города километров двадцать, где и находилась моя школа. Школу я, конечно, терпеть не мог. И ребята там не сказать, что уж очень сильно мне нравились, но на занятия я ходил с удовольствием. К тому же у меня был там друг — собрат по несчастью, а как известно, тяготы жизни лучше делить с приятелем.
Жизнь мне казалась ужасно несправедливой. Я чувствовал себя песчинкой в реке, где никому нет до меня дела. Ну а в нашей стране реки больше напоминают болота. Вот и я был помещен в одно из таких болот. Там мне и предстояло провести всю мою жизнь, а перемен ничто не предвещало. Да и что в действительности может изменить человек, тем более подросток?
В самом Марианском я был единственным ребенком, но это меня нисколько не удручало — соседская собака была мне лучшим товарищем. Свою, к сожалению, мы завести не могли — по понятным причинам. Собака, кстати, принадлежала Владимиру Алексеевичу, дяде Вове — водителю автобуса. Старик каждый будний день возил нас, ну, заодно и маму — в Мирный. Но сегодня автобус как будто бы задерживался…
— Странно, уже на четверть часа опаздывает, — процедила мама. — Ну и как, скажите, пожалуйста, я теперь попаду на работу?!
На этот вопрос у меня не было ответа. Стоять в одежде в прихожей становилось жарко, и я мечтал о появлении автобуса, чтобы мне уже разрешили выйти на улицу.
— Кирилл! — Мама подбежала и, присев передо мной, сняла шапку с моей головы, обняв холодными ладонями лицо. — Я пойду сбегаю до магазина, посмотрю, может, кто-нибудь возьмет меня до города. В школу сегодня вести тебя уже нет времени, так что тебе повезло — у тебя сегодня выходной. А маме надо работать. Да что разгалделся этот пес?!
Она выпрямилась и пошла к окну.
Интересно, что там случилось у дяди Вовы? Может, запил или заболел. Тут такое с людьми случается. Вообще, по всей видимости, с утра из дома он, скорее всего, вышел. Значит, наверное, первое. Хотя на него это не похоже — так сразу, с утра за воротник закладывать. Он дядька ответственный, все-таки детей возит. Но, признаться, от жильцов Марианского всего можно ожидать.
— Вроде машина к магазину подъехала! Ладно, я побежала. Поцелуй маму. Телевизор до моего прихода не включай, чайник — используй, пожалуйста, только газовый. Уроки сделай — вечером проверю, а Яне Александровне я позвоню — скажу, почему занятия пропустил. Может, заодно и узнаю, почему автобус не приехал. Все, побежала. Люблю тебя, дверь закрой!..
Я так и не успел произнести ни слова, как ураган материнской энергии уже унесся в направлении продуктового, где остановился несчастный серенький седан кого-то из ночных сторожей или колхозных рабочих.
Я медленно двинул защелку, снял тяжеленный рюкзак со спины и поставил его рядом с полкой для ботинок. Затем развернулся в прихожую и уставился в тишину. Собачий лай утих. Лениво гудел трансформатор над дверью, постукивали кухонные часы. Я остался наедине со своими мыслями.
— Повезло, скажешь тоже, — сказал себе я. — А в нормальных школах автобусы за детьми не опаздывают. Да чего уж там, в нормальных семьях, наверное, и такси могут вызвать на крайний случай…
Мой случай определенно был крайним.
Я помялся немного в прихожей, зашел на кухню, открыл — затем закрыл холодильник. Очень хотелось спать. В любой другой день я, скорее всего, поддался бы этому чувству и пошел в свой маленький уютный уголок, к своей кровати. Но тот день был особенным.
Я не пошел спать и даже не включил телевизор, хотя, честно говоря, мамины наказания в этом отношении обычно не сильно меня останавливали, да и за домашнее задание можно было не беспокоиться — мама все равно будет слишком уставшей, чтобы его проверять.
Вместо этого я направился прямиком к двери. Снова натянул на себя рюкзак, толкнул плечом дверь и, задержавшись на мгновение, вышел наружу.
Что меня толкнуло на этот необдуманный шаг? Думаю, в первую очередь чувство несправедливости.
Почему автобус не приехал именно за мной?
Я вроде не делал никому ничего плохого, чтобы меня лишили возможности увидеть друзей — да еще и в такой день — во вторник, когда в столовой на обед давали бутерброды с копченой колбасой и сыром, которые, надо сказать, я очень любил. Они мне полагались по праву, и отказываться от своей добычи я был совершенно не намерен.
К тому же я чувствовал себя уже достаточно взрослым, чтобы самостоятельно ходить в школу. Меня душила оскорбленная гордость — я был единственным ребенком, который все еще приезжал на занятия с мамой. Другие дети уже давно ходили сами. Даже того неуклюжего парня из Лененского — и того родители сажали на автобус одного.
А я езжу с мамой — стыд, да и только.
В общем, закрыв входную дверь, я сошел с крыльца и под возобновившийся лай Франклина, который явно одобрял мою идею, отправился в путь.
Автобус доезжал до Мирного примерно за двадцать с небольшим минут, так что по моим подсчетам идти было примерно пару часов с небольшим. Так я планировал быть в школе как раз к обеду, может, даже немного раньше. Дорогу я знал хорошо. Сколько лет езжу и, казалось, могу назвать каждое дерево и куст на пути.
Я уверенно вышел из Марианского и направился навстречу неизвестному. Проселочная дорога была пыльная и грязная — ни о каком асфальте в нашей деревне, конечно, речи не шло. Но день был холодный и сухой — самое то для прогулки. Над головой приятно грело солнце, а по бокам живописно раскидывалась ранне-весенняя степь.
Захваченный собственными мыслями, я устремлялся взглядом в горизонт. Я представлял себе разные миры, существующие и нет, давая полную свободу собственному воображению.
Я думал о классной игровой приставке, которую подарили моему однокласснику Саше на день рождения, и мечтал, что однажды у меня тоже будет такая. Еще я мечтал о Кате — думал, какая она все-таки симпатичная, но, честно говоря, не такая уж симпатичная, как игровая приставка.
Так прошла пара часов моего пути. Лямки рюкзака натирали мне шею и плечи, но усталости пока я не чувствовал. Меня не покидала решимость достигнуть своей цели.
Однако через некоторое время я поймал себя на мысли, что места кажутся мне не такими уж знакомыми.
— Странно, не помню этого дерева, — удивился я. — Или, может, все-таки… Нет. Мы каждый раз его проезжаем. Ошибки быть не может — дорога та — это можно сказать точно!
А еще минут через двадцать можно было точно сказать, что я заблудился.
И, как назло, ни одной машины за все это время я так и не встретил! Я решил не сдаваться и пройти еще немного — до вершины ближайшего холма. Я прислушался в надежде поймать звук проезжающего автомобиля, но ничего, кроме шелеста травы и стрекота цикад, не доносилось. На секунду мне стало страшно.
Подойдя к вершине холма, я огляделся. Места казались абсолютно чужими. По всей видимости, я уже несколько часов брел не по той дороге. Я бросил рюкзак на землю, сел на выпирающую кочку и начал решать, что делать дальше. Возвращаться обратно? Возможно, это было бы правильно. С другой стороны, я чувствовал, что цель уже недалеко.
Скорее всего, я свернул на смежную дорогу и, так или иначе, скоро должен был прийти на место. В школе, конечно, делать уже было нечего, но поворачивать назад я не хотел.
— И чего вообще я в эту школу поперся?! — вырвалось у меня. — Колбасный день — браво, Кирилл. Ни школы тебе, ни колбасы. А что теперь? Идти обратно — мать уже с работы вернется — мне еще нагоняй прилетит за то, что из дома ушел. Зато какую историю классную расскажу! Хотя нашел, конечно, чем гордиться. Заблудился и по шее от мамы получил — хорошее приключение. На смех поднимут. Опять. На это только и хорош — людей развлекать. Как теперь выбираться отсюда?
В раздумье я провел еще около часа. Поздний весенний день превращался в вечер. Компанию мне составлял только треск кузнечиков.
Казалось, они радовались моей неудаче. Их пение было похоже на звук аплодисментов, а я был героем на сцене. И чем трагичнее я исполнял свою роль, тем громче был звук аплодисментов.
Чувство горькой обиды душило меня. Я сложил руки на прижатых к груди коленях, из глаз полились слезы.
Внезапно, как молния разбивает пасмурное небо, в мою голову ударила мысль — я не сдамся!
И с чего это вдруг я дам им себя поломать? Что их мнение для меня? И что с того, что мать отругает — как будто в первый раз?
Слезы перестали течь, и уже через нахмуренные брови я гневно смотрел на своих невидимых врагов. Со стороны могло показаться, что я просто кричу на сверчков.
— Что, думаете, сдамся? Да не тут-то было! Меня ваши насмешки и щелчки не остановят: сказал, дойду до города — значит, дойду! Еще и свой бутерброд в столовой потребую! Если считаете, что я устал — ошибаетесь! Дождь пойдет, все равно буду идти! И ночью пойду, если придется! Всем покажу, из чего я сделан!
Я вскочил с земли и, окрыленный своей пламенной речью, вернул боевой настрой. Упиваясь своим могуществом, я важно расхаживал взад и вперед около своего рюкзака, планируя будущее свершение.
Мысли настолько захватили меня, что я начисто потерял связь с реальностью. И когда услышал низкий голос за моей спиной, от страха у меня душа ушла в пятки.
— И кому это что ты собрался показывать?
Я развернулся. Передо мной стоял широкий в плечах мужчина лет сорока, неаккуратно выбритый, в рабочей одежде и с армейским вещмешком. Он смотрел на меня с выразительной улыбкой.
— Да я это… — замялся я. — А вы откуда?
— В город иду.
— В город? А далеко? Вы знаете, как попасть?! Я тоже туда иду, но думал, что я заблудился…
— Да вот по тропе, через поле. Направо и через лес — уже город.
Я огляделся и только сейчас обратил внимание, что место, где я остановился, пересекала тропа, на которой и стоял незнакомец.
— А ты, наверное, по дороге шел? — спросил он. — Она объездом идет. Все никак бетонку проложить не могут. Хотя, может, оно и к лучшему. Мне нравится тут ходить. Лес там приятный. А ты откуда вообще?
— Из Марианского.
— Ого, тебя занесло. Ну, хочешь — до города вместе пойдем?
Тут я насторожился. Со взрослыми незнакомцами лучше по вечерам не разгуливать, хотя этот вроде внушал доверие. Я уже был готов вежливо отказаться, как раздался шум подъезжающей машины. Через холм к нам приближался старенький жигуль. Через минуту машина остановилась. Из окна высунулся старый дядя Вова.
— О, Женька, привет, — обратился он к незнакомцу, — давно не виделись. На станцию идешь?
Затем он покосился на меня.
— Кирилл? А ты чего здесь делаешь?
— В школу иду.
— Ахаха! В школу, ну молодец, — рассмеялся он, — тут уж до ужина ничего осталось, а он только в школу идет. Ну залезай, подброшу тебя до дома — считай, персональное такси. В школу уже завтра поедем. Жень, могу и тебя до станции докинуть, хочешь?
— Чего отказываться? Поехали.
Я подобрал рюкзак, и мы влезли на задние сиденья автомобиля. Машина взревела.
— Представьте, — сказал дядя Вова, — автобус сегодня заглох, только из Лененского выехал. Движок-то я завел, но пришлось сразу в город гнать — на станцию. Старое барахло! Для детей автобус нормальный закупить не могут! Понять не могут, что некоторые вещи уже к чинке непригодны. Правильно говорю или нет?
— Правильно, — улыбнулся Женя.
— А вам с мамой со станции звонил — хотел предупредить, чтобы вы автобуса не ждали, но, видно, опоздал — к телефону уже никто не подходил.
— Мама на попутке до города поехала, — ответил я.
Он посмотрел на меня через густые черные брови, и оставшуюся часть дороги мы ехали молча. Дядю Женю мы высадили на станции. Поблагодарив старика, он подошел ко мне и крепко пожал мою руку.
— В следующий раз планируй свои приключения лучше, — улыбнувшись, сказал он.
Мы попрощались, и дядя Вова снова завел движок.
— Ну, поехали домой? — сказал он.
Я улыбнулся и кивнул. Машина тронулась. Задумчиво уставившись в окно, я вспоминал свое путешествие и гадал, как на все это отреагирует мама. Но волнения не было — на душе было легко и приятно.
Я начинал готовиться к следующему путешествию.

Неоткрытая дверь
Сотню раз я стояла перед той дверью в темном подъезде, а голос в голове сначала просил, потом приказывал и, наконец, отчаянно умолял: «Нажми! Нажми на звонок!» Но только один раз эта дверь и этот звонок были реальностью. Потом они превратились в кошмарный сон. Я тянула трясущиеся пальцы к кнопке, одергивала руку, снова тянулась, но так и не нажала.
Утро субботы и не нужно идти в школу. Обычно я наслаждаюсь свободным утром в постели с книжкой. Для меня это лучший отдых, который можно представить. Но сегодня не хотелось. Долго выбирала, что надеть. Привычные вещи раздражали и казались неуместными. Потом открыла окно, подставила припухшее от сна лицо освежающему весеннему ветерку. Но его свежесть быстро превратилась в колючий холод, и я с досадой захлопнула оконную створку.
На кухне суетилась мама. Пахло домашним супом и картофельными очистками. По радио шла передача с участием оперной певицы из труппы Большого театра. Аппетита не было. Я ложкой рисовала на каше узоры. Под арию Антонины из Ивана Сусанина по бороздкам растекалось топленое масло.
Хлопнула входная дверь — пришел отец. Сердце почему-то тревожно застучало. Отец долго мыл руки в ванной, потом вошел в кухню и сел за стол. Он молчал, и это молчание как будто держало меня за горло. Наконец, когда у меня почти закончился воздух, он заговорил, делая длинные паузы между предложениями:
— Был сейчас на почте. Все обсуждают одну новость. Сегодня утром Ирину Маратовну нашли повешенной в своей квартире. Она была в свадебном платье. Медэксперты сказали, что все произошло около полуночи.
Дальше он говорил о том, что это, скорее всего, убийство, ведь ее отец — правая рука главы администрации. А у таких людей всегда есть враги. А свадебное платье надели специально, чтобы пустить по неверному следу. Я не слушала его, в глазах потемнело, в ушах стучал пульс, руки похолодели, в голове беспорядочно мелькали кадры вчерашнего вечера.
Ирина Маратовна — моя учительница по фортепиано. После второго класса музыкальной школы я решила бросить музыку. Учителя не видели во мне таланта и откровенно говорили родителям, что во мне нет способностей к искусству. Но тут появилась она — только что окончившая музыкальное училище, молодая, красивая девушка с большими черными глазами, полными силы и страсти. По малолетству я видела только ее страсть к музыке. Теперь, оглядываясь назад, я нахожу маркеры страсти и в других кусочках ее слишком рано разбившейся жизни. Бывало, что я приходила на урок с невыученным текстом, и тогда из кабинета сначала вылетала я, а за мной ноты. Я со слезами собирала разлетевшиеся по пыльному полу страницы и брела домой заниматься. За эти выходки я ее даже уважала, она жила по принципу либо все, либо ничего.
Новым преподавателям скидывают обычно самых безнадежных учеников. Так я к ней и попала. И стала ее лучшей ученицей. Всей ее жизни.
Я ее обожала. С восхищением рассматривала ее яркие ногти, перламутровую помаду на губах, макияж в синих тонах, обесцвеченные волосы. Однажды она пришла на урок в кожаных брюках. У меня пересохло во рту от такой дерзкой и модной вещи. В те постперестроечные годы достать кожаные брюки в обтяжку было непросто.
Неожиданно для всех она открыла во мне талант, который другие не смогли рассмотреть. Более того, убедила меня в том, что каждый алмаз требует огранки, он обязан блестеть. Так я начала готовиться к конкурсу юных пианистов. Порой по восемь часов в день я играла. Все выходные проводила у рояля в концертном зале музыкальной школы. Когда мои пальцы костенели от чрезмерных упражнений, она сама садилась за рояль. И вся ее страсть, смешанная со страстью Шопена, принадлежала мне одной в этом пустом концертном зале.
Я получила медаль конкурса и приглашение на учебу в музыкальное училище после окончания девяти классов. Мне оставался год до окончания музыкальной школы. И вдруг Ирина Маратовна, для своих Ириша, неожиданно для всех вышла замуж, переехала в новый район и уволилась из школы. Любому делу она отдавалась целиком и полностью.
Я приходила к ней в гости пару раз. Она поила чаем с импортными конфетами и немного играла для меня. Но я не чувствовала ее рядом, даже музыка, которую она играла, как будто звучала где-то далеко. Очевидно, она уже полностью принадлежала чему-то или кому-то другому.
А потом случился тот вечер. Все было не то. Села готовиться к выпускным экзаменам, но приходилось читать каждую фразу по нескольку раз, чтобы уловить смысл. Потеряв терпение, переместилась за фортепиано, но этюд не складывался. Внутренний голос — мой самый близкий друг — вдруг предложил:
— А почему бы тебе не сходить к Ирише? Она наверняка дома. Всего на пять минут зайдешь. Расскажешь о том, что собираешься играть на отчетном концерте.
За окном уже смеркалось, когда я, поддавшись на уговоры, накинула пальто и тихонько выскользнула из дома.
Я шла мимо футбольного поля. Мимо школьных теплиц. Мимо двухэтажного здания музыкальной школы. В одном кабинете горел свет. Из открытого окна доносились звуки одинокой флейты. Вместе с этой подхваченной мелодией я плыла мимо домов, в которых постепенно загоралось все больше окон. Весенний воздух дышал свежестью, и вокруг чувствовалось напряжение природы перед очередными родами.
Подходя к дому, я увидела, что во всех окнах ее квартиры горит свет. Наверняка у нее гости, сегодня же пятница, зачем я буду ей мешать? Но голос сказал:
— Как раз ты не помешаешь! Поднимайся скорее!
Я неуверенно вошла в распахнутые двери подъезда. На лестнице было темно и пахло чем-то кислым. Вздрагивая от каждого звука и готовая убежать в любой момент, я осторожно отсчитала ногами ступеньки до четвертого этажа. Лампочку на лестничной площадке кто-то выкрутил, как это часто бывало в те неустроенные постсоветские годы. В темноте мне чудился маньяк, который, одетый во все черное, тихо стоит за углом в ожидании своей жертвы. Или черный ангел, готовый выполнить свою страшную миссию. Спина стала мокрой. Дрожа, я подошла к двери и приложила ухо. В квартире было тихо. Никто не разговаривал, не было слышно телевизора. Необыкновенная тишина. «Значит, гостей нет», — подумала я. Внутренний голос тут же отозвался:
— Вот видишь! Она тебя ждет! Нажми на звонок!
Я потянула трясущиеся пальцы к кнопке, но вовремя одернула руку.
— Нет, в последний раз, когда я у нее была, она, может быть, и была мне рада, но как бывают рады старому воспоминанию. Не ждет она меня. И забыла уже.
— Нажми на звонок и увидишь, что ты не права!
Опять я потянула и одернула руку.
Голос в голове просил, потом приказывал и, наконец, отчаянно умолял:
— Нажми! Нажми на звонок!
Но я так и не нажала.
Тогда она еще была жива, я это точно знаю.

Новогоднее диско
Это может показаться странным, но я люблю стоять в вечерних московских пробках, особенно в декабре: едешь и не торопишься, потому что от тебя ничего не зависит. На стекло липнут снежные мухи, стекают капли воды, а ты выжимаешь сцепление, не убирая руки с коробки передач, слушаешь радио или аудиокнигу и не думаешь ни о чем. Магазины работают допоздна и завлекают прохожих сверкающими витринами, украшенными елями у входа, движущимися фигурками оленей и Санта Клаусов, предложениями согреться глинтвейном. Задумчивые улыбающиеся лица прохожих, кажется, излучают надежду на то, что вот-вот начнется новая жизнь — исполнятся желания, и все, наконец, будут любимы и счастливы. Завтра — сообщают по радио — на Москву обрушится сильнейший за последние несколько лет снегопад. Снег пойдет в середине ночи, к утру закружат метели, и сугробы вырастут до семнадцати сантиметров. После выпуска новостей классические джазовые стандарты сменяются жизнеутверждающими голосами ABBA, и меня не покидает ощущение, что вот-вот должно случиться чудо. Разве может быть Новый год без чуда?
В том районе Москвы, где теперь живет моя мама, место для парковки найти непросто, но мне удается. Мама сидит в кресле и смотрит очередную серию своего любимого сериала.
— Мам, а помнишь, как перед Новым годом всегда приезжала тетя Света? — спрашиваю я, выкладывая продукты в холодильник. — Однажды мы с Юлькой стащили у вас полбутылки шампанского, и пока вы разговаривали, пытались сделать его вкусным: добавляли сахар, варенье, но оно так и осталось противным. Сами пить не стали, но пробовали напоить Мурзика.
— Да, было время…
— А потом вы слушали кассету ABBA и танцевали, а мы в другой комнате подпевали — думали, вы нас не слышите, а вы нам так и не сказали, почему смеетесь.
— Твой отец первый раз меня пригласил на танец под песню ABBA, они тогда еще только появились, — мама делает паузу, — потом я сломала ногу, и он приходил за мной ухаживать. Доухаживался… Козел. Всю жизнь потом мне нервы трепал.
Речь заходит об отце, и я начинаю заводиться. Продолжать разговор бессмысленно — он закончится как обычно: я начну защищать отца, и мама снова скажет, что я неблагодарная дочь.
Родители развелись, прожив в браке пятнадцать лет. Следующие двадцать лет после развода они избегали встреч и не здоровались. Недавно отец умер — сначала потерял работу, потом начал пить, потихоньку снимая все накопления, старательно отложенные за последние годы, когда он жил один и много работал, а все свободное от работы время ухаживал за лежачей бабушкой. После смерти бабушки мы часто созванивались. По телефону отец говорил мне, что у него все хорошо, просил не волноваться, рассказывал, что занимается дачей, ездит на рыбалку, завел собаку («Заботиться надо как о ребенке, не расслабишься»), поэтому к нам в Москву приехать пока не получается. И только от мамы я узнавала, что его видели пьяным («Какой позор, алкаш проклятый, хорошо, что я с ним развелась»), что он опоздал на работу и писал объяснительную на имя директора («Пусть выгонят его — так ему и надо, будет знать») или что он подвозил в соседний двор молодую девушку («Старый пердун, ей-то только деньги нужны, лучше б своим внукам помог»).
Когда отец умер, мама возликовала: «Я ему всю жизнь говорила, а он меня никогда не слушал. Вот жизнь и показала, кто чего стоит. Допился… Забери у этой потаскушки ключи, пока она все твое наследство не растащила. Хорошо, что хоть жениться на ней не успел, уберег Господь».
Я всегда считала, что помогать надо живым, а не мертвым, поэтому от маминой помощи с организацией похорон я отказалась категорически и принципиально, но мама не унималась: «Я заказала место на кладбище и памятник присмотрела — ничего такой, на кладбище таких еще ни у кого не видела. Давай обсудим, что будет на столе — роскошествовать, конечно, не надо, но и опозориться не хочется, все же одноклассники наши приедут».
— Он тебя бросил, а ты все защищаешь его… — Мама продолжает свой монолог, который я и так знаю почти наизусть. Я и не защищаю — молчу, только начинаю собираться домой.
— Мне пора. Мам, ты витамины пей, я вот здесь поставлю…
Тверская переливается огнями. С огромных люстр, установленных вдоль улицы, свисают блестящие звезды, развеваются нити, богато усыпанные золотыми монетами. Люди торопятся, перебегают дорогу, радостно и по-новогоднему бросаясь под колеса тянущихся в медленном потоке машин. «Маршрут перестроен. Все, что ни делается — к лучшему», — успокаивает меня навигатор. Из динамика снова играет ABBA: «Thank you for the music… Thanks for all the joy…» Я представляю, как у елки, установленной в ДК моего родного города и украшенной местными школьниками бумажными фонариками, гирляндами из разноцветных колец и тонкими полосками дождика, мама с папой танцуют: он не находит что сказать, и напускает серьезный вид, как будто совсем не волнуется, и под его строгим взглядом смущается и краснеет мама, радуясь, что сегодня папа пригласил на танец именно ее.
Рецензия писателя Романа Сенчина:
«Очень хороший получился рассказ. Грустный, добрый, лиричный. Про любовь. Композиция интересная, никаких претензий к ней нет. Хорошо, что автор сделал так: дочь не слушает монолог матери, а вместо этого вспоминает историю отца. Можно усилить — дочь и не спорит, а матери это кажется. Вот здесь: «Он тебя бросил, а ты все защищаешь его… — Мама продолжает свой монолог, который я и так знаю наизусть». — «Он тебя бросил, а ты все защищаешь его… — говорит мама с обидой, хотя я не защищаю, всё это время молчу». Что-нибудь подобное.
Написано замечательно. Первый абзац вообще льется, как стихотворение в прозе. Замечаний у меня практически нет. Очень рад такому результату.»
Рецензия писателя Екатерины Федорчук:
«Какой прекрасный рассказ получился! Я прочитала его с огромным удовольствием.
В нем есть светлое ощущение Нового года и трепет перед ощущением ушедшего времени. Ведь Новый год — это такая маленькая машина времени, да, которая заставляет нас не только смотреть в будущее, но и в прошлое, в такие же огни, елки, сверкающие витрины. Грустный праздник, если вдуматься. Очень тонко сделано: в рассказе звучит АББА, но не ожидаемое «Happy New Year», а другая композиция.
Мне нравится интонация повествователя, мне нравится, как легко и ненавязчиво автор переходит от темы к теме, не теряя при этом динамики сюжета и не нарушая единства повествовательного полотна.
В целом рассказ о любви живой и умершей. Мама с папой не сохранили этого трепетного чувства. Но где-то в вечности, в вечном Новом годе они все равно вместе, потому что любовь, как и человеческая душа — бессмертна.»

Прекрасные машины
Что начинается с лжи, ложью и заканчивается. Ложь растет, как стекленеет пенка на невыпитом капучино.
Петя ждал меня за столиком «Кофемании» в аэропорту. Загорелый и осунувшийся, с черной спортивной сумкой, типичный хореограф. Я села за столик и автоматически понюхала красную герберу в вазе. Терпкая, вязкая. Петя спрятал телефон и кивнул мне:
— Тебе повезло. Рейс часа на четыре задерживается.
По окнам текли нейрографические струи, небо серое и непрозрачное. Я закусила губу, набрала воздуху и выпалила:
— Так что случилось с Есей?
Петя потер нос:
— Она пропала после второго тура.
— Почему она вообще там оказалась? Она же весьма средне танцует. Танцевала.
Эту новость я узнала, конечно, от своей матери. Во время второго тура шоу талантов в Америке Еся исчезла. Семья девочек дала несколько скупых интервью. Клетка захлопнулась.
— Меня пригласили, когда увидели ваш номер с подушками. — Петя отпил свой кофе, латте или как его там, полоснул вилкой кусок торта, захватил пальцами и отправил в рот. Несколько шоколадных крошек упало на пол.
— Когда я занималась с девочками, мне не казалось, что они хотят танцевать, — сказала я и достала бутылку с водой. Краем глаза проверила, не смотрит ли кто из персонала, что я со своей водой.
— Они хотели вырваться.
Мне было двадцать пять, совершенно никаких перспектив в социальной работе, никаких денег, дорогостоящие танцевальные классы и проблемы с матерью, от которой я пыталась съехать. И моя преподавательница по балету вдруг предложила частные уроки с девочками. Сама ездить к ним отказалась, сказала, что для репетитора Большого театра это несерьезно. Я дала свой телефон, и мне перезвонили в новогодние праздники. Примерно в то же время у матери диагностировали рак, и мой переезд откладывался, денег ни на что не хватало, кроме как на разъезды по врачам. Потому я не возражала.
Преподавательница по балету что-то говорила про руку и ноги Еси, одной из девочек, но я совершенно не была готова к тому, что увижу. Водитель встретил меня у метро и отвез за тридцать километров, в элитный поселок. В прихожей меня встретили две собаки, старый овчар и мелкий йорк, оба волчьего окраса. Семья, как я уже вскоре узнала, состояла из матери, дедушки девочек, их старшего брата и четырех посменных нянь. Няни работали парами.
Меня проводили на третий этаж, в детскую, в уютном чреве которой ждали две малышки с глазами-пуговицами. Они любили беситься и когда хвалят. Не любили тянуться и показывать класс. За два года занятий я не смогла их посадить на шпагаты. Я не думала, чтобы это пригодилось им в жизни. Зря я так думала.
Близняшки не походили ни внешностью, ни характером. Еся робкая и себе на уме, выше и тоньше, Яся смелая и решительная, с повадками силачки. А еще у Еси не было обеих стоп и левой руки. По сути, она была киборгом: носила протезы на ногах и механическую левую руку, которой очень ленилась пользоваться и подцепляла правой. После первого же занятия мать девочек сказала кому-то из гостей, что я балерина. Я пила эспрессо из их кофемашины и смолчала. Это был первый раз, когда я не сказала правду, запустила нитку лжи.
— Танец с подушками… Единственный раз, когда я с сестрой что-то выиграла на конкурсах, — сказала я.
Петя улыбнулся:
— А ваша директриса отняла все деньги на костюмы. «Анечка и Яночка — молодцы», — передразнил он.
Танец с подушками, «Сон» под музыку Стравинского из балета «У петрушки», нам с сестрой поставил Петя. Наверное, семья девочек хотела что-то подобное и для них. И он поставил им что-то подобное.
Но сначала я увидела другое видео. Пару месяцев назад я листала ленту телеграма и наткнулась на новость от «ЭйАйНьюс». Протезы, технология «deep learning», девочка, которая мечтала танцевать. Конечно, я посмотрела. История девочки… Фото девочки… Я узнала этот взгляд, узнала это тело. Черт. Еся рассказывает о себе со смешным акцентом. Не русским, итальянским.
В следующем кадре Еся уже танцует. На ней майка и шорты. Резкие и плавные, большие и маленькие движения. Прыжок в слоу-мо кажется попыткой улететь. Я хотела написать матери девочек, но испугалась, что они уже знают, что я не была балериной, что я обманывала.
А потом Еся и Яся оказались на танцевальном шоу талантов в Америке. Я написала Пете в тот же день. Он написал «привет» и не сознался, что ставил этот номер. Я попросила рассказать про исчезновение Еси, и он не ответил.
«Я работала с ними. Просто хочу узнать, что случилось», написала я Пете. Я думала, что разделяю ответственность за происходящее, потому что не сказала родителям не мучать детей. Я уже восемь лет их не видела. Через два года занятий я перестала с ними работать. Мне надоело притворяться, что я имею отношение к балету. Девочкам было четыре года, и в это время балет представляет собой садизм над детьми, так что я передала девочек Саше, подруге, которая балет как раз любила, и уволилась. Мать и няни девочек решили, что я беременна, и поздравили меня. Я не стала их разубеждать, снова упустила правду. Словно женщина может перестать работать только из-за материнства, ага. Как отвращения к денежным мешкам недостаточно. А еще к кровососам-репетиторам и семейным праздникам, где от детей требовали выдать продукт, нелепый танец или пару тройку шпагатов. Паутина лжи разрослась.
Я ушла из этого дизайнерского дома с итальянским кофе, итальянской водой, которой поят собак, бассейном, дорогими картинами, окнами в пол и низким забором, и больше не возвращалась.
— Ты согласился встретиться, — напомнила я Пете.
«А потом удалил наш чат», прибавила я про себя. У Пети пересадка, после чего он улетает навсегда.
— Я возьму тебе кофе, — вдруг заявил он, отправил в рот кусок торта и отошел к кассе. Взял мне кофе и вернулся.
— Опрометчиво, — заявила я. — Я не пью капучино.
— А я думал, что пьешь. — Петя отхлебнул дорогой воды из стеклянной бутылки, перелитой в стакан: требования воздушной безопасности.
— Нет.
— Ты занимался с девочками. Они выиграли конкурс талантов в России…
— И мы поехали в Америку, — сказал Петя.
Капучино я так и не выпила.
Вскоре после видео о протезах я была у своей матери в гостях. Мать смотрела репортаж о шоу талантов в Америке. «Они тоже близняшки», сказала мать. Я нехотя села, хотя всегда торопилась уехать от матери, отпила эрл-грея из старой фарфоровой чашки и невольно хлюпнула. Мать сказала «не хлюпай». Узнала девочек. Я узнала стиль хореографа. Я узнала их пластику, несмотря на танцевальную подготовку, она не сильно изменилась. Такие же угловатые. Кудрявые, темно-русые, накрашенные вусмерть, танцуют под IBM какой-то агрессивный танец. Они похожи на борцов с зомби или супергероинь, каковыми и были. Очень много прыжков и ногозадираний. Типичный Петин танец.
Я переживала за протезы Еси. Я помню, как она ездила раз в полгода менять руку и стопы на новые в Германию, а Яся в это время тосковала. Ясе никогда не говорили заранее, что сестра уедет. Просто молча увозили Есю рано утром. Еся не могла хорошо прыгать на протезах, потому Яся часто давала опору на поддержках. В конце номера — сложнейший партер, кувырки и стойки на руках и локтях, и девочки срывают платья друг друга, словно хотят выяснить, кто есть кто. На их тощих телах остаются только телесные комбинезоны. Еся снимает балетки, и мы видим, что ее рука и две стопы — механические. Выглядит так, что героиня Яси встретила своего двойника-робота. Девочки обнимаются. Жюри утирает слезы. Затемнение.
— Когда они выходили на поклон в первом туре, Еся плакала, — сказала я.
— Она любила танцевать, — сказал Петя.
— Как-то неуверенно говоришь.
— Правда, любила. Но ты не представляешь, как расхерачиваются суставы в этих протезах. Она сидела на обезболах. Рыдала на репетициях. Так что те слезы…
— Ты не остановил это.
Петя промолчал.
— Она же мучалась, — сказала я. — Странно, что…
— Теперь, наверное, не мучается, — сказал Петя.
— Я читала, они наняли частного сыщика, чтоб найти ее. Но с такими протезами долго не поскрываешься, — настаивала я.
— Мне пора. — Петя встал из-за столика.
— Четыре часа до рейса, — напомнила я.
— Мне надо пройти осмотр снова, по твоей милости, — ответил он. — У меня еще созвон, я забыл.
— Уходишь от ответа, — сказала я.
— Но я ничего не знаю.
— Куда летишь?
— В Америку, я перевез туда семью, — буркнул он и накинул куртку.
— Непросто, наверное, перевезти такую большую семью, — сказала я.
«Из Медведково в Америку», прибавила про себя. «На это нужны деньги». Его семья — жена и трое детей.
— Слова больше не имеют значения, — сказал Петя. — Наша роль в этой истории закончена.
Петя вышел так же внезапно, как все, что он делал до этого. На столе остались его грязная чашка и блюдце с крошками торта. Я отошла к стойке взять эспрессо и выпила залпом. Попросила воды, и они не дали. Я достала бутылку и отпила под косым взглядом кассира.
Я шла сквозь толпу. Звуки сливались. Голова кружилась, и пришло озарение, как вспышка. Детектив — это фикция, прикрытие. Никакого похищения не было. Эти люди опять сделали, как им удобнее. Дали девочкам золотую клетку и подрезали крылья. А я — лишь маленький паук и плету паутину между мирами, изменить которые не в моей власти.

Сирокко. Когда небо сделалось оранжевым
Игорь Иванович был химиком от Бога. Нина не замечала ни потрёпанной одежды, ни шаркающей походки, ни отсутствия каких бы то ни было регалий. Он был вне всего остального мира. Его вселенной была лаборатория, и он, как планета по орбите, передвигался от вытяжного шкафа до весов, от весов до центрифуги, от центрифуги до спектрометра, и это движение совершалось, как любое природное явление, независимо от всяких мелочей типа быта, институтских интриг или нищенской зарплаты.
Когда получалось что-то интересное, то у Игоря Ивановича, несмотря на его пенсионный возраст, появлялся в глазах мальчишеский задор и несвойственная ему обычно энергичность.
Как-то он поймал Нину в коридоре.
— Понимаете, эта система ведёт себя совершенно непредсказуемо! Это взаимодействие ещё никем не описано. Все только ходили вокруг да около. — И он принялся увлечённо обрисовывать дальнейшую стратегию исследований.
— Пойдёмте в лабораторию, там расскажете, — сказала Нина, увидев стоящего в конце коридора замдиректора Пака.
— Этот эксперимент надо обязательно повторить, — продолжал Игорь Иванович, заходя в лабораторную комнату.
По радио передавали новости, сообщали, что случаи коронавирусной инфекции зафиксированы уже за пределами Китая.
— Скоро, наверное, всё накроет, как сирокко, — задумчиво проговорил Игорь Иванович.
Нина вскинула брови:
— Сирокко? Что это?
— Это южный ветер, начинается в пустыне и приносит мелкий песок в Европу, всё становится оранжевым, даже небо, — пояснил Игорь Иванович.
— То есть это как эффект бабочки? — догадалась Нина.
— Ну, не совсем, но по смыслу близко, — улыбнулся Игорь Иванович.
На карантине Нина с Игорем Ивановичем часто вместе гуляли с собаками.
В начале мая стояла жара, совсем в середине лета. В глянцевой поверхности Камы отражались сосны, зацепившиеся за обрыв мускулистыми корнями.
— Хорошая модель нашей системы. — Игорь Иванович кивнул в сторону берега. Молодая прибрежная поросль была усыпана круглыми жёлтыми таблетками мать-и-мачехи.
— Равномерно распределённые частицы. Только наш коллоид неустойчив, пока дома сидим, частицы осядут, — досадовал он.
— Игорь Иванович, ну отвлекитесь немножко. Смотрите, какая красота! — успокаивала его Нина, любуясь открывающимся с обрыва видом на искрящуюся на солнце реку, которая, как огромный питон, огибала крошечные столбики многоэтажек соседнего района.
После карантина всё потекло своим чередом, Игорь Иванович опять вышел на свою экспериментальную орбиту, дневал и ночевал в лаборатории, предчувствуя близость заветного результата.
В тот день Нина зашла в лабораторию и увидела, что Игорь Иванович неподвижно сидит за столом, ссутуленный больше, чем обычно, и смотрит в одну точку.
— Игорь Иванович, что случилось? — всполошилась Нина.
Он повернулся к ней, скользнул ничего не выражающим взглядом, опять отвернулся и сказал столу:
— Получил сообщение от Отто. Он вынужден прекратить сотрудничество по нашему проекту.
Некоторое время Нина молчала, потом проговорила:
— Опять этот… — Слово вылетело у неё из головы. — Ну, когда небо оранжевое.
— Сирокко, — вздохнул Игорь Иванович.
Отто, коллега из Германии, обещал рассчитать параметры взаимодействия с помощью специального пакета программ. Без этих данных работа не имела смысла.
Раздался звонок, Нина взяла трубку.
— Александр Владимирович вызывает Лебедева, — пропищала секретарша Леночка. Нине стало тошно и от этого голоса, и от того, что вызов к Паку обычно не предвещал ничего хорошего, и от того, что она поняла — зам уже в курсе их событий.
— Игорь Иванович, вас Пак вызывает.
Он встал и как-то механически и покорно, как тягловая лошадь на водяной мельнице, пошёл к двери.
Пак встретил его своей фирменной фальшивой улыбкой:
— Вашу тему закрываем. Временно, разумеется, пока обстановка не стабилизируется. С завтрашнего дня все силы — на эту работу. — Он придвинул листочки, скрепленные степлером.
Игорь Иванович растерянно полистал документ, пожал плечами:
— Что здесь изучать? Методика получения давно известна. — Он положил бумагу обратно.
— Конечно, но импортозамещение сейчас весьма актуально. В России этот продукт не выпускается, Европа — сами знаете. Финансирование гарантируется.
Из административного корпуса он вернулся быстро, швырнул бумаги на стол, потом подошёл к раковине и сплюнул. Нина всё поняла.
«Плоховато он выглядит в последнее время», — подумала Нина. Она внимательно посмотрела на коллегу. Серое лицо, набрякшие веки, тусклый, усталый взгляд. Шаркать стал как-то совсем по-стариковски. «Ничего, может, в выходные отдохнёт, переживёт всё это».
Игорь Иванович позвонил в субботу вечером.
— Нина, — проговорил он слабым, глухим голосом, — вы ещё не выводили Шерри?
— Нет, компанию вам составить? — предложила Нина.
— Мне, конечно, неловко… не могли бы вы и Жулю с собой захватить… когда пойдёте? Что-то я себя… неважно чувствую. — Его голос прерывался через каждые два-три слова, дыхание было тяжёлым.
Нина снарядила собаку и побежала к коллеге.
— Игорь Иванович, может, скорую вызвать? — с порога спросила она.
— Не надо. — Он махнул рукой. — Отлежусь. Жуля, иди сюда, с Ниной погуляешь.
Когда Нина привела Жулю обратно, он, спрятав глаза, тихо проговорил:
— Нина, вы в курсе всего. Журнал в верхнем ящике. — Он остановился, говорить ему было трудно. — Это на всякий случай. Если я разболеюсь. — Он с усилием улыбнулся и приложил палец к губам, не давая Нине настоять на вызове врача.
В воскресенье Игоря Ивановича не стало.
С кладбища Нина поехала сразу в лабораторию. Близких у Игоря Ивановича не осталось, а слушать на поминках казённые речи начальства не было сил. Нина обошла лабораторию по знакомой орбите, выступающие слёзы изменили оптику: колбы то разбухали, то съёживались, все предметы как будто пульсировали. «Какая остановка сердца? — подумала Нина. — Вот же оно, тут осталось, здесь бьётся».
Нина не заметила, как вошёл Лёшка, аспирант из седьмой лаборатории.
— Я смотрю, дверь открыта. Думал, не появишься сегодня. Я тут спирт развёл, может, помянем?
Нина помотала головой.
— А-а, ну ладно. А что с ним случилось? — поинтересовался Лёшка.
— Сирокко, — ответила Нина, доставая лабораторный журнал.
— Что-о? — Глаза у Лёшки округлились.
— Это когда небо оранжевым делается, — пояснила Нина. — Извини, мне работать надо, — добавила она и углубилась в записи Игоря Ивановича, не обращая внимания на опешившего Лёшку.
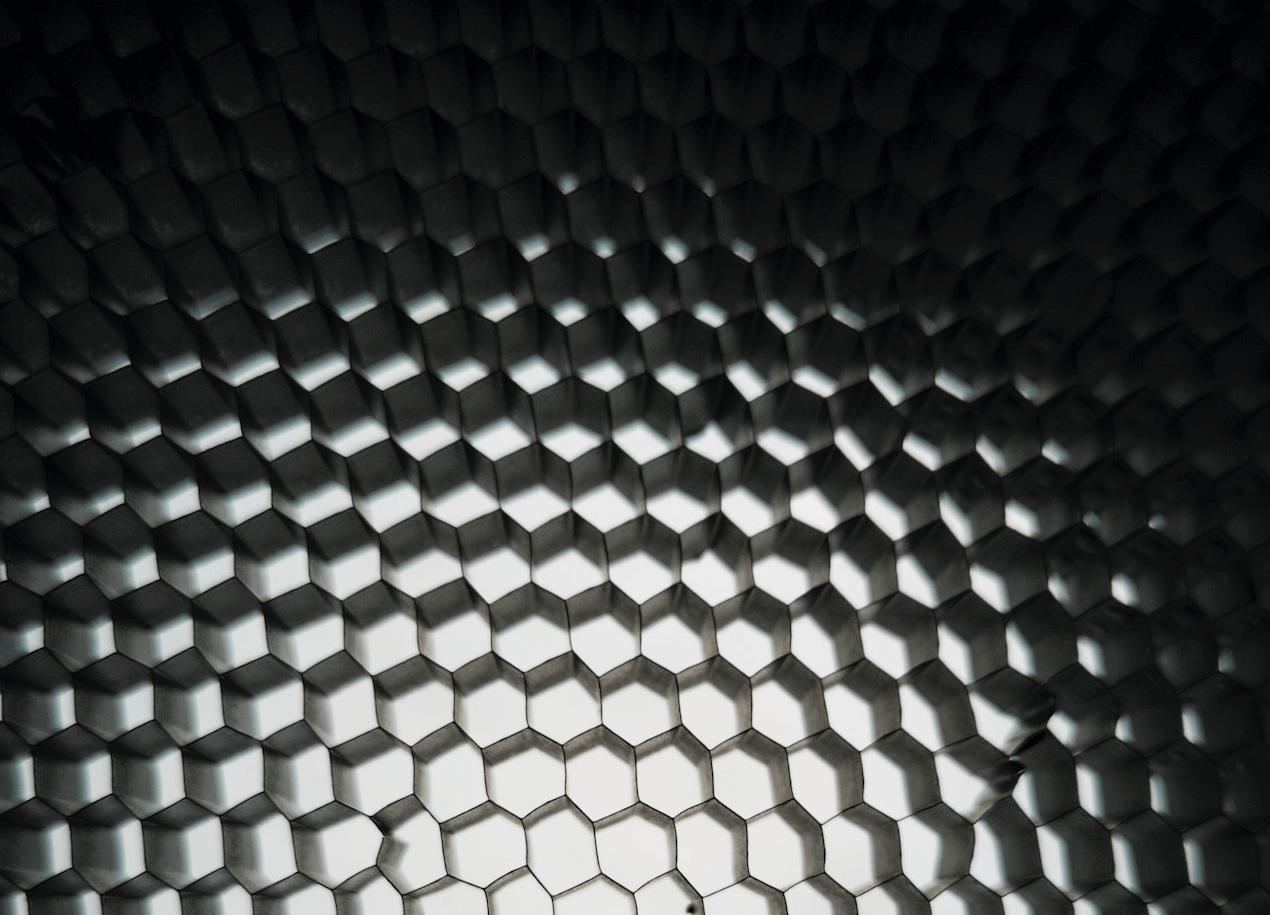
Соты
Мы ходим вокруг опунции
Колючей такой опунции
Мы ходим вокруг опунции
В пять часов утра
Между действительностью
И фантазией
Меж побуждением
И действием
Падает Тень.
Т. Элиот, «Полые люди»
Прощание
Ну, давай. Не бойся! Впусти же меня!
Раз, два, три. Бьется.
Распахиваю хлипкую дверь. Влетаю в спальную.
— Нельзя, ребенку сюда никак нельзя! — Крохотная баб Шура с тонкой пепельной косой машет коротенькими руками.
Мама в нерешительности смотрит. Бабушка с теткой молчат. Подхожу. Беру за шершавую ладонь. Длинные пальцы — сплошь синие, как плаксивое небо. Грудь-гора. Вздымается тяжело, надрывно. Ухает вниз. Все резче. Все реже.
— Дееед, — протягиваю я.
Открывает глаза. Никакой пелены. Взгляд ясный, счастливый. Пытается улыбнуться, но уголки губ в ответ лишь слегка подрагивают. Смотрит на нас. На меня.
— Успела… — Что-то шуршит, шипит в засохшем скривленном рту, выпуская последнее слово…
Он лежит за стеной. В аккуратном деревянном гробу, заботливо обшитым парчой. Зеленой в золотистые жар-птицы. Мы выбирали с мамой. По периметру — кант черным бантиком. К нему приходят. Прощаются. Кладут у лакированных туфлей вонючие букетики с засохшей лавандой и свернутые рубли. А он им улыбается. С закрытыми глазами и подвязанной бинтом челюстью. Раз в час кто-то традиционно причитает. Просит прощения и целует руки, обработанные формалином и сжатые в замок с торчащей свечей. Меняет потухший огарок на новую свечу. Трещит пламя. А за окном — февраль. Двадцать девятое.
Баб Шура не велит оборачиваться. Но я не сдерживаюсь и заглядываю за правое плечо. Бабушка говорила, что тебя никто не придет провожать. С твоим-то характером. А толпа растянулась от самой церкви до первых домов у пригорка. Идут. Молчат. Несут венки, калачи, свечи. Поверх рукавов — платки повязаны. У перекрестка перед кладбищем пономарь трижды окропляет дорогу водой. Батюшка басит. У бабушки больше нет сил идти. Мы с мамой берем ее под руки. Мальчишки открывают ворота кладбища.
Царствие небесное.
Тяжело падают влажные комья на крышку гроба. Исчезают под ними жар-птицы. У изголовья, у креста радуется маленький подснежник. Чудом выжил — лезвие лопаты прошло в сантиметре.
Все. Батюшка крестится. Протягивает руку для поцелуя.
Солнце жарит, как оголтелое. Расстегиваю пальто. Денис подходит и молча обнимает.
Спи спокойно…
Мне ночью совсем не спится. Полная луна, завершая первый день весны, восстает из-за горизонта. Как раз где-то там, над кладбищем, где ты мирно спишь.
За стеной топот, стук, разговоры. Неужели уедет?
Я верчусь в ледяной постели, подтыкаю под спину пуховое одеяло. Буржуйка уже остыла, а будить маму с бабушкой не хочется. Я так просила, чтобы ты остался. Тысячу раз просила. Но в каждой жизни — ты неприступен.
Луна продолжает шествие, маяча круглыми боками. Натягиваю колючие носки, ныряю в бабушкины тапки из войлока. Подкрадываюсь к окну. Только бы не заскрипела! Нижняя форточка предательски пищит… Фух, вроде никто не проснулся. Прохладный воздух льется в окно, огибая скрюченные ветви старого ореха. Я нащупываю камешки на козырьке. Кидаю их на твой балкон. Цок, скок. Отлетает эхо от бетона. Сколько раз твоя мама грозилась постелить линолеум. Ты выходишь.
— Мне холодно, — мои зубы стучат, ты протягиваешь руки и помогаешь мне перелезть на балкон, — не уезжай, пожалуйста…
Я утыкаюсь в твою грудь. Голую. Гладкую и теплую. Реву.
— Я не хочу уезжать, но не могу. Правда. — Ты гладишь меня по волосам, крепче прижимая к груди. — Не плачь, малыш.
Целуешь мои щеки. Слезы. Они соленые? Пробираешься к груди. Трогай, целуй, бери все, только не уезжай.
Вдали на станции гудит товарняк. Твой — следующий. А я не могу оторваться. Вросла в тебя…
— Я приеду на Пасху, ты даже не успеешь соскучиться!
Залаяла собака, разбудив петухов.
Я отогреваю окаменевшие ступни под одеялом. Переваливаясь с ноги на ногу, заходит бабушка. Подкидывает дрова в прожорливую железку. В комнате теплеет, а на душе — мороз.
Ладно. Не хочу смотреть, как к лету он бросит тебя-меня и укатит в Штаты. Пусть хоть и в тысячный раз, а боль — все такая же. Спасибо, что меня пустила. Живи на здоровье.
Сердце на мгновение замолкает…
Стук-стук-стук…
Спасение
Стук-постук. Я опять вторгаюсь. Впустишь, родная?
— Тетя Муся, ну пустите ее со мной, по-жа-луй-ста! — канючу я у бирюзовой железной калитки. На ней нарисованы цапли, а за ней, прыгая с ветки на ветку, перекрикиваются индейки.
— Нам еще огород полоть и подвал мыть. Не знаю, если у нее хватит совести, а, Лиза? — Тетя Муся сурово смотрит на дочку, вытирая мокрые руки о пропахший чесноком передник.
— А может, мы вам завтра прополем? С нас — огород, а вы — подвалом занимайтесь. — Я знаю, что она согласится. Тетя Муся добрая, хоть и строгая. Навсегда молодая с угольными завитками волос вокруг загорелого лица.
Повисает пауза. И тетя Муся, конечно, соглашается, но продолжает ворчать, спускаясь в прохладу подвала. Лиза закрывает калитку, и мы идем в гору.
— А папа дома?
— Ага, в гараже возится. Ему скоро баллон должны привезти для летней кухни. — Лиза останавливается у дома бабы Паши и оглядывается по сторонам. — Виноград хочешь?
— Не этот! Он придорожный, весь в пыли. Давай у фермы нарвем?
Но Лиза уже вовсю жует, набив рот немытыми ягодами.
— Там нет Лидии, одна Молдова неспелая. Так ты о чем хотела так срочно поговорить?
Мы бредем мимо запустелой фермы. Огибаем разросшееся кладбище. Как ты там, дед?
Вдали за колодцем-аистом виднеется лесополоса. Я украдкой поглядываю на Лизу. Ее лоб покрыла испарина. Отчего такие же, как у тети Муси, завитушки стали еще мельче и круче. Как же она похожа на мать.
— Тебе Петя пишет?
— Да, но редко. Ленивый он. Вчера звонил, к соседке бегала.
— Ты всегда можешь прийти поговорить ко мне.
— Ага, сейчас, двадцать минут с горы трусцой! Это не для моих габаритов. — Лиза смеется, хлопая себя по солидным бедрам. И черный от винограда рот обнажает неровные зубы. — А… что с Денисом?
— Денис укатил в Штаты, ты же знаешь! — Я слышу это в сотый раз, но каждый раз злюсь, как в первый.
— И… совсем ничего?
— Нет! — Я пинаю почерневшую кожуру от грецкого ореха, и мы заходим в полуразрушенную каменную беседку с фонтаном-родником.
— Пить хочется. — Лиза подставляет тут же висящую железную кружку под тоненькую струйку. — Я все равно не понимаю, как так! А ты не хочешь написать первой?
Хочу! Безумно! Но я не смогу уехать к нему в Штаты, потому что у моей мамы скоро случится инфаркт. И я буду ее выхаживать. А потом писать будет слишком поздно.
— Не хочу! В этом нет смысла.
— С чего ты так решила? Я не поверю, что он не скучает.
— Да он наверняка себе уже подружку там завел. И вообще, женится на уродливой жердяйке с большим ранчо, и она нарожает ему киндеров!
— Так, только не будем про жердяек, а то… — Лиза набирает в рот воды и прыскает ей на меня.
Я подставляю руки под струйку, жадно прихлебываю из ладоней, бегу за Лизой. Репей больно дерет голые ноги. Вода булькает за щекой, я сдаюсь и глотаю. Мы выбегаем к озеру и падаем у кромки. Прямо в черную грязь. Поодаль из камышей вылетает стайка уток, напуганных нашим гоготом.
— Ну ничего. — Лиза окунает палец в темную жижу и рисует боевые полоски на моем и своем лице. — В сентябре в класс придет новенький — Леня — говорят, симпатичный. Как закрутишь роман! И пошли они все эти Денисы!
— Новые люди — это хорошо…
Мы лежим, крепко держась за руки, как старые дубы за нами, крепко сплетшиеся ветками. Навсегда спутавшиеся корнями. Небо спокойное. Ни волнений, ни облака. Смотрится в мутную гладь озера, словно в почерневшее зеркало. Через год высохнет озеро. Улетят птицы. Останутся только кости и черепа от погибшей скотины, торчащие из тронутой трещинами земли.
А прямо сейчас, в селе, в доме за железными воротами с цаплями, полыхает пожар от взорвавшегося баллона. Я знаю, ты меня не простишь, Лиза. Я уеду в город, и мы никогда не помиримся. Но я честно пробовала по-всякому. Или погибните все, или выживете только вы с братиком. Я отправила его с утра к твоей бабушке. Так и останется тетя Муся на кладбищенской фотографии. Навсегда молодой, с черными кудрями. Рядом с дядей Васей.
Хочешь, я еще немного у тебя тут останусь? Разгребу с Лизой, помогу с похоронами. Мне не впервой. Хочешь?
Да не хозяйничала я тут. Я уже столько раз это проживала, тебя пожалела.
Ладно-ладно. Ухожу я. Только не выходи за этого черненького Никиту — он алкоголиком станет, бить тебя будет.
Не благодари…
Потеря
Я думала, мы нарожаем детей. Укатим в столицу. Устроимся на крутую работу. Купим квартиру, машину. И заведем кошку с собакой. Ну или попугая с рыбками. Только не хомяков. Не переношу мышиных. Они вечно ползают в подвалах или на чердаках. Перебирают своими маленькими ножками. Хозяйничают. Не дают уснуть…
Спасибо, спасибо, что ты не сопротивлялась, как другие! Ты не представляешь как это важно! Для тебя, для меня, для всех, родная!
Я люблю этот городок. Даже сейчас, когда Максу грозит опасность, и я мчусь через центральный парк, сбросив сиреневые (что за вкус?) туфли на высоченном каблуке, я тону в этом амбре белоснежных акаций. Мостик. Фонарь. Блеклые звезды — наверху. Асфальт в белую крапину облетевших цветков под ногами. Заржавевшие лодочки-аттракционы, взмывающие уже не до небес. Зажгите пожалуйста луну, пусть она выплывет из-за облаков, осветит площадь. Там сейчас будут Макса бить, если я не успею…
— Курево принес?
— Нет…
Удар в солнечной сплетение. Скорченный Макс падает к ногам Вити.
— Я тебе бабло дал? Дал. Курево где? Где курево, спрашиваю?
Удар в лицо. Макс сплевывает теплую кровь. Склеившиеся пряди налипли на мокрое лицо.
— Стойте, не трогайте его! Я все отдам! — Я расстегиваю сумочку. Вытряхиваю все, что смогла собрать — десятки, полтосы, даже пару сотенных и кучу грязной мелочи.
Витя скалится. Сторожевые псы — Вадик и Дима — в любой момент набросятся по его команде.
— Чья будешь? — Витя достает пачку Мальборо из кармана. Дима тут же подставляет зажигалку и щелкает.
— Сельская я. Какая разница! Тут хватит! Если хотите, вот еще кольцо возьмите с серьгами. — Я наспех стягиваю узенькое золотое колечко и достаю из ушей серьги-гвоздики.
— Крест хочу. И то, что под ним. — Витя облизывает губу, поглядывая на мою грудь.
— Не тронь ее, — хрипит Макс, пытаясь встать, но неудачно заваливается на правый бок, — беги, дура…
Витя все ближе и ближе. Зловонный микс пива, рыбы и сигарет. Тяжелое дыхание. Надо решать. Или я, или Макс. Изнасилование или убийство? Дед учил меня быть сильной.
Витя дергает меня за белую блузку, лижет мою грудь. Я начинаю кричать, бью коленом в его пах. Он взвывает от боли. Вадик с Димой, фас, набрасываются на меня, сбивая с ног. Макс подползает к урне, шатаясь, встает. Что-то звенит, разбиваясь о бетонную мусорку. Макс заносит руку над Витиной головой…
Подъезжают две черные машины. Спешно уносят Витю с пробитой башкой. Нещадно избивают Макса. Упаковывают его в багажник.
— Что делать с шалавой? — слышу я сквозь какую-то стену.
— Пусть валяется!
— Что-нибудь ментам вякнешь — урою, слышишь? — орет черное пятно, зависшее надо мной.
Колеса визжат, оставляя едкий запах паленой резины.
Светает. Я бреду по частному сектору новых домов. У этих вот фасад четкий и арка вся обросла лозой. А палисадник вообще как ботанический сад. А у тех и вовсе кирпич, гараж и забор под сигнализацией. Торчат макушки детской горки и качелей. Правильно делают, что боятся. За себя, за детей, за собак своих.
— Выродки, выродки. И менты все продажные…
За спиной раздается звонок. Добротная женщина лет пятидесяти развозит на велосипеде утреннюю почту.
— Вы Макса не видели? — Она отклоняется, как ошпаренная, налегая на педали всем своим могучим весом. Тоже боится. Может, пенсию везет. Ну и правильно.
А у нас с Максом не будет пенсии. И дома. И детей. И дачи. Макса вообще не найдут никогда. По крайней мере, пока не осушат пруд за городом. Или в старую канализацию не залезут дети, играя в прятки. Смотря, в какую жизнь попадешь.
Где ты там прячешься? Я честно хотела тебе помочь. И себе. А потом остаться. И слиться с тобой-мной. И прожить долго-счастливо. Не вышло. Извини.
Не прощаюсь…
Последний день
Алекс всегда пахнет табаком и морозом. Гладко выбрит. И волшебно улыбается. Всякий раз я надеваю это пальто. Тончайший кашемир. В красную клеточку с зелеными полосками. Для нашей лучшей встречи. И берет. С помпоном. Юбку в складку, водолазку, капронки двадцать ден. Обещают до нуля, но это ничего. Ради будущего можно и померзнуть. Мы всегда встречаемся вчетвером. Толя, Коля, я и Алекс. Пять лет в университете, пять — на нефтезаводе. И вот сейчас — каждый пошел своим путем.
Коля и Толя остались в городе. Как и я. Алекс укатил в столицу. И теперь, будучи почетным горожанином и бизнесменом, пригласил нас в гости и забронировал столик в ресторане.
Мы идем по площади. Справа, слева — старые здания, храмы, купола, упирающиеся в осеннее папье-маше. Зажгли фонари. И вот, что странно, ничто и никто не отбрасывает тени. Ни купола, ни прохожие. Ни даже мы. Плоский мир.
Я робко поправляю берет, кокетливо одетый набок. Спрашиваю, где Алекс живет. Он указывает куда-то вдаль, где острые стрелы рослых кранов играют с заревом в крестики-нолики, пропуская сквозь себя осенний ветер.
— Там новостройки, видали, как блестят? Космос за квадратный метр, даже не спрашивайте. Сам ипотеку взял.
Мы устраиваемся за столиком. Сквозь шум пробивается колокольный звон.
— Пинту пива? — Алексу улыбается с виду молодая студентка в нарядном фартучке и с карандашом и блокнотом в руках, — вот винная карта, вот меню.
Блондинка хлопает полуметровыми ресницами над голубыми глазами и улыбается во весь рот.
— Да, — расплывается, как чеширский кот, Алекс и тихо присвистывает уходящей официантке вслед.
Мы ждем пять, десять, пятнадцать минут. Алекс идет к барной стойке. Из зала для обслуживающего персонала выбегает голубоглазка. Алекс щебечет, поглаживая ее по руке.
— Неплохо он так устроился, — резюмирует Коля, — может, тоже в столицу рвануть?
— Видали мы эти ваши столицы в зеленых гробах, — хмыкает Толя, — что же он так долго, может поторопить?
— В зеленых гробах с золотыми жар-птицами. — Меня передергивает.
Алекс достает телефон и быстро записывает номер блондинки. Она еще раз взмахивает своими бесконечными ресницами и уходит на кухню.
Алекс садится и осторожно, под столом, кладет руку на мое бедро.
— Черт, ребят, я так по вам скучал!
Мерзко. Холодно. Противно. Я скидываю его руку.
— Ага! Это заметно!
Толя с Колей переглядываются.
— Так, дорогая, это что за предъявы? — Алекс пытается снять напряжение.
Голубоглазка несет поднос с тарелками и столовыми приборами. Раз, два, три, четыре, пять…
— А почему на пять персон? Вы не умеете считать?
— Не кипятись! Это сюрприз. Просто она опаздывает.
— Кто она?
— Ух, прошу прощения! Всем добрый вечер. — К нашему столику подплывает роскошная девушка в белой норке. — Представишь, Алекс?
— Это Настя. Моя жена. — Алекс нежно целует ей руку.
Парни гудят.
— Вот это ты жук, Александер!!! Поздравляю! Выдал так выдал!
— Кхм. — Коля как всегда мнется. — Круто! Поздравляю, дружище!
Настя скидывает шубу, оголяя заметно округлившийся живот.
— Жарко тут у вас.
— Ого, так вас можно поздравить дважды?! — вскрикивает Коля.
Мир опять рушится. На две, четыре, шестнадцать частей. Двести пятьдесят шесть, шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать шесть пазлов. В одном из этих мелких осколков Алекс, приезжавший ко мне неделю назад. В другом — месяц назад. В третьем — два. Евший на моей кухне, спавший в моей постели. Со мной. Куривший на моем балконе. Дышавший моим морозным воздухом…
Сдерживаюсь. Сжимаю кулаки до белых костяшек. Я смотрю это кино в многотысячный раз. И никогда не перестаю злиться. Но надо потерпеть ради встречи. Прости меня, хозяйка.
Выбегаю. Раздетая. Без шапки. Обещанные ноль градусов осыпаются тихим снегом. Ныряю в метро. Бегу по эскалатору вниз. Вдали постанывает подъезжающий состав, заглушая гул толпы приближающихся болельщиков. Останавливаюсь у платформы. Болельщики орут. Что-то скандируют. Толкают друг друга, пока один из них не врезается в меня. Я лечу. К самому краю платформы. Состав гудит. Мое тело зависает в воздухе над рельсами. Я встречаюсь с тобой взглядом.
Картинка вокруг замирает, превращается в муляж. Глупый. Смешной. Неправдоподобный.
Все что у меня было — не мое. Других меня. Из других вселенных. Чужих жизней.
Мое — это ты. Живой. Настоящий. С желтым шарфом поверх черного пальто. С серыми глазами под густыми бровями. С блестящей чернотой кудрей в легкую проседь. Ты пытаешь меня схватить за вскинутые руки. За подол пальто. Хоть за что-то. Я ускользаю. И падаю вниз. Ты летишь следом…
Темнота в конце тоннеля…
Я забегала в метро на пять минут раньше. На десять, пятнадцать. Стояла, как идиотка. Залетала с других входов. К другому краю платформы. Даже в другой одежде. И в другие дни. Тебя нигде не было…
Как тебя найти сквозь миллионы вселенных? Как найти свою жизнь из тысячи чужих? Сквозь бесконечность решений?
Все такое многоликое и одинаковое. Разное и повторяющееся. А ты — один. И я ускользаю из твоих рук…
Рождение
Я падаю в плотную воду. В темную воду. В теплую воду. Меня зовут. Мне кричат. А я не хочу. Я устала от чужих тел. От их судеб и моих действий. Если мне суждено быть полой, то я останусь здесь.
Здесь. Я. Есть.
Выбор
Я бреду по кладбищу. По странному кладбищу. Живых среди мертвых. Живые — лежат в могилах. Мертвые — к ним приходят.
Моя надгробная плита очень тяжела. Из серого мрамора с вылитым вазоном. В вазоне — цветы. Засохшие. Вонючие. Лаванда?
А я люблю пионы…
— Здравствуй, дед.
Ты склоняешься над моей могилой. Здоровый, лучистый. Теребишь любимую фуражку с измятым картонным козырьком. Затем поглаживаешь острую бородку, выкрашенную в яркий каштан.
— Как тебе живется тут, дедушка?
— Хорошо, внученька. Хорошо. У меня свой огород, сад. Достраиваю дом. Скоро бабушка придет. Хочу ее порадовать. Встретить, как полагается. А как ты там?
— Странствовала. Все найти себя не могла. Столько тел испробовала, столько жизней.
— Ну и как, нашла в конце?
— Нет, как видишь.
— Тут же какое правило, умираешь там — живешь тут. И наоборот. А ты чужие жизни проживала. Все исправить пыталась. Плохо. Вот и зависла между мирами.
— Теперь хорошо. Останусь там.
— Нельзя тебе там. Тебя твоя жизнь ждет.
— Только моя и ничья больше?
— Да.
— Но как же я ее найду?
— А ты просто закрой глаза и увидишь.
— А тебя я еще увижу?
— Когда-нибудь…
Просто будь.
Я просто есть
Темнота кругом. На школьной площадке играет музыка. Крутится большой стеклянный шар со множеством квадратиков, отбрасывая цветные тени на зернистый асфальт.
— Потанцуем? — спрашивает черноволосый юноша с большими серыми глазами. — Я, кстати, Леня.
— Новенький? Соня. — Девушка протягивает руку, и пара устремляется в центр площадки.
— Я заметил, ты любишь черное? — Леня крепко прижимает ее к себе, и они начинают медленно кружится в танце.
— Да, год выдался паршивый.
— Ты кого-то потеряла? Прости, я не знал.
— Деда, подругу. С парнем порвала…
Музыка ускоряется, пары на площадке начинают двигаться быстрее. Одна из них врезается в Соню с Леней. Девушка теряет равновесие, норовя упасть, но Леня вовремя подхватывает ее.
Соня всматривается в его лицо. Оно кажется ей до боли знакомым.
— А мы никогда не встречались раньше?
— Может быть, в прошлых жизнях? — улыбается Леня.
— Как же ты тогда меня нашел в этой? — подхватывает Соня.
— Чтобы собрать пыльцу пчелы облетают тысячу цветков…
Соня прижимается к Лене и крепче обхватывает руками его шею.
Они танцуют. Соты-вселенные нависают над ними. Только их вселенная — теперь целостная. Плотная. Непроницаемая.
Навсегда.

Фея Драже
Наш хореограф Аннушка остановила музыку.
— Так, Белла, что с ногой? — спросила она.
— Ничего, — промямлила я, чувствуя вину за то, что притащила ногу, к которой будто привязана гиря, на репетицию. Я очень хочу танцевать Фею Драже, но меня это, конечно, не оправдывает.
— Ну-ка, садись на пол.
Аннушка ощупывала затвердевшую мышцу, а я мысленно готовилась к тому, что она оставит меня без роли. Старшекурсники начали перешёптываться. Хоть какая-то реакция, обычно они меня игнорируют. Я единственная второкурсница в их новогоднем спектакле. Теперь ещё и нога.
— У меня такое было, — сказала Аннушка, и начало приговора мне понравилось: ей будет труднее выгнать меня, раз у нас есть что-то общее, пусть даже боль. — Купишь ароматическое масло. Скину тебе адрес магазина. Продавщица там прямо волшебница, она подберёт. Сделаешь всё, как она скажет, и через неделю пройдёт. Проверено. Сейчас же туда!
Когда я вышла из метро, с неба полетели первые снежинки, и не поодиночке, а командами, прямо регбисты в схватке. За пуховым занавесом темнели очертания редких пятиэтажек, через дорогу светилась красная вывеска «Кафе лузеров», около открытой пасти автосервиса курил ещё не распрямивший спину пещерный снежный человек. Я беспомощно крутила головой, пытаясь разглядеть хоть что-то ещё в этом странном месте.
— Заблудилась? — Снежный человек затянулся сигаретой.
— Ищу магазин «Лаванда», — выпалила я и уставилась на косматую, всю в белых кристаллах, бороду. Зря я сказала, куда иду. На роль главаря шайки парня взяли бы без проб.
— За кофейней направо. Проводить?
— Не надо!
Я торопливо перешла дорогу, убедилась, что бородач за мной не пошёл, и за кафе, около ёлки, наряженной смятыми пивными банками, включила навигатор. Он, как всегда, считал, что проще облететь: стрелка указывала вверх. Кто делает такие программы?! Я убрала телефон и повернула налево. Шла сквозь метель и думала о фее Драже. Какая она? Аннушка всё время повторяет: «Белла, улыбайся не сценически, а сладко». Как будто это просто. Мне кажется, фея лёгкая, открытая, а я-то другая…
Раздался какой-то шум. В заросшем кустами дворе, мимо которого я проходила, что-то захрустело. Прямо на меня надвигалось что-то тёмное, большое. Снег повалил сильнее. А потом стало казаться, что, приземляясь на дорогу, льдинки начали звенеть, словно они хрустальные, а асфальт серебряный. Будто тихо заиграла челеста, и звучала она пугающе.
Вспыхнули фары.
Я попятилась, развернулась и зашагала обратно. Боль в ноге сразу напомнила о себе. Глупо, конечно, испугалась машины. Так боюсь потерять роль, что вся на нервах. Да где же этот магазин?!
По дороге, поднимая вихрь и рыча, пронеслась серая тень. Раздался скрип тормозов.
Я метнулась, свернула в арку, оказалась в тупике… И прочитала над светящейся витриной: «Лаванда».
В магазине сверкала люстра и пахло новогодней выпечкой. На полочках, как солдатики в золотых доспехах, выстроились пузырьки. Из подсобки, услышав звонок колокольчика, выглянула миловидная женщина в кулинарных рукавицах.
— А я думала, в такую погоду никто не придёт. Вот и есть кого угостить!
— Я бы с радостью, но нельзя, мне скоро танцевать в «Щелкунчике». Надеюсь…
— Да мои печенья даже балерине не навредят: корица помогает не толстеть, а имбирь поднимает настроение. Нет? Тогда кофе с гвоздикой, чтобы согреться?
Пока мы пили невероятно вкусный кофе, я объяснила, зачем пришла.
— Травмы точно не было? — спросила женщина.
Я покачала головой.
— Психосоматика, — загадочно произнесла она. — Что-то мешает сделать шаг вперёд, вот нога и болит.
— И что, аромамасло поможет?
— А то! Нужно только услышать, что подскажет нос.
Она выставила передо мной пять флаконов. В каждом прятался запах цветов, хвои или цитрусов. А один источал терпкую дымку роз, ещё покрытых утренней влагой, я всё время возвращалась к этому аромату.
— Так что тебя гложет, милая? — спросила женщина.
— Партия сложная, — призналась я. — Раньше её танцевала более опытная девушка. Боюсь, не справлюсь…
— Вот поэтому ты и выбрала розу, тебе в душе не хватает гармонии. Сейчас подробно расскажу, что делать. Вот увидишь, ты прекрасно выступишь.
У меня почти не осталось денег, зато я купила чудодейственный пузырёк. Буду танцевать в душистом коконе, и у меня всё получится.
Кристаллы снежинок теперь обнимались, как хоккеисты после победы. Сквозь их белые штрихи я читала граффити на стенах, посмеивалась, мечтала и не заметила, как дошла до кафе.
Вдруг кто-то дёрнул меня за плечо. Я обернулась: мелкий тип в капюшоне с моей сумкой в руке убегал к заведённой серой машине. Бородач из автосервиса бросился ему наперерез. Вор юркнул на сиденье, захлопнул дверь. Бородач стукнул по стеклу, встал перед бампером. Колёса провернулись, и он оказался на лобовом стекле, вцепился в крышу. Машина разгонялась и увозила его с собой. Скрылась из вида.
Я закричала.
Но вот из снежной пелены кто-то появился. Это был он. Чуть прихрамывал, но шёл и шёл быстро.
— Как ты? — пробормотала я, подбежав. — Тебе нужен врач?
— Не-а, удачно спрыгнул. Держи. Они её выкинули.
Его покачивало, он как-то неловко протянул мне мою сумку, а я трясущимися руками так же неловко взяла её за уголок и чуть не уронила. Открыла молнию. Сумка пахла, как розовый сад.
— Что разбилось? — спросил бородач.
— Жутко дорогое масло, без которого мне не танцевать в «Щелкунчике», но это неважно. Я должна отказаться от роли. Она не моя, я её не тяну…
Эти слова. Откуда они взялись? Да, техники не хватает, но я тренируюсь. А вот то, что роль не моя… Сначала фею танцевала Ольга, она талантливая, но заносчивая, вот и спорила с хореографом. Аннушка наказала её, заменила второкурсницей. Я старалась не замечать косые взгляды выпускников. Но ведь они правы. Ольга была лучше. Уговорю Аннушку вернуть ей роль.
Бородач пытался повесить сумку мне на руку, но меня ещё потряхивало, и она соскальзывала.
— Ты расстроилась, — покачал головой он.
Как я могла принять его за главаря шайки?! Он такой добрый.
— Нет, наоборот. Словно пуанты скинула, — выдохнула я, чувствуя, как появилась лёгкость и в душе, и в ногах.
А потом мы пошли есть имбирное печенье в «Кафе лузеров». Вокруг нас был розовый шлейф, и я всё время смеялась. Сладкая улыбка? Проще простого!
Рецензия писателя Екатерины Федорчук:
«Отличный рассказ получился! Автор создал современную новогоднюю сказку, в которой есть зимняя атмосфера, сначала пугающая холодом, а потом преображенная, волшебная, сверкающая.
Автор смог показать, что героиня выросла над собой, над своими комплексами и мелкими страстями. Она прошла через испытание и обрела гармонию, которая позволила ей разглядеть в бородатом незнакомце ее прекрасного принца. Отличный финал: рождественский и очень достоверный. Понятно, что это начало прекрасной истории про любовь.
Отличная идея, что сначала бородач напугал девушку, а потом он же оказался ее спасителем. Насчет боли в ноге как результат психосоматики — объяснение получилось весьма убедительным. Я не в теме, но автору доверяю. Однако рекомендую автору в случаях, когда он касаетесь в прозе узкоспециализированных вопросов, перепроверять тщательно и, если есть возможность, консультироваться со специалистом. А такие ситуации, по моему опыту, возникают довольно часто.
В целом получился легкий новогодний рассказ с прекрасно прописанной атмосферой, с героиней, которая не добилась своей цели, но обрела нечто большее — саму себя. Я получила большое удовольствие, читая текст.»
Рецензия критика Варвары Глебовой:
«История простая — о поиске себя, о том, что очевидные цели далеко не всегда оказываются верными. О маленьком новогоднем чуде: запахе гармонии, снежном человеке — спасителе, нападении и спасении. К рассказу ничего не прибавить, сюжет довольно растиражированный, однако написано легко и красиво.
Можно наслаждаться деталями. Например, здорово описан психологический момент, что у хореографа «такое было». Забавно про снежинки, которые сначала в схватке, а потом в обнимку. Хороший образ «улыбайся сладко», в начале рассказа непонятный героине, зато очевидный в конце. Красиво про льдинки, звенящие о серебряный асфальт. Интересное наблюдение, что поскольку роль героине досталась как наказание для другой девушки, то эта роль и не приносит ей радость, не дается. И, наконец, мило, что в финале герои идут в «кафе лузеров» — ясно, что лузеры и есть самые счастливые, им можно печенье, им сладко, они делают, что хотят.»

Футбол
Жизнь жителя окраины Москвы пресна и безвкусна, а если повезло и офис расположен рядом с домом, то она и вовсе без сахара. Дом — работа, работа — дом. Считаные минуты в дороге проходят среди блеклых многоэтажек, по узким тротуарам дворов, густо заставленными автомобилями. Предыдущий день всегда похож на последующий. Корж за коржом укладываются в торт. Ни сладкого крема, ни изюминки, которыми, то ли по забывчивости, то ли из-за нехватки времени или диеты, обыватель столицы не сдобрил свою жизнь.
Петру Иванову действительно посчастливилось, он прекрасно устроился в жизни. Родился на окраине Родины в крепкой семье. Получил блестящее образование в лучшем университете, по одной из востребованных специальностей XXI века — «Экономика. Финансы и кредит». Женился на доброй девушке. Жил в ладу с законами. Приехал в Москву готовым финансовым аналитиком. Устроился в перспективный банк мегаполиса в доме № 10. Снял квартиру в доме № 11, всё там же, на 1-м Волгодонском проезде.
Жизнь текла размеренно. Проторенный маршрут дом-работа вразвалку занимал тринадцать минут. Пётр не имел привычки смотреть по сторонам, с ухудшающимся зрением бывший заводской район ничем не отличался от пейзажей родного города. Пожалуй, его единственным разочарованием было выраженное нарушение зрения, за которое ему присвоили инвалидность 2 группы.
— Проклятый сахарный диабет сжирает силы и зрение, на любимый футбол меня не хватает. Ни играть, ни смотреть. Ну, ладно. Работаю же. Нормально всё, — успокаивал себя Пётр.
Без предупреждения в марте 2018 года в столицу на пару дней залетел Ванята Шустрило — земеля, друг детства по футболу. Он шутливо объяснял своё появление проверкой готовности столицы к Чемпионату мира по футболу. В традициях русского гостеприимства остановился у друга, принялся со смаком рассказывать о программе инспекции и незаметно уговорил степенного Петра взять внеплановый отгул от супружеской жизни.
Аннотация:
Жанр — иронический рассказ.
Пётр Иванов — флегматичный счастливчик, многое в жизни ему перепадает легко, но у него есть одно омрачающее обстоятельство — он болен сахарным диабетом. Из-за этого Пётр не может ни играть в футбол, ни смотреть любимую игру на стадионе. Неожиданно к нему приезжает друг детства (а-ля Остап Бендер), с которым Петр играл в детстве в футбол, и эта игра, словно забытые сладости, возвращается в жизнь Петра.

Хлеб и водка
Жизнь Максимова была простой, как пять копеек. Родился, женился, армия, завод. К 1987-му дошел до 6-го разряда, определил дочь в институт и встал в очередь на «Жигули». К 1994-му, забросив станок, освоил челночный маршрут Москва-Стамбул и начал копить на подержанный «Фольксваген». Накопил аккурат к лету 98-го, но решил, что лучше уж потерпеть и взять осенью «Ауди». В начале сентября похолодало, а доллар выиграл у рубля в очко — курс установился 21/1, и «Ауди» подорожал втрое. Жизнь Максимова окончательно обесценилась.
— Никогда хорошо не жили — нечего и привыкать! — по-соседски утешила его Хмылёва, цепко держа в руке две бутылки «Столичной» и слегка опирая их на обширный бюст, — ты бы лучше закусь какую-нить продавал, возле моей водки пошла бы на ура.
Уже который день они стояли рядом в суровой шеренге продавцов, о которую бился выходящий из метро народ. Многие проходили мимо, отвернувшись, иные, наоборот, приценивались, торговались. Максимов продавал хлеб — свежий, вкусно пахнущий. Его выдавали Максимовой на хлебокомбинате, где она работала, вместо денег, и это было удобно и надежно: голодать не придется.
— А чего, плохо живем? — ответил Максимов, — лишь бы войны не было, да и ладно. Хлеб и водка есть. Нас дерут — а мы крепчаем! Чеченов вот только успокоить…
— Это американы нам гадят! — пояснила Хмылёва, — сделали нам дефолт, а сами хотят землю нашу скупить по дешевке, будешь ты у них пахать за гроши.
— А то я сейчас миллионер, — засмеялся Максимов, — я на ваш дефолт забиваю болт! Денег-то, конечно, нет, но мы-то держимся! Всегда так было и так будет! Руки-то на что? — Он потряс зажатыми в мощной ладони двумя батонами, упакованными в полиэтилен.
— Это у тебя руки, а старухам как быть? — влезла стоящая с другой стороны Даниловна, торгующая вялеными лещами и дачным огуречно-помидорным ассорти. — Кончится сезон, как выживать?
Хмылёва открыла уже было рот, чтобы дать на этот счет исчерпывающий совет, как вдруг на Максимова налетела, обняв его, худая низенькая женщина в такой же, как у него, замусоленной коричневой куртке. Жена. Какое-то время она стояла, замерев, и Максимов, отведя руку с батонами, приобнял ее другой рукой, успокаивая.
— Ну что, родила? — спросил он наконец, заранее улыбаясь.
— Да, внук, 3400, лохматый, как ты. Коля, только знаешь, меня сегодня уволили… — Она оторвалась от Максимова и заплакала.
— Вот и отлично, не будет больше торчать тут с этими батонами, позориться! — влезла Хмылёва и, выставив вперед бутылку, скомандовала: — Давай-ка за внучка. Жизнь — это жизнь! Даниловна, доставай огурцы.
Они отошли к лавочкам у ближнего дома, и Максимов приладил пустой деревянный ящик вместо стола. Даниловна расстелила полиэтилен, разложила овощи. Быстро и слаженно получалось у них всё, и жена Максимова уже не плакала, а достала и быстро нарезала ломтями «Бородинский». Хмылёва, быстро оглядевшись, выдала каждому по картонному стаканчику, затем сорвала резьбу со «Столичной» и плеснула уверенной рукой по равной доле.
— Это вам не говённый «Рояль», на экспорт делали! — гордо сказала она, и все оценивающе понюхали стаканы.
— Ну что, за внука! — сказал, волнуясь, Максимов. — Представьте, пройдет лет двадцать, и будет он жить в богатой красивой стране, весело, бесстрашно и свободно, не то что мы тут…
— Пей, не болтай попусту, пока менты не нагрянули, — оборвала его Хмылёва, — главное, чтобы здоровенький был, а что там впереди — лишь Господу ведомо.Картонные стаканчики бесшумно сошлись над ящиком. Все улыбались.

Цирк приехал!
Когда в город приехал цирк, стояли жаркие июльские дни. Солнце палило жестоко, оствервенело, высушивая землю, растения, людей. Только вечером жизнь как будто бы возвращалась сюда — чтобы жители могли выйти, сбиться в стайки и чуть-чуть перевести дух.
Константин Леонович, владелец цирка, директор и шпрехшталмейстер в одном лице, стоял на холме и смотрел вниз, на город.
— Константин Леоныч, может, ну его? Кто к нам в такую жару придет, еще и в этом захолустье? Сколько тут жителей? Десять тысяч? Пятнадцать? — обратился к директору Василий, акробат, дрессировщик и продавец попкорна одновременно.
— Двадцать пять, — ответил Константин Леонович и повернулся к Василию. — Ты, Васька, не сомневайся. Не то что придут — прибегут.
— Гиблое дело, — пробормотал себе под нос Васька.
— И гиблое место, — прищурившись, ответил директор.
…Леха не помнил, где ему дали листовку. «Только три дня! Эксклюзивное шоу!» — гласила та, и Лехе даже захотелось ей верить.
— Ну что, Аделаида Викторовна, сходим в цирк? — весело спросил он квартирную хозяйку, заходя на кухню.
Аделаида Викторовна, квашневатая женщина лет пятидесяти пяти, сидела на низком стуле и тяжело дышала, обмахиваясь полой фартука. Она только что вернулась с улицы и теперь страдала, не в силах отдышаться. Аделаида Викторовна мрачно посмотрела на Леху, огуречно-свежего после прохладного душа.
— Иди ты-ы, — басом протянула она.
Леха засмеялся. А что, неплохая, в общем-то, затея, этот ваш цирк. Леха жил в этом захолустье, конечно, временно, но уже чуть не выл со скуки. Он привык к большому городу с его суетой, толчеей, неприветливыми, ко всему равнодушными людьми. Сюда его привело наследство. Скольки-то-юродная бабушка, о которой он впервые узнал после смерти старушки, оставила ему однушку в развалюхе, больше похожей на сарай, нежели на приличный дом. И все же это деньги, а деньги, как известно, везде пахнут одинаково.
Леха думал, что ему удастся скинуть дела на какого-нибудь шустрого риелтора или адвоката, а лучше на них обоих, но не получилось. Просто потому, что здесь не было ни того, ни другого. А в квартире, доставшейся по наследству, забаррикадировался ушлый мужик с хитрыми алкогольно-синими глазками, уверявший, что он тут живет по договору, а договоры надо исполнять. Скандалы — это так утомительно. И Леха, думавший, что проведет в городке от силы неделю-другую, неожиданно засел здесь вот уже на целых полгода. И весь этот срок он изнывал от скуки, ибо сеть ловила плохо, а по улицам наравне с людьми ходили гуси.
Была здесь и своя признанная красавица, Аля. Она до дыр залистала модные журналы, сидя на трехногой табуретке в аптечном ларьке, и только изредка отвлекалась на то, чтобы кинуть страждущим блистеры аспирина. На стене у нее висел плакат: «ПОКУПАЙТЕ КРУЖКИ ЭСМАРХА. КРУЖКА ЭСМАРХА — МАСТ ХЭВ В КАЖДОМ ДОМЕ».
После появления плаката злосчастную кружку купили только алкоголик дядя Вася, зачарованный словом «кружка», и Петенька, зачарованный Алей. Впрочем, Але ничто человеческое не было чуждо, она тоже хотела любви, и раз в месяц, после получки на заводе, где трудился Петя, она оправляла рюшечки на декольте и, пшикнувшись французской туалетной водой, выписанной по каталогу, выходила в свет рядом со счастливым Петенькой. Он вел ее в кино, потом в местный общепит, где покупал мороженое или стаканчик вина, и, если кино было хорошим, а вино — сладким, Аля, смущенно отвернувшись, позволяла Петеньке на долю секунды припасть губами к надушенному декольте. Потом он получал традиционную пощечину, и оба, взбодрённые встречей, расставались. Аля скрывалась за скрипучей дверью подъезда, а чрезвычайно довольный своей мужской силой Петенька гордо шагал по улице.
Как раз сейчас он проходил под окнами Лехи. И Леха, оставив надежду поговорить с Аделаидой Викторовной, окликнул Петю.
Тот, все еще смакуя очередную постзарплатную победу, остановился.
— А, это ты, здорОво.
— В цирк идешь? — Леха помахал листочком.
Петя мысленно перечислил съеденное и выпитое Алей и покачал головой.
— Даже если Аля захочет?
— Что ты, — испугался Петя, — не дай бог она узнает.
— А я, пожалуй, схожу.
Правдами и неправдами Лехе удалось уговорить Аделаиду Викторовну составить ему компанию. Эта женщина ему нравилась. Она могла легко дать в лоб алкоголику дяде Васе, если тот приходил просить денег, а делал он это с завидной регулярностью. Для этой цели у нее прямо в коридоре висела на гвоздике поварешка «антиваська», и однажды Леха, решив в шутку подразнить квартирную хозяйку, спросил: неужели она повесила поварешку специально для дяди Васи?
— А ты как думал? — серьезно ответила Аделаида Викторовна. — Аккурат под его голову подбирала. Жаль, поздно сообразила, надо было сразу после свадьбы «антиваську» вешать. Вот как запил после ЗАГСа на две недели — тогда и надо было.
— Так вы что же, замужем за ним были? — удивился Леха.
— Была. Сто лет назад была, а до сих пор таскается.
— Что же вы, — поддел ее Леха, — не видели, что он алкаш, когда замуж собирались?
Аделаида Викторовна посмотрела на Леху. Эх, молодо-зелено. Когда-то и она была молодая, легкая, стройная. А Вася — разве он был таким? Первый парень на всей улице. Вот каким был Васька. Как же им было да не встретиться.
Э, что там говорить… Сколько их таких по всей стране — парней и девчонок, которые думают, что навсегда — это счастье. А потом, день за днем, год за годом, превращаются в обрюзгших мужиков и заплывших баб. Раздраженных, разочарованных, ненавидящих друг друга. Так и хочется спросить: «Ну и как, до сих пор думаешь, что навсегда — это счастье?»
А с Лехи какой спрос… Разве может этот пацан представить, что она была красавицей, что Вася был парнем хоть куда, ловким, спортивным, рукастым. Приносил ей цветы рано утром, а по вечерам свистел, как соловей, под окнами, — точно как в кино.
Свистун он и есть свистун.
Аделаида Викторовна, раздвигая боками людей, продвигалась к своему месту, Леха шел следом.
— Аделаида Викторовна, а вы никогда не хотели… ну, того…
— Чего того?
— Сойтись с дядь Васей.
— Говорила я — надень панаму, а то голову напечет. Вот и напекло. Скажешь тоже, сойтись…
Чуть покряхтывая, Аделаида Викторовна опустилась на стул. Жаль, что у людей нет дара предвидения. Нет, она, конечно, любила раскинуть карты, и к ней даже похаживали соседки — мол, давай, Виктровна, не ломайся, загляни в картишки. Но если бы карты могли тогда показать ей, что Вася, тот самый Вася с широкой улыбкой и кучерявыми волосами — ни дать ни взять киноактер с обложки — однажды придет пьяным и, рыча «Знаю, кто к тебе похаживает! Все знаю!», станет бить ее — в грудь, в живот и снова в грудь… Как он потом будет говорить в больнице: «Я ж несильно. Не как мужика. Так, поучить». Выбросило тогда ребеночка. А он все свое: «Пьяный был, дурак». Если бы карты могли ей это показать… Может, уже и внуки были бы.
А Васька, как развелись, долго не появлялся. Лет десять. А может, и пятнадцать. Из города не уезжал, но ее порог обходил за три версты. А потом — как прорвало. Приходил и плакался, как горько жить бобылем без красавицы жены да без ребеночка.
— Сколько бы ему сейчас, Адюша, было? — размазывал Василий по пропитому лицу пьяные слезы.
— Сбрендил? — закричала тогда Аделаида Викторовна. — Это ведь ты! Все ты!
— Не я, Адюша — водка! И вообще. У хороших жен мужики не пьют, — всхлипнул Василий, и тогда Аделаида Викторовна сорвалась. Она кричала и бросала в него все, что под руку попадется: валенки, домашние тапочки, старое полотенце, которым гоняла кошку… Наибольший урон ему нанес зонт. Хороший был зонт, крепкий, японский. Даже жалко, что сломался о такую сволочь. Василий прикрывался и ныл на одной ноте: «Ну дай хоть немножко, Адька, ты же добрая, ради нашего ребеночка нерожденного, дай».
А потом Аделаиде Викторовне стало все равно. Васька приходил, как квитанция, исправно каждый месяц, и если задерживался, то разве что на день-два. И нового ничего — только тарифы регулярно росли. Сначала он просил «хоть копеечку», потом «рублик, всего один рублик», затем «будь человеком, дай пятачок» и наконец «Адька, ну хоть червончик».
В драку Аделаида Викторовна больше не кидалась. Но поварешку повесила и, завидев на пороге Василия, привычным движением снимала ее с гвоздика, Вася ежился, но бесстрашно бубнил: «Адька, ну хоть червончик-то дай! Ну будь человеком, Адька!»
— А вообще, зря я с тобой пошла, — сказала, чуть развернувшись к Лехе, Аделаида Викторовна. — Я-то думала, будет настоящий цирк. А тут… Нет, ты только посмотри!
Она указала на пузатого мужика в полосатом, неприлично облегающем костюме. Мужик подкидывал и ловил булавы, но ему никак не удавалось удерживать в воздухе больше трех одновременно. Булавы постоянно падали, и мужик, воровато оглядевшись, поднимал их и пускал в дело. Представление еще не началось, люди собирались в душном шатре, на входе парень с кислым лицом продавал попкорн и сувениры, на потные лица пытались сесть мухи.
Наконец зазвучала музыка и на арену вышел шпрехшталмейстер.
— Дамы и господа! Я рад приветствовать вас в этот чудный вечер под нашим прекрасным шатром. Сегодня удивительная погода, вы не находите?
Публика возмущенно загудела, но Константин Леонович провел рукой, как будто снимая невидимое покрывало, и все присутствующие замолчали. В воздухе разлилась свежесть. Такая бывает только в мае, когда листья уже выбрались из почек, но еще не потеряли своей детской липкости, не обросли городской пылью и не потемнели. Чудесное время, когда кажется, что даже сам воздух пропитан счастьем и надеждой.
Лехе показалось, что он услышал крики чаек. Как давно он не слышал чаек.
— Откуда здесь чайки, — сказал он, а может, только подумал.
— Говорила же, надень панаму! — вдруг ворчливо сказала, едва не задев крылом лица, одна из чаек, почему-то голосом Аделаиды Викторовны.
Леха вздрогнул. Видение пропало. Снова стало душно. Он поглядел на Аделаиду Викторовну. Она ковырялась в своей сумочке, шляпка съехала на нос. Хозяйка, не отрывая взгляда от сумочки, поправила шляпку, но та снова съехала. Леха огляделся. Люди сидели с глуповатыми лицами, не шевелясь. Кто-то, казалось, просто задумался, кто-то мечтательно улыбался.
— Аделаида Викторовна, — шепотом позвал Леха. — А вам не кажется, что тут что-то не так?
— Конечно, не так! — ответила Аделаида Викторовна. — Это глупое представление не начнется, наверное, никогда!
Она достала большой носовой платок и со щелчком захлопнула сумочку. Звук врезался в тишину, как камень — в лобовое стекло автомобиля. Люди на соседних стульях заерзали.
— Судью на мыло! — вдруг басом заорала Аделаида Викторовна и невозмутимо замолчала.
Леха вздрогнул и автоматически втянул голову в плечи — люди оборачивались, шарили глазами по рядам. Леха разозлился на себя.
— Ну вы и… штучка, — пробормотал он.
— Да, я штучный товар, — кивнула Аделаида Викторовна, по-прежнему невозмутимо глядя на сцену.
Так или иначе, а цирк пришел в движение. Нескладно заиграла музыка, шепелявя и зажевывая слова. На арене появился тот самый мужик в полосатом костюме. Он по-прежнему ронял булавы и тарелочки, зато прекрасно раскланивался во все стороны под вялые аплодисменты. Люди обмахивались газетами, самые прозорливые — заранее принесенными веерами. В шатре стояла невыносимая духота.
На сцене по очереди появлялись дрессировщики, акробаты, клоуны. Видно было, что и им, и зрителям этот цирк доставлял мало удовольствия. Казалось, обе стороны — и публика, и артисты — недоумевают, что они тут делают. От номера к номеру аплодисменты становились все жиже, люди, не стесняясь, вставали и уходили прямо посреди выступления. Уходили, шатаясь, потому что голова кружилась от духоты и болела от громкой, бьющей по ушам музыки. Самые стойкие и оптимистичные продолжали сидеть, а может, у них просто не было сил уйти. Впрочем, их мучения были вознаграждены небольшим происшествием. Эквилибристка Полечка, юная девушка в блестящем фиолетовом костюме, выкатилась на арену на большом шаре, крутя по всему туловищу, рукам и шее обручи. Публика оживилась и встретила Полечку чуть бодрее. Женщины смотрели на эквилибристку подозрительно, мужчины приосанились, а дети, открыв рты, разглядывали огромный шар. Полечка, улыбаясь и мелко перебирая ножками, крутилась по арене. Это выглядело почти волшебно, пока она вдруг не начала замедляться, шататься — обручи соскользнули с рук и туловища, со звоном покатились в разные стороны, а Полечка, как в замедленном кино, стекла с шара. Музыка продолжала картавить, шар откатился в сторону, а Полечка лежала на арене, как фиолетовый кальмар, выброшенный на берег. Публика загудела, люди привстали с мест. Мужик в полосатом костюме выбежал на арену, за ним — другие артисты. Полечку хлопали по щекам, кто-то крикнул: «Врача!», кажется, она открыла глаза.
Леха тоже привстал с места. Ему было жалко, что он не врач. Вот бы выйти сейчас в центр арены: «Отойдите, не толпитесь, вы мешаете работать!»
А впрочем, врач — это не только спасать жизнь хорошеньким артисткам. Это еще пьяные мужики, уснувшие на улице, бабки с выдуманными болезнями, сломанные руки-ноги и прочие неприятные вещи. Уж он-то знал — как-то пришлось в травмпункте ждать часа три, насмотрелся всякого. И это называется «экстренная помощь».
— Пойдем, что ли? — предложила Аделаида Викторовна и, покряхтывая, встала.
— Да-да, — рассеянно согласился Леха.
Когда они вышли из шатра, уже стемнело. Стало свежее, в голове прояснилось.
— Может, надо было остаться? — задумчиво спросил Леха то ли Аделаиду Викторовну, то ли самого себя.
— Чем меньше любопытных, тем лучше.
Они пошли молча. Первое время Лехе было трудно привыкнуть к атмосфере этого полугорода-полудеревни. В детстве он любил книгу «Желтый туман». Там злая колдунья наслала желтый туман на целую страну — ту самую, с Элли и Тотошкой. Может, кусочек этого тумана отделился и прилетел сюда? И вот уже сто, а может, целую тысячу лет люди живут тут под желтым колпаком и сами не знают об этом? Желтые люди с желтой жизнью. А может, и он сам становится желтым? Наверняка. Ведь чем дольше он тут жил, тем больше привыкал к колдобинам, проселочным дорогам и гусям, которые гоняли собак. Он даже приметил себе любимца — одного из соседских гусей. Этот гусь однажды подошел к нему и молча, не гогокая, встал рядом, когда Леха рассказывал соседям о своих злоключениях с квартирой. Просто встал рядом, растопырив лапы, и долго стоял, как будто слушал человеческие разговоры. Потом Лехе казалось, что гусь даже узнавал его. Но, конечно, это только казалось. Наверное, мозг и вправду пропитывался желтым туманом, как губка — оливковым маслом, иначе как объяснить, что Леха назвал гуся Гогой и повязал на шею ленточку. Правда, хозяйка ленточку сорвала, а самого Гогу вскоре зажарили. Лехе взгрустнулось, а впрочем… Он давно заметил, что в этом месте эмоции быстро притупляются и люди становятся похожими на тенями. Вот разве что Петя да Аля ещё живые.
Идти до дома было не так уж далеко, но Леха чувствовал себя непривычно уставшим, как будто цирк высосал из него все соки. «Вот почему деревенские не любят городских развлечений, — думал он, — и я становлюсь таким же». Леха едва волочил ноги, зевота сводила челюсти, началась одышка. Леха вдруг почувствовал себя развалиной. Аделаида Викторовна пыхтела рядом. Но она всегда пыхтела — сказывался лишний вес.
— Я, пожалуй, еще пройдусь, — неожиданно для самого себя сказал Леха, когда они подошли к дому.
«Зачем пройдусь? Спать же хотел».
— Иди, иди. На Тишкинскую не суйся, а то отметелят тебя там, родная мама не узнает.
Милая Аделаида Викторовна. Знала бы она, что на Тишкинской улице он побывал в первый же вечер, как приехал. Была зима, он шел в коротких джинсах и куртке на рыбьем меху — искал адрес той самой треклятой своей квартиры. Ноги замерзли — в Москве не доводилось столько ходить пешком.
— Слышь, ты, в подстреленных штанишках, — услышал он за спиной.
Леха обернулся. Трое парней недружелюбного вида стояли, скрестив руки, и рассматривали его снизу вверх.
— Ты че, борзый, да! Ты че, нарываешься, да! Ты че, самый умный, да!
Леха не помнил, что ответил, да и ответил ли. Парни окружили его, сжимая в кольцо. Он, кажется, пытался отбиваться, но его узкое столичное тело зажали, затерли крепкие провинциальные тела, и все бы, наверное, кончилось для Лехи плохо, если бы в конфликт не вмешалась, размахивая лакированной сумочкой, красавица Аля.
Уже потом, помогая ему стереть кровь с лица надушенным платочком, Аля говорила:
— Ты не обижайся, они не злые. Скучно просто. Засиделись.
Парень, который до этого стоял в тени, высунулся и вставил:
— Я и сам тут побаиваюсь ходить по вечерам… — и тут же приосанился. — Но Алечку до подъезда всегда доведу.
— А потом огородами домой? — Девушка насмешливо посмотрела на него сквозь пушистый мех белого воротника.
Так Леха познакомился с Алей и Петей. А еще — негласным городским дресс-кодом, в который никак не вписывались «подстреленные штанишки».
Сейчас Леха пошел именно на Тишкинскую. Нарваться на неприятности он давно не опасался. Тишкинские воспринимали его спокойно, хоть и без особой симпатии. Но Алькиных друзей не трогали. Все-таки ее красота имела и над ними власть.
Леха шел медленно, глядя по сторонам, кое-где на первых этажах горел свет. Люди ужинали. Но большинство домов оставались темными, хотя Леха знал — город не спит. Жара измучила людей. Днем они ходили сонные, вялые, еле волочили ноги, спать было невозможно от духоты, но и ночью не было покоя. Когда долгожданная прохлада опускалась на город, каждому хотелось подольше впитывать ее в себя, вдыхать, обернуться в нее, как в мокрое полотенце. Чтобы хватило сил на завтра. Такой долгой засухи не помнили даже старожилы.
Лехе не хотелось сейчас ни с кем встречаться. Поэтому когда он заметил темную тень в конце улицы, то быстро свернул в небольшой проулок. Где-то слышались голоса, мужской, показавшийся Лехе знакомым, и женский. Парочка прошла мимо, шаги стихли.
«Надо бы написать Алисе, — подумал Леха, вспомнив свою московскую девушку. Переписка с ней вяло продолжалась все эти полгода. Сообщения доходили через одно. Первое время Леха искал местечки, где сеть ловила лучше, но потом ему стало лень, он находил все больше поводов написать завтра, не сегодня. Кажется, не писал уже… недели две?»
Леха выглянул. На улице было пустынно. Черная тень по-прежнему маячила чуть вдалеке. Леха подумал, что прятаться в подворотне — самое глупое, что можно сейчас сделать, и решительно пошел прямо, сунув руки в карманы. Он начал было насвистывать, но в полной тишине свист звучал жутковато, и Леха перестал. Тень двинулась ему навстречу. Леха чуть струхнул. Конечно, он всех здесь знал, но все же… Остановился, наклонился, будто бы завязывая шнурок.
— Чудесный вечер, не находите? — раздалось рядом.
Леха вздрогнул и выпрямился. Перед ним стоял мужчина. Леха узнал его — тот самый циркач, который главный. Он не переоделся, был в черном плаще и цилиндре, как и час назад. В темноте жутковато белела манишка, плавно переходившая в шею и лицо, которое из-за этого казалось неестественно бледным.
«Пудрится, наверное», — подумал Леха.
— Я не люблю грим, — как будто в ответ на его мысли сказал циркач. — Позвольте представиться, Константин Леонович.
— Алексей.
— Алеша… В такой чудесный вечер не хочется быть одному, — ловко беря Леху под руку, сказал Константин Леонович.
«Ну кому как».
— Мой помощник, Василий, тоже жуткий интроверт. А я люблю людей. Без общения я засыхаю.
— Я где-то читал, что самые грустные люди — клоуны, — брякнул Леха и испугался. Вдруг этот Леоныч обидится… А впрочем, не все ли равно.
— Что вы, я не обижаюсь. Среди нас разного народу хватает. А мне люди интересны. Я их, если хотите, коллекционирую. Езжу по городам, наблюдаю, присматриваюсь. Иногда не нахожу ничего интересного. Но так бывает редко.
Леха не знал, что ответить. Да и не хотелось. Циркач говорил тихо, еле слышно. Приходилось напрягаться, чтобы разобрать слова.
— Во, чучело с чучелом идет! — услышал Леха знакомый голос. Понятно — Тишкинские вышли на прогулку.
— Дядя, ты из дурки сбежал? — Это Митька, еще один Тишкинский забияка.
Лехе стало неловко за местных парней. Все же приехал человек культуры. Но где культура, а где — местные бездельники.
Константин Леонович, казалось, даже не удивился.
— Юноша, — обратился он к Сереге, главному Тишкинскому драчуну, — вам спать пора. Разве вы не знаете? Спать.
Потом повернулся к Митьке:
— Вам, юноша, тоже.
— Собственно, и вам, Алеша.
Последнее, что Леха запомнил — черные глаза-буравчики и тонкие губы в пластилиновой улыбке. На долю секунды Леху охватил необъяснимый ужас, он отшатнулся, но весь мир вокруг заволокла вата. Она лезла в лицо, глаза, уши, горло. Заполняла его целиком. Леха испугался, что сейчас задохнется. Он с усилием глубоко вдохнул… и проснулся. Похоже, что во сне он уткнулся лицом в подушку и стал задыхаться.
«Господи, приснится же такое», — с облегчением подумал Леха. Было еще только пять утра. Начинало светать, вдалеке рокотало. Неужели будет дождь?
Ещё два часа он провертелся в кровати без сна. Одеяло сбилось, было липко и мрачно, рокочущее небо никак не могло разродиться дождем. Лёха слышал, как у Аделаиды Викторовны зазвонил будильник. Слышал, как она пошлёпала в ванную. Шлеп-шлеп-шлеп — теперь на кухню. До кухни не дошла — в дверь постучали.
«Адюша, ну дай пятачок!» — гнусаво канючил дядя Вася. Что-то рано сегодня. Недовольное бу-бу-бу Аделаиды Викторовны. Щелчок замка. Интересно, удалось дяде Васе выклянчить копеечку или опять получил «антиваськой»?
Когда Леха пришел на кухню, на сковороде шкворчала яичница. Лехе нравилось, как Аделаида Викторовна жарила яичницу — желток всегда оставался жидким. Зацепишь его — и растечется по тарелке янтарная лужица.
— Аделаида Викторовна, а вам никогда не хотелось отсюда уехать? — спросил Леха, наливая ей и себе кофе.
— Нет, — ответила Аделаида Викторовна, обмакивая в яичницу кусок чесночного хлеба. — И ты не уедешь. Отсюда никто не уезжает.
Лёха рассмеялся. Не уедет! Как будто он все двадцать пять лет своей жизни мечтал жить в Нижних Чистюках.
— На моей памяти отсюда только один человек и уехал, — продолжала Аделаида Викторовна. — И тот в дурку. А остальные — по сроку — на погост.
— Вот уж удовольствие — на всю жизнь остаться нижнечистюком. Чистюкимцем. Нижнечистюлей? Или как тут у вас местные называются?
— Не у вас. А у нас.
— Я не местный.
— Бабка твоя ко мне часто приходила. Картежница была — жуть.
— Моя бабка в Москве живет.
— За квартирку-то мог бы бабушку и признать.
Где она, эта квартирка. Лёха уже жалел, что приехал сюда. Разговор с Аделаидой Викторовной вышел неприятным. Ему и самому казалось, что нет другого мира, кроме скрипучей кровати, гусей и утренних визитов дяди Васи. А там, в Москве, остался стартап на пару с другом и Алиска. Настроение окончательно испортилось, идти никуда не хотелось. Аделаида Викторовна, убрав со стола, разложила карты. Карт у нее было несколько колод, и она могла целый час сидеть, перетасовывая, поглаживая и раскладывая таро. Леха лениво наблюдал.
— Опасность вижу, — сказала Аделаида Викторовна.
— Наверное, дядя Вася пьяный придет, — съязвил Леха, — или кошка сопрет сметану, как на прошлой неделе. Вы тогда тоже опасность видели, помните?
— Иди ты.
И Леха пошел. Он вдруг испугался, что желтый туман и правда проник в мозг, а иначе почему ему в двадцать пять лет интереснее сидеть и смотреть, как гадает квартирная хозяйка, нежели пройтись по городу, пообщаться с людьми, ну и, наконец. вытурить из собственной квартиры гадкого мужика.
«Устроить бы ему засаду, — думал Леха, — в конце концов, выходит же он когда-то в магазин или просто воздухом подышать. Сменить замки. Выкинуть вещи. Беспредел какой-то».
Но портить день переговорами с захватчиком не хотелось, и Леха опять отложил неприятное на завтра. Город казался непривычно оживленным. Наверное, приближение дождя расшевелило людей. Женщины снимали с веревок белье, дети бегали с гиканьем, а не сидели на лавочках, как маленькие старички. Еще Леха заметил, что люди, надев парадные одежды, шли в сторону цирка. Леха усмехнулся: зря вырядились, представление вам вряд ли понравится.
— Эээ, — окликнули его. И хоть «эээ» могло относиться к кому угодно, Леха узнал голос и обернулся.
К нему шел, чуть переваливаясь (так ходят местные гуси), Серега с Тишкинской. Обычно Тишкинские только поплевывали сквозь зубы, когда Леха проходил мимо. Не трогали, но и общаться считали ниже своего достоинства. Леха был заинтригован.
— Этта. Че за мужик-та с тобой вчера тут был?
Леха нахмурился. Он уже успел забыть об этом то ли сне, то ли видении. Но откуда…
— Это был сон.
— Сон?
— Сон.
— Ну, сон так сон.
Серега недоверчиво смотрел на Леху. Оба они теперь были уверены, что циркач никому не приснился. И оба старались убедить себя в обратном.
Молча, не сговариваясь, они пошли в сторону холма, где стоял шатер. Его было видно практически с любой точки города. Их обгоняли люди. Непривычно веселые и говорливые. Но шли они не к шатру, а куда-то в сторону.
…
Вчера его еще не было, а сегодня как из-под земли вырос — небольшой фургон, на котором огромными буквами было написано: «Любопытство — смертный грех». Дверь была заперта. Около нее, снаружи, стояло продавленное плетеное кресло. Люди толпились, сбившись в кучки, кивали на фургон, пожимали плечами, хихикали, но не уходили. Леха и Серега подошли ближе.
— Это, наверное, комната смеха, — услышали они от одной группы людей.
— Да нет же, — возражали другие, — это комната страха.
— Да просто дурят народ, фокусники, — раздраженно отвечали третьи.
И все же людей прибывало. Леха заметил Константина Леоновича, только когда Серега больно ткнул его локтем под ребра и кивком указал на циркача. Тот был одет точно так же, как и вчера. Черный плащ, цилиндр, на руках — черные атласные перчатки. Леха усмехнулся. Вот что значит ночь. Вчера в темноте этот дядька показался едва ли не жутким, а сегодня — просто фокусник.
— Дамы и господа, если вы пришли за забавой, можете уходить. Это не место для игр, — начал Константин Леонович. — Люди здесь сходят с ума. Поэтому, если вам дорога жизнь и… — Константин Леонович покрутил рукой у головы. — Ментальное здоровье, рекомендую пойти домой, заварить чаю и заняться своими делами.
Константин Леонович сел в плетеное кресло и положил ногу на ногу. Толпа негромко загудела. Леха огляделся. От толпы отделился дядя Вася, махнул рукой, развернулся и ушёл.
— Мудрое решение, — кивнул Константин Леонович и подался вперёд. — Но если вы готовы рискнуть, если вам обрыдла ваша сонная, скучная, отвратительная жизнь, можете зайти и испытать новые острые ощущения. Всего пять минут, которые перевернут вашу жизнь. Но, безусловно, я этого делать не рекомендую.
— Сколько стоит зайти? — грубовато, напустив на себя равнодушный вид, спросил незнакомый Лехе длинный тощий парень. Шпала — назвал его Леха.
— Господа, этот занятный фургончик — такая безделица, что грех было бы брать за это деньги! Чисто символически — рубль.
— А чтоб тебя, я пойду. — Шпала сделал шаг вперёд.
За Шпалой, переглядываясь и хихикая, потянулись ещё люди.
Леха не собирался идти ни в какой фургон. Он знал, что равнодушие циркового директора — напускное. И все эти «не ходите», «я вам не советую» — не более чем маркетинговый ход. А все же хорошо работает, чертяка. Первая «порция» ещё не успела выйти, а людей все больше. Откуда только узнали.
Лёха маялся. Идти домой не хотелось, плясать под дудку циркача — тоже. Вот бы поговорить с кем-нибудь из своих да посмеяться над дурацким цилиндром. Серега ушёл, не прощаясь — увидел знакомых ребят. От нечего делать Лёха присел под деревом. Здесь же валялась целая пачка афишек — так-то сотрудники цирка выполняют свою работу!
Лёха взял одну афишу. На картинке — Полечка. Интересно, как она там, отошла ли от своего обморока? В Москве Леха считал себя удачливым парнем. У него не было постоянной работы, но время от времени подворачивалась халтурка, которая приносила неплохой доход. Хватало, чтобы смотаться на пару месяцев в Таиланд или накупить Алиске шмоток. Опять же, Алиска… Красивая девчонка, ему многие завидовали. Такая девочка, конечно, требует вложений. Леха понимал, что Алиска не зря перестала писать. Наверняка ей надоели Лехины «завтраки», нашла кого-нибудь солиднее и ответственнее. Но глядя на фото Полины — на афише она была в красном комбинезоне — Леха почему-то совсем не жалел об Алиске. Алиска, друзья, халтурки — все было как будто из другой жизни. А в этой, под тяжелым желтым колпаком, не было ни вчера, ни завтра. Одно бесконечное сегодня. Скорей бы дождь.
Леха покрутил афишу. «Только три дня! Эксклюзивное представление» — да уж, представление удалось. Внизу листовки мелкими буквами было написано: «Тираж 10 тысяч, ИП Морок».
— Морок, — вслух повторил Леха. — Что за морок такой….
— Морок — это я.
Леха вздрогнул. Рядом с ним сидел Константин Леонович. Лехе стало неприятно, что циркач все время застает его врасплох, как гусар барышню. Хотелось сказать что-нибудь гадкое, чтобы он больше не подходил.
— Заметьте, Алеша, вы сами сюда пришли, — сказал Константин Леонович. — Значит, вам это зачем-то нужно. А это, — он указал на афишу, — моя фамилия. Константин Леонович Морок. Правда, Полечка здесь вышла чудесно?
Не дожидаясь ответа, он встал и пошел к двери.
— Время вышло! — громогласно заявил он, и люди вытянули шеи в сторону двери, как гуси — в сторону хозяйки, пришедшей в птичник с мешком зерна.
Леха не стал ждать, пока дверь откроется. Отбросив афишу, он поднялся и быстро пошел в сторону от фургона. Но далеко уйти не удалось. Его окликнул Петя, рядом семенила на белых копытцах, которые по какому-то недоразумению назывались босоножками, Аля.
— Ну что, ходил? — спросил Петя.
Леха помотал головой.
— Говорят, там люди с ума сходят! — воскликнула Аля.
— Брехня.
— Сама слышала! Дядя Вася всем растрепал!
Леха посмотрел на часы. Кажется, циркач обещал новую жизнь за пять минут? Значит, скоро будет выходить следующая группа. Остаться или уйти? Петя и Аля тянули его к фургону. Аля все дергала Петю за рукав и повторяла:
— А я тебе говорю, чокаются там люди! Сейчас выйдут дурачками.
Все трое подошли к фургону. Циркач стоял тут же, спокойно подкручивал ус и поглядывал на часы. Заметив Леху, Петю и Алю, он подмигнул всем троим и снова уставился на часы. Леха отвернулся и увидел под деревьями людей. Среди них был и Шпала. Похоже, это те самые, которых пустили первыми. Шпала яростно тер руками лицо, оно распухло, покраснело и стало похоже на коровье вымя. К нему подошли Тишкинские — Серега, Рыхлый, еще пара человек, имен которых Леха не знал. Рядом со Шпалой какая-то женщина обхватила руками колени и, кажется, подвывала. А может, это где-то скулила собака.
Дверь фургона открылась, Константин Леонович отошел в сторону. Толпа замерла. Первой выходила женщина. Она шла с вытянутыми руками, как слепая. Кончики пальцев дрожали. Она шла медленно, будто ощупывала ногами пол. На ступеньках женщина чуть не упала, и Константин Леонович подал руку:
— Осторожно, мадам. Вы, кажется, слегка утомились. Пройдите к деревьям, там изумительно хорошо.
Женщина часто-часто закивала головой, как фарфоровый болванчик. Вслед за фаянсовой женщиной потянулись еще люди, Лехе не хотелось смотреть.
— Понятно, что это какой-то фокус, — с сомнением, будто пытаясь себя убедить, сказал Петя. — Вот бы разгадать.
— Не ходи! — испугалась Аля.
— Не ходи, — повторил за ней Леха. — Я сам пойду, — добавил он.
Разозлившись на себя за недавний страх, а на циркача — за его дешевые манипуляции, Леха решительно шагнул к фургону.
— Что вы там с людьми делаете? — грубовато спросил он, уперев руки в бока, мол, чхать я хотел на ваши фокусы-покусы.
— Господа, я ничего не скрываю, — округлил глаза Константин Леонович. — Каждый желающий может зайти и убедиться, что фургон пуст! Там нет никакого механизма, фокуса или хитрости! Заходите, пожалуйста!
— Не ходи, — прошипела на ухо Аля.
— Включи диктофон на запись, потом послушаем, что там, — зашептал с другой стороны Петя.
Леха отмахнулся от обоих.
Ему совсем не хотелось идти туда, откуда люди выходят в неадеквате. Но эта улыбка сквозь усы, это покровительственное «Алеша» были сильнее. Хотелось утереть нос выскочке в глупом цилиндре, который возомнил себя владыкой мира.
В следующую секунду Леха был уже внутри. В центре помещения стоял стул, над ним тускло светила лампочка, а больше ничего и не было. Прав Петька, надо включить запись, аккуратно спрятать телефон, а потом послушать, что и как.
«Посмотрим еще, кто кого».
— Увы, не могу похвастать богатым интерьером, но стул оказывается очень кстати, если нет сил стоять, — заявил Константин Леонович Лехе и тем нескольким любопытным, которые зашли осмотреть фургон.
«Еще и издевается».
— Вы ведь останетесь? — скорее утвердительно, нежели вопросительно сказал циркач, глядя на Леху. — Если хотите, исключительно из симпатии к вам, можете остаться здесь один. А то, знаете, вопли соседей иногда мешают…
Леха ничего не ответил, а Константин Леонович уже обернулся к остальным:
— Господа, если вы не нашли ничего крамольного, прошу покинуть помещение.
Еле слышно он сказал Лехе:
— Ваш сольный выход.
Когда Константин Леонович вышел, свет погас. Леха хотел включить фонарик на телефоне, но понял, что не понимает, куда девался телефон. Лехе стало жутко. Не то чтобы он боялся темноты. Но глупо ведь стоять просто так и ждать непонятно чего.
Они заговорили неожиданно. Как будто он случайно влез в чью-то беседу. Голоса шептали. Они начались как будто из ничего — из шелеста травы за окном, из ветра, поглаживающего стены снаружи, из скрипа старого линолеума, из вздоха самого Лехи. Они возникали и заполняли собой все пространство. Кажется, будто бестелесные существа заскользили вокруг. Он оборачивался, почти кружился, пристально вглядывался в темноту, но замечал только признаки движения — что-то мелькало, что-то касалось то лица, то рук. А впрочем, возможно, все это только казалось. Чувство, что он здесь не один, зародившееся где-то глубоко в кишках, заливало, раздувало, поднималось выше, пережимало легкие. Хватая ртом воздух, Леха думал, пытался думать: «Это всего лишь гипноз, это только шоу». Он был уверен, что циркач сейчас ведет какую-то трансляцию, где глуповатые герои — это они, жители городка. А кто-то сейчас на другом конце мира смотрит и смеется. Нажимает кнопку «ЕЩЕ» и глядит-таращится на то, как люди корчатся не то от страха, не то от боли. «Чертов циркач», — пытался думать Леха, пытался бороться.
Почему здесь так странно пахнет? Гнилью, кровью, как в мясном отделе на рынке, куда он в детстве ходил с матерью за свиными ушками на холодец. И эти голоса — они плыли, ломались, превращались в рычание. Казалось, будто рык зарождался где-то в голодной утробе, лез вверх по пищеводу, звук смешивался со зловонием, чтобы волной извергнуться на Леху. Запахи заползали в нос, он пытался задержать дыхание, увернуться, но его одновременно распирало изнутри и сдавливало снаружи, Лехе вдруг показалось, что его выдавило из собственного тела, как зубную пасту из тюбика. Он не понимал, где находится — внутри, снаружи, живой или мертвый, стоит на земле или висит в воздухе. Он пытался нащупать стул, но хватал пальцами пустоту. И тогда Леха закричал. Во всяком случае, хотел закричать — он открыл рот, чтобы дать крику выйти, но вместо этого чужие, потусторонние звуки и запахи хлынули в эти внезапно открывшиеся двери. И Леха сдался.
Звук ножа по стеклу — так выковыривают душу. Тишина тридцать секунд, слышно только биение сердца. И когда Лехе стало казаться, что он уже распался на атомы, что его нет, а остатки мыслей просто растекаются по воздуху, как табачный дым, появилась полоска света. Открывали дверь. Там люди, там свет, там жизнь. Леха собрался, как конструктор, обратно в человека, его тошнило — может, какие-то детали встали не на свои места? Шатаясь и подволакивая ногу, Леха шел к выходу. Все кончилось, неужели все кончилось…
Аля и Петя смотрели, как Леха, шаркая ногами и спотыкаясь, выходил из фургона. Он осматривался так, будто впервые видел этот холм и этих людей. Лицо перекосило, нос подергивался, рот уехал куда-то вбок.
Леха не помнил, как он дошел до деревьев. Он просто знал, что должен оказаться здесь. Рядом со своими, которые тоже побывали там. Как же хорошо не в темноте. Над ним склонились знакомые лица. Леха сосредоточил взгляд. Петя и Алька!
— Ребята, — хотел сказать он, — вы даже представить не можете, что там! Ребята, это не мошенничество, это другое.
Так хотел сказать Леха. Но изо рта выходило только мычание.
— Господи, что же там такое? — спрашивала, наклонившись к нему, Аля.
— Не ходите туда! — промычал Леха. Но ни Петя, ни Аля его не поняли.
— Я пойду, — неожиданно заявил Петя, — хочу сам… Посмотреть.
— Не ходи, — заныла Аля и обхватила Петю за шею, — смотри, что там с людьми делают.
— Со мной этого не будет. Я сильный. И смелый. — Петя выкатил грудь унылым колесом. — Ну, я пошел.
— Дурень, не ходи, — кричал внутри себя Леха, но тело предательски размякло и с трудом шевелилось. Только губы разъехались в глупую улыбку.
— Видишь, он уже улыбается. Это все… не для неженок просто.
Аля с сомнением посмотрела на Леху. Петя решительно шел к циркачу. Аля, неловко переступив через Лехину руку, засеменила следом.
— Стойте, идиоты, — молча кричал Леха и тянул к ним руку.
А со стороны казалось, что он приветливо машет вслед. Аля на ходу обернулась и помахала в ответ.
— Кажется, оклемался, — сказала она Пете.
Петя уже заходил внутрь.
…Когда спустя два дня цирковые сворачивали шатер, Константин Леонович снова стоял на холме и смотрел вниз, на город. Ветер усилился, ему приходилось придерживать плащ рукой. Подошел Василий, встал рядом.
— Ну как, удачно заехали? — спросил он.
— Да, вполне.
— Мы здесь лет тридцать не были.
— Пожалуй.
— Новый отсчет?
— Да. Мы сюда еще вернемся. Только сделаем кружок.
Вася коротко хрюкнул.
…Аделаида Викторовна выглянула в окно. Когда же пойдет дождь, ожидание невыносимо. Тучи ходят вот уже два дня и все никак. Она посмотрела на холм. Хорошо было видно, как там суетятся люди — хотят собраться до грозы. Ей тоже надо выйти во двор, снять белье с веревки. Она перестирала все Лехины вещи. Но кто знает, когда они теперь понадобятся.
— Чертов Морок, — сказала она вслух, с вызовом глядя на холм. — Нашел себе кормушку.
Константин Леонович глубоко вдохнул влажный воздух и сыто улыбнулся.

Этюды
Едва простившееся с ночью небо сливается с бетонной крышей подъезда. Улица — серая пустыня. В груди студентки, закутавшейся в пальто, как в каменную броню, разрастается, скребется, царапается червяк тревоги — вот-вот перемелет ребра в труху. Через пару минут на улицу вынырнет ее младшая сестра, и Лине опять придется на ощупь пробираться через лабиринты спрятавшихся от ее глаз улиц.
Ничего страшного не произойдет — убеждает себя Лина, держа в покрытых цыпками руках телефон с открытым списком дел на сегодня: отвести Катю в музыкалку, сходить на три пары, купить молоко, хлеб и «Сникерс» маме, подготовиться к завтрашнему семинару по социологии. Обычный день.
Но ехидный голосок в голове насмехается: может быть, именно сегодня, в этот самый обычный день туман, сожравший жизнь Лины, сожрет и ее саму.
Она живет в белом мареве уже почти два месяца. Однажды мир без предупреждения растекся перед ее глазами, будто кто-то пролил молоко на картину: ей чудилось, что воздух стал тяжелее, глаза покрылись слоем пыли, в уши напихали ваты. Тошнило — от всего тошнило.
Через считаные дни ядовитый туман отравил каждую клеточку тела.
Она заразилась. Все вокруг казалось каким-то ненастоящим — как в старом фильме с неудачной цветокоррекцией: привычные образы, знакомые лица — все родное, но почему-то стухшее. И она сама — стухла. Выцвела.
Но люди вокруг как будто ничего не замечали. Друзья сказали — недосып. Мама сказала — выдумываешь. Лина почти поверила.
Всего лишь обман зрения. Скоро пройдет.
Но глаза она все-таки решила проверить. Так, на всякий случай. Окулист отправил ее к психотерапевту: расплывчатый образ дяденьки в очках выписал ей рецепт на какие-то страшные таблетки: оказалась, она больная. Неправильная. Жалкая. Даже предположительный диагноз казался смертельным приговором. Доктор сказал: нужно запастись терпением — и Лине захотелось вылететь пулей из кабинета, хлопнув дверью. Ждать? Как она может позволить себе ждать, когда дни и так ускользают из пальцев клубами дыма, когда мгновения слипаются в комок вонючей слизи, когда мозги леденеют, глаза врут, когда из человека превращаешься в туманного призрака. Она остановится — и от нее совсем ничего не останется.
Доктор понимающе улыбнулся. На мгновение туман развеялся — будто свет одинокой звездочки пробился через облака в ночи, — и Лина расплакалась. До сих пор не знает почему.
Оказалось, терпения у нее немало — живет на нем вот уже два месяца! Она все так же чувствует себя немного больной, немного неправильной, но старается жить дальше: каждый день пишет списки дел и не успокаивается, пока не поставит рядом с каждым пунктом галочку — доказывает себе, что она не жалкая, что ей не нужно ставить жизнь на паузу и дожидаться, пока станет легче.
Но червячок в груди неустанно повторяет: терпение скоро закончится. Когда-нибудь туман станет совсем густым и, как зыбучие пески, утащит под землю.
Страх плющом обвивает шею: вот он, момент, когда она задохнется, съежится в камешек, а потом обратится в пыль, кровь отливает от лица, а кожа покрывается ледяной коркой — надо дышать, ее учили в такие моменты глубоко дышать, но морозный воздух режет горло.
— Пойдем? — будто бы откуда-то издалека доносится до нее голос выскочившей из дома сестры.
Лина нащупывает ладонь Кати: теплота родного человека согревает, как чашка какао — и собирается в еще одну горячую звездочку.
— Пойдем.
Лина знает каждый поворот на пути к станции метро. Знает, где сделать шаг шире, чтобы не споткнуться о бордюр. Где переступить через ограждение газона, где обойти фонарный столб. Мимо «Магнита», мимо дома 107А, потом — перейти дорогу.
Если она постарается, сделает вид, что знает, куда идет, ей поверят. Может, она даже поверит в это сама.
Чем ближе они подбираются к музыкальной школе, тем быстрее шагает шустрая, как солнечный зайчик, Катя. Размахивает руками, идет с подскоками, рассказывает про своих подружек из музыкальной школы, хвастается тем, как на прошлом занятии по сольфеджио написала диктант с первого же прослушивания.
Катя любит занятия в музыкальной школе. А Лина любит Катю — и даже ядовитое марево в голове не остудит сверхновую, взрывающуюся и согревающую целый свет каждый раз, когда сестра смеется с забавным хрюканьем.
И даже когда Катя, наспех попрощавшись, исчезает за дверьми музыкалки, туман не пытается душить Лину. Комок в горле слегка твердеет, сквозняк снова режет щеки ледяными когтями, а сверхновая остужается до щадящего огонька — и все-таки светит.
Из открытой форточки доносится фортепианная мелодия: звуки разлетаются по серому небу стаей ласточек по весне. Простенький этюд — кажется, Черни. Лина когда-то сдавала его на экзамене в этой же музыкалке — в другой жизни, когда она хваталась оценками по сольфеджио и рассказывала маме про своих подружек, когда мир вокруг был ярким и острым, когда утро пахло инеем.
Она может задержаться. Послушать, вздохнуть, осмотреться. У нее есть пара минут, а потом — на пары и дальше по списку дел. Через сквер, мимо веселого дедушки, раздающего листовки с рекламой маникюрного салона и называющего всех женщин «цветиками», и в метро.
У нее есть пара минут: даже если дни утекают из пальцев, даже если Лине страшно — безумно страшно — останавливаться и рисковать утонуть в тумане — она, наверное, может позволить себе подождать.
Что, если совет запастись терпением — это все-таки не приговор?
Лина прячет ладони в карманы пальто и опускается на лавочку. Замирает, чтобы рассмотреть аппликации из красных кленовых листьев на асфальте. Чтобы вспомнить запах осенней свежести. Чтобы послушать этюд Черни, фугу Баха, гамму ми-мажор: туман, может, и не скоро рассеется, но даже через него иногда пробиваются звездочки.
Она дарит себе окропленное верой терпение и когда-нибудь сможет склеить историю из разбросанных во времени пестрых этюдов.
Лина достает телефон, открывает список дел на сегодня и, пока из форточки доносятся последние аккорды, дописывает: «скачать ноты Черни».

Бобы и горошины
1
В мае 2016 года мы решили, что в июле приступим к планированию детей. Запланировали планирование. Я помню, как Паша ходил между кроватью и стеной и активно жестикулировал ― он только что поговорил со своей матерью, и их разговор вдруг свелся к обсуждению деторождения. Мама намекнула ему, что нам «уже пора». И он ответил ей, что да, наверное, пора. А теперь он ходил и пересказывал, и строил планы. Я сидела на кровати, подпирая спиной изголовье, слушала и кивала. Мы уже несколько раз вели подобные беседы ― обычно я приставала к нему с вопросом «когда?», а он говорил «надо еще подождать». Я сказала:
― Ну супер. Если я забеременею в июле, то рожу в двадцать шесть лет. Неплохо, неплохо.
Почему-то мы были уверены ― как и большинство бесплодных пар в самом начале пути ― что я забеременею сразу, с первой попытки.
― Бесит меня только, ― сказала я, ― что ты ждал отмашки от мамы.
Паша ничего не ответил.
Июль был выбран не случайно. В июле моя младшая сестра Нина выходила замуж, и мы хотели как следует повеселиться на её свадьбе, выпить вина и поплясать, а потом — как порядочные люди ― стать трезвенниками и забеременеть.
2
Мне и смешно и грустно, когда я вспоминаю нас в мае 2016 года. Такие славные ребята: хороший, правильный мальчик и ― под стать ему ― хорошая, правильная девочка. На конкурсе хороших, послушных деточек мы бы разделили с ним первое место.
3
Мама говорила: «Для женщины главное — выйти замуж и родить детей».
А ещё она говорила: «Ты невероятно способная, у тебя феноменальная память».
А ещё она говорила: «Для мужчины главное — секс».
А ещё она говорила: «Спать до брака нельзя — поматросит и бросит».
И еще: «Я в твоем возрасте читала запоем».
А потом: «Надо меньше читать, помни: у нас в роду были шизофреники».
И даже: «Ты слишком умная, давай покрасим тебя в блондинку, помни: мужчины не любят умных, они любят дурочек».
4
После свадьбы Нины мы отправились в Грецию в «семейно-свадебное путешествие» — тип свадебных путешествий, практикуемый только в наших семьях и вызывающий у знакомых и друзей смесь недоумения с восхищением. Девятнадцатилетние молодожены, мои родители, мы с Пашей и родители Паши. В Греции было хорошо. Отель стоял на скалистом берегу маленькой бухты, вечером пляж погружался в молочные сумерки — солнце садилось за отелем, и мы ни разу не видели заката. На песке валялись огромные серые камни, было приятно сидеть на них после ужина и смотреть на гаснущее летнее небо. Помню, в один из дней Паша наступил в воде на морского ежа, и у него долго болела ступня. А однажды вечером за нами гналась стая лающих греческих собак, когда мы бродили по частному сектору за отелем, но нам удалось оторваться. Мы съездили в Афины и Нафплион, а в последний день отпуска валялись на полудиком каменистом пляже в городке Лутраки. Море было парное, порывистый ветер — тоже. Фото последнего дня — мои любимые. Вот я, барахтаясь в прозрачной воде, целую Пашу в нос, вот я — там же — целую маму в щеку, а мама умиротворенно смотрит куда-то вдаль, вот мы с Ниной сидим на берегу, укутавшись в полотенца и прижавшись друг к другу.
5
Рассказ об этом отпуске — все равно что геологический срез земли, вот такая вот дурацкая метафора. Сверху один слой — праздничный, лубочный, сладкий. Сверху есть вот это вот «мы», и мне нравится говорить «мы». Большое «мы» — это фотография на фоне афинского Акрополя. Но есть еще маленькие «мы»:
«мы»: я и Нина — хихикающие сплетницы
«мы»: я, Нина, мама и папа — бывшая образцовая ячейка общества с тонной общих воспоминаний
«мы»: я, Паша и его родители — люди с общей фамилией, которые никак друг к другу не привыкнут
«мы»: я, Паша, Нина, Денис — молодая парочка постарше и молодая парочка помладше — у молодых людей, путешествующих с родителями, должно быть много общего, не находите?
и наконец, «мы»: я и Паша, Паша и я, Паша, Паша, Паша и я, я, я, я я я я я яяяяяяяяяяяя, мы.
6
Все хорошо, но мы с Пашей ссоримся. Я дребезжу, я брюзжу, я обижаюсь, я раздражаюсь. У наших родителей разные интересы и предпочтения. Одни хотят вечером гулять по пляжу, другие по центру поселка, в столовой одни выбирают стол у окна, а другие возле двери, под кондиционером. Мы занимаемся перетягиванием каната. Мы торгуемся. «Сегодня мы гуляем с твоими, а завтра — с моими». Я злюсь, когда мы наедине. Я говорю: «Твои родители… такое! такие! они такие неправильные!» (имею в виду: грубые, деревенские, хвастливые, богатые!) Паша смотрит на меня грустно и сочувственно и говорит: «Ты злая».
А потом раздражение отступает, и я удивляюсь, что чувствовала подобное. Я извиняюсь. Я говорю Паше, что на самом деле я очень люблю его родителей и очень люблю его и понимаю, как ему тяжело все это слушать.
7
Неопределенное «после свадьбы» уже начинает сливаться с бесконечностью, когда мы наконец решаем заняться сексом без презерватива. До меня Паша дважды был в отношениях и всегда занимался сексом в презервативе. Но я знаю — из рассказов подруг — что мужчины бывают разные:
Муж Оли сказал: «Предлагаю прерванный половой акт, но я могу забыться. Если ты забеременеешь, ну что ж…»
Парень Ани сказал: «Мне неудобно в презервативе, давай ты будешь пить какие-нибудь таблетки?»
Парень Поли сказал: «Я снимаю презерватив, меня он бесит».
Ответственный Паша так боялся внебрачных или несвоевременных детей, так боялся инфекций и молочницы, что никогда не снимал презерватив. Я думаю об этом пункте Пашиной биографии с нежностью, мне это нравится, я ощущаю его своим двойником — осторожным, спокойным, понимающим. Хотя позже поток мыслей на эту тему неизбежно упирается в досаду — и вот мне уже кажется, будто вся эта разумность задавливает — в нем, во мне, в нас — страсть, легкомыслие, безбашенность, эгоизм, гедонизм, саму жизнь.
8
Паше понравилось. Он сказал, что секс без презерватива действительно ярче. Я пытаюсь вспомнить, что почувствовала я, что я сказала. Но я ничего не помню.
Зато помню, как в тот же вечер в ресторане — мы все сидели за большим столом перед окном с видом на море — папа предложил мне вина, но я отказалась. Он несколько раз спросил меня, будто не поверил, но я повторяла: «Нет, не буду». Кажется, у меня был насупившийся вид.
9
Есть большое «мы», есть маленькое «мы», а есть «я». И в Греции мое «я» дало трещину, явив две части сознания, которые отныне с нарастающим отчаянием начнут упражняться в подавлении друг друга. Часть меня будет уверена, что я беременна, окончательно и бесповоротно («наконец-то, вот в этот цикл точно, я это знаю!»), и она будет упорствовать еще несколько лет, пока не проиграет. Эта часть будет фантазировать, как я об этом всем расскажу — Паше, родителям, его родителям, сестре, подругам. Эта часть будет видеть признаки беременности во всем — в набухшей груди, в отсутствии или усилении аппетита, в головокружениях, плохом настроении, плаксивости — во всем, что на самом деле для меня обыкновенно. В этой части сознания сконцентрируются все осколки моего магического мышления — «не передавай через порог», «не ставь сумку на пол, а то…», «надо жить, надо любить, надо верить», «надо поставить свечки, ведь… », «надо отправить эсэмэс, чтобы…», «надо помолиться», «я точно знаю, что все будет хорошо». Именно эта часть, сгорая от столкновения с реальностью, будет напоследок сводить меня с ума, и я буду видеть «знаки» — проводить странные манипуляции с датами рождения и получать «ту самую дату», везде видеть «близнецов» — на подаренной брошке и на новом платке. А однажды я поеду в Зачатьевский монастырь и там, обнаружив икону Ксении Петербуржской («это же моя святая! откуда она в Москве? знак!»), зарыдаю и окончательно поверю в чудо.
10
Вторая часть моего сознания будет знать, что я не могу забеременеть и я не забеременею, возможно, никогда, потому что…
…я больна, больна уже давно, но врачи не хотят ставить мне диагноз, диагноз мне ставит только интернет, но интернет не может ставить диагноз, а поэтому я не больна, я выдумываю, я просто гнию изнутри, я гнию, потому что я плохой человек — высокомерный, самонадеянный и бесстыжий, я снобка и считаю, что жизнь должна преподносить мне все на блюдечке с голубой каемочкой, и так всегда и было, но не в этот раз, потому что за все хорошее в жизни надо платить, потому что…
11
Я знала, что в Греции я не могла забеременеть, потому что в Греции, сидя на ободке унитаза, я в тысячный раз за последние годы гуглила:
«черная слизь в середине цикла норма ли это»,
«коричневая жижа в овуляцию»,
«черная мазня норма»,
«обильные черные слизистые выделения с кровью в середине цикла что это».
Гугл всегда с садистическим наслаждением сообщал мне, что это. С термином «эндометриоз» я сначала шла к своим родственницам-гинекологам. Бабушка говорила, что я мнительна, что у эндометриоза другая симптоматика — «такие сильные боли, что на скорой увозят, и откуда он вообще у тебя может быть», что нужно меньше читать в интернете, что нужно заниматься сексом без презерватива и вообще надо уже просто рожать и «поменьше рассматривать свои трусы».
Свекровь смотрела меня на УЗИ, говорила, что матка и яичники выглядят отлично, и молча выслушивала мои сбивчивые объяснения («ну и досталась же ему странная девочка»).
Гинеколог по месту жительства назначила мне витамины и сказала, что я описываю безобидный овуляторный синдром — якобы когда созревает яйцеклетка, у меня где-то в брюшине лопаются сосуды, и поэтому идет кровь. «Надо укреплять сосуды», — резюмировала она.
Иногда мне действительно казалось, что у меня, наверное, галлюцинации. Никто не видел того, о чем я рассказывала. Черные слизни никогда не вылезали на свет в гинекологическом кресле или во время секса. Иногда признаки внутреннего разложения являли себя в тот момент, когда я была не одна, но я не могла никого сделать своим сообщником, потому что для этого надо было бы побороть стыд и хотя бы на мгновение сменить отвращение к собственному телу на сочувствие. Но я этого не умела и довольствовалась словами «у меня опять эти странные выделения». Мне ужасно хочется обвинить их всех — Пашу, маму, бабушку, свекровь, докторов — в том, что никто из них никогда не сказал мне «а ты можешь мне их показать?», но это глупо — разве это как-то могло мне помочь? В минуты бессильной злобы я просто всегда ищу виноватых.
12
Я возвращалась в Москву, абсолютно уверенная в двух вещах: я наконец-то беременна и у меня начинается новая жизнь, и я неизлечимо больна и этот ад никогда не закончится.

Папа хочет спать
Мама села на диван и положила на пуфик распухшую после операции ногу. Я только что поставила «лайк» под видео, в котором кошка смешно скакала перед зеркалом.
— Устала, мамуль?
— Да вот. Шкандыбаю. Не могу поверить, что мне уже восемьдесят. Все время крутится в голове фраза «возраст дожития», и она меня убивает.
— Восемьдесят — это здорово. Радуйся, что ты так долго живешь. Не всем это дано.
— Я радуюсь, — вздохнула она. — Но вот, понимаешь, зовет. Уже давно зовет.
— Глупости. Ты сама себя зовешь и черт-те что накручиваешь.
— Мне больше ничего не интересно, и меня это пугает. Об одном жалею: слишком мало внимания я тебе уделяла.
— Знаешь, мам, самый мой счастливый год в детстве был, когда ты поехала в аспирантуру в Москву и взяла меня с собой. Мне было пять. Мы хоть и мыкались в общежитии, но ходили по театрам и на каток. Ты покупала мне красивые книги.
— Ты там все время болела. Поэтому пришлось отдать тебя папе.
— Вот это было ужасно. Два года с ним. Он напивался, как свинья. Помню, пришел домой, обоссал стену, выбросил в окно все мои игрушки и заснул на полу. Часто лупил меня ремнем. Я плакала, но никто меня не слышал.
— Да ты что? Я не знала.
— Как это так, ты не знала? Он же постоянно забывал меня в детском саду! Я ночевала у воспиталки дома, спала на русской печи с ее детьми. Он подбрасывал меня чужим людям, которым я мешала. Я жила у них месяцами и наблюдала за мышами, вылезавшими из-под плинтуса, потому что было абсолютно нечем заняться.
— Надо же, а мне все говорили, что он прекрасный отец. Я поэтому спокойно училась в Москве.
— Не знаю, кто тебе это говорил. Тогда я, конечно, не понимала, насколько была несчастна. В детстве не сидишь и об этом не думаешь. Просто принимаешь ситуацию.
— Меня оправдывает то, что я хотела ни от кого не зависеть материально.
— Да я тебя ни в чем не обвиняю. Но так странно. Неужели ты не знала, что он не являлся домой ночевать и что у нас иногда жили какие-то бабы и гладили мне платьица?
— Нет. Не знала.
— Не надо было мне эту муть поднимать. Прости. Честное слово! Зря это все.
— Почему же ты раньше мне этого не говорила?
— Ты никогда не спрашивала.
— Я и сейчас не спрашиваю.
***
Папа преподавал почвоведение в Уссурийском сельскохозяйственном институте и постоянно мотался в командировки по Дальнему Востоку. Иногда он брал меня с собой в экспедиции и, пока он копал шурфы, я исследовала окрестности — холмистые леса Сахалина или кукурузные поля возле какой-нибудь Занадворовки. Сценки из детства: галечный пляж у речушки, где плодились стрекозы, оставляя на камнях серые шкурки личинок — я рассматриваю слюдяные вертолетики, дрожащие над бликами воды; я отбиваюсь от деревенского петуха, который прыгнул мне на грудь и начал клевать лицо — реву и окровавленная бегу к отцу, но никак не могу его найти; сижу тихо в лабораторной палатке и методично плюю в пробирки. Папа все удивлялся, что за жидкость такая набирается в штативе, пока не застал меня за этим увлекательным занятием.
Когда мы возвращались в Уссурийск, я бродила по улицам города и по коридорам старого здания сельхозинститута, где вдоль стен стояли витрины с образцами колосков, чучелами лис и бурундуков и схемами горизонтов грунта. Иногда я шла к воротам железнодорожного депо, и вахтеры кормили меня ирисками. Вернувшись домой, играла в пустой квартире и перечитывала свои тоненькие книги, пока не являлся папа. Когда я просила его рассказать мне на ночь сказку, он начинал так: «Приходит муравей наниматься на работу, а ему говорят: “Извините, у нас нет вакансий”». После этого он сразу засыпал, сидя на моей кроватке, и растолкать его я не могла.
***
Когда мне было четырнадцать, родители развелись и создали новые несчастливые семьи, между которыми я металась, как теннисный мячик. Однажды я пришла к отцу домой на юбилей, где за накрытым столом его ждали семья и гости, но папа так и не появился. Звонили с поздравлениями коллеги и студенты — он был уважаемым ученым. «Такой человек, — сказал папин старый друг дядя Коля, накладывая себе в тарелку тушеного папоротника со свининой, — скорей всего, напился на работе и уснул под столом». Он был прав. Папа пришел домой утром — заспанный и помятый.
Отец никогда не спрашивал, как я живу. Мне казалось, что он даже не хочет ничего обо мне знать. Он всегда переводил разговор на то, какие идиоты руководят Академией наук. Выговариваться и искать у него поддержки было нелепо, и я перестала пытаться.
Правда, когда я осталась одна с новорожденным сыном, папа регулярно приносил мне рюкзаки с картошкой и маринованными помидорами в трехлитровых банках. Но внука лучше было с ним не оставлять — мог вывалить его из коляски или включить чайник на тумбочке рядом с диваном, на котором ребенок кувыркался. Однажды мне позвонила папина жена и сказала, чтобы я больше своего сына к ним не приводила — деду не до внука, а ей некогда им заниматься.
***
Я уехала за границу и пятнадцать лет не хотела возвращаться домой, считая недоразумением то, что именно этот человек дал мне жизнь. Я вспомнила череду безобразных пьянок и весь ассортимент моих обид, и не нашла ни одного драгоценного воспоминания, связанного с отцом. Я совсем по нему не скучала. Мама приезжала ко мне в гости, а папа даже ни разу не позвонил. Я вывела себе формулу, что все хорошее во мне от матери, а все плохое — от отца.
Но однажды я получила по электронной почте письмо о том, что у папы был инсульт. Он упал в своем кабинете, и его не сразу нашли. Скорая ехала слишком долго, потом врачи застряли с ним на носилках в лифте на полтора часа. «Схлопотал по полной», — подумала я, но вместо торжества в душе поселилось беспокойство.
Вскоре у мамы под коленкой обнаружилась меланома, и я поехала на родину. Провела две недели с ней и напросилась в гости к отцу.
Папина семья организовала встречу в китайском ресторане. Я увидела седого старика с клюкой, который еле передвигался. От папы в нем остались только карие глаза — они выжидательно смотрели на меня. Не зная, что ему сказать, я обняла его и села рядом.
И тут случилось невероятное. Папа не стал пить водку, он начал вспоминать.
Рассказал, как однажды приехал в Москву знакомиться с родственниками мамы. Мамина тетя сказала, что жених слишком лохматый и что нужно отвести его в парикмахерскую. Мама оставила его в очереди и пообещала вернуться через два часа. Папа из-за джетлага плохо соображал и кивками отвечал на какие-то вопросы мастера. Пока он боролся со сном, с ним что-то делали, а потом посадили под сушку. И он уснул. Когда мама вытащила его из-под сушки, очередь начала ржать. Жесткие черные волосы вздыбились тугими спиралями — настоящее «афро». Оказалось, что у него спросили, не хочет ли он сделать завивку, и он ответил утвердительно. В таком виде она привела его к тете. У тети случилась истерика: сквозь хохот и слезы она выдавила, что раньше он выглядел лучше.
В студенческие годы после ночной смены в кочегарке папа засыпал на лекциях. Однажды он проснулся в пустой аудитории, вышел в коридор и нашел в расписании следующий урок — военную подготовку. Пришел с опозданием, преподаватель дал ему автомат Калашникова и сказал, что надо потренироваться его разбирать, а то завтра экзамен. Папа кивнул и пошел в общежитие. Положил автомат под кровать и лег спать. Через полчаса к нему в комнату ворвались люди с криками «Где автомат?». Папа, оторопело продрав глаза, спросил: «Какой автомат?» Военрук, обнаружив калаш под кроватью, орал, что выгонит его из института и из комсомола. Папу потащили к ректору, и тот спросил: «Ты зачем украл автомат?» «Да не крал я автомат! Я спать хотел». — Папа чуть не плакал, объясняя, что пытается прокормить жену с новорожденной дочерью. Ректор все понял и, не желая терять лучшего студента института, замял это «антисоветское» дело.
— Папа, почему ты мне раньше этого не рассказывал? — изумилась я.
— Некогда было, — ответил папа.
За большим столом семья разделилась на болтающие группки, а я, войдя в журналистский раж, начала расспрашивать отца про его детство. Я чувствовала себя Индианой Джонсом, который нашел пещеру с сокровищами. Вот он, этот резвый мальчишка, такой похожий на своих непоседливых внуков: однажды он удрал из дома в лес, утащив за собой чугунную гусятницу — пошел за грибами. Смеркалось, и мать нашла его по следу от тяжелой посудины. Он ее увидел за деревьями и рванул, еле поймала. Как-то сшила ему красную рубашку из своего платья и пошла с ним к механикам на станцию техобслуживания по делам. Ее все уговаривали вступить в колхоз, но она отказывалась. Предпочла развозить зарплату на лошади по разбросанным в лесистой местности деревням. Во дворе МТС, которая обслуживала техникой два колхоза, пацана в красной рубашке чуть не забодала корова. Прижала к забору так, что тот посинел. Мимо шла тетка Александра, младшая сестра матери, которая жила с ними в доме-пятистеннике, она и спасла его. Мальчик бродил по деревне один, нашел заброшенную библиотеку, в которой провалился пол, а книги остались. Залез туда, сам научился читать и полюбил книги так, что, будучи взрослым, всегда забивал квартиру книгами от пола до потолка.
Когда мой дед ушел на войну, папе было несколько месяцев. Дед вернулся через пять лет. Пацан обнаружил мужика, спящего в сенях, и не понял, кто такой. Тот: «Сынок, сынок!» Потом долго привыкали друг к другу. Дед служил на юге и был ранен на войне — ему прострелили легкое. В больнице было жарко, он выходил и спал почему-то на дереве. После выздоровления его послали в Крым, откуда только что депортировали татар, греков и прочих нерусских. Говорит, страшно выли собаки в опустевших деревнях. Стоит на посту, подходят собаки и кошки, а солдат им ничем не может помочь.
***
Отец рассказал мне, почему у него и его друга Коли в молодости отнимались ноги. В шестидесятые годы они исследовали грунты побережья Камчатки и шли пешком в сторону Елизово по семнадцать километров в день, по дороге набирая образцы. Какие машины? Тогда ничего там не было, никаких дорог. Были редкие деревни в несколько домов. Ночью отлеживались, а потом — неподъемный рюкзак на плечи и опять в дорогу. Страшно хотели спать, но нужно было идти дальше.
Сказал мне, что служил в воздухоплавательных войсках в шестидесятые. На воздушных шарах.
— Как это на воздушных шарах?
— Тогда из Европы к нам заплывали воздушные шары и сбрасывали листовки с пропагандой. Вот наши и решили сделать то же самое.
— Дирижабли, что ли? И что, ты прямо на дирижаблях летал?
— Да никуда я не летал. Меня в армию не взяли из-за плоскостопия. Это были летние сборы.
— Но что ты там делал?
— Там химии было много — щелочь, опилки, водород. А мы химики были.
— И что, ты прямо в небо улетал?
— Да нет, надували шары, и они поднимались на три метра.
— А почему так низко?
— Боялись, что в Китай улетят. Тогда у нас плохие отношения были с Китаем.
Каждый раз, когда я звоню, он рассказывает мне историю, и особенно мне понравилось про то, как он, будучи молодым преподавателем Сельхозинститута, привлек своих студентов к экспериментам над редиской. Редиски получились длинные и толстые — величиной с локоть. Когда явилось начальство узнать, как они это сделали, никто не смог объяснить.
***
Через год я приехала хоронить маму. После поминок зашла к отцу. Он сам открыл мне дверь — его семья была в отъезде. Он передвигался медленно, но намного лучше, чем год назад. Сказал, что обязательно восстановится — делает гимнастику, разрабатывает пострадавшую от инсульта руку и пьет витамины. На столе стоял компьютер с открытым документом. Папа пишет статьи про гумус и сою, учит студентов по интернету и даже собирается в командировку. Может, мне показалось, но на голове у него появились черные волосы.
«Тебя бьют, а ты крепчаешь, — сказал он, — надо только не бояться получать по мордам».
— Так и живу, — ответила я. — Просто не знала, что научилась этому у тебя.
Мы долго сидели у него в комнате, и он рассказывал мне про своего деда и его восемь сыновей, которые служили еще в Красной армии. Наконец, я собралась с духом и спросила: «Папа, почему ты так часто забывал меня в детском саду?»
— Я тебя не забывал. Я весь извелся из-за этой проблемы. Вот представь, утром едешь в поле, а вечером оттуда выбраться не можешь. То машина сломалась, то бензина нет. Выходишь на дорогу, чтобы ехать на попутке, а никто тебя не берет. И телефонов тогда не было нигде.
***
Папа мне по-прежнему не звонит и крайне редко пишет. Иногда на Фейсбуке я вижу его комментарии под постами знакомых — он навязался в друзья даже к родственникам моего мужа-американца. Меня коробит досада от его не к месту вставленных поговорок вроде «а воз и ныне там», особенно переведенных Гуглом на английский. Но я представляю себе, как мучительно и с каким упорством продолжает бороться за жизнь этот человек на другом конце планеты, и я думаю: «Папа проснулся». И стараюсь проснуться сама.

Человек под тополем
I
Мама в Ватсапе: Сколько стоит перевезти тело узнай пожалуйста
«Перевозка тела Анапа-Кемерово» — еще один экспонат в кунсткамеру самых криповых запросов, где-то между «симптомами рака», «опасно ли растительное масло для макбука» и «как понять порвался ли презерватив».
Окей, гугл. Первые четыре результата — реклама. Мысленно сочувствую контекстологам и спускаюсь в царство Аида. Сайт ритуальных услуг встречает фотографией директора: он сидит в кресле, а у него за спиной, на стене, вместо портрета президента или хотя бы губернатора — венок. Погребальный венок с пластиковыми цветами. В разделе отзывов у них, наверное, тоже лампово: рад быть похороненным вашим бюро. На следующем сайте выскакивает огромная кнопка «вызвать ритуального агента», ниже: «сегодня агента уже вызывали 6 раз». Скролю, плывя вниз по течению Стикса. Ритуальный бизнес — это как Инстаграм-магазин: цены — только в директ, то есть по запросу. В конце концов, крупицы разрозненной информации складываются в чек: груз 200 обойдется в сумму от 50 тысяч рублей до бесконечности. Что мы говорим богу смерти? Сделайте скидку постоянным клиентам, пожалуйста.
Пишу маме о проделанной работе. В ответ: Types… Types… Types… rfn.if gthtpdjyb rfr ,eltn dhtvz gj;fkeqcnf& rjulf ns gjtltim r ltle? Сдается под натиском технологий и перезванивает. Пересказываю свое сообщение еще раз. Решаем, что для начала надо уговорить дедушку на переезд, а там разберемся. Мама желает мне хорошо добраться. Собираю сумку.
II
В идеальной вселенной я шикую капучино в Шереметьево. Но в нашей что-то (всё) пошло не так: я боюсь летать и поэтому бегу к привокзальной «Билле». Поезд через 20 минут. Бутылка воды, шесть дошиков, пачка печенья и три антисептика — мой техрайдер на ближайшую пару суток. Продолжительность жизни человека 70 лет. Это 25 550 дней. 3 дошика в день — 150 рублей. Всего 3 832 500 рублей для сытой жиз…
Кассирша: Девушка, вам какой пакет?
10 минут до отправления. Несусь сквозь толпу с масками на подбородках, считая вагоны. Мой! В руках проводницы птичками трепыхаются паспорта.
Проводница: Здравствуйте. Ваши документы. Откройте на нужной. У вас 24 место. Счастливого пути. Здравствуйте. Ваши…
Когда на перроне остаются одни курящие, проводница объявляет пять минут до отправления.
Поезд вздыхает. В предчувствии невообразимо длинной дороги, которую человеку без механизмов никак не одолеть, пассажиры замолкают. Сперва стучит медленно, затем быстрее. Тук-тук-тук, тук-тук, тук, тук-тук. Поезд пробирается сквозь заросли гаражей и складов, что обильно родит земля городских окраин. Осмелев, поезд несется мимо дачек, электроопор, деревьев, полей.
кто вы и откуда
все вопросы как на ладони
я маленький желтый будда
в вонючем плацкартном вагоне
Мои соседи по плацкартному закутку — мужик с двумя дочкам. Девочки дерутся за смартфон и требуют чипсы. Они едут к бабушке и выходят в Омске. А я через полсуток после схожу в Анжерке (Анжеро-Судженск). Добираюсь до Кемерова на автобусе. После въезда в город водитель останавливается по моей просьбе. Дальше пешком.
III
В детстве деревья выше. Ложь. Они отлично растут, когда тебе 10 лет, а потом за 20, к 30 они вырастают исполинскими чудовищами, затем тебе несколько раз по 35, а они растут, растут, растут. К твоим сорока деревья вырастают так мощно, что уже не сможешь разглядеть макушек без хруста в шее. Никто их не трогает, никто не мешает им прорывать корнями слоёк человечьего асфальта. В битве «дети против деревьев» побеждают деревья. Эти тополя победили всех нас: кроны шумят океаном, застилая неапольскою тенью половину улицы.
На другой половине стоят почерневшие деревянные дома. Среди них — заброшенная школа. В начале 20 века ее спроектировал архитектор Йоханнес ван Лохем: первый этаж кирпичный, надстройки-башенки — из дерева. Сюда приезжали американцы и голландцы: они собирались построить город будущего для социалистического мира, а построили город прошлого для меня. Эти приметы европейской культуры растворяются в типичном архитектурном экстерьере, обрамленном разбитыми тротуарами и мусором в траве — в тон вездесущему профнастилу.
Я сворачиваю на свою улицу. Вдали видны трубы: это заводы на противоположном берегу Томи. Горит газовый факел: мы называли его вечным огнем и, кажется, пока не ошиблись.
в городе где теплотрассы выше неба
а трубы еще выше
трудно слышать призывы ветра
и что-либо вообще слышать
о чем ты молишься в этом дымном храме
когда плывёшь сквозь святую копоть?
о вечном пламени
о проходящей памяти
о черных руках рудокопов
Я иду вдоль домов. В некоторых из них жили мои друзья. Теперь там живут как будто бы другие люди, чьи имена и фамилии подозрительно совпадают с именами и фамилиями ребят из моего детства. Прохожу мимо контейнера с мусором, куда приходилось залезать проигравшим в карты. Прохожу мимо ивы, под которой мы мастерили шалаши. Прохожу мимо соседей — когда-то тут жили шахтеры — супружеская пара. Сейчас — заводчица шпицев. И вот я возле своего дома.
IV
Дом — это половина дома на две семьи, с огородами, которые прерывает обрыв и река. К дому ведет двор. Раньше здесь росла черемуха в форме буквы Ч, сидя на ней, я проЧитала «Последнего из могикан» — победителя моего личного рейтинга Самых скучных историй об индейцах. Ч срубили лет десять назад: ветви могли повредить крышу. Осталась только куцая i.
Я поднимаюсь на крыльцо, потом прохожу сени, хотя их так никто у нас не называл. Просто коридор. Или холодный коридор. Каждая семья говорит на своем языке.
бандура — большая неповоротливая штука
зелепушка — укроп и лук-порей
мокрица — двухвостка
пастись — есть в огороде красную смородину с куста
пицца — пирог с яйцами, колбасой, помидорами и картошкой
подвязки — полоски капрона, нарезанные из старых колготок, для подвязывания кустов помидоров
полянка — детская площадка
рожки — макароны
стайка — сарай
хохоряшки — мелкие вещи
целковый — деньги, но сколько именно в пересчете на современные, я не знаю
Дедушка плохо слышит, и я боюсь его напугать внезапным появлением, поэтому кричу с порога: ДЕДУШКА.
Скидываю обувь и иду в комнату. Дедушка, прислушиваясь, смотрит перед собой. Секунда. Он замечает меня в дверном проеме и удивляется лбом.
Дедушка: Здравствуй, Катенька.
Мы обнимаемся. Раньше первой всегда обнимала бабушка.
V
На кухне греем чайник и едим бутерброды. К моему приезду дедушка купил ломоть ветчины — как всегда больше, чем нужно. Ненавижу себя за эту мысль. Чтобы ветчина не испортилась, придется ее есть три дня подряд. Ненавижу себя и за эту мысль.
Дедушка: Катенька, ты кушай-кушай.
Я: Кушаю! А ты почему ничего не ешь?
Дедушка: Да мне-то зачем, я свое отъел.
Я: Дедушка, не говори так.
Дедушка: Это же правда. Столько не едят.
Стыдно за то, что мне нечего возразить. Тогда преувеличенно шумно начинаю рассказывать о своем путешествии — поезде, масках, пассажирах. Кажется, это семейное: мы оба пытаемся компенсировать отсутствие нужных слов — я белибердой, дедушка ветчиной. Но даже белиберда когда-нибудь заканчивается.
Я: Мама сегодня звонила?
Дедушка: Она обычно вечером звонит.
Я: Она говорила, что они почти доделали отопление.
Дедушка: А, да. Это прекрасно.
Я: И купаются каждый день.
Дедушка: Ну что ж, это правильно.
Кажется, меня разоблачили, но я все равно пытаюсь.
Я: Может, хотел бы погостить пару месяцев? Там много места.
Дедушка: Куда мне.
Я: Было бы здорово, если бы поехал. Я бы чаще приезжала. Всем бы было спокойнее.
Дедушка: Катенька, я все, я здесь уже.
Мы возвращаемся в спальню: дедушка ложится, открывает «Хождения по мукам» и достает лупу. Я устраиваюсь с ноутбуком за его письменным столом — местами сукно на столешнице порвалось, но в остальном это прежний пышноногий деревянный гигант, только теперь на нем вместо стопок дедушкиных лекций — бумажные клочки с названиями лекарств и номерами телефонов: Игорь уголь 8 ХХХ ХХХ ХХХХ, ремонтник 8 ХХХ ХХХ ХХХХ, Оля такси 8 ХХХ ХХХ ХХХХ и так далее. На полках стоят фотографии в рамках: мама, бабушка, прабабушка.
В конце жизни все родные стали такими маленькими
что поместились на полке
только толку
Только толку: дедушка почти ослеп на один глаз, второй видит с трудом, но ведь видеть, чтобы помнить, не нужно.
Я: Бабушка такая молодая здесь. Это вы на речке?
Дедушка откладывает книгу и, немного подумав, отвечает:
Дедушка: Эта? Да. Она очень стеснялась, не хотела, чтобы ее фотографировали в купальнике.
Я: А вот эта — это с мамой?
Дедушка: Эта? Нет, это с племянницей. Твоя мама родилась через год.
Я: А эта?
Дедушка: Это я со своей мамой. А это в огороде. Кто фотографировал? Не помню.
На фотографии бабушка в ситцевом халате и ведром в руке, дедушка стоит чуть поодаль и смотрит на нее, скрестив руки. Им здесь около сорока.
Вечером я видела мышь. Она шмыгнула за шкаф. На мое предложение объявить войну дедушка только развел руками.
Дедушка: А зачем? Вместе веселее.
Вот бы всем мировым лидерам выдержку моего дедушки.
VI
Следующим утром я пошла в магазин, а на обратном пути увидела Леху. Сначала будет привет, потом это унизительное а ты меня помнишь, потом он спросит, зачем я приехала, начнет рассказывать о себе: развелся, работает, но вот-вот они с мужиками замутят бизнес. И все. Пфух. Вместо тонкого, гибкого Лехи, похожего на Орландо Блума и Джуда Лоу одновременно, но с кудрями, вспоминая о том, как мы лежали мокрые на горячем песке на берегу Томи, я отныне буду представлять его — уставшего человека с залысиной на лбу, который видит ребенка раз в неделю. Ради справедливости признаюсь, на Орландо Блума Леха все еще немного похож. И, кажется, он тоже об этом знает, иначе только ненормальный решился бы отрастить надгубную полоску усишек. Когда мы проходим мимо друг друга, время липнет к подошвам, и кажется, что мы долго рассматриваем лица — он мое, а я его. Еще шаг. Не узнал.
Вечером сижу в комнате дедушки. Я пишу статью о финансовой грамотности (какое лицемерие), а дедушка смотрит перед собой. Краем глаза вижу, что он будто шевелит губами.
Я: Ты что-то говоришь?
Дедушка: Что?
Я: Говорю, ты что-то говоришь?
Дедушка: Нет, это я так. С мамой.
Я: И как, отвечает?
Дедушка: Как тебе сказать…
Я: Вспоминаешь?
И вдруг дедушка начинает рассказывать.
VII
Дедушка: Дед со стороны отца был военнообязанным. Он дослужился до статского советника. Дедушка со стороны моей мамы был военным офицером. Служил в Томске. Как это называется… Сейчас военкоматом, а тогда по-другому. Не могу вспомнить. Дворяне — и с той, и с другой стороны. Служили в армии, служили преподавателями. И в революцию пошли — и с той, и с другой стороны. До революции жили достаточно хорошо. Мой дед разошелся с моей бабушкой, ушел из семьи, за что его потом недолюбливали. Осталось трое детей — две сестры, мои тетки, и мой отец. Он обеспечивал их. Отец уехал учиться в Москву. А моя мама вместе с сестрами закончила Томскую гимназию. Мама была старшая, после курсов тоже отправилась в Москву, поступила на высшие женские курсы Герье (Московские высшие женские курсы, организованные историком Владимиром Герье в 1872 году — мое прим.). Московский университет тогда еще женщин не принимал, а Томский уже был открыт.
Я: А как твои родители встретились?
Дедушка: В Москве, после начала занятий. Существовали так называемые землячества — объединения студентов по месту происхождения. В Москве было Сибирское землячество. Собирались вечеринки и так далее. На одной из таких вечеринок они познакомились, шел 1914 год, начало войны. Моя мама пишет в своих воспоминаниях, что в Москве этого почти не чувствовалось: также выступал Шаляпин, Комиссаржевская. Никаких перебоев с питанием. Потом грянула Февральская революция: временное правительство, суматоха, стихийное бегство солдат с фронта. В 1917-м году родители уехали в Томск. Отец там окончил юридический факультет. Потом началась гражданская война: вместе с руководителями крестьянского движения воевали против Колчака. Кстати сказать, Губернский рынок, на котором ты тоже бывала, расположен на улице Щетинкина. Он как раз один из руководителей. Они с отцом были близко знакомы. После войны Щетинкин приходил к нам домой в Новосибирске. Родители мамы остались в Сибири. Дед мой, который был офицером, ни на той, ни на другой стороне в борьбе не участвовал. Отошел от политической деятельности, потом работал бухгалтером. А куда делся тот дед, который ушел из семьи, неизвестно.
VIII
Дедушка уже дремлет. За окном поднимается ветер. Телефон вибрирует — уведомление из ВК: Леха добавил меня в друзья и прислал сообщение: Че не здороваешься? (а ты почему)
И следом: я видел тебя сегодня на большой окружной (я тебя тоже)
Еще одно: это же ты была? не узнала? (я, узнала)
Контрольный выстрел: я щас подойду.
Потушить в доме свет, закрыть входную дверь и заблокировать его в соцсетях.
Вместо этого отвечаю: Привет! Прости, забегалась, не узнала. Давай потом увидимся (нет-нет-нет), а то сейчас уже поздно.
Леха намеков не понимает и пишет, что ничего страшного, и он уже совсем рядом. Я выхожу за калитку. Возле стайки с углем курит Леха.
Леха: Привет.
Я: Привет, я еще подумала, что, может, ты, а может, и не ты.
Леха: Надолго приехала?
Я: На выходные, к дедушке.
Леха: Сходим куда-нибудь?
Я: Да я же уже завтра уезжаю.
Леха: Тогда пошли прямо сейчас.
Леха намеков не понимает. Мы идем в сторону дома Лехи. Его отец умер год назад, его мать умерла давно. Теперь Леха живет один в таунхаусе, который тоже построили голландцы: двухэтажные беленькие домики с мансардами предназначались для семей специалистов. Квартира начинается с прихожей, потом сразу кухня. Я где-то читала, что так делают в Европе. В гостиной у Лехи живут два монстра не европейской наружности: допотопный сервант и молодящийся диван. Втиснутые между ними, мы пьем чай на хлипком столике.
Я: Все как пятнадцать лет назад.
Леха: Ну типа.
Я: Помнишь, мы тут со всеми пили пиво, а потом пришел сосед с ружьем.
Леха: Помню.
Я: А помнишь, как вы пошли бить кому-то морду из-за Марины.
Леха: Этого не помню.
Я: Я видела у тебя фотки в ВК. Ты женился.
Леха: Уже развелся.
Я: И как там братство кольца?
Леха: Как-то херово.
Я: Жаль.
Леха: Дочку жаль.
Я: Где работаешь?
Леха: Администратором в магазине. А ты?
Я: В каком магазине? Я в журнале.
Леха: Пишешь?
Я: Ага. Так в какой магазин?
Леха: Спорттовары в ТЦ «Южный».
Я: Нравится?
Леха: Не очень.
кризис тридцатилетия
это похлеще
чем монтекки и капулетти
Я: Странно каждый раз возвращаться.
Леха: Ко мне?
Я: Да нет, вообще, сюда, в город, на эту улицу. Понимаешь?
Леха: Нет, я тут всю жизнь.
Я: То есть я знаю, есть мой дедушка, ты тут живешь, но каждый раз мне кажется, что все должно замереть до моего следующего приезда.
Леха: Как в игре?
Я: Вроде того. Я, кстати, хотела к вам в универ поступать после одиннадцатого.
Леха: А почему не стала?
Я: Не знаю.
Леха вытягивает шею и целует меня, точнее, коротко присасывается к области между губой и носом. До меня не сразу доходит, а когда доходит, я отворачиваюсь, задевая коленкой столик. Лужа.
Я: Леша, зачем?
Леха: Ну ты же сюда зачем-то пришла?
Я: Поговорить просто.
С улицы послышались голоса, в дверь постучали.
Леха: О, все равно бы не успели.
Недовольный Леха пошел открывать, а я стала представлять, как нас будут убивать и грабить. Или не будут. В комнату вваливаются Антон и Серега.
Серега: Ого, девчонки!
Леха: Да нет, блин, это же Катя. Помните? Катя. Из Красноярска. Она летом всегда приезжала.
Антон: А, Катюх, ты что ли?
Я: Я. Привет.
Серега: Бля, ой, извиняюсь, то есть: ты что ли подстриглась?
Я: Ага, надоели длинные.
Серега: Ну круто, тебе идет.
Антон: А чо ты у нас делаешь.
Я: Просто болтаем.
Антон: Да не, в городе.
Я: К дедушке приехала.
Серега: Он еще жив? Круто! Сколько ему.
Я: 95 в этом году.
Серега: Нихуя, ой, извиняюсь, то есть: это круто! Чо делаешь по жизни?
Я: Работаю.
Ребята уселись пить пиво: прям как 15 лет назад. Я не была готова к столь детальной реконструкции событий и между первой и второй смоталась.
собаки лают в темноте
не те не те
не те не те
IX
Сквозь августовский туман проклевывался рассвет. Сколько таких рассветов видел мой прапрадед, что полюбил другую женщину. Умна ли она была, шутила ли, какой суп предпочитала к обеду, и был ли счастлив он или же всю жизнь жалел? А мой прадед? Что он чувствовал, выходя из своего рабочего кабинета карательного Отдела юстиции Сибревкома и направляясь домой, к жене, к сыну. Что он чувствовал, когда получил десять лет лагерей в 34-м? Что чувствовал мой дед, когда его не принимали в университет как сына врага народа? Что он почувствовал, когда его отец, уже совсем больной человек, вернулся домой? Что должна почувствовать я, узнав об этом? Это полотно написано в технике сфумато. Только со временем границы размываются сильнее, и однажды все человеческие фигуры сольются в одну бесполую тень, уходящую в глубь холста. Точка, крупиночка. И даже я не смогу указать на место, где белело это пятнышко. Мы — цивилизация забвения, которая, будто пациент, только что узнавший о своем Альцгеймере, хватается за любые ниточки памяти: одни сплетаются, другие путаются, третьи рвутся. Единственное, что я могу сделать для своих уходящих близких (нет, для себя) — это отметить их могилы на гугл-карте.
X
Мы с дедушкой пьем чай. Вечером мне уезжать.
Я: Давай договоримся, осенью я приеду к тебе, и мы вместе поедем к родителям?
Дедушка: Катенька, мне уже сложно это.
Я: Займем все купе и будем так же пить чай. Нам бы очень хотелось, чтобы ты жил поближе.
Дедушка: Что ж, так получилось. Я бы тоже хотел, чтобы вы были поближе.
Я: Или, может, хотя бы в гости, на пару месяцев. Подумаешь?
Дедушка: Ну… Подумаю.
Я: Если что-то случится, мы тебя привезем сюда. Обещаем, рядом с бабушкой.
Сегодня жарко, мы идем в огород. Там запустенье, и только одна живая грядка — с цветами. Их дедушка выращивает в память о своей, о нашей Вале. Дедушка берет лейку и черпает воду из бочки.
кому ты сегодня роешь могилу
милый
чабрецу
или
японской сливе
Я: У родителей тоже есть огород. Ты там тоже можешь выращивать все что угодно. Научил бы маму, как ухаживать за помидорами, а то у них вечно…
Мы стоим рядом и смотрим в сторону реки. Реки не видно, ее закрывает стена тополей на обрыве.
Я: Ветки обрезали?
Дедушка: Пришлось. Во время ветра опасно.
Я: Здоровенные, да? А спилить совсем не думал? Речку бы стало видно.
Дедушка: Мы посадили их с Валей, когда переехали в этот дом.
Я не знала этого. К твоим 95-ти тополя вырастают до неба и крепко держат корнями. В 95, когда самые близкие живут на фотографиях, с тобой остается только твоя любовь, которую никто не вправе отнимать. Да и возможно ли.
Мне кажется, что если закончу этот текст, то все это закончится вместе с ним и превратится в вымысел.
Поэтому
я не

Летнее чтение
— Нет! Я не поеду! Я без тебя не поеду! Так нечестно! — Мне казалось, у меня голова лопнет от собственного крика, а маме хоть бы что. Но это правда было нечестно. Маме обещали отпуск в июне, а уже июль, мы уже сняли дачу на Оке и должны наконец-то ехать! Вместе! В отпуск!
Мама смотрела грустно и немного устало, как будто я не кричала только что, а мы мирно беседовали:
— Понимаешь, малыш, такой шанс бывает раз в жизни. Если я, ну, наша фирма, получим этот контракт, мы с тобой и на море поедем, и куда угодно. Понимаешь?
— Лето тоже бывает раз в жизни. — Я выдохлась и захлюпала носом: «Вот всегда так!»
Теперь мама летит в Париж. А я еду на дачу — с Кларой. Она будет за мной присматривать. Она кубинка и смешно говорит по-русски, с такими ошибками! Клара — невеста сына маминой подруги, ищет подработку на лето. «Лучше няня, чем в Макдональдс — так?» — говорит она, улыбка сияет на смуглом лице. Тоже мне няня, ей лет восемнадцать, не больше.
Мама поехала нас устроить, а завтра у нее самолет.
В электричке жарко, и все время что-то продают. Мама покупает нам с Кларой мороженое. А еще только полпути проехали — город Чехов.
— Ой, Мусик! — спохватывается мама. — Я твои книжки забыла!
Мы с мамой договорились, что будем каждый день читать по списку. Людмила Петровна напугала маму, сказала, что у меня скорость чтения почти самая низкая в классе. И теперь мама переживает, что я у нее совсем не читаю, а осенью уже в четвертый класс! Я люблю, когда мама мне читает, тогда у меня в голове как будто показывают кино. А когда я сама — только стена из букв, не кино, а сплошные помехи.
Ну, вообще-то свои журналы о животных я взяла, а вот стопка, которую приготовила мама, так и осталась в прихожей. А я не стала напоминать.
Но у мамы, как она говорит, «на ловца и зверь бежит». После продавщицы мороженого и продавца шлангов вошла тетенька с книгами, и мама купила у нее страшно толстую «Хрестоматию для чтения в классе и дома».
— Ой, бумага газетная! И шрифт такой слепой! — тут же стала сокрушаться мама. — Ладно, почитаешь недельку, а потом я наши книжки привезу.
Дача оказалась маленьким домиком в саду у хозяйки. Две комнатки и кухонька, она же прихожая, и терраска. Одна стена вся покрыта плющом, за домом малина, интересно, ее можно рвать? И сосны растут прямо на участке, а между ними гамак. Эх, если б мама не уезжала!
Вот как так у мамы получается?! Десять минут поговорила с хозяйкой — тетей Милой, и сразу оказалось, что у них есть какие-то общие знакомые. Тетя Мила тоже из Москвы, у нее дочка Нина меня на два года старше. Мы с этой дочкой посмотрели друг на друга и пошли в разные стороны. А еще мама договорилась, что хозяйка нас с Кларой будет кормить обедом и ужином.
— Все, давай, Марусик, читай обязательно! Я буду звонить! Клара, пусть она в реку не заходит далеко. Там течение!
Мама уехала, а мы с Кларой весь вечер дурачились, фотографировались, а потом делали на ее телефоне смешные лица, особенно ржачно, где она меня превратила в дедушку с бородой.
Но я рано обрадовалась, у Клары оказался характер полицейского. Сразу после завтрака она бухнула передо мной книжку:
— Цытай!
Я стала смотреть содержание, хоть бы найти что-то знакомое. О, вот, «Серебряное копытце».
— «Жил… в нашем заводе… на нашем заводе… опечатка, что ли… старик один, по прозвищу Кокованя…»
— Ты плохо цытать, я ничего не понимаешь.
— А может, сначала искупаемся?
— Цытай! Сначала цытать.
Я начала сначала, а Клара стала тайком пялиться в телефон. Не, ну разве это честно! Я тут из сил выбиваюсь, а она в телефоне сидит! Вот я попала! На неделю с кнопочным телефоном, испанской инквизицией и соседской Ниной, которая на меня внимания не обращает.
И тут мне пришла в голову мысль.
— А давай я сама прочитаю, а тебе потом расскажу про что?
— Да! Пойдет! А я мама твой запишу, — Клара обрадовалась и включила сразу себе какой-то сериал по-испански.
Теперь я заранее выбирала то, что я знаю, полчаса сидела в своей комнате, а потом рассказывала Кларе «очредной книга». Клара нацепляла очки и делала вид, что следит по тексту. Но обычно она забывала переворачивать страницы, только кивала и иногда удивлялась «странный русский литература».
Всего два дня осталось продержаться. Сегодня у меня на очереди «Муму». Клара включила диктофон, а я объявила:
— Тургенев. Муму. — Я подумала, что она скажет в конце. Опять «ви такие странные»? — Ну, в общем. Была барыня, а у нее был дворник — Герасим, а у него была собака, он ее…
— Ты мне мозга не пудри! Я знаю, Му-му такой кафе. Кафе с корова. Это про корову книжка! — внезапно возмутилась Клара.
Она еще литературе будет меня учить! Я, между прочим, специально Нину вчера спросила, про что это, они уже в школе Муму читали. Хорошо! Если Кларе так хочется, пусть будет про корову:
— Ну да, это была не совсем собака, а очень маленькая корова — белая с черным. Ростом с собаку. И он, этот дворник, Герасим. Он ее так натренировал, чтоб она ему помогала дом стеречь. А он сам из деревни был. Его барыня насильно в город привезла. А он захватил из деревни маленькую корову. Он ее сначала в горшке прятал. Потом под кроватью. А потом рога ей отпилил и стал всем говорить, что это собака. Ну, то есть знаками объяснять. Он же не умел говорить. И даже лаять ее научил. Но он сам не знал точно, как лаять. Поэтому собака его, то есть корова, она мычала. Но очень грозно и по команде. И сидела на цепи во дворе. — Я очень старалась не засмеяться, поэтому смотрела в пол.
И тут я вспомнила другую историю, про Каштанку, мне мама читала. И подумала, раз уж все равно корова, пусть у меня тогда все кончится хорошо:
— А потом ее воры украли. И продали в цирк. И корову эту в цирке показывали. И она такая знаменитая стала, что про нее даже на афише написали «Только у нас — выступает карликовая дрессированная корова». Тут Герасим увидел ее на афише и понял, куда она подевалась. Потому что другой такой не было. И пошел на представление. Он стал объяснить хозяину цирка, что это его корова. Но он немой был. Говорить не мог. И хозяин его не понял. И его чуть не вытолкали. Тогда он перестал шуметь и стал представление смотреть. И тут корова его узнала, выскочила с арены и бросилась к нему. Копытцами своими обняла.
На этом месте я так растрогалась, что чуть не расплакалась:
— Тут уж никто с ним спорить не стал. Он высокий был такой, страшный. И он взял свою корову и пошел с ней домой. А по дороге на радостях отвел ее в трактир, это такое кафе, и там накормил. Косточкой. То есть, тьфу, она же корова была. Он ей щей купил, капустных. Вот. С тех пор трактиры, то есть кафе, так и называют — Му-му.
Клара заулыбалась: «Вот я и сказать так — кафе!»
А я сделала вид, что чихаю, чтоб не заржать. Представляю, какое лицо будет у мамы, когда она это послушает.

Письма воды (цикл «Чертово колесо»)
— А на это ты что скажешь? — Госпожа Лавиния протянула Летти разрезанный конверт с письмом внутри.
Летти отложила ложку. За неделю в доме госпожи Лавинии и ее бабушки Ви она так и не привыкла, что еду у нее в наказание не отнимут, да и наказания никакого, может, и не будет, поэтому и съедала по три порции абрикосовой каши каждое утро и не забывала про сандвичи.
Летти вынула письмо из конверта: буквы на нем были размыты до неразличимости. Она вытянула руки и посмотрела на письмо издалека, вдруг это прием, как на этих модных картинах, когда изображение увидишь, только если отойдешь. Нет, бесполезно. Еще и под ее пальцами бумага потемнела, а потом и вовсе начала сочиться. Летти в удивлении подняла голову на госпожу Лавинию.
— Посмотри на стол!
Прозрачная вода капала в тарелку с недоеденной кашей, отскакивала от дерева стола, брызгала на брюки Летти.
— И как мы это расшифруем? — Госпожа Лавиния спросила, кажется, с насмешкой — ее эмоции было трудно различить. Летти, гордая тем, что по раскиданным по Верхнему городу знакам смогла найти похищенного мальчика, недавно прочитала целую лекцию о шифровках для Лавинии и бабушки Ви, а теперь переживала, насколько это было уместно.
На полу кухни уже сформировалась целая лужа. Лужа пузырилась от ударов крупных капель — будто летний ливень был у Летти в руках. Но подумала она почему-то не о физической природе такой бумаги — отец всегда ее учил концентрироваться на главном — а о том, что ногти на руках у нее некрасивые, коротко стриженые. Это чтобы избавиться от оранжевой пыли Нижнего города, въевшейся и в одежду, и в легкие, и в пальцы.
— Ох, Лесное дитя, — вспоминала бабушка Ви сказку певца колоний, знаменитого Саутсинга, когда Летти выкашливала оранжевые облачка или прятала под подушкой засахаренные фиалки, подаренные клиентами Лавинии. Саутсинга им разрешали читать в работном доме: какое из нее Лесное дитя, воспитанное горными медведями? Уж всяко она поумней будет.
А у Лавинии всегда такие ухоженные руки, а она не боится ни порезаться своими ножами, ни залезть в грязь, чтобы вытащить улику.
— Перчатки! — воскликнула Летти.
Госпожа Лавиния усмехнулась и покрутила руками в тонких черных перчатках.
— Верно. Чтобы вода не текла, нужно закрыть руки.
— А чтобы прочитать?
— Вот это нас и попросили выяснить. Скорее переодевайся и пойдем, расшифровывательница шифровок, разгадывательница загадок.
— Так я готова. — Летти встала из-за стола, не забыв спрятать сандвич с мясом в карман брюк.
Бабушка Ви на этих словах с намеком кашлянула из соседней комнаты.
— Ладно, заработаем на этом деле — купим тебе платье, самое красивое розовое платье, с бантами, с розами…
Летти, нахмурившись, вышла на улицу вслед за Лавинией. Летти все никак не могла привыкнуть к Верхнему городу и совершенно невоспитанно, как сказали бы в работном доме, вертела головой по сторонам. В каждом доме могли себе позволить белые кружевные занавески — настолько чистым был воздух. Растения не задыхались от оранжевой пыли, поэтому розы как с книжных иллюстраций, и растрепанные пионы, и еще какие-то фиолетовые цветы с гроздьями, что размером с голову Летти, казалось, кричали о своем радостном благополучии.
Они дошли до дома с самым пышным садом и самыми острыми колышками ограды. Дверь на высоком крыльце открылась. Из дома доносился раздраженный мужской голос и тонкий девичий плач.
Низкорослый и остроухий сибхас встречал их у порога.
— Хозяин ждет вас в кабинете, — просипел он. — Идите за мной.
Летти совсем не удивилась его голосу. Связки сибхасам подрезали, чтобы они не выли так громко, еще в Нижнем городе. Госпиталь, где делали операции негородским народам, был недалеко от ее работного дома, потому и вой сибхасов она слышала не раз. Она умела по продолжительности звуков определять несколько значений: просьба о помощи, прощание, географические координаты. Отец научил. Возможно, именно он и написал когда-то в научном отчете об особом языке сибхасов, который позволяет через вой передавать информацию.
Сибхасы были лучшими помощниками в охоте, использовать их еще и как обычных слуг было не принято. Видимо, госпожа Лавиния думала о том же. Дернула Летти за рукав рубахи, взглядом показала на золотые оправы картин в коридоре и на белые костяные вазы, потом на ливрею сибхаса, и изобразила пальцами знак денег. Летти коротко кивнула. Обсуждать что-либо при сибхасе, даже тихо — безумие. Вон как у него уши повернуты назад, хотя и кажется, что он не обращает на гостей никакого внимания.
— Госпожа Лавиния Лидс с мальчиком-помощником. — Сибхас повел носом и открыл дверь в просторную светлую комнату. Наверное, он различает человеческих детей только по одежде, догадалась Летти.
— И пока твой брат рискует своей жизнью на Великой гряде, ты думаешь только о нарядах и танцах! — Осанистый мужчина развернулся к двери. Заплаканнная девушка в таком воздушном и таком розовом платье, словно оно материализовалось из насмешек госпожи Лавинии, вжималась в кресло.
— Прошу прощения, у нас тут воспитательный процесс, — обратился он к Лавинии. — Дети, солдаты, животные, слуги, члены городского Совета… Сами понимаете, — рассмеялся он. — Верный, проводи юную хозяйку в ее спальню.
Девушка, не говоря ни слова, поднялась из кресла и печальным розовым облаком выплыла из комнаты.
— Монеты у меня вытягивает и вытягивает, и рыдает еще все время. — Хозяин дома совершенно не стеснялся, что дочь все еще может его слышать. — Садитесь сюда, пожалуйста. Поговорить в этом доме совершенно не с кем. А ты, хм, мальчик-помощник, вон туда, на лестницу иди.
Летти села на нижнюю ступеньку приставленной к книжному шкафу лестницы. Сквозь стеклянные дверцы были видны тяжелые тома по военной истории и тубусы для карт. Напротив тоже висела карта: давняя граница по Великой гряде была не напечатана, а проведена вручную красным карандашом. «Наверное, хозяин дома был на знаменитом Разделе, — подумала Летти, — том самом, когда Верхний город получил власть над дальними горами».
На другой стене висел малиновый с изумрудным ковер, к ковру были прикреплены револьверы. Рядом висела голова пятнистого барса. Казалось, смотрит она своими стеклянными бусинами куда-то на улицу, прямо через открытое окно, или, может быть, читает с монструозного листа благодарность от Совета Верхнего города, выведенную золотыми буквами.
— Что мне шлют, вы видели. — Хозяин дома взял со стола серебряное блюдо и потряс им почти перед самым лицом Лавинии. На блюде лежало несколько писем. — Нужно разбираться! Вы не представляете, в какой я ситуации, в какой трудной ситуации город. И дела на границе, и побеги из Нижнего города, и негородские чужаки. Сибхасы давно известны, теперь еще орлята, и эти, как их, перепончатолапые…
— Фрогги, этот народ называется фрогги. — Впервые за все время в этом доме Лавиния заговорила.
— Да, фрогги из болот своих повылезали, толку, что мы им цивилизацию принесли. Это не они мне воду свою болотную шлют своей болотной магией, а? Ладно, не об этом. У меня много врагов и много соперников в Совете. Поэтому к вам. Вычислите их. Вот еще прислали. Что-то уже выяснили? — не замолкал хозяин.
— Да. Мы выяснили, что эта бумага чувствительна к прикосновению. Работать можно только в перчатках. Это редкая технология передачи вещества, я имею в виду воду, через расстояние.
— Понял, понял. Заберите эти новые. Работайте. Вы бы мальчика одели, что ли, где вы его нашли, или ее. Берете такой гонорар, а работник ваш как Лесное дитя. Читали? Саутсинг, конечно, великий. Приезжал к нам на Раздел. «Горы есть горы, болота есть болота, и вместе им не сойтись…»
Молчаливый сибхас Верный проводил их до двери. Летти вытащила из кармана сандвич и начала есть, еще не сходя с крыльца. Дверь резко захлопнулась.
— Фон был на рафделе Велифой ффяды, да?
— Еще как был. Советник — Герой Раздела! Отличился такой непримиримостью, что до конца жизни получил место в Совете. — Летти так и не понимала, говорит ли Лавиния с иронией или уважением, но на всякий случай промолчала. — Ты, если научишься говорить не во время жевания, может, тоже попадешь. — Вот это точно была ирония. — Ну и если женщин будут пускать хоть куда-то, даже таких умных. Письма я тебе, конечно, отдам на расшифровку. Будет твоя ответственность. Иди домой скорее. Джеффрис наверняка захочет перехватить это дело. У меня сейчас свои задачи.
В этот раз Летти не смотрела на розы или кружево занавесок. Мысли ее были заняты шифром. Пишут ли в письмах угрозы или предложения? Сможет ли она разгадать шифр на незнакомом языке? Зачем кому-то запугивать письмами, полными воды, если нельзя понять, что в них написано? Может, он кого заболтал до смерти, этот Герой Раздела? Летти хихикнула про себя.
Времени для работы, как ей казалось, было достаточно. Она попросила у бабушки Ви старые садовые перчатки и поднялась в комнату, которую ей выделили. Надев перчатки, она разложила письма по полу. Может быть, это одно гигантское полотно? Нет, размытые строчки не стыковались. Может быть, повторение одних и тех же слов? Слова, хоть и были неразличимы, но явно были разными.
Летти сбегала вниз, на кухню, за кастрюлей, отлила в нее воды из стоящей на столе вазы с цветами. Если это письма с водой, может быть, их можно будет прочитать внутри воды? Она окунула письма в воду. Ничего. Какой толк от нее как от расшифровщицы, если она даже код прочитать не может? Летти начинала злиться. Может, стоит подождать? Летти сняла перчатки и подошла к окну. Оно выходило на обрыв. Мимо окна проплыло облако. Вот так и она одна плывет мимо чужого дома, чужих людей…
Лавиния без стука приоткрыла дверь.
— Какие новости? Видела Джеффриса недалеко от дома нашего героя, он нас обойдет.
— Еще немного осталось, — зачем-то соврала Летти ровно так же, как врала присмотрительницам работного дома.
Дверь закрылась, а Летти подошла к кастрюле. Слова не просто не проявились, а окончательно исчезли. Сердце Летти замерло. Она. Все. Испортила. Не просто не помогла, не сделала своего дела, а испортила. Кому она нужна без своих умений?
Летти голыми руками вытащила письма из воды. Буквы не возвращались, а тепло действовало. С уже бесполезных листов бумаги на нее текла и текла вода.
Ее выгонят. Ее точно выгонят. Расскажут про побег из Нижнего города и отправят в работный дом или еще что похуже. Зачем она хвасталась, что умеет расшифровывать? Зачем рассказала про отца? Они ведь и про него узнают. И выгонят ее.
Она расплакалась, совершенно бессовестно, как какая-то долли в розовом платье. Вода с писем текла ей на рубашку и брюки. Слезы текли по лицу. Руки были в воде. Летти разжала глаза и увидела, что там, где ее слезы падали на письма, проступали слова. Никакой шифровки не нужно. Обычный, пусть и не очень грамотный городской язык: «Когда дашь ответ?», «Уже давно было обещано», «Я помог, а ты…»
Это шантаж или просьбы, неясно. Но как этот Советник мог понять хоть что-то, если на письма нужно было поплакать? От такого слез не дождешься, это же не его плакса-дочь.
Письма не ему, поняла Летти и вытерла нос рукавом.
Она бросила комнату неубраной, сбежала по лестнице, схватила свободный сандвич — бабушка Ви держала тарелку для вечно голодной Летти (и как только Летти могла думать, что та сдаст ее в Нижний город) — и в промокшей одежде побежала по улице.
Она встала у дома Советника и сделала три коротких подвывания. Сибхас Верный вскоре вышел из дома. Летти после работного дома узнала бы у кого угодно голодные глаза.
***
За ужином Лавиния вышла из-за стола и вернулась с коробками и букетом.
— Давай, открывай свою часть заработка, — сказала она Летти. — Никаких розовых платьев.
В крепких, вкусно пахнущих чистым и новым коробках лежали ботинки, несколько рубашек, кепка. Все новое, все для нее.
— А цветы тебе, бабушка Ви — фрогги по составу воды из вазы поняли, что у нас в доме любят ирисы.
— Из вазы?
— Да, Летти своим экспериментом с письмами отправила им образец. Они все-таки лучшие технологи колоний, чтобы наш Герой Раздела ни считал.
— Он не сделает фроггам ничего плохого? — испугалась Летти.
— Хотел, конечно. Кричал, как это перепончатолапые посмели писать его дочери. На это ее расчет и был. Она знала, что отец всегда будет против негородских чужаков, поэтому и обратилась к ним за помощью.
— Чтобы потом не отдавать долг?
— Конечно, — фыркнула бабушка Ви. — Точно так же, как ее отец, не сдержавший перемирия тогда, перед Разделом Великой гряды.
— Хотел, но?.. — не сдержалась Летти.
— Хотел, — продолжила Лавиния, — но новый Секретарь Совета узнал…
При упоминании нового Секретаря, самого красивого холостяка Верхнего города, бабушка Ви ухмыльнулась.
— Итак, он узнал от меня, что наш Герой потерял так много, в том числе из казны Совета, в карточной игре, что последние деньги он тратит на поиск врагов в Совете. Это и твои новые ботинки, Летти, не забывай. Из слуг у него остался один полуголодный сибхас-охотник, а дочь не имеет и монеты, чтобы отправить письма жениху и брату, и пошла просить помощи в отправке писем через воду у фроггов. Наобещала им протекции в Совете, конечно. Они надялись, писали и ей. Но теперь против фроггов никто выступать не будет.
Летти захлопала в ладоши. Лавиния покачала головой: «Лесное дитя!»
— Да, а благоустройством колодцев для фроггов будет заниматься дочь нашего Героя. Я так и сказала Секретарю Совета: нужно поручать женщинам ответственные задания, новые времена идут.

