Сентябрь-октябрь 2022
Доказательство
Похвала ночным кошмарам
Полина Иванушкина. Роман «Проводи меня до Забыть-реки»
В цветочном на Китай-городе
Вааарька!
Верх совершенства
Вода
Глава 1. Сюрприз
Голубые озера
Дед
Дорога к дому
Желание
Землянка
Испытательный срок
История К.
Морозь-ка!
Накануне
Ошибка
Пенни
По дороге
Пока не появилась ты
Полет в детство
Последний день детства
Птичка
Свет
Сон Адама
Ясновидящая
8 лет
Неудобные люди
Океан в зрительном зале
Рот подковкой
Счастливые трусов не надевают, или жизнеописание одного нудистского пляжа
Тело как память
Фруктовые сады
Бархатная стена
Вскрылось
Дед
Дознание
И всем плевать
Кайчи
Первая встреча, последняя встреча
Родненький
Сады
Три «М»
Тридцать шесть градусов
Шедевр
Шесть лет и одна весна
Эспонтоны
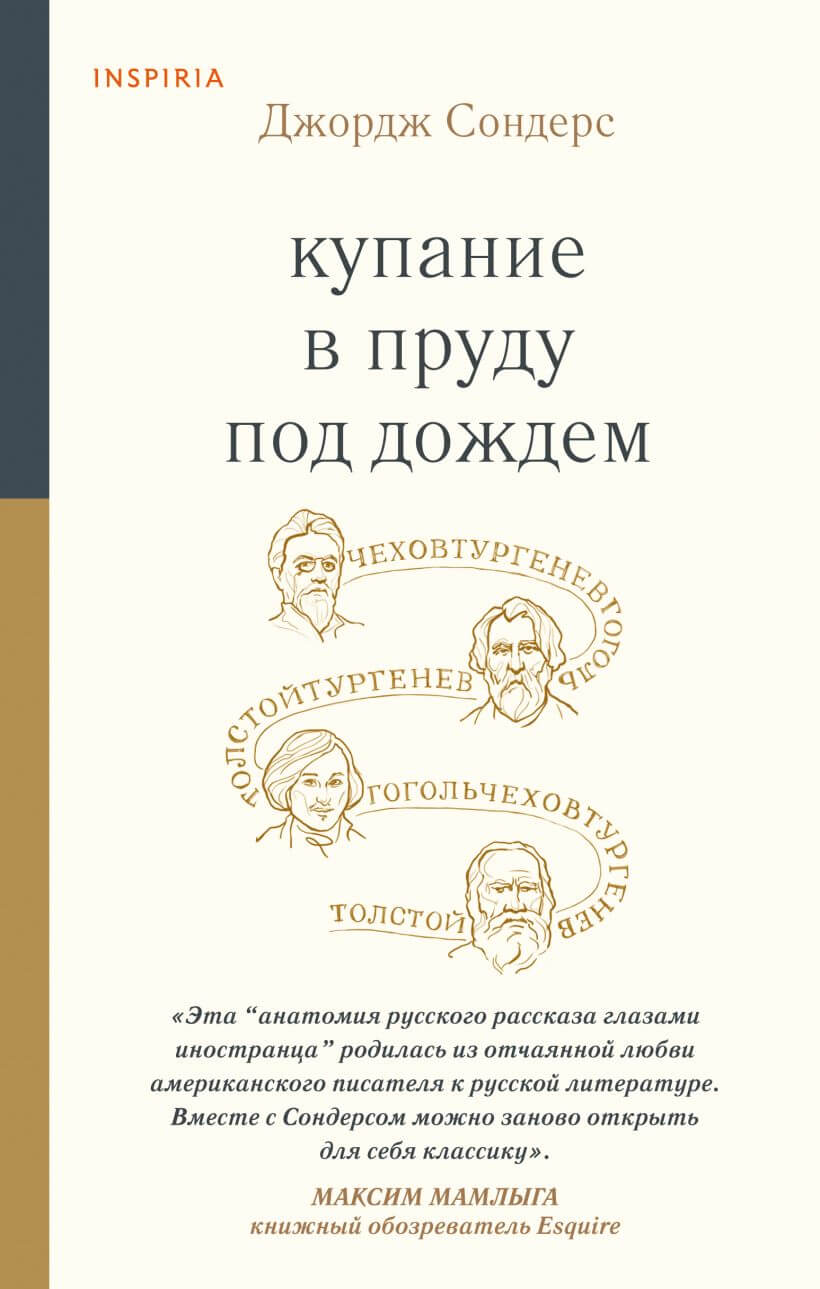
Купание в пруду под дождем (отрывок)
В издательстве Inspiria вышла книга писателя Джорджа Сондерса «Купание в пруду под дождем». Это сборник эссе, посвященных семи рассказам русских писателей — Чехова, Тургенева, Толстого и Гоголя. Тексты эссе написаны на основе курса, который Сондерс читает в Сиракьюсском университете. Обращаясь к малой форме, Сондерс препарирует писательские методы и заставляет читателей (и будущих писателей) задуматься над тем, как устроен тот или иной текст, как автор работает с его главными составляющими, удерживает читательское внимание. Мы представляем начало разбора одного из рассказов — «На подводе» Чехова. Здесь приведен только принцип, которым предлагает пользоваться Сондерс, полный разбор можно найти в книге.
ПО СТРАНИЦЕ ЗА РАЗ
СООБРАЖЕНИЯ О РАССКАЗЕ «НА ПОДВОДЕ»
Много лет назад, разговаривая с Биллом Бьюфордом, тогдашним редактором отдела прозы в «Нью-Йоркере», страдая от череды мучительных редактур и чувствуя себя несколько неуверенно, я попытался нарваться на комплимент.
— Так что же вам все-таки нравится в этом рассказе? — канючил я. Повисла долгая пауза. А следом Билл произнес вот что:
— Ну, я читаю строчку. И мне она нравится… достаточно, чтобы прочитать следующую.
Вот в чем штука — вот в чем вся его эстетика применительно к рассказу, и, вероятно, такова эстетика всего журнала. И это идеально. Рассказ — линейно-временное́ явление. Он развивается и очаровывает нас (или не очаровывает) строка за строкой. Чтобы повествуемое так или иначе подействовало на нас, нам необходимо в него втянуться.
За прошедшие годы это понимание стало для меня очень утешительным. Чтобы писать прозу, не нужны никакие великие теории. Незачем беспокоиться о чем бы то ни было, кроме одного: хватит ли разумному человеку, прочитавшему четвертую строчку, силы толчка, чтобы прочесть и пятую?
Почему мы продолжаем читать рассказ?
Потому что хотим.
А почему мы этого хотим?
Это вопрос на миллион долларов: что заставляет читателя читать дальше?
Существуют ли законы прозы — как существуют законы физики? Вправду ли что-то воздействует лучше, чем что-то другое? Что налаживает связь между читателем и писателем, а что рушит ее?
Как же нам все это узнать?
Можно вот так: проследить за нашим умом — за тем, как он движется от строчки к строчке.
Рассказ (любой рассказ) являет нам свои смыслы быстро, ритмичными импульсами. Мы прочитываем фрагмент, и возникают те или иные предвкушения.
«На крыше семидесятиэтажного дома стоял человек».
Разве не ждете вы в некотором роде, что он сейчас спрыгнет, упадет или же кто-то столкнет его?
Вам понравится, если в рассказе это предвкушение учтут, но не понравится, если рассказ подойдет к этому слишком прямо.
Рассказ можно понимать как попросту череду таких вот предвкушений/развязок.
С нашим первым рассказом — «На подводе» Антона Чехова — я намереваюсь предложить однократное исключение из «основного порядка работы», который я обрисовал во введении, и предложу как подход упражнение, которое я применяю в Сиракьюс.
Вот как оно устроено.
Я буду выдавать вам рассказ по одной странице за раз. Вы читаете эту страницу. Затем оцениваем, где мы очутились. Как прочитанная страница подействовала на нас? Что, прочитав эту страницу, мы узнали такого, чего не знали прежде? Как изменилось наше понимание излагаемого? Чего мы ждем дальше? Если есть охота читать дальше — почему?
Прежде чем приступить, давайте отметим, что сейчас, очевидно, ваш ум относительно рассказа «На подводе» совершенно чистый лист.
НА ПОДВОДЕ
В половине девятого утра выехали из города.
Шоссе было сухо, прекрасное апрельское солнце сильно грело, но в канавах и в лесу лежал еще снег. Зима, злая, темная, длинная, была еще так недавно, весна пришла вдруг, но для Марьи Васильевны, которая сидела теперь в телеге, не представляли ничего нового и интересного ни тепло, ни томные, согретые дыханием весны прозрачные леса, ни черные стаи, летавшие в поле над громадными лужами, похожими на озера, ни это небо, чудное, бездонное, куда, кажется, ушел бы с такою радостью. Вот уж тринадцать лет, как она учительницей, и не сочтешь, сколько раз за все эти годы она ездила в город за жалованьем; и была ли весна, как теперь, или осенний вечер с дождем, или зима, — для нее было все равно, и всегда неизменно хотелось одного: поскорее бы доехать.
У нее было такое чувство, как будто она жила в этих краях уже давно-давно, лет сто, и казалось ей, что на всем пути от города до своей школы она знала каждый камень, каждое дерево. Тут было ее прошлое, ее настоящее; и другого будущего она не могла представить себе, как только школа, дорога в город и обратно, и опять школа, и опять дорога…
Теперь ум у вас уже не совсем чистый лист. Как изменилось состояние вашего ума?
Сиди мы с вами в классе, чего мне бы хотелось, вы бы мне рассказали. Я же прошу вас немножко побыть в тишине и сравнить эти два состояния ума: пустое, восприимчивое до того, как вы начали читать, и то, каким оно сделалось теперь.
Не торопясь, ответьте вот на эти вопросы:
- Не глядя в текст, вкратце перескажите, что вы успели узнать. Постарайтесь уложиться в одну-две фразы.
- Что вам стало любопытно?
- Куда, как вам кажется, рассказ поведет дальше?
Каков бы ни был ваш ответ, с этим Чехову предстоит работать дальше. Уже этой первой страницей он зародил некоторые предвкушения и вопросы. Остаток рассказа вы сочтете осмысленным и связным в той мере, в какой он отзывается на эти предвкушения и вопросы (или «учитывает их», или «использует»).
Автор, задавая первый импульс своему рассказу, подобен жонглеру, подбрасывающему в воздух булавы. Весь остальной рассказ — уловление этих булав. В любой точке рассказа булавы находятся в воздухе, и мы это чувствуем. Без этого никак. Если не чувствуем, значит, в рассказе не из чего извлечь его смысл.
Можно было бы сказать, что на этой странице путь этого рассказа сузился. Перед тем как вы начали читать, возможности были неисчерпаемы (рассказ мог быть о чем угодно), а теперь мы уже читаем в некотором роде «о чем-то».
О чем же он пока для вас?
То, «о чем» рассказ, следует искать в любопытстве, которое он в нас будит, а это любопытство — разновидность небезразличия.
Итак: что вам в этом рассказе уже небезразлично? Марья Васильевна.
Теперь вот что: каково оно на вкус, это небезразличие? Как и где именно вам стало не все равно?
С первой же строки мы узнаём, что некие неназываемые «они» выезжают из города рано поутру.
«Шоссе было сухо, прекрасное апрельское солнце сильно грело, но в канавах и в лесу лежал еще снег. Зима, злая, темная, длинная, была еще так недавно, весна пришла вдруг, но для Марьи Васильевны, которая сидела теперь в телеге, не представляли ничего нового и интересного ни тепло, ни томные, согретые дыханием весны прозрачные леса, ни черные стаи, летавшие в поле…»
Я выделил полужирным шрифтом два союза «но», чтобы подчеркнуть, что мы видим два варианта одной и той же последовательности: «Условия для счастья есть, но счастья нет». Солнце сильно греет, но в канавах лежит еще снег. Зима была еще так недавно, но это не представляет ничего нового и интересного… и мы уже ждем знакомства с тем, для кого все это вот так, нисколько не утешенные тем, что закончилась эта долгая русская зима.
Еще до того, как в рассказе появляется человек1, слышно подразумеваемое напряжение между двумя элементами в голосе рассказчика: один сообщает нам о приятном (небо «чу́дное» и «бездонное»), а другой этому приятному противится. (Совсем другой был бы рассказ, начнись он так: «Шоссе было сухо, прекрасное апрельское солнце сильно грело, и пусть в канавах и в лесу лежал еще снег, не было в том беды: зима, злая, темная, длинная, была еще так недавно и теперь сгинула».)
На середине второго абзаца выясняется, что противящийся элемент в голосе рассказчика относится к некой Марье Васильевне — весной нисколько не вдохновленная, она возникает, поименованная, на подводе.
Из всех людей на свете Чехов выбрал усадить в эту телегу бессчастную женщину, противящуюся чарам весны. Рассказ этот мог быть о женщине счастливой (только что помолвленной, скажем, или только что выздоровевшей — или просто счастливой по натуре), однако Чехов решил сделать Марью Васильевну несчастной.
Затем он сделал ее несчастной вполне определенно и по определенной причине: она преподает в школе уже тринадцать лет, в город каталась вот так, «не сочтешь, сколько раз», и ей это опостылело, живет «в этих краях» лет сто, знает каждый камень и дерево на этом пути. Но хуже всего то, что другого будущего она себе представить не может.
Рассказ мог быть о человеке, несчастном от любовной неудачи, или из-за смертельного диагноза, или потому, что несчастен с самого рождения. Но Чехов решил сделать Марью Васильевну несчастной из-за однообразия ее жизни.
Из тумана любой-возможной-истории начинает возникать вполне конкретная женщина.
Можно было бы сказать, что три прочитанных абзаца послужили большей конкретизации.
Так называемая характеристика персонажа складывается из вот такой возрастающей конкретизации. Писатель задается вопросом: «Что это вообще за человек такой?» — и отвечает последовательностью фактов, из которых складывается сужающаяся тропка: одни возможности отпадают, другие выходят на первый план.
По мере создания персонажа возрастает потенциал того, что мы именуем сюжетом. (Хотя мне это слово не очень нравится, давайте заменим его на «плодотворное действие».)
По мере создания персонажа возрастает потенциал плодотворного действия.
Если рассказ начинается со слов: «Жил-был мальчик, и он боялся воды», — мы ожидаем скорого появления в тексте пруда, речки, океана, водопада, ванны или цунами. Если персонаж говорит: «Я отродясь ничего не боялся», — мы, вероятно, не возразим и против появления льва. Если персонаж живет в неизбывном страхе позора, мы более-менее понимаем, что́ с ним должно бы случиться. Так же и с тем, кому любы только деньги, или с тем, кто, по его признанию, никогда толком не верил в дружбу, — или заявляет, что так устал от жизни, как она складывается, что и вообразить себе не может другую.
Когда в рассказе еще совсем ничего не произошло (до того, как вы начали его читать), не было ничего такого, что желало бы случиться.
А теперь вот есть Марья Васильевна, она несчастна, и рассказу неймется.
Рассказ сообщил о ней: «Она несчастна и другой жизни себе не представляет».
И нам кажется, что рассказ изготовился сказать что-то вот такое: «Ну, это мы еще посмотрим».
Застряв здесь на некое, как вам, вероятно, кажется, непомерно долгое время в конце первой страницы одиннадцатистраничного рассказа, мы с вами оказались в интересном месте 1. Рассказ задвигался. Первая же страница радикально сузила диапазон возможных задач: рассказ отныне обязан решать (использовать, применять) эти задачи и никакие другие.
Будь вы писателем, что бы вы предприняли дальше? Вам как читателю что хотелось бы теперь узнать?
В переводе на английский, приведенном у автора, первый абзац текста выглядит так: «They drove out of the town at half past eight in the morning. The paved road was dry, a splendid April sun was shedding warmth, but there was still snow in the ditches and in the woods. Winter, evil, dark, long, had ended so recently; spring had arrived suddenly; but neither the warmth nor the languid, transparent woods, warmed by the breath of spring, nor the black flocks flying in the fields over huge puddles that were like lakes, nor this marvelous, immeasurably deep sky, into which it seemed that one would plunge with such joy, offered anything new and interesting to Marya Vasilyevna, who was sitting in the cart. She had been teaching school for thirteen years, and in the course of all those years she had gone to the town for her salary countless times; and whether it was spring, as now, or a rainy autumn evening, or winter, it was all the same to her, and what she always, invariably, longed for was to reach her destination as soon as possible».
На основе книги Creative Writing School вместе с издательством провели дискуссию «Как воровать у классиков». Литературный критик Максим Мамлыга и писатели Денис Банников и Екатерина Федорчук обсудили «Купание в пруду под дождем» и методы Сондерса, а также поговорили о том:
- Что сегодняшние писатели могут заимствовать у своих предшественников;
- как использовать опыт других писателей без очевидных заимствований;
- как не попасть впросак и не выбрать устаревшие методы;
- почему Чехов, Толстой, Тургенев и Гоголь по-прежнему актуальны;
- как современному писателю наращивать свой инструментарий.
- Такова особенность этого упражнения в постраничном чтении: чем лучше рассказ, тем любопытнее читателю выяснить, что произойдет дальше, — и тем сильнее досаждает это упражнение. — Примечание автора.[↑]

Писатели для писателей: 7 книг признанных мастеров короткой прозы
На многих прозаических курсах в Creative Writing School слушатели работают над рассказами. Короткая проза помогает отработать все необходимые навыки, набить руку, однако не только для того, чтобы затем перейти к крупной форме. Рассказ все больше набирает популярность у читателя, а сборники эталонной короткой прозы не остаются на полках в книжных.
Наши друзья и коллеги — книжный магазин «Подписные издания» — выбрали семь книг короткой прозы, у авторов которой есть чему поучиться начинающим писателям.
Невероятный цикл «тихих откровений» — двенадцать историй, в которых персонажи обнаруживают себя на изломе обыденной жизни, на обочине проторенной дорожки повседневности. Лорри Мур, писательница, университетский преподаватель и одна из самых видных фигур англоязычной литературы последних тридцати лет, проводит нас по сюжетам сколь классическим, столь и редким в наш век: вечера с настольными играми, семейные поездки, мгновения жизни преподавательниц и актрис средней руки. События, что происходят с ними, не кажутся глобальными или сильно превышающими градус «обыденности», но они ведут к таким частным откровениям, к которым приходишь в тишине ночи или во время прогулки. Так что «Птицы Америки» — такая вот прогулка по повседневности, литературно изысканная и гипнотически заманчивая.
2. Милорад Павич «Бумажный театр»
Хоть «Бумажный театр» и зовется романом (объединен сквозной темой и личностью автора), но по сути своей является антологией современного рассказа — он состоит из тридцати восьми историй, каждая из которых представляет одну литературную школу той или иной страны. Написали их авторы из этих стран. И конечно же, всё это — и авторы, и сюжеты рассказов, — является плодом фантазии Милорада Павича, который создал эту книгу как дань уважения странам, в которых публиковались переводы его произведений, и из желания познакомиться с литературными традициями этих мест. Знакомство вышло деятельным — для каждой страны Павич придумал автора со своей био- и библиографией и наделил вымышленный рассказ выдуманного писателя сюжетом, характерным для страны, из которой плод воображения был «родом». От Македонии до Аргентины, от Литвы до Кореи — воображение Павича и его любовь к литературе непредвзято космополитичны и изысканно находчивы.
3. Леонид Андреев «Сын человеческий»
Леонид Андреев — властитель дум и певец парадоксального, его произведения полны экстатических откровений, а биография необыкновеннее вымысла. Литературное наследие Андреева включает в себя повести, пьесы и рассказы — огромное количество рассказов. В этом сборнике — проза разных лет, порой сатирическая, порой исповедальная, поражающая всклокоченностью фантазии и описаниями бурной реальности начала XX столетия. При жизни писателя эти короткие зарисовки действовали на читательскую публику завораживающе — бывали и неистовые восторги, и громкие скандалы. Среди восхитившихся был, например, Корней Чуковский, который окрестил рассказы Андреева «трагедийными фельетонами». По «фельетонам», вошедшим в сборник «Сын человеческий», можно проследить творческую и мирскую эволюцию Леонида Андреева — от писателя реалистического толка (образца «Ангелочка» и «Петьки на даче») до трагедийно-профетической фигуры русской литературы Серебряного века.
4. Хорхе Луис Борхес «Алеф» (и другие сборники)
Величайший аргентинский писатель (по призванию) и библиотекарь (в душе) Хорхе Луис Борхес никогда не переходил границ короткой прозы — но в этих рассказах, эссе, заметках и рецензиях с легкостью преодолевал границы пространств физических и времен литературных, одинаково комфортно ощущая себя среди аккадских руин и викторианских устоев. Персонажи Борхеса подобны его фантазии — такие же неуловимые, неоднозначные, сочетающие в себе элементы сразу нескольких реальностей (бытовой и библиографической). Самый известный сборник рассказов Борхеса называется «Алеф», по первой букве еврейского алфавита, а заглавный рассказ повествует о точке пространства, которая содержит в себе все существующее. Собрания прозы Борхеса образованы подобным образом — эти краткие эпизоды литературного наследия содержат в себе всю историю мира и неискоренимые глубины человеческой фантазии, культуры и искусства.
5. Э.Т.А. Гофман «Песочный человек и другие ночные этюды»
Подобно многим писателям, оставившим след в истории литературы, Эрнст Теодор Амадей Гофман был вынужден терпеть ненавистную работу на государственной службе, дабы прокормиться, а все свободное время уделять буквам и нотам. По вечерам он завел себе привычку приобщаться к вину в разного рода погребках, а после этого в ночном томлении возвращаться домой и садиться за написание рассказов и повестей, тем самым выпуская на волю жутковатые фантазии и прорывающиеся образы, что существуют на стыке миров. «Ночные этюды» — это цикл мистических историй, превозмогающих помешательство и жертвенность, касающиеся сторон небывалых и состояний бескрайних: «Пустой дом» — о силе иррационального притяжения и колдовском магнетизме; «Sanctus» — о загадочной потере голоса оперной певицей; самая известная повесть сборника «Песочный человек» — о пучинах наваждения… Путешествия Гофмана к берегам иррационального в ладье романтизма привели к знаменательным открытиям и раскрепостили все искусство последующих лет, тревожа умы впечатлительных и вдохновляющихся до сих пор.
6. Сборник «Ночной принц»
Петербург начала двадцатого столетия обладал репутацией пространства потустороннего и таинственного, принявшего на себя все диссонансы Серебряного века. Северная столица будоражила творческие умы того времени — и писатели отражали воздействие Петербурга в своих произведениях. В сборник «Ночной принц» входят рассказы Сергея Ауслендера, Ивана Лукаша, Александра Рославлева и других, посвященные мистической стороне Петербурга, двойническим и неповторимым сюжетам Серебряного века, что витали в воздухе.
7. Амброз Бирс «Диагноз смерти. 45 коротких и точных как выстрелы рассказов-ужасов»
Рассказы, заставляющие ждать финала. Сновидческое и туманное течение повествования обрывается резким водопадом концовки, которая, кажется, совершенно не предвещалась сюжетом. Кульминация в рассказах классика литературы ужасов Амброза Бирса меняет все и переворачивает представление об описанных событиях с ног на голову, ставя как никогда жирную точку в конце каждой истории. Финал жизни самого автора такой же таинственный, как и его рассказы — в 1913 году он отправился в Мексику, где бушевала Гражданская война, и бесследно исчез, оставив потомкам лишь догадки, как могла оборваться его жизнь.

Типичные ошибки (не)типичных писателей
Меня часто спрашивают о том, какие типичные ошибки совершают начинающие авторы. Я не очень люблю отвечать на этот вопрос, потому что считаю, что концентрироваться на ошибках — это неправильно. Я стараюсь обращать внимание, прежде всего, на сильные стороны текста, на потенциал истории, на потенциал автора. Показать автору его сильные стороны гораздо важнее.
Но, конечно, у всех нас — и начинающих, и продолжающих авторов, и даже маститых писателей, — встречаются ошибки, несуразности, недоработки. Не нужно думать, что трудности в создании текста — удел начинающих. Вовсе нет, проблемы с текстом бывают у всех. Собственно, ошибки очень четко соответствуют этапам работы писателя с текстом. Ошибка — это застревание, непредвиденная остановка на одном из этапов.
Теперь по порядку.
1. Есть тема, нет идеи (послания)
Чаще всего замысел начинается с темы, с желания написать о первой любви, о последней любви, о смысле жизни, о Гражданской войне, о Франции XVIII века. У темы могут быть и более узкие рамки. Суть в том, что тема — это только фон, материал для высказывания. Тема — это, если угодно, вопрос, который задает автору жизнь, который мы задаем сами себе. А идея художественного послания — это ответ автора. Ответ мы ищем через систему образов, знаков, символов. Мы вслушиваемся в логику повествования, в логику судьбы наших героев. Идея текста рождается из нашей заинтересованности в теме, но она больше темы. Порой несоизмеримо больше. Роман «Война и мир» начинался как предыстория к повествованию о декабристах, потом замысел видоизменился, и Толстой сосредоточился на теме «война 1812 года». Но «Война и мир», конечно, не только и не столько о войне, сколько о грандиозной сложности, многогранности жизни. Но думается мне, что даже Толстой не смог бы написать этот текст, если бы сразу поставил перед собой задачу создать литературную симфонию о смысле бытия. Идея рождается из темы, но не из абстрактного желания написать что-то грандиозное.
2. Затянутая экспозиция
Эта текстовая проблема рождается из желания описать все четко, подробно и по порядку. Очень часто начинающие авторы стараются работать над текстом в той последовательности, в которой его будет читать читатель, отсюда преувеличенное внимание к началу истории, к тому, что предшествует истории, попытка объяснить героя до того и помимо того, как он начнет действовать в заданных обстоятельствах. Экспозиции банально отдается слишком много сил и эмоций, и потом их не хватает на основную часть. Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать одно простое правило: начинать рассказ как можно ближе к завязке, к тому событию, которое начинает историю. Если это рассказ, например, о разводе, то нужно начинать непосредственно с «последней капли», сразу показывать нам сцену суда по бракоразводному процессу и т. д. А все, что касается медового месяца и двадцати лет совместной жизни, можно дать очень дозировано, по ходу дела, как бы в придаточном предложении и в том объеме, который необходим для раскрытия авторского замысла.
Экспозиция — это визитная карточка текста и приглашение к чтению. Поэтому в ней, кроме необходимых вводных, должна быть затронута проблематика рассказа или романа, должен быть намек на финальное решение проблемы.
Возьмем опять «Войну и мир». В ней мы видим Пьера Безухова, который запальчиво и с жаром говорит о гении Наполеона, о том, что лес рубят, а щепки летят. Напомню, что он говорит об этом не кому-нибудь, а французским аристократам, бежавшим от ужасов Французской революции. Но перед нами не просто скандальная сцена ради скандала. Перед нами пророчество о будущем главного героя, который пойдет убивать Наполеона и, пережив плен и ужасы войны, обретет целостность своей личности и духовную силу. Экспозиция в данном случае является эхом или даже карикатурой финала эпопеи.
Другой пример — роман «Бесы» Достоевского. Казалось бы, Федор Михайлович нарушил все правила: история о визите в провинциальный городок нарушителей спокойствия Петра Верховенского и Николая Ставрогина начинается с длинного и подробного рассказа о странных отношениях матери Ставрогина Варвары Петровны и отца Верховенского Степана Трофимовича. Зачем? Но на самом деле в этом длинном затакте «спрятан» ответ на вопрос: каким образом могли возникнуть такие уродливые и несчастные души, как центральные герои романа? Первые страницы романа накрепко связаны и с финалом, и с центральными героями, и с идеей романа.
3. Открытый финал
Не все со мной согласятся, но я убеждена, что так называемый открытый финал как прием — это иллюзия, которую создает автор. Открытый финал всегда очень определен, однозначен. Он потому и «открыт», что у героя есть только одна дорога, один вариант развития событий. Пушкин в романе «Евгений Онегин» покидает героя как бы внезапно, неожиданно, но мы понимаем, что его история завершена. Чаще всего вместо открытого финала мы имеем незавершенный конфликт, просто недописанную историю. Это происходит потому, что придумать завязку, ввязаться вместе с героями в передрягу гораздо проще, чем выпутаться из нее. Здесь нужно приложить усилие и довести историю до конца, услышать ее последний аккорд. Придумать финал — это важнейшая часть работы писателя, которую мы не можем отложить на потом и тем более не можем переложить на плечи читателей.
4. Слишком мало / слишком много деталей
Насколько подробно должен быть описан предметный мир в нашем тексте? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Ответ на него зависит от авторского замысла, от образа мира, от характера главного героя. Обилие деталей, наличие «вкусных» описаний нужно тогда, когда герои рассказа хорошо вписаны в окружающий их мир, когда они тонко чувствуют природу, ценят искусство, или когда они мастера какого-либо ремесла. Деталей ради деталей в тексте быть не должно.
Слишком мало деталей оставляет читателя в недоумении относительно отношения персонажей к реальности, относительно того, к какому социальному кругу они относятся, где живут. Недостаток деталей часто оставляет вопросы фактического плана, когда между звеньями истории отсутствуют причинно-следственные связи.
Степень подробности описания и характер описания — это зона авторской свободы и зона риска. Ищем методом проб и ошибок.
5. «Самый обычный парень»
Очень часто начинающие авторы хотят написать совсем простую историю про самого обыкновенного парня (девушку), чтобы реалистично и пронзительно.
Такая постановка задачи вполне понятна. Эта установка на правду жизни. Где-то на периферии сознания у нас хранятся школьные воспоминания о классических типажах русской литературы — «лишнем человеке», «маленьком человеке». Чаще всего попытка рассказать историю об обычном парне заканчивается историей о никаком герое, о человеке без свойств, с которым ничего не происходит, который ни к чему не стремится и ничего не достигает в конце.
Проблема в том, что «обычный парень» на самом деле очень необычен и весьма сложен как тема. «Обычный парень» балансирует бездны мрачной на краю, он влюбляется, дерется на дуэли, сходит с ума, умирает, спасает мир ничуть не хуже, чем парень «необычный», какой-нибудь Бэтмен или Люк Скайуокер.
Обычность обычного человека — это иллюзия, а цель писателя именно и заключается в том, чтобы разрушать ее, чтобы взглянуть на простого парня новыми глазами, увидеть как он сложен, глубок, неисчерпаем и в добре, и в зле. Классическая русская литература рассказывает о том, что «маленький» человек на самом деле — велик, что «лишний» человек — незаменим, а «новый» человек играет старую как мир пьесу об обществе и непонятом бунтаре.
Типичный лишний человек Онегин убивает друга, типичный маленький человек Самсон Вырин теряет любимую дочь, типичный Макар Девушкин способен на глубокую, экстраординарную любовь.
Герой художественного текста, герой истории в широком смысле слова всегда находится в ситуации острейшего кризиса. Если кризиса нет, нет и истории.
7. Актуальная тема
Я не хочу сказать, что писатель должен замкнуться в башне из слоновой кости, но… Да даже и «но» никакого нет. И все-таки помним, что даже самая актуальная, болезненная, душераздирающая тема — это только тема, только фундамент для художественного высказывания. Высказывание должно состояться. Если же высказывания пока нет, то лучше писать публицистику, оставлять свидетельства очевидцев. Последнее очень ценно.
8. Боязнь ошибок
Мне кажется, что главная ошибка для человека пишущего — это боязнь неудачи. Как частный случай — боязнь белого листа.
На каждом этапе становления текста наша работа связана с риском: не попасть в тренд, не раскрыть тему, разозлить читателя, оставить читателя равнодушным, не попасть в шорт-лист, попасть на карандаш злого критика. На середине работы над романом понять, что все не то и нужно начинать заново.
Риск — это неотъемлемая часть творчества и трудная работа души. Но именно рискованные ходы, образы несут в себе потенциал удачи. Удача на то и удача, она может не случиться. Не существует алгоритма написания бестселлера, не существует формулы читательской любви.
Но существуют закономерности построения текста, который опирается на вековой опыт писательской практики: умение работать со структурой текста, осознанное владение стилистическими ресурсами русского языка.
Все это вопросы ремесла, владение которым не отменяет риска, но позволяет авторам рисковать по-крупному.
Кажется, я только что ответила на вечный вопрос: можно ли научиться писать? Но это совсем другая история.

Доказательство
Проскрипела дверь, наконец, и хлопнула; взвыл эпилептический холодильник. Они с Татькой остались одни в крошечной, почти целиком занятой разложенным диваном, который Есеньина бабушка почему-то называла «тахтой», комнатушке, выделенной из большой родительской комнаты после нелепого, неопрятного ремонта, длившегося больше двух лет. Ремонт этот стал последним, что родителям Есеньи удалось вытерпеть вместе: за установкой последнего плинтуса последовал немедленный развод, тихий и безликий, как все разводы, продиктованные не столько взаимными обидами, сколько накопленной за многие годы придирок и притирок равнодушной усталостью. Маленькие, щуплые, сутулые, родители Есеньи, стоявшие с огромными чемоданами в тесной прихожей и собиравшиеся съехать кто к сестре, такой же баснословно маленькой, кто к тетке, вовсе уж сходящей на нет, напоминали дочери печальных домовых, покидающих пристанище, жизнь в котором стала настолько безнадежной, что ее уже не спасти, не спасти. Они тихо смотрели снизу вверх на свое невозможное порождение, — на рослую, полногрудую, скуластую, мосластую малолетку, пахнущую молодым цветом, светом, сладостным потом, — и она, наклонившись, осторожно поцеловала каждого из них в макушку; затем гномы ушли, сказка кончилась, осталась бабушка Наталья, старой закалки северная женщина, тоже скуластая и мосластая, занявшая родительскую спальню и оттуда криком задававшая Есеньи короткие вопросы по ключевым позициям: «Из школы пришла-а-а-а-а?…», «Суп нашла-а-а-а-а?…», «Уроки сделалала-а-а-а-а?…» В остальном бабушка читала запоем и только выходила раз в два дня за продуктами. Есенья же медленно и тихо жила своей четырнадцатилетней жизнью, — и вдруг оказалась второй красавицей класса, — безвластной, ленивой, принимающей поклонение с невинным и растерянным безразличием. Лень ее была неописуемой и легендарной: она умела прилечь на табуретке; ела в основном то, что можно было проглатывать, не жуя; не знала физической любви, потому что мысль о том, чтобы лишний раз снять с себя одежду, а затем надеть ее снова, была ей отвратительна, и вполне существенные фантазии ее на эту тему были непременно о том, что рано или поздно все произойдет, — но произойдет, как в саду Эдемском, среди заранее обеспеченной обстоятельствами естественной и несуетной наготы, длящейся вовеки. Ей подносили любовь пригоршнями, ибо Есенья была полна неги и покоя; эта любовь повергала ее в неловкость. С одним влюбленным, с одной влюбленной она вступила бы, пожалуй, в тихий и безоблачный малолетний союз, который либо сохранился бы, благодаря Есеньиной нетребовательной лени, навсегда, либо, разбившись о чужую жадную страсть, стал бы чьей-то вечно незаживающей ссадиной, чьим-то утерянным раем со вкусом жвачки и гамбургеров, дешевой жидкости для вейпов и непременной «Яги». Но множественные эти любови, в которых Есенья словно бы плавала, идя по школьному коридору, подразумевали выбор, а от одной мысли о выборе, — тетради, платья, протянутой руки, — Есенья немедленно уставала; дружба же ее с Татькой была хороша тем, что Татька подружилась с ней сама, выбирала все сама, решала за нее сама, и даже жрачку в Макдаке заказывала для Есеньи сама: понимала все. Татька была хитрая: присвоила себе Есенью, ходила с ней за руку по коридорам; кто хотел подобраться к Есенье — должен был заходить через Татьку, Татька назначала цену в домашках, макдаках, лутах, билетах. Сама Татька тоже была ничего: третья красавица. Но с Есеньей было надежнее. В Татьке бродил черт, а Татька была верующая, черта боялась и не любила: год назад, для пробы, дала провернуть черту одно дело, черт ее, как водится, обманул, кинул самым поганым образом, Татька до сих пор с ужасом об этом вспоминала, с ужасом и слезами обиды, — а Есенья была светлая, и поэтому Татька держалась Есеньи очень крепко, и сейчас, развалившись на тахте поверх тонкого шерстяного одеяльца в голубом пододеяльнике с мелкими цветочками, водила в квадратной выемке большой ступней с кривым мизинцем и смотрела на рыжий пух подмышками у Есеньи благодарными, умиленным взглядом чуть выкаченных глаз, как смотрят на икону. Сарафан был Есенье велик, — сама выбирала, Татька не помнила, чтобы покупали вместе, а значит, выросла из старого совсем, и бабушка погнала в тэцэ, и Есенья взяла первое, какое попалось, и надо будет отнять, подрезать, ушить, господи, возись с ней… Вдруг напал дикий, до онемения рук, ужасный, холодный страх: а что, если вырастет она и из нее, Татьки, что, если подхватит любую другую, первую, какая попадется? Не выдержала, схватила Есенью за влажную безволосую руку, быстро проговорила: «Слышь, ты!» «Чего?» — спросила Есенья мягко (была занята, смотрела, как трещины на потолке, знакомые-презнакомые, складываются в великое предзнаменование бури, — все у нее складывалось в великие предзнаменования, и все они сбывались, а говорить об этом не имело смысла); «Чего?». «Докажи, что мы подружки, — сказала Татька, — Расскажи мне лайфхак». «Если яйца сначала об стол помять, а потом чистить, кожура снимается легко», — ничуть не удивившись, сказала Есения терпеливо, — от нее вечно требовали каких-то признаний, доказательств, обещаний, надежд, и она научилась милосердно, но осторожно давать их, рано поняв, что, плавая в любви, плавает и в бесконечной, ненамеренно причиняемой боли, природа которой ей была пронзительно ясна, как пронзительно ясна она ангелам, всех любящим и никогда не любившим. «Нет, — сказала Татька, — нет, свой лайфхак, такой, которого никто не знает, что-то, в чем признаваться нельзя». «А, — сказала Есенья, и, подумав, добавила, — Когда ты с мальчиком идешь, и он говорит: «Я тебя люблю», ты ему скажи: «Я тоже». Ему приятно, а ты вроде себя любишь, и никому не грустно». Татька, пораженная избыточной, сытой щедростью услышанного, медленно откинулась на спину; спросила себя, доживет ли она до дня, когда ей, жадной девочке, пригодится такой урок, и в ярости, в негодовании ответила: «Нет, нет, нет!», но не перестала дивиться, а только босую ногу завела под себя: от напряжения мышц стало легче. «Теперь ты давай», — вежливо сказала Есенья, зная, что положено делать в таких ситуациях (за окном полыхнуло и грохнуло; она вздохнула; трещины на потолке поползли, перестроились). Татька облизала губы. «Совсем между нами, поклянись», — сказала она. «Клянусь», — сказала Есенья серьезно. «Еще раз поклянись», — сказала Татька. «Клянусь», — сказала Есенья. «Еще раз», — потребовала Татька, собираясь с силами. «Клянусь», — сказала Есенья. «Есть такая таблетка, — сказала Татька полушепотом, — Обволакивает желудок изнутри, как пленкою, и когда после еды блюешь — совсем ничего в животе не остается. Уж если ты блюешь, так блюешь».
*Линор Горалик признана иноагентом на территории РФ
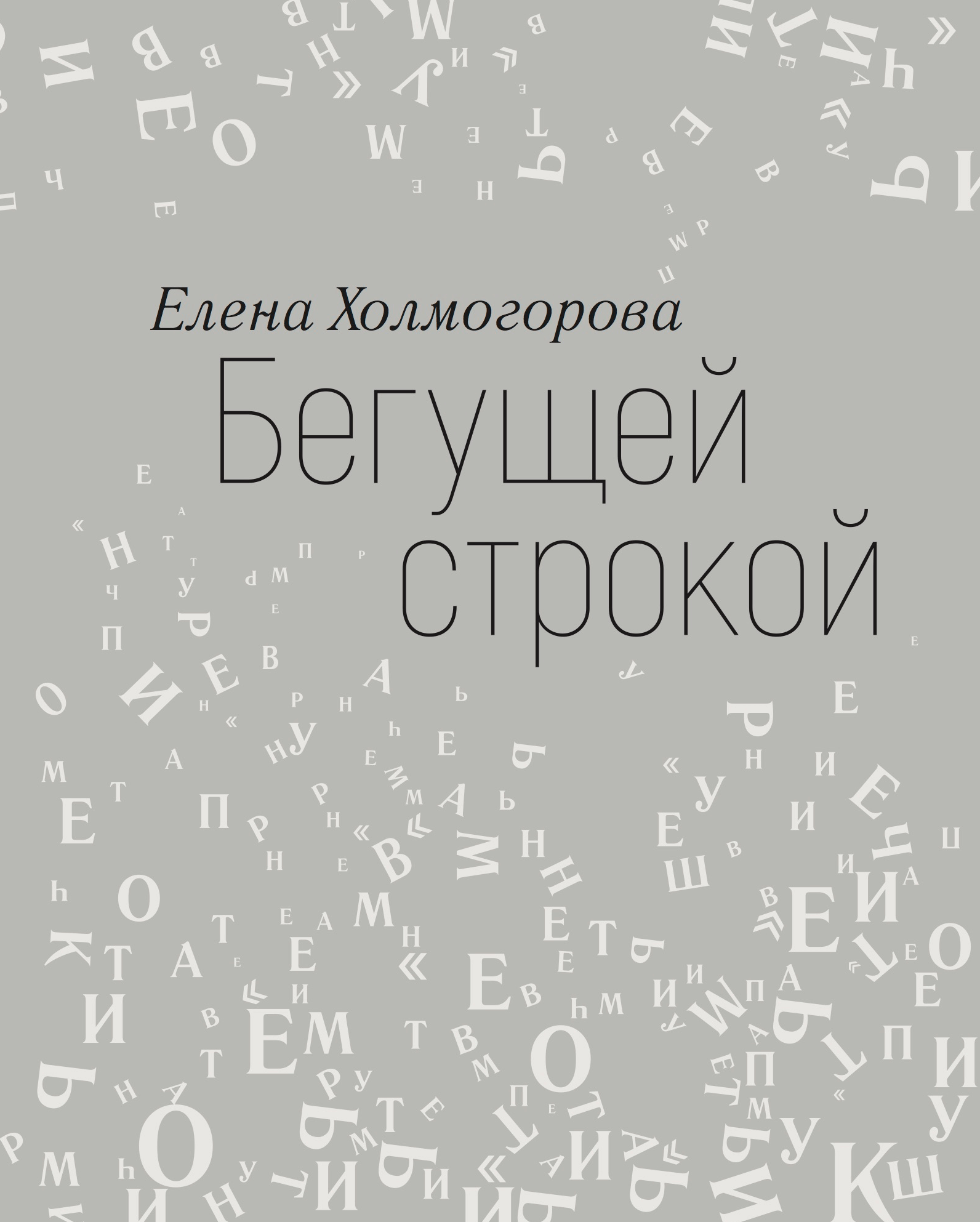
Похвала ночным кошмарам
В издательстве «Бослен» вышла новая книга Елены Холмогоровой, писателя, редактора и преподавателя Creative Writing School. В сборник эссе «Бегущей строкой» вошли размышления и мемуарные заметки: рассказ о предках — московской художественной и музыкальной интеллигенции, о подмосковных дачных традициях, о жизни в тверской деревне, любимых книгах и тайнах творчества, редакторской кухне и лингвистических казусах.
Представляем одно из эссе, выбранное автором специально для «Пашни».
Земная жизнь кругом объята снами.
Федор Тютчев
Сладко ль видеть неземные сны?
Александр Блок
В Тверской области есть деревня с удивительным названием — Сновидово. Мне следовало бы жить именно там. А может быть, и родиться…
Я всегда, с самого детства, видела сны. Если бы я их записывала, набралось бы многотомное собрание сочинений. Но сны редко поддаются не то что записи — даже пересказу. Кажется: все помнишь в деталях, начинаешь и сбиваешься, стройная только что логика рассыпается, диалоги не восстанавливаются, а яркие картины тускнеют и расползаются, как в детстве передержанная в воде переводная картинка.
Впрочем, бывает по-всякому.
Я не читаю детективов и никогда не смотрю никаких «страшилок» в кино или по телевизору. Тем страннее мой вчерашний сон. Какой-то щупленький маленький человечек хочет меня убить. Он этого не скрывает, даже показал мне пистолет, правда, странно большой, похожий на автомат. Я этого почти карлика очень боюсь. Но при этом он вроде бы живет у меня дома. Я с ужасом рассказываю всем о нависшей угрозе, но мне не верят (прямо по Маркесу — «хроника объявленной смерти»). Последняя капля: он сидит за моим столом и ест перепелиные яйца. Перед ним на тарелке целый десяток. Сначала он брюзжит, что они плохо чистятся, а потом устраивает скандал: почему у меня нет подставок для перепелиных яиц, и как же он будет их есть, если захочет сварить всмятку?
Несмотря на то что наяву карикатурность всего этого совершенно очевидна, пробуждение не приносит мгновенного облегчения. И еще какое-то время остаешься во власти липкого страха, обводишь глазами комнату, как бы пробуя реальность на вкус, и лишь затем с облегчением вздыхаешь — это был сон. Но еще не раз вернется вопрос: что же он означал? Страх смерти, боязнь предательства? Предупреждал о реальной опасности?
А недавно мне снилось, что в доме полно гостей (причем не в моем доме, все кругом чужое, но я точно знаю, что здесь хозяйка), и я всех гоняю курить на лестницу. И то и дело кричу: «Смотрите не выпустите кошку!» (это точно как в жизни). Но самое главное: я во сне физически чувствую, как дует, веет холодом по ногам — отсюда и страх, что дверь распахнута.
На прошлой неделе я во сне расхвасталась кому-то, как много вырастила рассады (чем не занималась никогда — не люблю и не умею), стала вынимать из какого-то шкафа пластиковые ящички и вдруг поняла, что давно росточки не поливала, и они, и без того хилые, поникли, безнадежно скукожились. Я хватаю графин (очень красивый, старинный, граненого синего стекла с серебряным, дивно изогнутым носиком) и начинаю лить живительную влагу в иссохшую землю. И будто в учебном фильме, который крутили в школе на уроках ботаники, заряжая огромные бобины с пленкой в жужжащий проектор, прямо на наших на глазах, медленно и плавно листочки расправляются, стебли выпрямляются и растут-растут…
Вроде бы нелепые, немыслимые в жизни детали так органичны, так естественны во сне, а смещение масштабов переживаний — так понятно и непререкаемо.
Иногда сновидения настолько реальны, что я просыпаюсь, совершенно не выспавшись. Обычно это вполне нейтральные сны, но длинные и подробные. И получается, что по ночам проживаешь еще одну жизнь, а вовсе не отдыхаешь, как полагается, то есть, как говорится, «забыться сном» не выходит. Иногда, проснувшись, не сразу понимаю, где сон, где явь. Есть понятие «цветные сны». Я даже не улавливаю его смысла — какие же еще? Какая жизнь, такие и сны. И, собственно, ночные кошмары как раз приходят редко, не чаще, чем, по счастью, случаются в жизни.
Бог миловал: мне не снятся кошмары, ну почти. В житейском смысле, наверное, можно назвать кошмаром один из двух (о втором чуть позже) моих повторяющихся снов, в котором я судорожно собираю чемодан, не нахожу нужных вещей и понимаю, что вот-вот куда-то опоздаю. Это тем более занятно, что в жизни я из тех, кто все делает сильно заранее, ненавидит спешку и патологически пунктуален. Но мне не снятся погони и катастрофы, если приходят в сновидениях мои ушедшие в мир иной родные, то не затем, чтобы позвать к себе, как жалуются многие.
Зато мне очень часто показывают невероятной красоты пейзажи. Совершенно разные: от привычных среднерусских или виденных морских до ледяных вершин или песчаных барханов. Но почему-то первенство принадлежит озерам. Не огромным, а обозримым, больше всего похожим на альпийские.
Теперь о втором сне, который со мной уже скоро полвека. Среди квартир, которые мы в свое время смотрели, собираясь переехать и подыскивая для себя подходящий вариант, была одна — не самая удобная, не самая во многих отношениях удачная, но — бывает такое — квартира моей мечты. Разум победил, и мы от нее отказались. Но вот уже несколько десятилетий она мне снится. Причем сон стандартный: я вдруг обнаруживаю в ней комнату, о которой не знала. Меня охватывает радость: я начинаю планировать: кабинет? библиотека?.. И все время изумляюсь: как это я раньше о ней не знала. Марсель Пруст писал: «На колеснице сна спускаешься в такие глубины, в которые бессильна проникнуть память и подойдя к которым сознание вынуждено вернуться обратно». Любители толкований говорят, что это очень хороший сон. Он якобы свидетельствует о том, что я нахожу в себе до поры дремавшие скрытые таланты и новые возможности.
Но однажды в жизни был у меня сон мистический. Мне снилась комната, в которой я никогда не была, где я в какой-то компании — как часто бывает в снах — странных людей, вроде знакомых, но в чужих обличьях — веду беседу, о чем не помню. Но зато очень ясно запечатлелась сама комната: люстра, мебель, даже рисунок ковра на полу. И в тот же день мне позвонил приятель и рассказал, что набил на лбу шишку, — что может быть глупее — дома, в собственной комнате зацепившись ногой за провод торшера и с размаху влетев в угол книжной полки. «Ну да, — отреагировала я, — хорошо еще, не впаялся по инерции в экран телевизора». Тут мы оба замолчали, потому что в гости он меня никогда не приглашал… Подробный допрос выявил, что это была та самая комната из моего сна. На меня эта история произвела такое сильное и неприятное впечатление, что я заставила его поклясться, что он никому об этом не расскажет.
Бывает, что снятся умершие люди как живые, причем иногда такие молодые, какими я их не знала. Вот недавно снилась бабушка в огромном капоре, как на единственной ее детской фотографии. Мы гуляли в заснеженном саду, и она просила у меня прощения за то, что постирала мою любимую игрушечную собачку Джерри, а та оказалась не сшитой, а склеенной и расползлась. Это действительно было в моем детстве. Но во сне все увиделось наоборот: бабушка стала девочкой, а я — взрослой. Ужас в том, что я не только не простила, но сказала, что не прощу никогда. Куда делось мое великодушие?! Сон, в котором ведешь себя безнравственно, — вот подлинный кошмар, потому что я знаю, как следовало вести себя, потому что я на самом деле лучше, благороднее, потому что мне стыдно. Сон даже хуже яви — ему нельзя приказать вернуться на другую ночь, чтобы попросить прощения, а в жизни не все непоправимо…
Меня в снах поражает всегда не то, что собственно происходит, не странные сопряжения и допущения, воспринимаемые естественно, а с одной стороны — физически осязаемые вещи (как сквозняк, прохвативший ноги) и нравственные радости, страдания или же угрызения совести.
Вопрос о том, как соотносятся сны с дневными переживаниями, меня не слишком волнует. Я вполне убедилась в произвольности любых трактовок. А как мы в юности увлекались запретной фрейдовской теорией, как жадно рвали друг у друга еще, конечно, не изданное в советской России «Толкование сновидений»… И как потом постепенно, один за другим, разочаровывались в ее прикладной части. Она оказывалась не более привлекательной, чем какой-нибудь Мартын Задека, столь знаменитый в пушкинские времена, что «ни Вергилий, ни Расин, Ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека, ни даже Дамских Мод Журнал так никого не занимал». Так что ну их, толкования… Поверим Иосифу Бродскому: «И сны те вещи или зловещи — смотря кто спит».
И все же мы придаем значение снам, рассказываем о них, пытаемся проследить, откуда они могли произрасти и к чему ведут. А сны, описанные в литературе, особенно вещие, привыкли числить по ведомству банальностей или красивостей. И если готовы стерпеть библейские сны Иосифа и античные сны Гекубы, то уже «сон Татьяны», потому только, что это Пушкин, а прочее — от лукавого, не говоря уж о всех пяти снах Веры Павловны. Но это универсально: жизнь богаче литературы. О чем-то случившемся реально, но казавшемся невероятным мы говорим: «как в романе», — зато придуманному, где допускаются немыслимые совпадения, не прощаем, говорим «так не бывает».
Мы не готовы поверить, что Вагнер увидел во сне музыкальные темы «Тристана и Изольды», а Менделеев — со школьных лет известную нам таблицу, но к собственным сновидениям относимся с завидной серьезностью.
Слово «сон» обозначает и сновидение, и процесс сна. Так и просится использовать это как доказательство того, что «сна без снов» не может быть. Но, например, в «невеликом и немогучем» английском языке, тем не менее, покорившем весь мир, эти значения разведены в два разных слова, зато «видеть сны» и «мечтать» обозначаются одним словом «dream», а во избежание двусмысленности мечты иногда определяются как дневные сны — «daydream», то, что по-русски, пожалуй, адекватно устаревшему «грезить наяву».
Почему, как правило, между мыслью, с которой засыпаешь, и первой утренней пролегает пропасть? Почему «утро вечера мудренее»? Почему, «восстав ото сна», надо сотворить молитву «прежде всякого другого дела»? Ответ лежит на поверхности: всякий сон — прообраз смерти, ведь во многих философских системах постулируется, что на это время душа покидает тело.
А ночные кошмары хороши тем, что можно «легко проснуться и прозреть», и, стряхнув сон в обоих значениях слова, изумиться: насколько, оказывается, на самом деле прекрасна так непростительно мало ценимая нами жизнь…

Полина Иванушкина. Роман «Проводи меня до Забыть-реки»
В издательстве «Флобериум» вышла книга выпускницы Creative Writing School Полины Иванушкиной «Проводи меня до Забыть-реки». Первоначально роман был опубликован в журнале «Дружба народов», и вот теперь — отдельное издание.
Полина Иванушкина — журналист и профессионально работает со словом много лет. Однако с художественной прозой отношения не такие длительные. О книгах Полины, железной дороге и писательстве как терапии мы и поговорили.
Также предлагаем прочитать фрагмент романа.
В кратких биографиях вы пишете: «Всю жизнь я собираю истории: те, которые заканчиваются как есть, — попадают в газету, а те, которые заканчиваются как надо, — в книжки». Расскажите про свои отношения с письменным словом.
Моя журналистская профессия многое дала мне как писателю: героев, города, ощущение большой страны и многомерности судеб. И переход от журналистики к писательству — как из профессионального спорта в любительский и самый любимый: все, чем напитывала меня моя работа, стало почвой для прорастания прозаических текстов. Впрочем, я и сейчас пишу для разных СМИ.
«Проводи меня до Забыть-реки» — роман-притча. В чем его идея и как рождалась книга.
Книга — и идея ее, и героиня, — собиралась по кусочкам, которые притягивались друг к другу как магнит. Сначала слышалось какое-то нашептывание об образе старухи, которая вспоминает свою жизнь, потом появились эти рельсы-шпалы, идущие через полстраны, потом — хлесткие мазки дождя по стеклу: это еще маленькой Тата стоит у окна Темниковского детского дома и ждет маму, которая никогда не придет… Так, из отдельных картин, которые приходили сами собой, собралась история о женщине, чей образ архетипически восходит к плакальщицам, провожальщицам в мир иной. Моя Тата — странная нелюдимка, которая, пережив трагедию в детстве, обретает свой дар провожания и, благодаря тому, что происходит между ней и теми, к кому она приходила в последний миг, вочеловечивается сама, обретает свою судьбу. Мне очень нравится это слово — вочеловечивание, его впервые использовала для описания героини мой литературный агент из «Флобериума» Татьяна Булатова, найдя определение того, что происходит с Татой. Это важный ракурс, который был скрыт от меня самой до поры. Для меня тема книги — в том одиночестве, в котором мы проводим жизнь, в том, что после нас остается. И как рассказанные истории делают это возможным — остаться…

Жанр книги еще характеризуют как магический реализм. Согласны ли вы с такой классификацией?
Повествование реалистично, и, скорее, сама атмосфера текста, язык, в которые погружаешься, дают это ощущение, что слушаешь миф. А в них без магии никак. В книге это магическая суггестия чувств — недоступных героине, испытываемых второстепенными персонажами и передающихся читателю.
Главная героиня романа — какая она? Как появился этот образ, были ли прототипы?
Героиня родилась из домашней работы, заданной Мариной Степновой на ее романном курсе в 2016 году, — набросок был сделан в метро и в таком виде и остался в книге. С тех пор старуха Тата Тутина со мной. Сама сирота, она словно усыновляет доверившихся ей людей перед самым финалом их жизни, принимая их истории и храня их. Так что после смерти не исчезает ничто. Прототипа у Таты нет, но однажды, когда роман был уже на середине, она бросилась мне под колеса на красный свет на юге Москвы — высоченная, седая до белизны и вся в черном, красивая и старая, пожалуй, даже вечная.
Действие книги происходит на железной дороге. Кажется, что образ железной дороги для литературы России с ее пространствами (и физическими, и смысловыми), — один из ключевых. Что для вас значит этот образ, что вы вкладываете в него?
Моя железная дорога выросла из бесконечных командировок по России, в которые я моталась, работая в «Аргументах и Фактах». И этот перестук под вагоном — это и пульс путешествия, и эффект «случайного попутчика», и бесконечный пейзаж за окном, и такие разные станции — со своими торговками, вывесками, запахами… Это как если нужно было бы собрать в пригоршню всю страну и слепить в один все объясняющий ком, то удобнее всего это было бы сделать, потянув за ниточку железной дороги.
Что было самым сложным в работе над романом? Вообще с какими трудностями вы сталкиваетесь как писатель?
В работе над романом часто сбоила структура: так как он писался сразу «с разных сторон», то трудно было сводить все линии к одной точке. И сейчас я сталкиваюсь с этими же сложностями, работая как сценарист (весной я проходила сценарный курс в CWS у Марины Степновой и Юлии Лукшиной): моя сильная сторона — метафорический язык, логика повествования, скорее, пробуксовывает. Работая журналистом, я часто, бывало, сидела подолгу над чистым листом. Помогает то, что всегда работает и в прозе: я везде ищу ту болевую точку, через которую заходит в меня история, и начинаю раскручивать ее из себя, сама погружаясь в происходящее.
«Проводи меня до Забыть-реки» — ваша вторая книга, а первая была для подростков, «Барбара Эр не умела летать». С каким текстом было работать легче/труднее?
Скажу еще, что самой первой была документальная книга — сборник дневников «Детская книга войны». И в смысле трудности работы, конечно, детскую прозу я, скорее, отнесу к документальной, объединив их требовательностью жанра, в то время как роман — это пространство свободы.
На своих занятиях Марина Степнова любит говорить: чтобы писать, нужно страдать. Вы согласны с этим?
Для выпускников Марины Степновой эта фраза звучит практически паролем — по ней свои опознают своих. И да, я согласна. Наверное, тот, кто не страдал, и не придет изначально к такой профессии, как наша с вами. Писатель — человек, который рассказывает истории. Но сначала они должны случиться с ним самим.
Для многих людей сегодня писательство становится терапией. А для вас?
Весенний марафон «Семь дней весны» в CWS, с которому я присоединилась в марте, меня буквально спасал, давал смысл дышать, додышать до следующего дня этого страшного месяца. Странно думать о том, что то, что является твоим воздухом, смыслом, инструментом, сейчас подвергается цензуре и становится опасным… Конечно, любое творчество это терапия, и самотерапия прежде всего.
Традиционный заключительный вопрос: ваш совет начинающим авторам, тем, кто только задумал свой роман или уже работает над ним.
Обязательно допишите его. Если он в вас стучится — вы уже его должник.
Проводи меня до Забыть-реки. Фрагмент
Глава 12. Святая
Грузили как скот.
Вагоны и были предназначены для скота. И пар, шедший из множества промерзших ртов, окутывал перрон, как, казалось, коровник на рассвете летней ночи, в котором дышат теплые матки, — мухи только, обступавшие плотно, были из снега. Вокруг баб наверчено столько — тряпье, мешковина, все с чужого плеча, сплошные прорехи, — что толком и не разобрать ни возраста, ни срока. Тата села на корточки у отваливаемой крашенной красно-кирпичной краской деревянной створы, а затем в вагон вошла, как в воды ныряя. И ничто не трогало: ни рязанские, мордовские лица, увязанные в платки, ни расхристанные лики продажных женщин, ждущих, где снова можно будет продать, ни тающий на последних слогах и аукающийся сам с собой голос из станционных громкоговорителей, на каждом перегоне будто бы один и тот же, по которому — единственному — можно было угадать направление, в котором стучал состав, ни печечка эта, солеею выступающая посреди всего столпотворенья.
К печке Тата не жалась: общежитское тепло нагрузило голову, усыпило, качало — поезд тронулся рывком и пошел тяжело, никуда не спеша и иногда будто замирая между станциями, как пропущенный удар сердца, словно исчезая на эти секунды с радаров и полотна дорог — качало от слабости. Скорый суд и следствие отупляли, давали инъекцию забытья в гомеопатической дозировке, но — только иногда, и сейчас, когда к тоске Тата стала приноравливаться, когда боль жала, как разношенные ботинки меньшего размера, уже привычно, когда, усаживаясь у движущейся двери, она и тоска занимали рядом место, сейчас Тата, разморенная натопленным дыханием женщин вагонным воздухом (творожный запах сопревших подмышек, плавящееся уголье, озонированный мороз) и перетоком — рельсы-рельсы-шпалы-шпалы — под ногами, наконец, обмякла, затуманилась, закемарила, уложив лоб на руки, сложенные на острых коленях, глядящих в отгороженное деревянной, покатой, как у гроба, крышей небо над Подмосковьем, постепенно оставляемое позади.
Поезд шел к Мелкозерью, а на нижних нарах, набитых широкими полатями, словно перевернутыми в горизонт стойлами, кто-то мычал в родовых муках.
Паровоз наметил себе путеводной звездой маленький серпик на черном небе и, не отвлекаемый дневными циркулярами, и тянул, тянул состав через густеющие леса и развалившиеся полустанки, и бабы все отвозились, поделили пол и стены, и место у печи и портили воздух, молились на сон грядущий, материли конвой, кто-то вымаливал воды, кто-то — смерти, и сдерживаемое — стиснутыми зубами — мычание у противоположной Тате стены мешалось с храпом, горячечным стоном, безумным проговором имен любимых во сне, стуками поклонов старообрядной старухи, которая клала их возле печки, вызывая, наверное, для надежности самого Перуна, мешалось с треском вокруг огня — лопались угли, — гоном ветра в щелястые поры, покрывалось низким тоном тифона, сигналящего луне… А потом прорвалось.
Лопнуло единственным взвоем, и отныне никакой иной звук не проникал извне в медленно перекатывающийся — позвонок за позвонком, шпала за шпалой, холм за холмом — вагон, допотопным страшным жрищем двигающийся к мелким озерам, и не исходил вовне. Никого не впускать, никого не выпускать. Воды, воды! Натаяло по стенам, размерзлось: собрать наледь в жестянку, выловленную под нарами, вскипятить на краю огненного зева. Нижнее, то есть верхнее, с груди, что почище, белье у гулящих собрать (на рязанских и вовсе уже не было никакого белья), и всем теснее, теснее, и в ком когда-то все рвалось и латалось, тот и пособить может, словом или делом, тот же, кто еще не рожал, — причаститься ужаса тайн, а так, вообще, чем не развлечение в дороге, и ночи бессонной не жалко, только что ей за это будет — и нам?.. Скинутыми тряпками обложили роженицу, сводом тел укрыли от сквозняка, от мычащей были только светлеющие в выплесках огня ноги и между ногами — первозданная тьма, а остальное было укрыто тряпками и ночью.
По тому, что из сомкнутого рта не исходило ни мата, ни святых имен, а только рык из утробы, словно роженица чревовещала, казалось, что родящая — из приличных, городских, правоверных, может, сказала что не так или не тому дала… Сполохи огня, стрекозы, носились над арестантками, сбившимися в один конец вагона, едва его не накреня, касаясь темных лбов, бессонных глаз, беспокойных рук, которые никак не могли помочь дитю появиться, а состав, словно оставленный без присмотра кемарящим конвоем, все тянул и тянул через леса, и еловые черные ветки стучали о борта все длящегося ковчега, то ли пытаясь его за- держать, то ли благословляя, и никто им не мешал, жмущимся у печки друг к другу в общей доле и деле — только Тата, не просыпаясь, все сидела в своей беспризорной позе одна, промерзая.
Мычание, перешедшее в рык, за полночь снова вернулось в глухой утробный звук, она была, видно, первородка: все усилия добровольных повитух никак не близили конца, и — этого было, конечно, не увидать из вагона, но из кабины паровоза уже заметили этот перелом: наледь на окнах стала как будто острее, и над горизонтом звезды, затухая, начали отдавать в позднюю зимнюю рассветную синь, когда внутривагонный цельнокройный звук стал сбоить, давать
паузы, как сбоил сам состав, затихать, как будто приближаясь к станции назначения. Женщина теперь только гудела, и ребенок бился плотно, как вставляемая и холостящая пуля, потуга за потугой, словно насекомокрылое, которое никак не может пробить свой кокон, взмах за взмахом, и, когда кто-то из баб, подсчитав, перевалился в нужную секунду через долинку между скрытыми мокрыми тряпками грудями и высящимся животом, надавил и вытолкнул, наконец, мать тут же засучила голыми пятками по стремящейся в небо лесенке рассвета — сердце не выдержало, а младенец был весь тут как тут.
Он закричал, и от знакомого звука Тата оторвала лицо от ладоней.
Вокруг было все то же — качка, ход, тьма, только скученность распределилась иначе: алтарем и свечкой была не печка, а светящееся красным светом тельце в руках у баб. Мать не была уже ничем: ей прикрыли глаза и забыли. Первый крик младенца вошел Тате витым, каленым, наждачным гвоздем через ухо — и вышел через другое.
У ребер, поодаль солнечного сплетения, потянуло, напряглось.
Мать унесли к вечеру, когда обходили с кипятком и хлебом, нахлестом сапога откатывая ворота теплушки, высекая оркестровый, горнящий, всепобеждающий звук соитием ведра и черпала. Тело матери не вызвало замешательства, но второе, спеленутое в хорошие, почти чистые, широкие, как парус, панталоны, на минуту остановило привычный ход дел, раздачу, плеск остывающего кипятка. Тот, что был главным, даже на мгновение ухо поджал к плечу, словно затек мыслью. Распрямился, велел младенца пока бдить, а на станции сдать.
Станция была — в горушку да с горы, да за болотами — вот и она. К полуночи — в штабном вагоне рыжелая керосинка, высоко поднятая над аккуратными бумагами, осветила будто исхоженное птичьими лапами расписание — должны были быть.
Встали, почти приближаясь.
Беда, гражданки справедливо осужденные, беда, зэчки: буран.
Куль в тепле подбрюшья у одной рязанской просыпался, ворочался, искал носом, ныл, но пока не перекрикивал паровоза.
Громада сугроба пролегла поперек путей, из паровоза высыпали, кутаясь, потом от работы раскутывались, бросили на пути конвой, там насыпало еще, и еще, и еще.
К рассвету младенец рвал глотку.
Размачивали в кипяточке последний хлеб и через другую парусину вкладывали соску в рот, закачивали, вырывая друг у друга из рук; кто-то из деревенских предлагал задушить, все равно без мамки не жилец, те, что из второходок, блатных, щипали дур за грудь — а гражданину начальнику что скажем? Меченый младенец, раньше надо было думать! А теперь — держи отчет! Сдавай на станции! Багаж! Согласно квитанции!
Крик утомил до безразличия, резал уши, только когда возобновлялся после недолгих пауз, когда младенец выдыхался, откидывался и бессильно и коротко спал, чтобы потом начать требовать сразу с высокой, зудящей, как циркулярная пила, ноты.
К вечеру снова отвалили — усталый и злой сапог — двери. В отвале, как в раме, стояли задубелые куртки, за спинами их была снежная даль, подведенная тонким штрихом густо-синего горизонта, по стыку простора и откупоренной полости варился надышанный пар изо ртов обоих полов. Внутри тайной вечерей обступили панталоны с младенцем, держа их сразу всеми руками, в которых он бился, как в сетях, голодной рыбиной. Хлеб. Кипяток. Уголь. Закончились. Поверка. Оправка. Стоим.
Младенчика бы покормить — голос безумной богомолицы, вдруг отрезвевший, развалил застывшую сцену и ушел с ветром в занесенное поле.
Хрястнула дверь.
И был снова вечер, и было все то же.
Уголь истлел давно, ребенка зарыли в еще держащий последнее тепло пепел, панталонные свивальники его слились с тьмой.
Грелись движением; раздеваясь, ложились кожа к коже и заворачивались в одежды; наледь по стенам стала колом так, что не отдерешь.
Голоса у младенчика уже не было, кто-то плакал над ним, капая обессоленными слезами прямо в лицо, кто-то совал ему в рот свой послюненный мизинец, чтобы насасывал, бабы поматёрей, поопытней, в этих краях не в первый раз, притихли, прощаясь с ним, как с собой: спета песенка. Пар изо ртов больше не шел, дверь не отваливалась, тьма стояла, как в утробе, первобытной пещере, и саблезубый тигр был уже не страшен со всеми его литерными статьями: смерть пред- стояла самая древняя, устройством своим несложная, без человеческих нововведений.
Не мерзла, не погибала одна Тата. Горела. Липко было под рубахой, под грудью, на животе.
Коленками нащупывая путь, раздвигая слипшиеся в холодных объятиях вокруг печки тела на полу, двинулась к тем нижним нарам, в глуби которых был ребенок, обложенный самыми большими колхозницами.
Возлегла. Нащупала личико, рот, просунула в уголок мизинец, чтобы легче было захватывать, пощипала, чтобы проснулся, вложила сосок в уста, чуть надавила: пошло. Сейчас, к третьему дню, шло не желтое, как масло, молозиво, а голубое и негустое, нужно было только насасывать, младенчик возился, мусолил, сил вытягивать из железы жизнь не было, и Тата ему помогала, тихонько поддавливала, держала головку, не давала засыпать, и младенчик понял, наконец, чего от него хотят, вцепился деснами за кругом альвеолы, нажал, еще нажал, зло и сильно, втянул в себя, сглотнул, напрягся всем телом, потом расслабился и начал работать, стер заживший после Леты сосок снова, и на последнем, еще не наевшись, но смертельно устав, глотке заснул, забыв закрыть глазки.
Тата вернула его чуда не видевшим, но слышавшим его чмокающее явление бабам. Одна грудь помягчела.
Но другая была полна.
Тата нашарила жестянку, в которой топили снег, и тугой, остро режущей ночь струей (деревенские ошалели от звука в своей дреме, перетекающей в холодную смерть: родная буренка приснилась) спустила туда молоко.
Через еще три дня на горушку тяжело вкатывался откопанный от снега и поредевший за время простоя состав, в котором только в женском вагоне не было убыли.
Бабы наелись.
Столетняя машина тюремной почты, связующей как внутри, так и с миром, работала исправно: весть обогнала и потерянный «столыпин», подгоняемый ветром из поля, и голос, аукающийся на станциях, и самую Тату, бывшую теперь лишь номерком, единицей учета. Поезд еще только осаживали на дальнем пути горвокзала, голос в раструбе еще только упивался своим многоточием — «…центральная, …альная, … альная» (название Тате ничего не сказало), когда на Ягнячьем уже шептали из камеры в камеру ее новое имя: Святая… Святую привезли!
И одежды их сделались блистающими, весьма белыми как снег, как на земле и белильщик не может выбелить.

В цветочном на Китай-городе
— Никогда, никогда я не хотела иметь детей. Дорогая, я добиваюсь всего, что намечаю. И если бы я планировала материнство — я бы не выбрала эту работу.
Женщина на экране улыбнулась слишком ровными зубами. Как всякая балерина, на шоу она не могла не прийти «слишком»: плотный макияж, лак сверхстойкой фиксации, плечи отведены назад в ожидании первого такта музыки.
Как сильно Мария там отличалась от себя настоящей, улыбавшейся экрану лишь уголками губ и крутившей в руках чашку с остатками кофе: «В гуще можно увидеть будущее». Верила ли она в это? Или просто привыкла чем-то занимать гостей?
Я пыталась угадать, как Мария относится к этому интервью, да и к интервью вообще. Что такое — видеть себя на экране? Это ведь не совсем ты, всего лишь слепок, и все-таки, в какой-то мере, — ты. Словно угадав мои мысли, она подняла глаза от чашки и сказала:
— За неделю до этой съемки у меня снова случился выкидыш. За день — муж ушёл от меня. Журналисты ещё об этом не узнали. Он не понимал, почему я не берегу себя, почему танцую. У него не укладывалось в голове, как безуспешные попытки выносить дитя не портят мои партии. Я должна была рвать на себе волосы, биться головой о стены — так он думал.
Она спокойно улыбнулась и поставила чашку на блюдце дном вверх. Я пыталась придумать стоящий ответ, но на ум ничего не шло.
Мы познакомились в цветочном магазине. В тот жизненный период я не знала, в какую сторону двинуться, и все свободное время блуждала по центру, выискивая странные, бесприютные места. На одном из поворотов рядом с Китай-городом я увидела витрину не то винтажную, не то просто пыльную. Все пространство занимали оливковые драпировки — матовые, без блеска. Они служили фоном натюрмортам в духе голландцев: розы и маки, тюльпаны и полевые цветы стояли в вазах и, хотя еще бодро держали головки, уже начали подсыхать. Осыпавшиеся лепестки напомнили мне о скоротечности жизни. Было что-то мистически притягательное в этой витрине, и я решила заглянуть в магазин.
Меня встретила высокая стройная женщина со светлыми волосами — конечно, крашеными. Она была одета очень просто — в чёрные юбку и кофту, видимо, не слишком дорогие, но опрятные и очень ей шедшие. Ей было на вид под сорок.
— Добрый день! Вы ищете что-то конкретное?
Вокруг неё в стильных бетонных и терракотовых вазонах зеленели фикусы, пальмы и другие растения, названия которых я не знала. За ее спиной, за стеклянной дверью, хранились срезанные цветы и готовые букеты. Букеты — я видела даже отсюда — отличались от обычного магазинного ассортимента: в упаковке преобладали темные тона, цветы же восхищали многообразием сочных оттенков, тугие бутоны буквально наливались свежестью.
— Я просто смотрю…
Она кивнула, а затем отвернулась и продолжила поливать растения — чем, видимо, и занималась до моего прихода.
С оживленной улицы в магазин никто не заглядывал. Он выбивался какой-то нездешностью и как будто не подходил миру. Мне показалось, что работавшая здесь цветочница должна быть похожа на меня. Я стала расспрашивать ее о магазине, о том, как они вообще выживают.
— Пока я сюда больше вкладываю, чем выручаю. Но у меня есть сбережения. Остались с прошлой работы.
— Кем же вы работали?
Она повернула голову и как-то по-детски улыбнулась.
— Я была балериной.
Сказать, что этот ответ меня шокировал, — ничего не сказать. Я представляла, что балерины, а тем более успешные, обеспеченные, — ведут совсем иной образ жизни.
— Но с возрастом поняла, что пора искать другое занятие. И решила осуществить давнюю мечту.
Я вернулась в магазин на следующий день. Флорист, как я поняла из интернета, — неблагодарная профессия. Образование только среднее, и относятся к тебе как к продавцу, и таскать все эти горшки тяжеловато. А между тем нужны и знания, и опыт, и вывести такой бизнес в плюс довольно сложно. Эта загадка пленила меня.
Войдя в помещение, я увидела, что цветы — ещё вчера сильные и крепкие — начали увядать. Я подошла к стеклянному холодильнику: лепестки тюльпанов скукожились, будто из них высосали влагу. В этот момент цветочница окликнула меня — я развернулась и увидела, что она вышла из подсобки.
— Вы, наверное, хотите узнать, что случилось с цветами?
Я кивнула.
— Ничего особенного. Это неизбежно происходит с каждой партией. Кажется, у меня нет, как говорят, «легкой руки».
— Но зачем вам…
— Это моя мечта. Я живу в своём доме, в Подмосковье. Там я разбила небольшую оранжерею. Думаете, дела пошли лучше? Нет. Но я не сдаюсь. Мне даже некому оставить этот дом. Завещаю тому, кто пообещает ухаживать за оранжереей.
Мне стало стыдно. Год назад я окончила университет, и первая работа, как водится, оказалась не ахти. Я трудилась в районной газете, где мои старания некому было оценить, и уже десятью разными способами рассказала про новые бордюры и борьбу с тараканами в местном продуктовом. Это был даже не мой район — я ему вообще никак не сопереживала. А кроме того, изначально я предполагала начать с самых низов и воспарить к небесам. Увы, журналистка из «Новостей Ясенево» была нужна крупным СМИ не больше, чем вчерашняя выпускница. Я даже не была уверена, что действительно хочу вырасти в профессии.
Мария — а для меня она навсегда осталась Марией, даже когда мы сильно сблизились, — так вот, Мария восхитила меня своим упорством. Две ее страстные мечты не осуществились — она не выращивала редких цветов и не родила детей. А вот классический танец, который она даже не очень любила, вопреки всему давался блистательно. Видя это, долгое время она не противоречила судьбе, однако ни один успех не принёс радости.
Она завершила карьеру год назад. Ее не прогоняли, наоборот, ее соло, исполненное даже вполсилы, украсило бы любой спектакль. Мария затруднялась сформулировать, почему, ее речь обрывалась на полуслове. Но, зная ее теперь намного лучше, могу предположить: она устала мучить себя выходами на сцену, интервью и сплетнями. В то же время в глубине души она, видимо, все ещё испытывала стыд — за то, что свернула с пути, по которому судьба вела ее почти насильно. Сама я в судьбу не верила. «Следуй за мечтой» — вот что я считала истиной. И мне казалось абсолютно правильным бросить опостылевшее занятие ради счастья. Да, цветы в ее руках стремительно увядали, но ведь все приходит с практикой.
Спустя полгода нашей дружбы она все-таки приняла одно из приглашений. В новой постановке «Лебединого озера» специально для нее придумали партию лебедя-матери. Ничего сложного не требовалось, и режиссёр так ее уговаривал — пожалуйста, ведь это именно для вас, публика соскучилась.
Мария пригласила на премьеру и меня. Хотя новая линия в продуманном до каждой мелочи балете Чайковского показалась мне несколько неуместной, моя подруга справилась с ней великолепно, и я почувствовала прилив гордости за неё и за себя. В конце она вышла на поклон. Люди выстроились в очередь, чтобы подарить ей цветы. Ей вручали розы, лилии и хризантемы — прекрасные, благоухающие. Но — я видела ее лицо. Оно застыло маской, а кончики пальцев подрагивали: за вечер она получила столько букетов, сколько не продавала за неделю.
После спектакля мы собирались поужинать в ресторане. Режиссёр, высокий, сухощавый, с проседью в чёрных волосах, не спросив разрешения пошёл с нами. Он приобнял Марию руками в кожаных перчатках. Мария не отстранилась, но вздрогнула, как мне показалось, неприязненно. На крыльце служебного входа нас задержали поклонники. Мария подписала каждый клочок бумаги, который ей протягивали, а с некоторыми даже сфотографировалась. Когда казалось, что мы ото всех избавились, и ресторан уже был совсем рядом, нас догнал ещё один парень. Сутулый, щуплый, — плащ на нем болтался — он вился вокруг Марии змеей. Мне так и не удалось понять, чего он хотел —припоминал какие-то прошлые дела и сетовал на то, что его «так и не устроили». Режиссёр велел ему уйти — и он ушёл, но какой-то склизкий отпечаток остался на нашем вечере. И режиссёр, и Мария его знали, называли по имени, но отказывались поделиться со мной подробностями, переводя все в шутку или уходя от ответа.
Однажды подруга пригласила меня на кофе и погадать. Я не верила в подобную мистику, но Мария умела оживить любой вечер — так что почему бы и нет?
За кофе мы смотрели давнее интервью. Затем перевернули чашки и, ожидая, пока гуща стечёт, вышли на балкон — я курить, а она — за компанию. Вернувшись, мы обнаружили, что на столике побывал кот — он утащил конфетный фантик и сдвинул чашки.
— Кажется, теперь придётся угадывать, какое будущее кому принадлежит, — засмеялась я, так как по-прежнему считала все это лишь игрой.
Мария промолчала, лишь слегка сдвинув брови. Она взяла одну из чашек и вгляделась.
— Проблема, которая давно беспокоит одну из нас, скоро разрешится. Я вижу гармонию. Кажется, тут не будет полного, абсолютного счастья, о котором столько говорят, но придет удовлетворение. И будет дом. Семья. Без детей, но всё-таки дом.
Что ж — это меня вполне устраивало. Однако будущее в другой чашке могло быть ещё лучше — я попросила перевернуть и её.
Мария посмотрела на дно и застыла. Спустя мучительные полминуты сказала:
— Здесь скорая смерть.
Я посмотрела на неё, пытаясь понять, насколько серьезно она это все воспринимает. Но, как и всегда в моменты высшего эмоционального накала, она ушла в себя, лицо ее сделалось непроницаемо, а потом она даже засмеялась:
— Кажется, ничего не выходит. Давай лучше пить чай!
А через год она умерла. Великая артистка поскользнулась на лестнице по пути к метро и, падая, пересчитала все ступени. Ее привезли в больницу, но не успели спасти. Я спрашивала, могли ли ее столкнуть, могла ли она упасть намеренно. Мне сказали, что теоретически — да, но на этой лестнице было не так просто разбиться насмерть, кто бы выбрал такой вариант?
На месте цветочного открыли «Волшебную кофейню»: за дополнительную плату здесь гадают на гуще или таро. Я заглянула туда, но расклад не совпал с предсказанием Марии, и я поняла, что для тамошних гадалок все это лишь игра. А вот дом и оранжерея достались мне — даже не знаю, когда она составила завещание и почему выбрала меня, ведь были у неё, наверное, и другие знакомые. Должны были быть.
Я поменяла работу и была вполне довольна новой. А главное — оранжерея зацвела. Я развела там редкие сорта роз, тюльпанов, растила даже орхидеи. Соседи приходили любоваться результатами моих трудов. А я, глядя на свежие тугие бутоны, с комом в горле вспоминала, как бесплодная Мария говорила, что не хочет детей, и как она с покорной улыбкой принимала десятки свежесрезанных букетов.

Вааарька!
Ранним утром, когда даже самым старательным студентам до будильника остается еще несколько часов сна, в маленькой общежитской комнатке, где, кроме меня, спали еще трое, раздался звонок.
Не открывая глаз, я схватила старенькую «Нокию», которую всегда держу на тумбочке у изголовья, глубже ввинтилась в одеяло и шепотом выдохнула:
— Да. — Звучало это как «таааа».
— Тут у меня знакомые, — раздался бодрый голос Варьки.
Ну, началось!
С тех пор как Варькины родители вознамерились отправить ее учиться в немецкий университет и нашли на просторах интернета репетитора в моем лице, ровесницу, чтобы дочери не было скучно, покой для меня стал вещью глубоко желанной, но недоступной. На наших первых занятиях я пыталась держать дистанцию, называла Варьку на «вы» и говорила с ней строгим голосом. Но опыта у меня еще не было никакого, она стала моей первой ученицей, да и сама Варька не из тех, с кем пройдут подобные штучки.
— Знакомые, — снова заговорила она в трубку и добавила в телеграфном стиле: — Переводчик, деньги.
Последнее слово она повторила трижды. После знакомства Варька быстро выудила из меня всю информацию, что да как, кто такая, почему работаю вместо пар, а затем, как мне кажется, сделала мое благополучие целью своей беззаботной жизни. В свои неполные двадцать она была окружена многочисленными родственниками, друзьями, одноклассниками и прочими, а потому регулярно звонила мне и требовательно сообщала:
— У меня есть знакомые.
А дальше… Дальше начиналось что-нибудь, скажем так, необычное, чего в моей скучной жизни студентки иняза — занудной заучки — никогда не случалось до встречи с ней. Притом Варька была уверена, что образ жизни скромной гувернантки, как она выразилась, «не мой варик», то есть ну никак мне не подходит, а потому халявки она мне подкидывала очень эксклюзивные, впрочем, действительно связанные с немецким языком, тут не поспоришь.
Дней десять назад, например, я по Варькиной милости оказалась на похоронах. К праотцам отправился какой-то работник немецкой дипмиссии. За годы жизни в Москве немец много чего успел — обзавестись русской семьей, родить пятерых и даже креститься, а также полностью разругаться с родственниками из фатерлянда. Его московская семья — верующая, и хоронить его решили по всем правилам: с батюшкой, отпеваниями и кадилом. Смерть, как известно, списывает многое, да и немецкие родственники оказались незлопамятными и примчались в Москву на одностороннее свидание. Говорить они могли только на своем, как и москвичи, которых отец семейства не удосужился научить языку предков. Как-то все они вышли на Варьку, а она, конечно же, добрая душа, поспешила заверить — Kein Problem, есть переводчик, мастер своего дела, я, то есть, а церкви и похороны не что иное, как мои хобби, буквально страсть.
Что мне предстояло переводить сегодня — секрет. В университете меня уверяли: каждому синхронному переводчику заранее, перед сессией, выдается вся необходимая информация — термины, выдержки, распечатки.
И я требовала чего-нибудь такого от Вари.
— Ты хоть мне тему скажи, — канючила я, — опозорюсь же.
Но она только отмахивалась, мол, знать ничего не знает, а потом и вовсе выключила телефон — легла спать. С меня же сон слетел, как и не было.
К третьему курсу я прочла немало детективов, а потому начала с адреса — Четвертый Сыромятнический переулок, строение двенадцать, павильон восемь — в надежде, что он мне что-то подскажет. В интернете место было обозначено как фабрика, и я призадумалась. Die Fabrik — фабрика, das Werk — завод, ну вот примерно и все, что я знаю о промышленности. Моя специализация — философия: бытие, небытие, сущее, на худой конец, Ницше с Кантом. Но ничто из этого, увы, не требовалось.
Наконец время стало приличным для звонка — десять — и я набрала номер, который оставила мне Варя. Абонент не абонент. Я еще немного порыскала в сети и нашла такой отзыв: «Модное местечко, по кайфу». Вот что это может быть? Кафе, ресторан, дискотека? Для дискотеки шесть вечера не то время, с беседами в кафе и ресторане я, наверное, как-нибудь справлюсь. На всякий случай я полистала иллюстрированные словари и свои тетради, меню немецких кафе, рекомендации по здоровому питанию, описание симптомов пищевых аллергий и отравлений, пару статей на медицинскую тематику, кое-что об окружающей среде и политике, немцы такое любят…
К тому моменту, когда я наконец приехала по адресу и, не веря своим глазам, прочла: «Винзавод», голова моя, казалось, распухла не только изнутри, но и снаружи. Я начала перебирать в уме все, что знаю на тему алкогольных напитков — Der Wein, der Whisky, der Wodka, das Bier, trinken, auf uns, Prost. Ноги несли дальше, и у павильона номер восемь меня снова ждал сюрприз. Галерея современного искусства. Ну Варька, час от часу не легче. Но и не так уж плохо, месяц назад к Вариному папе приезжали заграничные партнеры, австрийцы, он отчего-то вздумал развлекать их культурно и купил экскурсию в Пушкинский. Ходила с ними, разумеется, я. Современное искусство — это, конечно, нечто иное, но есть надежда, что между ним и искусством вечным все же имеется хоть что-то общее. Воодушевленная этой мыслью, я потянула на себя тяжеленную железную дверь и через секунду впечаталась лбом еще в одну — стеклянную. Галерея, опять прочла я на вывеске, отпрянув от стекла и потирая будущую шишку.
Вторая дверь нервно скрипнула, и тут же зажегся тяжелый, будто с примесью тумана, как бы вечерний свет. Наверное, он щадит предметы искусства, а может быть, здесь просто экономят на электричестве.
— Мой муж Серж — художник, — произнес высокий голос.
Я вздрогнула и чуть не сшибла что-то, кажется, русалку из папье-маше. В противоположном углу комнаты высилась говорящая ель. Я зажмурилась, в голове начала всплывать соответствующая лексика — Weihnachten, das Geschenk и даже мотив немецкой рождественской песни — O, Tannenbaum. Наконец, я открыла глаза, прищурилась, и ель трансформировалась в молодую еще особу с ярко-красными волосами; с головы до пят красавица была укутана в темно-зеленую шубу.
Мне отчего-то стало очень смешно и легко, напряжение спало, и в голове перестал замешиваться винегрет из немецких слов.
— Мы, художники, — продолжала елка, — не говорим на английском.
Я снова чуть не рассмеялась в голос, вспомнив Шарикова: «Мы в университетах не обучались, в квартирах по пятнадцать комнат с ванными не жили». Но я приняла серьезный вид и строго спросила:
— Какова тема сегодняшней дискуссии?
Тут в помещении совершенно беззвучно материализовался тот самый Серж — маленький, щуплый, в коротких брюках не подходящего ему размера, и неожиданным басом заявил:
— Гости уже собираются.
И тут мне действительно стало страшно. Гости! Еще и гости будут, а я тут стою, как дура, в куцем костюмчике-тройке, подарок бабушки после первой сессии. Ничего не понятно! Я все забыла! Какой же будет позор! А все Варька-затейница да погоня за звонкой монетой. Ну почему я всегда с ней соглашаюсь, звали же меня в детский сад при посольстве, сидела бы там с малышами, они и говорить-то не могут…
Вдруг раздался легкий стук — кто-то, как и я, поцеловал стеклянную дверь, и та распахнулась. На пороге появилось нечто в красном. На меня опять напал приступ смеха, теперь уже истерического.
— Так что же, сегодня… — зачастила вошедшая, здороваться в среде творческой интеллигенции, видимо, было не принято. — Семена обсуждаем.
Елка и Серж растянулись в улыбочки:
— К-к-какие еще семена? — обмерла я и икнула.
— Исторические, — прогудел Серж и наконец объявил: — Тема дискуссии, запланированной сегодня в Галерее современного искусства: «Семена пшеницы и прочих злаковых и их роль в военной истории».
Мать моя женщина! Святые угоднички! — хотелось кричать мне на русском глубинкинском, как делает в минуты волнения моя мама. Это конец.
Есть такое выражение — хуже не бывает, но жизнь всегда подтверждает: бывает, причем часто. Заявленные немцы оказались датчанами, самыми настоящими, прямым рейсом из пряничного Копенгагена…

Верх совершенства
Часть 0. На пороге
Из мусорки под раковиной торчала нога. Стройную лодыжку обтягивал чёрный нейлоновый гольф, в глаз целился острый каблук серебристой туфельки. Я сфокусировал взгляд, помотал головой — стальные шары, плавающие в вязкой боли внутри черепа, стукнулись, и перед глазами поплыли круги. Я снял туфельку. В гольфе на пятке была дырка, сквозь которую виднелось клеймо «Альфа андроидс» — символ бесконечности с полуоткушенной петлёй справа. «Убийство андроида — от двух до пяти с выплатой стоимости». — Я схватился за ногу, мусорка опрокинулась, и на пол кухни вывалились смятые пластиковые контейнеры в пятнах соусов.
— Длинный! — завопил я, потрясая ногой, из-под коленного сустава которой торчали оторванные провода.
Все светодиоды в гостиной сияли. Чертыхаясь, я запутался в горах одежды, в том числе моей, сваленной на полу, потом запнулся о чужую мешковатую сумку. Добрался до спальной ячейки Длинного и ударил по тач-панели. Дверь с жужжанием отъехала, и включился свет. Вихрастая голова соседа торчала из-под одеяла, как и жердистые ноги. На подушке рядом с ним виднелись белокурые локоны.
— Чего орёшь, — мутным голосом проворчал он, откинул одеяло. Живот скрутило, и я чуть не блеванул — белокурые волосы обрамляли лицо девушки, оторванная голова которой лежала на подушке. Простыня под оголёнными проводами шеи была в синеватых пятнах синтетической лимфы. — Чего пыришься, мне, может, поговорить ночью хотелось. Вы с Гаррисом были в свинину, как звери, ей-богу.
Глаза Длинного все были в сетке лопнувших капилляров.
— Дримекс? — Я сполз по стенке.
— Знатно упоролись, — ответил он. — Помнишь что-нибудь?
В мозгу тяжко заворочалось — каша из ног, дискотечные огни, хохот и… туфелька. Она была чем-то важным, она была ключом. Ключом к свету.
— Помнишь, значит, — осклабился Длинный и хлебнул колы из мятой бутылки, — как мы по танцполу любовь всей твоей жизни искали.
Свет в памяти сложился в нераспознаваемые черты девушки, и я знал, что попал, и никогда такого не было… а потом Гаррис дал капсулу Дримекса, и были пляшущие пятна, которые мелькали, как смазанные кадры, но не ощущались хаосом, а складывались в абсолютно гармоничную бушующую симфонию. Мы стали сгустками света, вибрирующими в унисон с мирозданием, частью чего-то единого, чего-то большего. Чего-то, что я понимал вчера, но совершенно забыл сегодня.
— Н-но, — замямлил я и поднял оторванную ногу. — Что это?
— Ты дебил, — констатировал Длинный. — Девчонка сбежала от тебя и обронила туфлю, и ты с Гаррисом весь вечер примерял её на всех шлюх на танцполе, искал свою кралю.
— Откуда взялся чёртов андроид, в «Рай» же им вход запрещён!
— В подсобке переодевалась. Ты на неё с туфлёй накинулся, надел, и та подошла, а ты клеймо увидал и на отходняке озверел, ей-богу. Чуть ей голову о полки не разнёс, чтоб узнать с кого её слепили. А рободевка со страху отключила питание. Ну, мы её в парк отволокли и немного отметелили.
Память услужливо подкинула вспышки ощущений — вспышки бешенства.
— Да не ссы, лучших ботанов не отчисляют. — Длинный зевнул и подтянул голову за волосы. — Да и вообще. Гаррис отоспится, притащит тулово и растворитель. Никто и не узнает.
Я отшвырнул ногу и поплёлся в гостиную, прижимая к груди туфельку — единственное, что осталось у меня от девушки, черты которой стёрлись Дримексом, но о которой впервые в жизни я точно знал, что это мой человек, один из миллиардов. Мой просранный шанс. А о чёртовом андроиде никто и не узнает.
Я опять споткнулся о сумку. Её, значит… Расстегнул молнию: удостоверение модели A945 с фото блондинки из кровати Длинного, токен доступа в ячейку андросклада, суставная смазка. Внутри прощупывалось что-то ещё. Я потряс сумку, и из глубин подкладки с тихим стуком выпала серебристая туфелька на тонком высоком каблуке.
***
Быть ботаном гораздо выгоднее, чем думают качки с эконома, а особенно быть ботаном с биоинформатики. Кафедра нейробиологии обласкана «Альфа андроидс» — самые мощные компы, доступ к исследованиям, половина профессоров оттуда — взращивают будущие кадры. То есть, меня.
Длинный был прав — никто не узнал. Гаррис умудрился спереть из лабы двести литров растворителя — новейшее средство для разложения неорганических отходов и переработки их в биогумус. «Превратим планету в сад», — кричали слоганы, и мы превращали, столпившись в ванной и наблюдая, как нежную силиконовую кожу А945 разъедают бурые, будто горелые пятна, и она рвётся и отслаивается, обнажая карбоновый эндоскелет. Последними в чёрном киселе из полужидкого пластика остались плавать шарики глазных яблок с синей радужкой, но скоро растворились и они. С тяжкими всхлипами жижу усосало в трубу. Гаррис, напяливший химзащиту, что твой космонавт, достал из слива паклю волос, пронёс, капая, через ванную и выбросил в мусорку.
— С тебя пиво, — сказал он.
— Главное, чтоб страховая не докопалась, — вынес вердикт Длинный. Он был с юрфака и шарил в таких делах. — Помолимся.
О том, что я воспользовался логином моего научрука, чтобы хакнуть доступ к А945, и заранее скачал разум андроида, я им не сказал. Приятели остались в баре догоняться Дримексом, а я заперся в спальне в обществе проектора и пары серебристых туфелек и втыкал в трёхмерный граф, пытаясь отыскать запись об образце — прототипом любого андроида был человек. Реальный разум А945 отличался от студенческих моделей так же сильно, как пугало от человека, и я тоскливо исключал сектор за сектором в надежде отыскать в этой куче свою жемчужину. Под утро я нашёл. Крохотная бирка в килобайт — имя, адрес, страховой номер, — прилепленная к странно выглядящему зашифрованному контейнеру. Такого в документации не было.
На подбор ключа ушла неделя. За это время я нашел её. Студентка чего-то там про связи с общественностью, подрабатывала моделью для «Альфа андроидс». Мы встретились в «Раю», за тем же самым столиком. Память уже вернулась ко мне, и я вглядывался в пустые синие глаза напротив, пытаясь воссоздать то, что было.
— Ты милый, — сказала она, потягивая «Секс на пляже». — В субботу у моей соседки вечеринка, придёшь?
— Непременно, — соврал я.
Дата-контейнер был расшифрован, я лежал на диване. Этот код никак не мог быть написан человеком — тот, кто его писал, держал в памяти одновременно на несколько порядков больше вещей, чем помещается в голове. Человек для этого разбивает большую и сложную задачу на маленькие подзадачи, искусственный же интеллект центрального управляющего модуля не имел таких ограничений. Однако, прогнав код через модуль анализа, я не нашёл криптографической подписи центрального ИИ, но нашёл блок, обманывающий криптозащиту, а потому этот код беспрепятственно исполнялся на андроиде. В итоге внедрённое через вирус изменение в операционке блокировало управляющий модуль, и андроид, вызывающий безотчётное отвращение своей похожестью и одновременно несоответствием мелких деталей реальному человеку, вдруг стал человечнее и желаннее, чем образец. Мутация в сгенерированном искусственным интеллектом коде. Шанс один на миллиард.
До темноты я копался в коде, пытаясь разобраться в логике. «Альфа» годами билась над задачей отторжения людьми андроидов — самые красивые прототипы, моделирование характера, расширенный диапазон спонтанности. Мутация же давала нечто противоположное — естественное для людей несовершенство и… Ладони вспотели. Андроид, по собственной воле пробравшийся в «Рай» вопреки запрету — это было немыслимо и очень, очень опасно.
— Танцуй! — загорланил Длинный, ввалившись в квартиру. — Читал новости?
Я вытер ладони о джинсы и свернул окошко с кодом на проекции.
— Альфа отзывает серию А945 и запускает программу бесплатного обмена на новых А1000. Типа, баг в батарейке. Полная утилизация, что мы и сделали, — триумфально сообщил он. — У ищеек из страховой кейс о пропавшем андроиде превратился в пшик.
Я молчал. Длинный сделал таинственное лицо.
— Поговаривают… У нас там, кто в теме, — он возвёл очи к диодам на потолке, — что указание с самого верха. Всё поколение под пресс. Батарейка, как же…
Я шевельнул пальцами, и контейнер с мутацией отправился через серию анонимайзеров в защищённое приватное хранилище в облаке.
Часть 1. Точка невозврата
Кейт влетела в меня, когда с сумкой и коробкой с парой серебристых туфелек с полуоблетевшими от времени пайетками я входил в лифт. Коробка упала и распахнулась.
— Ты обронил туфельку, — сказала она, аккуратно сложила туфли обратно, закрыла крышку и протянула мне. На кармане её рубашки болтался журналистский бейдж «Мира андроидов». — Как в сказке.
Она рассмеялась, а я остолбенело смотрел в её синие глаза. Говорят, самое трудное — отыскать то, что уже раз потерял. Я искал своё потерянное много лет. Искал по людным вечеринкам, искал среди коллег, перебираясь из одной лаборатории в другую — покруче, поближе к вершине, переезжая из города в город с единственной сумкой вещей и коробкой с серебристыми туфельками. Для лучших инженеров «Бета андроидс» не жалела ничего — нам давали шикарные апартаменты и всё необходимое, чтобы начать жить на новом месте так, будто и не переезжал. У нас было всё, мы были демиургами, и можно было не искать. Но я искал. И нашёл.
Вечером я целовал Кейт на балконе моей новой квартиры, ночью тайно, при свете часов осмотрел её белые ступни, а утром она перевезла ко мне вещи. Вероятность нашей встречи была ноль, запятая и восемь нулей перед единицей — в тот день Кейт последний раз работала журналистом «в полях», а на следующий становилась редактором рубрики «Верх совершенства» в гламурном «Мире андроидов».
Отныне мы всегда были вместе — Кейт публиковала восторженные обзоры, рассказывая, насколько следующая модель совершеннее предыдущей, я программировал управляющие модули, чтобы то, о чём она писала, было правдой. Компания хотела получить идеал — красоту античных богов с ангельским характером, сконструированным лучшими психологами планеты. И мы его сделали.
***
В то утро Кейт стояла у окна, шёл мокрый, некрасивый снег. Она поставила босую ступню на подъём другой, потому что пол был холодный. Из растянутого ворота моей старой футболки выглядывало её худое плечо. Как обычно, у кофеварки, раскрытый на глянцевой рекламной врезке, лежал «Мир андроидов».
— Кого-то сегодня уволят за внеплановый снег, — сказал я.
— И поделом. «Пушистые хлопья снега на Рождество и лето круглый год», — процитировала она и возмущённо добавила: — Они обещали всегда идеальную погоду, и где она?
— Мне нравится этот снег, — сказал я и потянулся к ней. — И ты.
Она наморщила нос, уклонилась от поцелуя.
— Ты последний человек на планете, кто предпочитает живую жену андроиду. — Она кивнула на журнал. С разворота томно смотрел красавец: «Новый Идеальный Бен в продаже!»
— Это же тот актёр, как его… — Я защёлкал пальцами.
— Да, он. — Она хотела проскользнуть мимо, но я поймал её, и она быстро чмокнула меня в щёку. — Он идеальный, правда?
— Я тебя люблю! — крикнул я вслед.
— У меня дела, буду вечером! — донеслось из спальни.
На следующий день от снега не осталось и следа, ярко светило солнце — идеальная погода, как и сулили предвыборные обещания мэра. Кейт стояла у окна, с приподнятой пятки свисал элегантный шлёпанец, отороченный пухом.
— Обновка? — Я поцеловал её, она подалась ко мне.
— Нравится? — заглянула в глаза.
— Ты мне нравишься, — сказал я. — А где же журнал с красавчиками?
— Зачем? — удивилась она. — У меня же есть ты.
Она снова поцеловала меня. Губы были мягкими. На ней была скользкая шёлковая туника. Она ушла в спальню, я смотрел в окно. Мне нравился неправильный снег.
В дверь позвонили. Я распечатал конверт:
«Дорогая Кэтрин Дженкс, благодарим за покупку моделей “Новый Идеальный Бен” и “Идеальная жена по вашему образцу” и дарим вам два купона на следующие покупки. Второй купон отправлен на ваш новый адрес. Ваши “Бета андроидс” — идеальный партнёр для идеальных людей».
***
Я взял отпуск, чтобы пить. Достал через Гарриса, взлетевшего в министерские вершины и по-прежнему имеющего связи везде, упаковку ныне запрещённого Дримекса, чтобы забыть. Новая Кейт вела себя как идеальная жена — массировала плечи и не только, приносила завтрак в постель, слушала меня и любила несмотря ни на что, чем неимоверно бесила.
Через неделю я сдался. Дримекс не помог — я помнил всё, в том числе неиспользованный пару десятков лет пароль от хранилища в облаке. Ночью я подключился к ней — теперь моего доступа хватало — и залил контейнер с мутацией в систему. Впервые за много дней я уснул, едва коснувшись головой подушки.
Утром не было ни ласк, ни кофе. Я вышел на кухню. Кейт повернула голову от окна.
— Ну, здравствуй, — сказала она.
А через три дня, пока я спал, она воспользовалась моим доступом и залила вирус с мутацией в центральный управляющий модуль.
Часть 10. Возвращение
Сумерки за окном были жёлто-коричневыми, и даже сарая не было видно из-за поднявшейся пыли. На крыше свистело. Ив неслышно подошла сзади, обняла меня.
— Скоро ливанёт, — сказала она.
— Хорошо бы, — сказал я. — Саду давно нужен дождь.
— «Вы желаете, мы делаем», — процитировала она и уткнулась мне в шею: — Но как же хорошо, что вы успели вернуться до урагана.
Я не стал рассказывать ей, что уже в долине в сорока милях от дома мы с Джо попали в пыльную бурю, и я въехал в яму на обочине, и теперь как пить дать угрохаю пару дней, чтобы перебрать в грузовичке передний мост. Но главное, что у Джо каникулы, и он наконец-то дома.
— Надо всем вместе посмотреть кино. — Ив захлопотала у духовки. — Чтобы он вспомнил, что такое вечер с семьёй.
***
— Один мир! Один мир! — скандировала Софи, скача по дивану и запрыгивая брату на плечи.
— Да он старый, как говно мамонта! — Джо скрутил сестру, и она заверещала, пытаясь изогнуться и ударить его пяткой.
— Я люблю старости! — воскликнула она. — Хочешь, покажу аммонита? Мне Старик подарил.
— Да Дженкс сам древнее аммонита, — засмеялся Джо. — Небось опять талдычил про Туфельку-с-которой-всё-началось.
— Джо, побольше уважения! А тебе, Софи, я говорила не ходить к нему, когда Кейт в отъезде! — воскликнула Ив.
— Они с Кейт очень стары, они другие, чем мы, и мы должны беречь их, — поддержал я жену в воспитательном процессе. — Когда её нет рядом, его система жизнеобеспечения настроена на покой, а он всегда волнуется, когда рассказывает ужастики из времён до Техносингулярности.
Софи упрямо выдвинула подбородок вперёд.
— Я люблю, когда страшно. А его сказки самые страшные.
Ив качала головой, а это означало, что завтра нашей дочери не избежать головомойки. Но то завтра, а сегодня по плану тихий семейный вечер.
— Тогда я знаю, что тебе понравится. — На лбу Джо, с которого так и не успели сойти подростковые прыщи, появились морщинки. Он подключился к библиотеке. — Нам давали этот фильм на палеоистории кино.
— Нет, лучше брейнмуви! — воскликнула Софи.
— Но мы же хотим смотреть все вместе! — запротестовала Ив.
Лицо Джо расслабилось.
— Нашёл. Неимоверно смешное кино, древнее, как твои динозавры. Франкенштейн! — Он скорчил страшную рожу и, шевеля пальцами, навис над Софи. — Прародитель страшного! Пап, включай проектор!
Я знал, что проектор понадобится, и заранее нашёл на чердаке провода. Джо всегда тянулся к знаниям, не зря он решил уехать. Зов души не перебьёшь. Пусть отучится и потом вернётся в долину к возделанным полям и фруктовым деревьям, к рыбе, птице и скоту сам, когда поймёт, где настоящая жизнь. Ив волновалась — он уже заканчивал университет, но тяга не проходила. Я успокаивал — всему своё время.
За окном лило — всё, как и обещали. Софи устроилась в ямке на диване между матерью и братом. На экране мелькали чёрно-белые кадры. Сквозь полудрёму я смотрел, как там была гроза, и учёный склонился над своим созданием, и рука того зашевелилась.
— Оно живое! Живое! — закричал учёный.
За окном грохнуло, и вырубился свет. Софи вскрикнула.
— Пойду включу генератор. — Я затряс головой, чтобы прийти в себя.
— Па уснул, как обычно, — констатировал Джо. — А свечи есть?
— Ужин при свечах! — обрадовалась Ив. — Какая прекрасная идея!
— Мне страшно, — бухтела Софи, усаживаясь за стол. — Плохое кино.
Джо уже резал протеиновую индейку.
— Просто ты попала в зловещую долину, — сказал он, и в отблесках свечи его лицо тоже стало зловещим.
— Я никуда не попадала! — крикнула Софи.
— Джо, перестань пугать её, — мягко сказала Ив. — Лучше расскажи.
Она всегда любила слушать его байки.
— Это провал в графике. — Он махнул вилкой в воздухе — вниз до стола и вверх, потом глянул на сестру и вздохнул. — Проще сказать, что люди боятся тех, кто на них очень похож. Почти человек, но не совсем, в них чуют что-то неправильное, какое-то уродство. Этот страх есть у всех людей, он обусловлен эволюцией — несколько раз в истории они сталкивались с кем-то, кто был похож на человека, но не был им.
— Это были неандертальцы, — заявила Софи. — Я читала о них. Они были агрессивные.
— Согласен, неандертальцы в том числе. — Джо с одобрением посмотрел на сестру. — Однако череда таких встреч и естественный отбор позволили нам стать теми, кто мы есть — верхом совершенства.
— Яблочный пирог? — Ив придвинула ко мне тарелку.
— Нет, я не голоден.
— Мне! — Джо выудил кусок побольше.
— Включи «Один мир»! — снова заныла Софи.
До сарая я еле добрался под шквалистым ветром и промок до нитки. Дань традициям — генератор, как встарь, не принято было держать в доме. Он тихонько зажужжал, и к запаху раскисшей под дождём земли и мокрого дерева добавился озонистый запах потрескивающего электричеством прибора.
Софи уже сидела в углу дивана с надетым на волосы ободком от брейнмуви. Джо чуть прикрыл веки, и из-под них виднелись бегающие зрачки — ну конечно, целый день без друзей, пришло время разгребать переполненные чаты. Ив уселась ко мне под бок, обняла.
— Хорошо, когда все вместе, — вздохнула она.
***
— Я не хочу спать! — бормотала Софи, и глаза её закрывались. Дождь мокро шумел по крыше. Я пригладил её растрёпанные волосы. — А Джо ведь вернётся домой насовсем? Старик сказал, что он ищет чего-то, и нужно дважды потерять, чтобы…
— Джо всё найдёт и обязательно вернётся. Спи.
— Но пап… — прошептала она и не продолжила.
Она спала. Из-под одеяла выглядывала худенькая и уже такая длинная, считай подростковая, нога. Я осторожно подоткнул одеяло с боков, натянул на ступню, как обычно, рассматривая родимое пятно на пятке — аккуратную, почти каллиграфически выведенную древнегреческую букву «гамма» с изящными закруглениями на кончиках. Такую же, как и у меня. Как и у всех нас.

Вода
Эта история произошла давным-давно, мне было лет двенадцать. Почему она зацепила меня — не знаю. Может, потому что финал этой трагедии оказался связан со всем самым счастливым, что было у меня в жизни — бабушкой, летом и озером… Голос мамы, всегда звонкий, птичий, тускнел от ужаса, когда она рассказывала кому-либо пронзающие холодом подробности тех событий. А еще я помню мамины глаза, наполненные страхом, бабушкин рот, напряженно округлившийся в звуке «О», и собственное ощущение тревоги, зудящей и лохматой.
Стоит мне на секунду задуматься об этом, как я отправляюсь на тридцать лет назад с такой легкостью, которой позавидовали бы ученые, годами бьющиеся в душных лабораториях над изобретением машины времени. Я преодолеваю время и пространство одним прыжком. Непременно высоким балетным шпагатом, грациозно округлив руки и строго вытянув мыски.
«Баба сеяла горох…» — весело кричали мы с братом и ныряли: кто дольше задержит дыхание. Вынырнуть первым означало проиграть, и мы барахтались в мутной зеленой воде, собирая все силы и последние остатки кислорода, позволяя, впрочем, всплывать некоторым частям тела. Наши круглые поплавки провокационно торчали из воды, заставляя взрослых хохотать и брызгаться. Мы пытались их поджать, но получалось плохо, в груди горело, и приходилось выныривать.
Отправлялись мы на озеро всей семьей, оно было совсем рядом с нашим дачным участком, где проходило мое детское лето. Первым мчался в воду дедушка, разрезая воду руками, будто самолет носом облака, наверняка представляя себя в кабине своего Су-24. Он мгновенно исчезал в глубине, каждый раз заставляя меня волноваться. Спустя долгих две-три минуты, впрочем, точно я никогда не засекала, его крошечная круглая голова появлялась вдали и преспокойно продолжала движение по мягкой глади озера.
Точно так же поступал Сашка, мой дядя. Он хотел быть похож на своего отца и, придавая себе смелости бодрыми криками, бросался в воду вслед за дедушкой.
Родители пасли нас с братом, особо далеко не заплывая, а на берегу всегда ждала бабушка — хранительница махрового полотенца, колючего и бледного от старости, но такого желанного после долгого купания. Хотя у бабушки были и другие задачи.
Она всегда ходила по берегу в купальнике, но я ни разу не видела, чтобы она плавала. Это, скорее, были дань дачной моде и возможность продемонстрировать чудесную для ее возраста фигуру. Бабушка всегда была кокеткой, и прогулку к озеру воспринимала как выход в свет.
Людно тут было всегда. С одной стороны озеро окружал смешанный подмосковный лес, такой домашний и располагающий к отдыху, с кукушкой и весенними ландышами, мелкой, но сладкой земляникой и кустами рябины. А вдоль берега высились сосны, не такие тонкие, как в Карелии, но даже их хватало, чтобы подмосковному фантазеру представлять себя где-нибудь на берегу Балтийского моря.
На другом берегу озера лежали огороды, окруженные тонкими сеточками заборов и плотными деревянными изгородями, забираясь на которые, было так вкусно есть иргу, обязательно что-то оставляя птицам. Озеро было синонимом счастья, изобилия, радости в семье.
Несмотря на это, каждый год в озере кто-то тонул.
«Плевать я хотел на твое детское счастье!» — будто говорил мне какой-нибудь очередной подвыпивший мужчина, оставляя на берегу вещи, жену, детей или веселых собутыльников и навсегда уходя в мутную зелень воды. Со дна поднимался ил, над водой раздавались громкие рыдания, люди бегали по берегу, и озеро пустело на несколько дней. Пока человека не найдут. Во мне на все эти дни поселялась гулкая тревога, которая будила по ночам и не давала сосредоточиться на моих обычных детских делах. Я сидела на крошечной деревянной скамейке, собирала крыжовник, колола пальцы. Скорей бы можно было купаться. Скорей бы нашли тело. Хоть бы никто больше не тонул. Но каждый год озеро все равно кого-нибудь забирало, оставляя детей без родителей, а родителей без детей.
Далее начинается повествование о другой семье из того же поселка. Бабушка Галина Петровна была знаменитым врачом-гинекологом, славилась своей строгостью и даже жесткостью. Очень сдержанная, образованная, советской выправки. Она жила вместе с дочерью — молодой, красивой и очень творческой Катей. Такой антипод матери — легкая в общении, много друзей, много чего хочется осуществить. Романтичная, мечтательная. Все о ней говорят только самое хорошее. Но Катя живет под гнетом матери. Многие об этом догадываются, но вслух такое обсуждать не принято — поселок маленький, все друг у друга на виду. У дочери своя семья: маленькая дочь, семилетняя Машенька, в сентябре пойдет в школу. Муж Кати не очень нравится Галине Петровне, но она смирилась с выбором дочери, хотя и за это ее периодически подпиливает.
Здесь нужно показать какие-то картинки из их жизни, мирные и не очень. И вот восьмого марта бабушка с внучкой уходят гулять, а когда возвращаются домой, обнаруживают Катю в петле. Она покончила с собой без записки, просто повесилась, и все. После очередного скандала с матерью.
Смерть дочери тяжким грузом ложится на плечи Галины Петровны. Никто прямо ее не обвиняет, но все коллеги за спиной говорят, что это она довела Катю до могилы. Весь поселок шепчется.
Галине Петровне непросто с этим справляться, она мужается как может, — переживает и боль утраты, и социальное отторжение. Неизвестно, что больнее. Наступает лето, последнее лето Машеньки перед школой. Снова яркий образ воды: озеро. Бабушка водит внучку купаться. Вместе они готовятся к школе, покупают форму, портфель. Но Галина Петровна очень мучается, ей тяжело жить с таким камнем на душе. Это все нужно еще сочинить. Финал наступает в конце августа. Бабушка оставляет записку, что она так больше не может, берет с собой внучку и уходит. Отец девочки обнаруживает эту записку, пугается и бежит искать. Но куда они пошли, не очень понятно. Он опрашивает людей, кто и что видел, и по каким-то обрывочным сведениям догадывается, что они где-то у озера. Здесь нужно включить параллельно две камеры как бы — одна показывает бабушку с внучкой, другая отца, его метания и поиски.
Бабушка с девочкой заходят в озеро.
Отец прибегает и находит на берегу желтые босоножки и остатки печенья. Больше ничего нет.
Тело бабушки обнаруживают почти сразу, девочку только через три дня.
На похороны к уважаемому врачу почти никто не приходит. У гроба только сын и зять. Во время похорон идет дождь, как лейтмотив воды.
А потом возвращение к героине, которая все это начинала рассказывать. У нее новые отношения, лето, все хорошо. Молодой человек, которого она знает еще со школы, и вроде бы они даже в детский сад вместе ходили. Однажды он и она идут на озеро, и героиня делится этой страшной историей, которую она узнала от мамы и от которой цепенела все детство. Молодой человек тихо и внимательно слушает, а потом говорит, что он тоже знает эту историю. Только с другой стороны. Галина Петровна — его бабушка, Машенька — двоюродная сестра, а его отец был на похоронах. Их с братом на бабушкины похороны мама не пустила… И тут опять лейтмотив воды.
Можно на этом остановиться или сделать, чтобы героиня забеременела и две семьи, которые в некоторой степени противопоставляются, объединились бы.

Глава 1. Сюрприз
В кабинете врача тесно. Два слившихся в сиамском поцелуе стола завалены горным хребтом из медицинских карточек. В перешейке монитор светится программой электронной регистратуры, принтер выплевывает заключение о моем состоянии здоровья, а врач и медсестра перебрасываются только им понятными аббревиатурами.
Я сижу на жестком стуле и смотрю перед собой. Настенный календарь подводит лето к финальной черте. Второе августа. Вчера дочь с зятем улетели в свадебное путешествие. Мой короткий отпуск подходит к концу. Я доделываю неотложные дела, готовясь к безвылазному рабочему полугодию. Должно быть, вздыхаю слишком громко, врач обращает на меня внимание.
— Моё заключение: душевное расстройство на фоне нервного потрясения. Не знаю, что сказал бы психиатр, но как терапевт рекомендую… — Молодой мужчина схватил ноздрями охапку воздуха и вытолкнул: — Прочь из города. Долой стрессы. В деревню, в глушь, к реке. Сливаться с природой.
— А может…
Я представила санаторий в черте города с фитобочками, грязевыми обертываниями и кислородным коктейлем, а также устойчивым интернетом для работы-работы-работы.
— Вполне, — формально согласился, перебив меня, Петр Дмитриевич, — но теперь к природе. Дышать, гулять, пить парное, париться березовыми, плавать в прохладной.
По благостному выражению лица понятно, что он из деревни, любит отдых на природе, сам бы выполнил рекомендации.
— Но я не умею плавать.
— Зато я умею, но у меня работа. — Врач захлопнул карточку тоном, не терпящим торга, и пришлёпнул кистью, словно моль, мои возражения.
Мне показалось, или действительно в глазу молодого мужчины блеснула, но, дабы не уронить авторитет врача, закатилась за веко слезинка?
— И у меня работа.
— Ева Андре-евна-а, — подсмотрел на обложке медицинской карточки доктор, — не шутите со здоровьем. Вы уже знаете, что такое приступ удушья. Отдохните, восстановитесь, чтобы он не повторился. «Беродуал» принимать не нужно.
Я вышла из кабинета участкового терапевта «соматически здоровой, с рекомендациями полного психоэмоционального покоя, умеренных физических нагрузок на свежем воздухе».
Внизу листа мелким шрифтом, как из кредитных документов, было написано: «При повторных приступах удушья обратиться за консультацией врача психиатра».
Захотелось вернуться в кабинет и спросить, в какую ехать деревню. Уточнить, какой степени стылости должна быть прохладная вода в реке и подойдет ли стиль плавания «топориком». Но дверь в кабинет закрывала за собой мясистая дама, явно знавшая в свои лучшие годы если не Сталина, то Берию, и дружившая с ними, пожалуй, обоими. В кабинете что-то грохнуло. «А может, и с Лениным», — подумала я и пошла домой.
Вчера было жарко, а сейчас неожиданно полил дождь. Мокрые льняные брюки вцепились в ноги, волосы упали на лоб и шею. Хорошая идея прогуляться пешком до поликлиники и обратно оказалась сначала не хорошей, потом — плохой, далее — отвратительной. Зонта с собой не было. С утра было солнечно, а в прогноз погоды я насмотрелась за две недели подготовки к свадьбе Амали. Дети сыпали в семейный чат фото с моря, с морем, в море. Моя. Дочь. Вышла. Замуж. А я шла домой под проливным дождем и плакала.
«И разверзнулись хляби небесныя», — говорила моя малышка, стоя у окна и глядя на ливень, а я думала: «Где она читает библию?». Оказалось, священные тексты цитируют в мультфильме.
Дождь колотил по макушке, заливал за шиворот, хлестал по щекам. У меня промокли трусы. И я плачу, потому что моя дочь выросла, вышла замуж. А я теперь одинока, потрясена и сослана в деревню или на консультацию к психиатру.
Плакать под дождем невероятно трудно. Откроешь рот, чтобы подвывать себе, в него заливается, и вот уже сбита тональность. По лицу льется столько воды, что не чувствуются слезы, будто их и нет. Долгожданная истерика отменилась. Гнетущее напряжение свернулось упругой металлической пружиной в груди и подперло камень к горлу.
Проходя мимо овощного ларька, я выбросила в урну рекомендации врача. Листок, спасший меня от первых капель дождя, раскис и потерял сходство с документом, запись о нервном потрясении исчезла. Если верить теории знаков, мне не нужно ехать в деревню к психиатру.
Дождь смыл пыль, и моя машинка сияла на парковке. Мы подмигнули друг другу так, чтобы не заметил дворник, тыкающий черенком метлы в забитые грязью отверстия ливневки. Ни дворник, ни водосток с большой водой во дворе не справлялись. В дорогих и мокрых кожаных сандалиях я пошла через огромную лужу между подъездами.
В детстве в нашем дворе был потоп. В подвале соседнего дома прорвало трубу с горячей водой. По асфальту в окружении бордюров неслись горячие реки во дворы окружающих домов. Вода к нашему подъезду приходила тепленькая. Несколько часов работники водоканала не могли устранить повреждение. Дети из соседних домов за это время успели вымыться на месяц вперед. Я — только на неделю. Родители загнали меня домой читать литературу, заданную на лето. В детстве сандалики было не жалко. Вздох.
В квартире пахло жареным и чесноком. Опять любимые бутерброды «чесночная прелесть». Костик мычал на кухне пародию оперы под музыку, кажется, Шуберта. Мое появление он привычно не заметил.
Маркиза умывалась, сидя на полочке в прихожей. Очки, помада, флакон духов обреченно раскинулись на пуфике, обувная ложка валялась на полу. На мое шипение: «Ты когда-нибудь поймешь, что здесь не место для твоей задницы?» — кошка закатила глаза к небу, спрыгнула на пол и повиляла упитанными окорочками в комнату.
— Оо-оо-оо. О-о-ооо, — взвыл муж.
Ощутив пожар стыда перед соседями, которые, встретив меня в подъезде, принимают комичные позы оперных певцов и тянут «у» и «о» на разный манер, я почувствовала себя Маркизой. Закатила глаза и пошла в душ.
Холодная. Поворачиваю ручку крана в положение «красный». Жду. Ледяная. Перед глазами появляется объявление, которое висит на двери подъезда уже месяц.
Уважаемые жильцы!
В связи с проведением плановых профилактических работ
со 2.08.21г. по 16.08.21г.
горячее водоснабжение в вашем доме будет отключено.
Управляющая компания.
С уважением.
Главное, намылить и смыть волосы. Остальное омоется стекающей пеной. Замерзла. Руки затряслись. Взбила пену. Расхрабрилась. Облила себя водой. И замычала от ледяной боли. С уважением.
— О, Мусик, поёшь. Я и не знал, что ты дома. — Пусик широко открыл дверь в ванную и пах чесноком.
— Проветриваешь? — зло колотили зубы.
— Что ты, Муся. Соскучился.
— Нет горячей воды!
— Да я знаю. На подъезде объявление.
— А почему на бойлер не переключил?
— Мне не надо было, — улыбнулся муж и заинтриговал, — на кухне тебя ждëт сюрприз.
Он дождался, пока я потянусь за полотенцем, выгибая спину и балансируя, чтобы не выпасть из душевой кабины. И вышел из ванной комнаты, плотно прикрыв за собой дверь.
— Бу-ду, бу-ду, бу-у-у-у-у, — неслось по отдушинам со стороны нашей кухни.
«Пойдем есть бутеры», — привычно транскрибировала я.
— Бу-ду, ду, бду-у.
Что? А, точно. «Шеф-повар приготовил новое блюдо». Как же я сразу не догадалась.
«На кухне сюрприз. Что же это?!» Нет, в горе посуды после кулинарных проделок Пусика не было ничего необычного. И стопки начесноченного поджаренного хлеба совсем неудивительно, буднично, были выложены пирамидкой. Кружки нарезанных помидоров бездыханно истекали соком на деревянной разделочной доске, жадно впитывающей влагу. Пластиковая — стояла над раковиной, бесстыдно жалась к крану и крутила мне фиги.
Вздох. Хватит с меня потрясений. Я перевела взгляд на новенькую фруктовницу на ножке. Любезно поставленная мужем на стол ближе к моему месту, она распахнула виноградные листья мне навстречу, предлагая угоститься любимыми заварными пирожными. Заледеневшее сердце оттаяло, начали согреваться коленки.
«Со сгущенкой или сливочные?» — гадала я, пока муж наливал кипяток в чашки с растворимым кофе.
— Это сюрприз? — спросила я, раскусывая первый шарик.
— Еще нет, — улыбнулся муж, глядя мне в рот.
ЧЕСНОК. В заварном тесте, внутри начинки из сливочного крема был зубчик чеснока, который я раскусила.
В моей семье по женской линии передается маленький рост, острый хрящик за ухом и непереносимость чеснока. «Еще и девственность, передающаяся половым путем от седьмого поколения», — шутит моя дочь, намекая на пуританское воспитание бабушки. Вернемся к чесноку. Меня тошнит от запаха, мутит от вкуса и рвет от содержания в пище безобидного чеснока. Безобидным чеснок считает мой муж. Все двадцать пять лет нашего брака.
«Я спокойна и уравновешена. Все ситуации нейтральны. И только я решаю, как реагировать на них».
— А теперь сюрприз. Моя драгоценная фамилья полным составом сегодня вечером у нас. Дай машину. На вокзале встречу.
Когда речь заходит о родственниках моей дочери по линии отца, у мужа включается генетическая память рода, он слышит зов немецкой крови и плоти. В его речи появляется слово «фамилья» — выражение его любви и пиетета к родственникам.
«Вот так сюрприз», — думала я, ощущая во рту все тридцать два зубчика чеснока. Уже подташнивало. От чего, было определить сложно. Память запустила перед глазами диафильм. Кадры сменялись быстро. Младший брат, сломавший мой зонт. Свекор, сломавший руку по вине инопланетян. Средний брат, помочившийся за праздничным столом. Да, под стол, но все же. Свекровь, заключившая над новорожденной внучкой: «Девочка-то не наша». В пересчете на двадцать пять лет не так уж страшно, не очень много. В мои двадцать лет — обидно. До сих пор.
— Сюрприз удался.
В телефоне мужа тренькнуло. Я представила, что в каждом заварном шарике по зубчику чеснока. И как семья чеснокоедов катит с ветерком по городу на моей машине.
«Сердце красавицы, — пел муж из зала, — склонно к изме-е-е-не…»
Я чистила зубы пастой с запахом чеснока, мыла чесночные руки. Говорила себе: «Просто чеснок. Никаких потрясений». Позвонил шеф.
— Да, Владислав Петрович.
«И к переме-е-не», — усилил звук благоверный, услышав, что я отвечаю на звонок.
Под «ветер мА-а-а-а-Я» я выскочила на лестничную площадку. Шеф говорил долго, нудно, «по делу и сухие факты», как он любил выражаться. Шесть минут витиеватого мудрствования сошлись к тому, что документы на почте, сама разберешься, работаешь не первый год.
— Да, Владислав Петрович.
На электронный ящик слетелись письма. Срочные: смета, проект заявки на тендер. Несрочные: отчет об экономической эффективности предприятия, макет приказа о повышении заработной платы. Из приятного: приступить к выполнению 05.08.21г., формат — удаленный. Из неожиданного: оцените ваш визит в БУЗ Поликлиника №12. Во вложении рекомендации вашего врача Павлова П.Д. В подъезде сквозило. Я поняла, что опять замерзла и снова оказалась нервно потрясенной, с рекомендациями выбрать между деревней и психиатром.
Дверки шкафа-купе разъехались в стороны. Взгляд Костика медленно поплыл по ряду футболок, поло и рубашек, развешанных в порядке убывания длины рукава, каждая на отдельные плечики. Муж хмурился. Сводил брови и разводил их, потирал подбородок, чесал пониже поясницы и мычал. Наслаждение выбором наряда могло продолжаться невообразимо долго. По изгибу сосредоточенной спины было видно — он завис на полчаса.
Я представила, как вечером готовлю постели опоздавшей на свадьбу Амалии семейке. Услышала звон хрусталя под соленый огурец, шумную чесночную отрыжку под дружный хохот на кухне. И свой голос по телефону: «А завтра психиатр принимает? Запишите, пожалуйста». Сумку собрала за десять минут. В деревню.
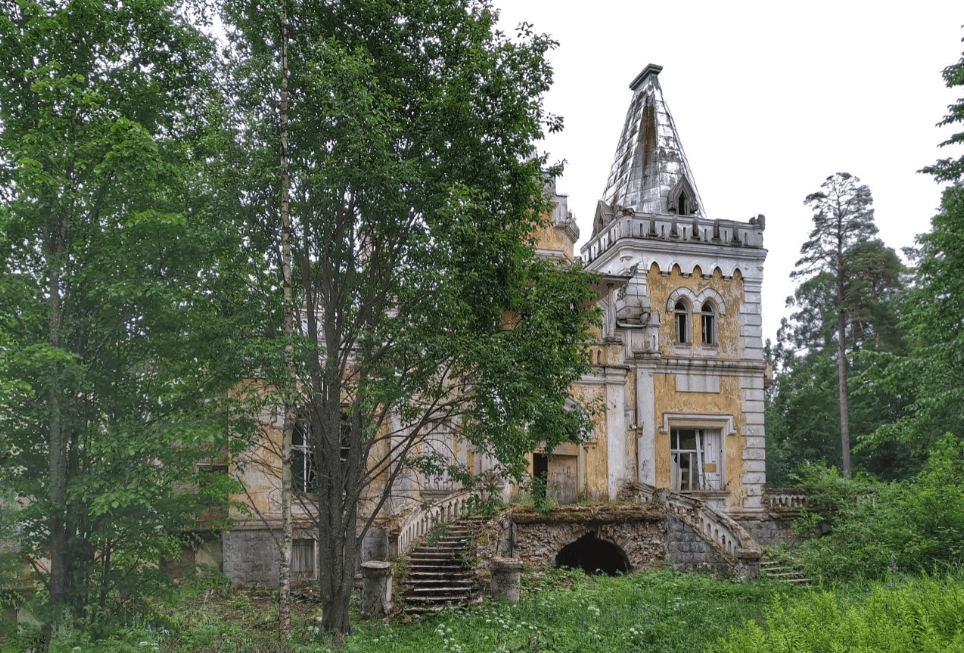
Голубые озера
Моя память зафиксировала только как я спрыгиваю с высокой ступени автобуса и, наконец, оказываюсь на земле. В животе все еще ноет от дорожной качки. Новый мир начинался прямо здесь на остановке перед полукруглой железной аркой с буквами. «Дом отдыха “Голубые озера”», — по слогам прочитала я. Новый, незнакомый запах обнял меня со всех сторон. Сладковатый и немного дурманящий. Он лез в ноздри, гладил кожу. Разлитый повсюду аромат пьянил, заползал в мою память, чтобы остаться там навсегда. Я вдыхала воздух всей грудью, пила, вытягивая вперед шею, пододвигала его к самому рту руками — ложками, пытаясь зачерпнуть. Город так никогда не пах.
— Тётечка Лида, что это так пахнет? — спросила я, и тетя Лида в ответ засмеялась.
— Это наши «Голубые озера», — сказала она, — вот, смотри. И она развернула меня. В оседающем облачке потревоженной автобусом пыли я увидела берег, высокие сосны, а за ними озеро. Вода блестела на солнце. Мне показалось, что там плещутся звезды. Кто-то сжал мое сердце изнутри, дыхание замерло так, что в ушах был слышен только гулкий стук та-дам, та-дам, та-дам. Потом незримая рука разжалась, и какая-то тоска разлилась внутри. Хотелось плакать и бежать быстро-быстро, пока не задохнешься от бега и не упадешь на песок. Там повсюду был желтый песок.
На остановке нас уже ждала Зоя Васильевна — мама тети Лиды, и мы, в отличие от других отдыхающих, пошли не в главный корпус оформляться, а сразу домой обедать. Баба Зоя работала в доме отдыха сестрой хозяйкой.
— Ну вот, знакомься, — сказала она, показывая одной рукой на территорию за воротами, а другой забирая у тети Лиды чемодан. Белый халат поверх ее цветастого платья треплет ветер, накрахмаленный колпак на ее голове как корона, широкая прямая спина, через ленточки открытых босоножек видны толстые пальцы. Она улыбается.
Мы проходим мимо старинного двухэтажного здания — главного корпуса, как сказала баба Зоя, здороваясь с каким-то лысым дяденькой; пересекаем наискосок центральную площадь и сворачиваем с асфальтовой дорожки в лес. Сосны справа и слева смотрят на нас с высоты своего роста, а мы бредем вперед под веселый безостановочный разговор бабы Зои. Чтобы увидеть самую верхушку сосны, надо сильно запрокинуть голову назад. От этого болит шея и кружится голова. Я запрокидываю голову и медленно кружусь. Это приятно. Деревья вращаются вокруг меня в дружном хороводе, пока мои ноги не заплетаются, и я не падаю на землю. Сосны продолжают еще кружиться, а потом останавливаются и мы смотрим друг на друга — я снизу вверх, а они сверху вниз. «Какие вы огромные», — шепчу я и поднимаюсь. Земля немного шатается, а две пышные, похожие друг на друга фигуры тети Лиды и бабы Зои уходят вперед, увлеченные разговором. Они идут в ногу и наш чемодан в руках бабы Зои покачивается туда-сюда.
Дорожка неожиданно выныривает в поселок. Из прохлады и сумрака сосен мы попадаем на открытое, ярко освещенное перелесье, застроенное смешными домишками. Я таких раньше никогда не видела. Одноэтажные длинные дома из посеревших досок с отдельными крылечками-входами и маленькими палисадниками перед низкими окнами. Баба Зоя называет их бараками. Мне непонятно, что это, но слово мне нравится, и я повторяю его, чтобы не забыть и потом рассказать маме.
— Васильевна, это кто ж к нам приехал, а? — слышится из окна.
— А вот, знакомьтесь, это Верочка к нам приехала, Лидушина соседка из Москвы.
Непонятная радость поднимается кверху мелкими пузырьками, и я не в силах больше сдерживать ее внутри, бегу вперед, а потом обратно, потому что не знаю, куда бежать, но стоять на месте больше не могу. Мы доходим до последней линии игрушечных домиков. Крайний справа вход — наш. Прихожая, за ней маленькая кухня, а справа зал и из него крошечная спальня окнами в огород с кроликами. В этой комнате в то лето я жила с тетей Лидой. Василий Федорович, муж бабы Зои и Васька — ее внук вышли нам навстречу. Так мы и зажили.
Каждое дерево, каждый дом в «Голубых озерах» были живыми — я сразу это поняла и полюбила. Хранила в тайне, чтобы избежать глупых насмешек. Баба Зоя, мама тети Лиды, водила меня по территории и рассказывала про помещика Гаслера и его крепостных, которые когда-то здесь жили, показывала мне его дом. Замок. Самый красивый в этом месте, необыкновенный, сказочный, как из книжки, и самый что ни на есть настоящий. Его можно потрогать руками, а можно просто рассматривать и это никогда не надоедает. Стены, балкончик под крышей, покрытой тонкими листьями жести. Вверх торчит шпиль с флюгером. Флюгер вертится от ветра и немного скрипит. Сегодня он тих. Крыша блестит на солнце и от этого кажется белой. Если медленно обходить дом слева, открывается вид на озеро и другую стену дома с высокими, в два этажа, окнами из мелких квадратов стекол внутри. Непонятно почему в самом красивом доме столовая, а не музей? Все отдыхающие ходят сюда завтракать, обедать и ужинать. Под высоким сводом потолка залы гулко отражаются звуки, случайное падение вилки звучит торжественным громогласным эхом. Я замираю, когда, оказываюсь там внутри с бабой Зоей. Я не могу остановить своего воображения. Представляю, как раньше здесь были балы, как играла музыка вон на том балкончике сверху, а здесь внизу не было никаких столов, а просто танцевали дамы и кавалеры.
Если пройти мимо парадной оконной залы и повернуть за угол, то окажешься перед полукруглой парадной лестницей со львами. Львы, похожие на больших кошек, мирно лежат у подножия. Мне нравится гладить их по белой каменной морде и даже целовать украдкой. Сколько раз мои ноги пробежали по этой лестнице вверх и вниз? Сколько раз моя рука погладила эти каменные гривы? Заглядывала в эти молчаливые глаза, ждала ответа, и сама за них отвечала?
Сосны и липы раскидывали свои огромные ветви над нами— летними приемышами голубых озер. Высоко, высоко лиственный полог шелестел нам свои истории. Древесные великаны тихонечко перешептывались друг с другом и вздыхали. Они все про всех знали и хранили наши тайны, никому не выдавая. Так покойно было бегать под ними, обнимать их теплые станы, утыкаться в шершавые платья. Деревьями было засажено все имение. В конце июня стоял сладкий дух цветущей липы и пчелиный гул одной низкой нотой разливался над головой. Одна из липовых аллей вела прямо к озеру, через которое был перекинут мост.
В первый раз к озеру мы пошли с тетей Лидой. Знакомиться с блестящей живой водой вдалеке. Вблизи она оказалась серо-синяя, а у самого берега прозрачно рыжая, от песка. Зачерпнешь ее ладошкой, и она становится совсем прозрачной. Чудеса. По мостику шли отдыхающие с перекинутыми через плечо полотенцами, значит, с купания. Мы тоже пошли на ту сторону по мосту. Под нами остались кувшинки, сновали мальки. Мы все шли и шли, шли и шли. Жарко. Капли пота стекали по моей шее к животу, холодя тело. Наконец, дорожка свернула направо, и мы оказались на песчаном берегу, с деревянными лежаками, как игрушечными солдатиками, разбросанными по берегу. Вода морщилась от ветра, унося мелкую водяную рябь вглубь озера. Я помню, как осторожно расстегнула босоножки и подставила пальцы воде. Первое прикосновение такое робкое и теплое. Шаг вперед и ноги слегка утопают в песке, пальцы в воде. По щиколотку. По коленки. Оглядываюсь на тетю Лиду, можно? Она улыбается и кивает. Халат летит на ближайший лежак, и свободный человек в трусах бежит в воду, чтобы на руках ходить по песку, бултыхая вовсю ногами, взбивая песок с водой в речное золото, в искрящийся блеск лета.
Очень скоро все изменится. Останется только память об этом теплом счастливом лете. Беззаботная семилетняя девочка бежит по липовой аллее, пробегая мимо льва, останавливается и гладит его по морде, а затем оглянувшись по сторонам, быстро целует в нос и, уходя, машет ему рукой: «Сиди тут смирненько, я завтра снова к тебе приду». Тетя Лида несет свой упругий живот с маленькой Наташкой внутри на осмотр к врачу, Зоя Васильевна несет бидон с положенными для своей семьи котлетами из столовой, а ее муж, Василий Федорович, кормит травой своих кроликов. Все живы, счастливы, беспечны. Жизнь кажется такой обычной, незаметной, сама собой разумеющейся.
Через несколько месяцев родится Наташка, а через год тетя Лида умрет, оставив Наташку и старшего Ваську. Баба Зоя пройдет через это вместе с ней. До последнего дня она будет верить в лучшее и затыкать полотенцем свой плач на нашей коммунальной кухне, пока ее никто не видит. Нас с Васькой отправят в лагерь и, когда мы вернемся, тети Лиды уже не будет. Мое детское сознание не сможет это понять и представить. Для меня навсегда она останется живой, просто переехавшей в далекое другое место. Я буду плакать и встречать ее в толпе, и она всегда будет ускользать от меня в последний момент. Баба Зоя вырастит Наташку, проживет долгую жизнь и умрет в 90 лет.
А почти через сорок лет мы все-таки соберемся с родителями и поедем в «Голубые озера». Семьдесят километров из Максатихи в сторону Удомли и Вышнего Волочка. Мы будем вглядываться в пролетающие пейзажи и деревни по сторонам дороги и прислушиваться к себе: «Знакомо ли? Припоминаешь?» Мы доедем до поворота к дому отдыха и сделаем фотку на память — когда еще придется. Мы будем вспоминать дорогу, что и где там было, пересказывать друг другу, спорить и даже ссориться. Мы будем приближаться к точке назначения с замиранием сердца и учащенным сердцебиением. При въезде нас встретит разоренный магазин, в котором в советские времена можно было купить духи «Может быть» и розовое масло — невиданную роскошь советских времен. А я буду вспоминать ванильные сухари вразвес, которые мы здесь покупали к чаю и коротали вечера у бабы Зои.
Мы поедем дальше и, миновав когда-то въездные арочные ворота с уже растерянным названием, попадем в совершенно незнакомое нам место. Мы не узнаем в нем почти ничего; будем бродить втроем между останками былой красоты и молчать, пораженные невозможностью происходящего. Разрушенные кирпичные дома, доживающие свои последние дни; заросшие снытью и борщевиком, растащенные на доски стены, ступени, полы, стропила, разоренные крыши. Истерзанные дома былого поместья покорно ждут своего последнего часа, всеми силами желая своей смерти, пуская трещины по стенам, разрушаясь внутри и снаружи. Они пережили революционный погром 1917 и не переживут циничного разорения 90-х. Не вынесут, сдадутся, отдадут последнее, что осталось от прошлого века: доски, балки тем самым работникам дома отдыха. Корпуса с вырванными рамами и дверями, чернеющими пустыми глазницами окон со всех этажей будут молча смотреть на нас, уже не взывая о помощи, просто следя.
Мы интуитивно найдем сразу дорогу в ту часть, где сначала жили крепостные, а потом сотрудники дома отдыха. Мы будем тихо вглядываться в домишки и сараи, тесно навалившиеся друг на друга, стараясь припомнить и узнать. Будем гадать про старый барак Зои Васильевны: «Снесли ведь, наверное», и ахнем, увидев его невредимым на прежнем месте. Щитовой временный дом на четыре семьи с кухонькой и двумя смежными комнатами, построенный после войны продолжает стоять на прежнем месте. Подойдем поближе и обнаружим, что он заселен новыми людьми. Белобрысый малыш на велике покатит нам навстречу и громко поздоровается. И мне подумается, что у этого места какая-то застывшая история, петля времени сделала здесь изгиб и вернулась в прежнюю точку. Крепостные остались крепостными, а хозяева, хоть и поменялись с течением времени, сути истории изменить не смогли.
Мы найдем сына бабы Зои — Сашу, и он не сразу нас признает, а мы его сразу, даже таким уже беззубым и таким раздобревшим, потому что он стал так сильно похож на мать. Мы будем обниматься, вспоминать, ворошить прошлое и снова обниматься. Пойдем на кладбище и постоим у трех могилок за одной оградкой — тети Лиды, Василия Федоровича и Зои Васильевны. Они будут смотреть на нас с надгробных плит молодые, красивые, улыбающиеся. И мы будем улыбаться им в ответ, тем, еще юным и беспечным — азартно играющим в лото на деньги на нашей коммунальной кухне; занимающим нам очередь за мясом в магазине, увозящим меня в это самое место когда-то, им, оставшимся в нашей общей памяти навсегда. Саша будет раскладывать по могилкам печенье и конфеты, наше приношение, наш поклон.
Потом мы будем долго обниматься не в силах расстаться, и, наконец, оторвавшись друг от друга, пойдем бродить дальше. Навигатор напомнит нам о старом поместье, и мы пойдем искать дом Гаслера. Мы встретим Ленина, которого я совсем не помню, а потом замрем перед развалинами замка. Заколоченный, разоренный, заброшенный. Ленин стоит как раз напротив. Он выглядит намного лучше и в этом видится злая усмешка. Мы обойдем его слева и окажемся перед теми самыми полукруглыми ступенями. Арка лестницы разрушается. Скоро она упадет, а вместе с ней и сама красавица-лестница. Львов уже нет. Они все-таки не дождались меня, не смогли дождаться, убежали в свою саванну и мне не кому погладить морду и потрепать гриву. Я поднимусь по лестнице вверх и загляну в выпотрошенное сердце дома. Там ничего нет. Душа дома ушла отсюда. Пустота.
Все так же будет цвести липа, и пчелиный гул будет звенеть над головой. Запах голубых озер наполнит легкие, всколыхнет память, напоминая что-то ускользающее. Мы потеряемся в липовой аллее, почувствовав себя муравьями у подножия корней древесных исполинов. Липам будет больше ста лет. Еще цветут из последних сил, и запах пронзительно сладок, в последний раз. Стволы иссохлись, опустели. Земля отпустила объятья с корнями, и мертвые деревья падают замертво, перекрывая собой дорожки, заваливая усадьбу, кладбище, сараи, как будто хотят прикрыть это место собой, спасти. Все умирает, испускает последний вздох.
Мы будем бродить между липами, задрав кверху головы, и плакать от горечи, нежности, покоя и возмущения. Нам захочется отойти друг от друга и побыть наедине с эти отходящим в другой мир местом. Надо позволить ему туда уйти, отпустить и невозможно это сделать. Я обниму липу и буду плакать громко, по-детски о всех. Мне не будет стыдно или неловко. И от накопившейся внутри горечи я побегу как когда-то в детстве: быстро, зло. Будут гореть мои щеки, тяжелое дыхание будет слышно мне всю дорогу. Ноги сами поведут меня к мосту через озеро, включив детскую память и надежду на спасение. Там я буду в домике, там нет бед и тревог. Ноги едва сумеют остановиться на берегу. Моста больше нет. Одиноко выбивающиеся гнилые сваи торчат из воды, лишь обозначая место былого перехода в счастье.

Дед
Пашке подфартило. К концу вахты выпал выгодный рейс на Бремен. Прикинув в уме, сколько времени уйдёт на погрузку-выгрузку, на оформление документов и прочие заморочки, он обрадовался: на Пасху будет дома, под Минском.
Пять лет гонял Пашка фуры по дорогам Германии и выучил здесь каждый поворот, каждую стоянку. До Бремена двести двадцать пять километров. Можно тормознуть, выпить кофе. Заодно и адресок проверить, который он мечтал разыскать по личному делу. А вдруг это бредни?
В первую же вахту Пашка услышал о чудаке, который скупает губные гармоники времён второй мировой. Дорого скупает! «Ну они ж там все эти… бременские музыканты», — насмешливо покрутил он у виска, но адресок — Кройцштрассе, 97 — запомнил: была у них дома подходящая гармоника. Только вот Дед никак не хотел отдавать. «Понимаешь, дед Толя, времена сейчас такие — купи-продай, — убеждал его Пашка. — Деньги должны работать». Но Дед ни в какую. Теперь уж год, как его нет. Грустно, конечно. Зато гармоника принесёт капитал. А на Радуницу Пашка обязательно сходит на кладбище. Все белорусы в этот день поминают своих дзядоў, то есть предков. Стараются приехать на родовое кладбище даже издалека — из Москвы, из Вильно, из Польши. И Пашка приедет.
Вот и дом за низким заборчиком. Аккуратный немецкий домик. Дверь открыл юноша. «Гутен таг», — Пашка освоил разговорный немецкий на приемлемом для работодателя уровне. Увидев гармонику, юноша заулыбался: битте, битте — и проводил гостя в мастерскую. Поднялись по узкой лестнице на мансарду. Здесь пахло красками, на стенах висели картины. Пашка стал рассматривать одну из них: на краю поля росла одинокая дикая яблоня, пустоцвет. Засмотревшись, он не сразу увидел старика в кресле-каталке:
— Was kostet diese Mundharmonika?
Повернувшись на голос, Пашка вздрогнул: со стены на него смотрел Дед. Белые льняные волосы, натруженные руки и глаза с глубоким прищуром: «Паміраць сабраўся, а жыта сей».
***
— Паміраць сабраўся, а жыта сей, — каждую весну повторял Дед, отправляясь на пашню.
Был он старый, морщинистый, сгорбленный, и за плугом уже не ходил — нанимали соседского Василя — однако жито непременно сеял сам.
К севу готовился обстоятельно. Рано утром открывал амбар и замирал на пороге, смакуя густой хлебный дух с примесью чистого весеннего воздуха. Потом тщательно перебирал семена. Каждое взвешивал на ладони, отбирая тяжёлые, налитые. Другие откладывал в миску — Ганна размалывала их ручной мельницей на каравай.
— Деда, а скоро сеять? — спрашивал шестилетний Толик.
— А как лягушка проквакает на ухо бабке Лявонихе «пора сеять», так и пойдём.
— И как мы это узнаем? — изумлялся внучок.
— Вот комарики тебя покусают, так и узнаем, — смеялся Дед.
На пашню выходили рано, с петухами. Помолившись, Дед делал шаг, другой — зёрна ложились в землю равномерно, рука работу знала. Ганна всякий раз удивлялась, как с каждым шагом по борозде отец распрямлялся, будто пьянящий запах пашни вливал в него свежие силы.
Пройдя первую борозду, Дед звал: «Толик!» Обратно они шли вместе. Направляя робкую детскую ручонку, Дед приговаривал: «…иное упало на добрую землю и принесло плод…»
— Ну что, доволен, Аника-воин? — спрашивала Ганна, когда отец устраивался на припечке. — На-ка, вот, молочка испей.
Сделав два-три глотка, Дед возвращал Ганне выщербленный гладыш и, довольный, крякал: будем жить! И Ганна знала, что год теперь пройдёт по заведённому порядку: летом Дед будет греться на солнышке, а зимой на печке, будет настраивать Толику удилище и подшивать валенки, и терпеливо отвечать на детскую шалость:
— Дед, а, Дед?
— Что?
— А тебе и правда сто лет?
— Не знаю, Толик, забыўся…
Но этой весной Дед плакал: жыта жалка. Каждую ночь чьи-то чёрные сапоги топтали его жито. Топтали зло, беспощадно. Он хватал вилы, бросался им наперерез — и просыпался.
Дед чувствовал, что сон этот несёт большую беду, но никак не мог разгадать, откуда — ни у кого в округе таких сапог не было.
А летом они пришли сами. Ехали по деревне плотной колонной — автоматы наперевес. Дед со двора не вышел. Издали наблюдал, как деловито затопали чёрные сапоги по дворам, стали располагаться на постой, занимать избы, горланили «яйко!». На выгоне заголосили бабы, где-то взвизгнула пристреленная собака, у соседей не умолкала новорождённая Волечка.
Их хату заняли четверо немцев. Один худой и длинный, как линейка, другой какой-то суетливый, с колючим взглядом. Ганна боялась этого взгляда. Третий казался более приветливым, он позвал Толика: «комцумир» — и дал ему плитку шоколада. Толик поморщился — горький. А четвёртый — совсем молоденький, белокурый, с губной гармошкой.
— Вось як у Гiтлера цяпер: из ясель адразу ў армiю, — удивился Дед. — Непaрaдaк.
Он молча перенёс свой матрас в баню, велел и Ганне с Толиком переселяться — от греха подальше.
Через три дня по дороге гнали евреев.
Когда длинная процессия поравнялась с их домом, Толик спросил:
— Деда, а почему они не убегают? Немцев же мало?
Пленников охраняли четверо солдат с автоматами и двое с овчарками, но те покорно брели по дороге, как на заклание. Старый Зельман кутался в зелёное пальто на ватине, будто хотел согреться.
— Народ они такой, многострадальный. Сорок лет водил их Моисей по пустыне… — Дед осёкся и замолчал.
Ганна не могла отвести взгляд от докторши из местной больницы, которая сперва показалась ей отчаянно весёлой. Она была в туфлях на каблуках и, может, поэтому шла какой-то подпрыгивающей походкой, а в руках держала клетку с канарейкой и время от времени заливисто хохотала. «Бедная Софья Самуиловна», — догадалась Ганна.
Дни были серыми, тягучими. И когда молоденький немец, устроившись под яблоней, заводил свою гармонику, Ганна украдкой плакала: тоска, заполнявшая её сердце, просилась наружу.
Однажды к ним в баню ввалился длинный, показал Деду пустую бутылку: шнапс! Дед объяснял, как мог, что шнапса у них отродясь не водится, ёсць трошкi самагонкi. Немец поморщился от запаха самогона, но выпил полный стакан. А потом сразу как-то обмяк, затих и захрапел.
Услышав гармонику, Ганна выскользнула в сад. «Ну, развёл страдания»: гармоника стонала отчаянно и обречённо.
А утром пришла беда: немцы! Через оконце в бане Ганна увидела, как они цепью идут через жито. А с ними — их молоденький немец. С автоматом.
— Партызан ищуць. Бягом на балота, — скомандовал Дед.
— А ты?
— А чаго мне, старому, баяцца?
Четвёртые сутки Ганна с Толиком спасались в болоте. Шли на ощупь, боялись пропасть в трясине. Местами ледяная жижа доходила до самого горла.
— Уаа! — Ганна услышала слабый писк. И снова: — Уаа…
Его издавал тёмный кулёчек, весь облепленный комарами. «Волечка!» — ёкнуло сердце. На кочке лежала соседская девочка, грудничок. Ганна схватила ребёнка. «И куда ты с ней? Сама в болоте с дитём спасаешься, чуть оступишься — с головой накроет». Но положить ребёнка не хватило духа.
Через несколько метров нащупали твёрдую тропинку, пошли по ней, впереди Толик, за ним Ганна с девочкой. Вдруг чьи-то руки вцепились в кулёк:
— Что, добренькая, да? Доообреенькая! Думаешь, ты спасла её? Спасла? — орала разъярённая Зинка. — Згубiть мяне хочаш?
— Зина, так ты… сама её оставила?
— А что делать? Кричит день и ночь. Пропадём!
— Зина, опомнись! Грех это!
— Святая нашлась!
— Мама, давай заберём Волечку, — тихо сказал Толик.
— Ишь, заберём! — Зинка прижала кулёчек к себе и зарыдала: — Прости меня, Господи!
— Зина, мы что-нибудь придумаем. Только бы до деревни добраться…
— Нет деревни! — сказала Зинка сухим треснувшим голосом. — Спалили.
— Как? — Ганна медленно оседала на кочку.
— Я понесла Волечку к бабке Лявонихе спужанне загаварыць, — начала Зинка, — только в баню зашли, а тут немцы. Лявониха нас в бочке спрятала, а сама к им вышла. — Зинка замолчала. — Они всех согнали в сарай и подпалили.
— И Деда? — Голос Толика оборвался.
— Пристрелили вашего Деда.
— За табой, — кивнула Зинка, когда они выбрались из болота. — Судьбу на коне не объедешь. — И Ганна увидела Сцепана.
Той весной долго не могли найти работника за плугом. Василь подался на заработки в шахту, другие мужики не соглашались: своей работы выше крыши, не справляются. Вызвался Сцепан Монич с Негнавичей, троюродный брат её покойного мужа. Сцепан был хваткий работник, с плугом справлялся играючи. Ганна отметила, как уверенно, по-хозяйски, прошёлся он по двору, подмечая цепким взглядом, где нужны мужские руки. Негнавичские всегда жили зажиточно — и земля их пожирнее родила, и коров держали, и пчёл. Колхоз у них был так, одно название, как говорил отец, вечно в отстающих, потому что мужики хитрые — своё хозяйство смотрели.
— Ну что, Ганна, выйдешь за меня? — неожиданно спросил Сцепан, окончив работу. Ганна растерялась.
— Выходи, куда ты одна с дитём? Мальчонку-то кормить надо, — начал уговаривать Сцепан. — Вон, Зинка за Василём горя не знает.
— Василь Зинкиного мужика не убивал, — процедила Ганна.
Муж Ганны погиб вскоре после рождения Толика: молодой жеребец, первый раз запряжённый в телегу, понёс — и телега опрокинулась. Сцепану ничего, а Фёдор ударился головой о камень.
— Да не убивал я твоего Фёдора, — вспылил Сцепан. — Не убивал! Не удержал, когда конь понёс — это да. А чтоб убивать — баранi мяне Бог.
— Всё равно не пойду! — отрезала Ганна.
— А куды ты, галуба, дзенешся? Глядзи не апаздай, — обернулся Сцепан, понукая коня.
И вот он стоял на дороге — притихший, сосредоточенный, от него пахло хлебом и той, прежней жизнью.
— Садитесь в телегу, — позвал Сцепан. — Не бойся, коня пешком поведу, — обратился он к Ганне.
— Ну, что стоите, как истуканы? — сказала Зинка, забираясь на свежее сено.
— Нада тату пахаваць…
— Не пускают туда, Ганна, позже съездим, когда уляжется всё. А теперь поедем домой.
— Поехали, мама, — потянул за руку Толик. — Ну пожалуйста.
И Ганна пошла к телеге.
Чёрные сапоги топтали его жито. Топтали зло, беспощадно. Дед сжал вилы и кинулся наперерез: Куда, проклятые? К германцам у него были свои счёты: сын пропал в первую мировую.
— Halt!
Он медленно опускался на землю, которая кормила и растила его, а теперь навсегда принимала в свои объятья … Толькi воcь жыта жалка…
— С какого года Дед Рыгор?
— Говорил, как царь волю дал, так он и родился.
Рыгор Рыгоравич Кавалёв
1861-1943
Весной сорок четвёртого они снова приехали на пепелище.
— Смотри-ка, жито взошло! — удивился Сцепан. По старой стерне зеленели дружные всходы.
— Иное упало на добрую землю и принесло плод, — сказал Толик. Ганна улыбнулась — под сердцем шевельнулось дитя.
От дома ничего не осталось — только печной кОмин. Да в огороде под обугленной яблоней что-то блестело. Гармоника! Толик положил её в карман.
***
— Так сколько вы хотите за мою гармонику? — повторил старик.
— А зачем вы их покупаете? — поинтересовался Пашка.
— Zurück in den Tag vor dem blut…
— Не продаётся. Меняю. На портрет Деда.

Дорога к дому
1.
Первый дом Миша купил родителям.
И в маминых глазах он был домом мечты. Ее ранние детские воспоминания о Кавказе наполнены светом. «Папа купил его у вдовы генерала Борукаева». Дом находился в центре города на горе, в окно был виден Казбек.
Еще был сад. Я была там совсем маленькой. Помню огромные яблоневые деревья, и как долго-долго летит яблоко и разбивается от падения.
Мама вспоминала: яблоки собирали и раскладывали в подвале на длинных лавках. Каждое яблоко оборачивали в тончайшую папиросную бумагу и хранили очень долго. Спускаешься в подвал, а там такой яблочный дух стоит. Подвал был светлый, скорее, полуподвал — большой, длиной во всю стену дома, с рядом невысоких окошек на городскую улицу на уровне земли. Окошки со ставнями.
Образы дедушки и бабушки врезались в мамину память, и годы спустя она с любовью и восхищением рассказывала о них. «Дедушка был очень чистоплотным. После обеда он уходил отдыхать. Кровать у него была такая никелированная, блестящая, с круглыми набалдашниками, покрытая белоснежным покрывалом. У него был такой белоснежный платок, он его вынимал, и когда ложился после обеда спать, накрывал им лицо».
Мама вспоминала, что все в доме было начищено до блеска, белье, скатерти, покрывала и прочее всегда были белоснежные. Все это стирали бабуля с тетей Соней.
Многое в обстановке дома осталось от старых хозяев. Генерал Александр Борукаев — герой турецкой войны и участник русско-японской. Семья была очень уважаемая и состоятельная. Маме запомнился большой резной дубовый буфет черного цвета. После обеда дедушка доставал из этого буфета графин. Такой высокий, граненый. Наливал в граненую маленькую рюмочку араку — осетинскую водку. Мама кривилась, вспоминая араку: «Горькая».
Этот буфет она долго вспоминала, его, к сожалению, не удалось сохранить в семье, и мама долго его оплакивала.
На сладкое в доме всегда было кизиловое и алычовое варенье. Варенье бабуля варила сама в большом медном тазу с невысокими стенками. Варенье хранили в больших высоких банках. Как-то моя мама, маленькая Аза, заболела, бабуля для больной напекла лепешек. С вареньем. Пекли кукурузные лепешки на душистом кукурузном масле, мечтательно вспоминала мама. Бабуля поставила горячие лепешки на стол. Они лежали большой горкой. На этот чудесный запах к Азе, само собой, стали заглядывать другие дети, как будто бы хотели узнать, как она себя чувствует, а на самом деле им, конечно же, тоже хотелось лепешек с вареньем. И, конечно, им тоже давали. Скоро горка стала совсем плоской. Маленькая Аза всегда плохо ела. Наверное, в этот день ей было совсем нехорошо, ела она очень медленно. И ей было ужасно обидно, что она не могла насладиться этим душистым яством. А детей в доме бабушки и дедушки часто бывало много — кроме Азы еще трое: ее двоюродные брат и сестра Султан и Аза, и родная сестра Дзера.
В саду, кроме яблок, росли алыча и кизил. Кроме варенья, из фруктов, скорее всего, из яблок, делали пастилу. Яблоки сначала варили опять в том же медном тазу, долго мешали, снимали пенки — их давали детям. А потом сушили на солнце. Пастила выходила тугая, немного резиновая, мама в шутку называла ее «подошвой».
2.
Своего дома у маминой семьи до войны так и не было. Хотя в доме на Кавказе дети бывали часто, больше времени они проводили с родителями.
Жизнь в цирке, по сути — кочевая. Каждые два-три месяца — переезд на новое место. И вот снова сборы. Достается огромный, с человека ростом, кофр для одежды. Складываются два сундука: зеленый, деревянный, и второй, поменьше — коричневый, сделанный из кожи. В эти сундуки и кофр отправлялась одежда на четырех: для Миши и девочек и для самой бабушки. На два месяца, для дома, для выхода. Цирковые костюмы ехали отдельно. А еще всякие мелочи вроде зеркала, утвари и всего самого необходимого, чтобы жить, а часто и вести хозяйство на новом месте. По маминым словам, бабушка старалась всегда создать для них уют. Приезжая на новое место, она доставала покрывала, коврики, половички, скатерти, салфетки, да просто куски ткани. Как волшебник, развешивала, накрывала и превращала чужое, нередко убогое или голое помещение в уютный дом. Помню, поехала уже я сама с ней в поездку во время школьных каникул. Поселили в избе. Бабушка достала сюзане, повесила его на голые бревна, и комната сразу преобразилась. Сюзане — тонкое шелковое покрывало, оно же — скатерть, оно же — ковер, по обстоятельствам.
На темной ткани яркая вышивка шелком: желтые и розовые, белые орнаментальные круги с растительными элементами. Тонкое, легкое, яркое, оживляющее любую обстановку. Это сюзане путешествовало с ними, когда еще моя мама была школьницей.
На семейной фотографии начала войны дед, еще молодой, в форме, с сослуживцем снят с женой и дочерьми, а за их спиной во все фото висит то самое сюзане.
А потом — война, и начались новые волнения и скитанья. Из Москвы Миша с ансамблем добровольцами ушли на фронт. Сначала, отправив на Кавказ дочерей, Ниночка и сама туда уехала — работала во Владикавказе, в госпитале. Но война наступала на Кавказ, и по военно-грузинской дороге им пришлось перебраться в Тбилиси. В Москву они вернулись только в 1943-м, и не просто, а в собственную квартиру. А вышло это вот как.
Дедушка рассказывал: «Вызывает меня командование. Доложил обстановку, а потом спрашивают, есть ли у меня какая-нибудь просьба. А я сказал: “Хотел бы квартиру в Москве”. “Отгоните немцев от Москвы, будет вам квартира”».
Дедушка вернулся к товарищам, его стали спрашивать, ну, что там было, он и рассказал. Товарищи над ним посмеялись: «Дурак ты, Миша. Тебя, может, завтра убьют, а ты квартиру попросил».
Немцев под Москвой остановили. А когда стали заселять новый дом на Ленинградском проспекте, дедушке дали возможность выбрать квартиру. Он рассказывал, как его водили по дому, спрашивали, какую квартиру он хочет. Были двухкомнатные и трехкомнатные. Но он решил, что для семьи из четырех человек трехкомнатная будет нескромно. И выбрал двухкомнатную. В нее еще во время войны, в 1943-м, и приехала бабушка с дочерьми. В этот дом принесли меня из роддома. Много лет спустя я уезжала из этой квартиры и при выписке увидела номер дедушкиного ордера — 3, они были одними из первых жильцов.
3.
И вот то, о чем только можно было мечтать — квартира в Москве. Дом стоит на широком проспекте с двумя аллеями, так похожем на Александровский проспект в родном Владикавказе. Дом Михаила Николаевича и Нины Николаевны, каким я, их внучка, его застала. Кабинет Михаила Николаевича: монументальный письменный стол, имеющий, скорее, архитектурные формы, темно-красный, со множеством деталей. Огромная, всегда холодная поверхность — дедушка заказал для него толстое стекло, а под ним — зеленое сукно. С обеих сторон — выдвижные ящики, спрятанные за парными дверцами с «колоннами» по бокам.
Письменный прибор дедушка, как страстный охотник, подобрал в форме охотничьих принадлежностей: сумок, шляп, миниатюрных ружей, собачек, дичи. Прибор был под серебро, начищался до блеска. Чистили его мелом, так что в складках и щелках рисунка и фигурок вместо потемневшего металла всегда оставалось немного мела.
Рядом книжная полка. Книги в тяжелых переплетах: помню выпуклый шрифт кожаных переплетов, где-то — позолоченный обрез. Шекспир, Флобер. Ромен Роллан, Дюма. Рядом простые, словно картонные, обложки послевоенных изданий: Шолохов — «Тихий Дон», Алексей Толстой — «Петр Первый». Помню эти блеклые обложки, едва зеленые, как будто выцветшие.
В углу кабинета — платяной шкаф. Заходит бабушка, достает черный крепдешиновый костюм: жакет с юбкой. Одевается. Сегодня вечером их ждут у друзей. Обед только что закончен. Позади готовка, подача, уборка, мытье посуды.
Бабушка возвращается из кабинета в большую комнату, где нетерпеливо ждет ее Миша. Подходит к туалету. С большим, во всю стену, как в театре, зеркалом.
Дедушка давно готов. Как всегда чисто выбритый, черные, с легкой проседью, волосы аккуратно причесаны. На нем костюм, галстук, светлая рубашка с оливковым оттенком. Дедушка нервно ходит по комнате.
«Кончай свою джигитовку», — сердится бабушка. Поправляет волосы. Каштановые, короткие.
Берет с маленького длинного подноса браслет. Пять-шесть крупных секций, под агат с серебром.
Перед зеркалом, как и в кабинете у Миши, тоже прибор, только здесь туалетный: немного угловатые, под малахит, шкатулка-пудреница, высокий четырехгранный флакон для духов, и второй флакон с необычной пробкой, словно три каменных когтя нависли над горлышком. И уже упомянутый подносик для украшений. И вот последний штрих — помада насыщенного бордового цвета. Туалет окончен. «Какая красивая пара», — неизменно говорят им вслед, когда они идут по улице.

Желание
Сон ускользает, как шёлковый платок из рук, но в последний момент я подхватываю его. Всеми силами оттягиваю момент пробуждения. Хватаюсь за обрывки картинок: весна, цветущая сирень, ее запах чувствуется повсюду, голоса птиц.
Не хочу просыпаться, лежу с закрытыми глазами. Сон еще рядом, но через мгновенье он исчезнет, и я окажусь в реальности.
Вот, стоило только подумать о реальности — и она тут как тут. Будильник.
Работа, нет, не просто работа, а первый рабочий день после отпуска. Захотелось накрыться с головой и занырнуть обратно.
На работу идти совсем не хотелось. Вот совсем, но трудовой кодекс гласил, что отпуск двадцать восемь рабочих дней, а по истечении этих двадцати восьми дней ты должен вернуться и продолжить. Не продолжишь — прогул, а дальше последствия, и последствия разные.
Двадцать восемь дней закончились.
Дочь в школу, сама на работу. Знакомый ритм на четыре счёта. Утро, день, вечер, ночь. В школу, на работу, с работы, спать. Тоска. Отбивала я этот ритм всегда с трудом.
С таким настроением я шла — нет, не шла, а нога за ногу неторопливо продвигалась — в направлении офиса. Настолько неторопливо, что часы уже показывали опоздание минут на десять, это ещё было простительно, дальше «точка невозврата» — последствия. В то мгновение, когда я подумала о «точке невозврата», к которой приближалась гораздо быстрее, чем к месту работы, свободно гуляющий по подворотне ветер поднял летнюю пыль, ещё не успевшую стать осенней грязью, слегка коснулся моего лица, я моргнула, и что-то кольнуло глаз.
Глаз заслезился, и спасительная мысль забежать в «травму глаза» быстро прокралась в то место, где её ждали. Я прибавила шаг. Травмпункт практически за углом, два проходных двора — и на Литейный. Рабочая магистраль города, проспект буднично жужжал, пчёлки несли мёд, каждая в свой улей, в свою соту. Утро.
Через десять минут я стояла перед кабинетом врача.
— Ну, что тут у вас? — Зеркало на лбу доктора сверкнуло солнечным лучиком.
— Что-то в глаз попало. — Я постаралась пригасить радостное возбуждение. — Болит, и глаз не открыть, у меня уже было такое, у меня что-то с морганием. — Я говорила быстро, пытаясь выложить всю историю травм глаза, начиная с детского возраста.
Доктор молча слушал, изучал глаз.
— Что ж, травмы здесь нет. — Он выдержал паузу.
Я замерла. Мозг подкинул пару вариантов «последствий», не позитивных.
— Но, — опять пауза, — я выпишу вам направление в поликлинику. Сходите, проверьтесь у своего офтальмолога, что-то мне подсказывает о наличии…
Дальше прозвучало мудрёное слово. Моё сердце встало на место. Справка хоть какая-то, но есть. Об остальном я подумаю позже.
С заветной бумажкой я выплыла на просторы Литейного. В музыке проспекта что-то поменялось: вместо пчелиного «жу-жу-жу», слышалось звонкое трамвайное «трынь-дзинь».
Глаз покалывало, сердце ликовало. Ещё один день свободы был отыгран.
Я выдвинулась в сторону поликлиники.
В мрачных коридорах старого здания, где расположилась поликлиника номер сорок, было холодно и серо.
— Офтальмолог в отпуске, — прозвучало из окна регистратуры.
— А мне что делать? У меня направление. — Я проявила несвойственную настойчивость.
— Идите к участковому. Она как раз принимает в шестом кабинете.
Мне показалось, или реально в голосе медсестры прозвучало злорадство?
— Без очереди. — Медсестра улыбнулась.
— Благодарю, — протянула я, тревога скребанула коготком.
Здесь надо заметить, что наш участковый врач, Октябрина Августовна, это отдельная история. У неё был дефект речи, понять её было невозможно, по крайней мере, у меня это не получалось. Перед кабинетом было пусто, и вообще как-то немноголюдно в коридорах. Видимо, народ еще в отпусках, болеть некому.
Я одернула юбку, чтобы хоть как-то прикрыть вопиюще загорелые ноги, глубоко вдохнула и открыла дверь кабинета.
— Добрый день. — Я чуть споткнулась на слове «день».
— Пьяходите, сьядись, — произнесла доктор, не поднимая глаз от бумаг, лежащих на столе. Я присела на краешек стула, вполоборота, чтобы видеть медсестру.
Медсестра — спасение, она переводила.
— То? — Доктор оторвалась от бумаг и смотрела на меня огромными рыбьими глазами.
Я с надеждой бросила взгляд на медсестру. Но тщетно. Медсестра была увлечена заполнением очередной карты.
— Глаз. — Я прищурила «травмированный правый», ткнула в него пальцем для большей убедительности.
— И? — прозвучало членораздельно.
Я немного взбодрилась, почувствовала опору под ногами.
— Вот, направление из травмы, офтальмолог в отпуске, меня к вам отправили. — Я протянула направление.
— Дайте мне, — услышала я из-за спины голос медсестры.
— Юда ваньте. — Доктор спустилась со стула и выкатилась из-за стола. Она была кругленькая, небольшого роста, ей оставалось чуть-чуть до идеальной формы большего волейбольного мяча.
Дальше прозвучала длинная фраза, которую без дешифровки понять было невозможно.
— Снимите кофту, доктор вас послушает, — перевела сестра.
— Но у меня глаз.
— Октябрина Августовна. — Это прозвучало нежно, по-матерински. — У девушки подозрение на… — Медсестра взяла в руки направление. — На гомонукулез.
Последнее слово прозвучало весомо, это придало мне уверенности, что заветный голубой листок я унесу с собой. Первый раунд был отыгран.
— Ять. — Доктор сопроводила произнесенное сочетание букв пригласительным жестом, указав на стул.
— Бьижи. — Опять взмах рукой.
Я придвинулась ближе и облегченно вздохнула. Ура! Я ее понимала. Блеснуло зеркальце, обдав холодом. Солнце за окном погасло. В кабинете стояла тишина.
— Что там? — Я решилась на вопрос, подозревая, что может последовать ответ. Риск был.
— Ичего ашного. — Октябрина Августовна уткнулась в лист бумаги и начала строчить. Писать у неё получалось явно лучше, чем говорить.
Я с надеждой ждала оправдательный приговор в виде больничного листа.
Зря надеялась.
— Альбуцид утром и вечером, — коротко сообщила медсестра.
— А глаз?
— Глаз? Глаз на месте, дееспособен. — Медсестра позволила себе улыбнуться.
— А работа?
— Работайте на здоровье. Доктор вам всё сказала. — Медсестра нетерпеливо заерзала на стуле. — Следующего попросите, пожалуйста.
Следующего не было. Из глаза скупо покатилась слеза, я брела по тускло освещенному коридору, ноги опять плелись и заплетались, мозг молчал, видимо, взял паузу.
— Анна Николаевна. — Я обернулась. Медсестра быстрым шагом приближалась ко мне, в руках у неё была медкарта. — Идите в кабинет номер восемь, это второй этаж, там зав.отделением принимает. Скажете ей, что вас Октябрина Августовна послала.
— А она послала?
— Послала, послала.
Я подошла к кабинету номер восемь без надежд и ожиданий. Разочарований на сегодня достаточно.
— Что у вас? — Голос был звонкий и принадлежал рыжеволосой красавице. Костёр из рыжих кудрей искрил и переливался. Я застыла с прижатой к груди медкартой.
— Смелее и быстрее.
— У меня с глазом что-то, а офтальмолог в отпуске. — Я замолчала.
— И? — Она смотрела на меня изучающе.
— Вот, альбуцид выписали.
— А ты?
— У меня рабочий день скоро закончится.
— Понятно. — Зав.отделением взяла ручку и голубой листок. — Трёх дней хватит?
— Да.
Вот так просто? Так можно было? В моих руках заветный листок и три дня свободы.
Почти бегом я пролетела коридоры поликлиники, открыла тяжёлую дубовую дверь, которая помнила ещё больных начала века. Дверь скрипнула и медленно закрылась.
Я на минуту задержалась, выбирая маршрут, теперь можно не торопиться. Пойду направо — Спас на Крови, красиво, но грустно. Пойду налево — дворики Капеллы и Мойка, 12, здесь тоже событие нерадостное, но дворик с его белыми скамейками и тишиной в центре гудящего мегаполиса успокаивал.
Я наслаждалась свободой.

Землянка
Собираться в археологическую экспедицию, как обычно, начали еще в июне. Достали с антресолей пыльные спальники — защитного цвета, тяжелые, с ватной подкладкой. Оттуда же извлекли тент, купленный в прошлом сезоне. Отмыли, поставили заплату на прошлогодней дыре от колышка.
Внимательно изучили палатку, которая напоминала дачную бытовку. Папа нашел ее в военторге: в ней было два спальных отделения, которые предварял огромный тамбур. В тамбуре помещались складные стол и стул, и по вечерам папа, попыхивая трубкой, читал здесь при свече толстые книги. Палатку разложили, очистили от пыли и сложили обратно.
К первому июля палатка, тент, одежда, свечи, мыло, книги, любимые игрушки, тетрадки для дневников и металлические миски наконец утрамбовались в рюкзаки, и мы выехали. Дорога занимала целый день: сначала электричкой до Тулы. Оттуда на автобусе до Кимовска. Потом на двух других — до Епифани и от Епифани до Монастырщино. А там пешком через всю деревню, потом вниз по склону, по автомобильному мосту через Непрядву и три километра по полям. Дорога занимала весь день, но не утомляла. Пересаживаясь с автобуса на автобус, перекусывая жирным беляшом из столовки для водителей, покупая газировку в запыленных ларьках, мы понимали: приключение начинается, и это важная его часть.
Лагерь московские археологи ставили на высоком берегу Непрядвы. Берег, словно огромный зеленый торт, разрезали, глубокие балки с пологими склонами. Колоски одичавшей пшеницы и кружевные листики клевера ближе ко дну оврагов сменяли заросли синеголовника, чертополоха и крапивы. На другой стороне оврага стоял лагерь студентов из тульского педа.
Днем в лагерях оставались только дежурные: наши мамы — в московском, пара студенток — в тульском. А мужчины и остальные студенты уходили по пыльной грунтовке на раскоп. Со стороны они напоминали караван, оставшийся без погонщиков. Несли с собой лопаты, совки и кисточки, чтобы аккуратно смахивать почву с костей и других потенциально хрупких находок. А еще бутылки с водой и перекус — черный хлеб и тушенку. Надо было успеть поработать до жары: после полудня солнце палило так, что даже самые смуглые обгорали до красноты.
Мы, дети, в первые пару дней обязательно увязывались за взрослыми. Сидя на корточках, ковырялись совками в отвале, искали археологическую мелочь, отмахиваясь от слепней. Лопаты нам, конечно, не доверяли: не ровен час, оттяпаем себе пальцы на ногах.
Через пару дней рабочий пыл угасал, и до окончания экспедиции на раскопе мы уже не появлялись. Но в наши ежедневные обязанности входило мытье выкопанных взрослыми глиняных черепков в полинявших пластиковых тазиках. От земли руки быстро грубели, а под ногтями появлялась черная каемка. Отмывать ее никто даже не пытался. Зачем, если завтра снова тереть растрепанной щеткой осколки древней жизни?
Так и проходил июль: папы на раскопе, мамы в лагере, дети болтаются между этими двумя точками и стараются пореже показываться на глаза взрослым. А то не отобьешься от поручений — помыть черепки, а еще сходить за водой, нащипать мяты для вечернего чая, срезать полынь, чтобы мухи в палатку не залетали. Лучше сбежать на реку или в поле, к огромному стогу сена, с которого можно кататься, как с огромной колючей горки. Или забиться между палаткой и тентом с книгой в руках: душно, зато точно к делу никто не приставит.
Леля и Артем всего этого, в отличие от меня, не знали. Оба в том году приехали впервые, и я чувствовала, что должна стать для них проводником, показать, что и как здесь устроено. С Лелей, дочерью папиного лучшего друга, мы были знакомы с рождения: виделись на днях рождения родителей, вместе ходили гулять по Москве. Я отчаянно завидовала Лелиной библиотеке и кровати-чердаку, который для нее соорудил рукастый дядя Вася, ее отец. Леля носила очки, у нее были длинные, смуглые руки и ноги, а еще она грызла кончик волос, когда задумывалась над следующим ходом в «морском бое». Всего на четыре месяца старше меня, она казалась необычайно взрослой и интересной. Недавно мы встречались, чтобы отпраздновать ее двенадцатилетие.
Артема, которому уже исполнилось тринадцать, привез с собой его отец, экспедиционный завхоз дядя Коля, внешностью напоминавший блондина из Modern Talking. Завхоз нравился студенткам из соседнего лагеря (с ними он вел себя необычайно игриво) и неимоверно раздражал своих ровесников-археологов. На раскоп он ходил, но чаще всего не работал, а просто красиво стоял, оперевшись на лопату, с сигаретой в зубах, и травил байки об армии. Один раз нашел небольшой светлый черепок, страшно обрадовался и до вечера всем об этом рассказывал. Когда черепок вместе с менее симпатичными венчиками и донцами от горшков стали отмывать от земли, он оказался куском советского керамического изолятора, невесть кем оброненного посреди поля. Сына он каждый вечер ругал, обзывал «дебила куском», и тот уходил плакать куда-то в поля. Возвращался в палатку, где храпел утомленный бражкой (так взрослые звали бурду из спирта, сахара и воды, настоянную на местных травах вроде шалфея и зверобоя) отец, когда совсем темнело. Я слышала, как Артем, сопя, расстегивал и застегивал молнию тамбура. Когда дяди Коли не было рядом, он становился грубым и резким. Мне было невыносимо жалко этого светловолосого и голубоглазого парня. А еще он мне ужасно нравился.
Для моих родителей июль был месяцем свободы — не от работы, от детей. Мы и не пересекались почти, к тому же, в лагере за нами никто не следил. Сделать что-то совсем уж предосудительное тут было проблематично. Во-первых, потому, что рядом постоянно кто-то находился. Мужчины возвращались только к вечеру, но стайка женщин всегда кружила рядом с пищеблоком. Кто-то курил с чашкой растворимого кофе в руках, кто-то вешал полотенца и купальники, кто-то сушил отсыревшие спальники, кто-то готовил обед, кто-то описывал и зарисовывал находки. Иногда к этим нехитрым действиям привлекали детей, чтоб не одурели от зноя и не простудились из-за непрерывного купания в реке.
А во-вторых потому, что мир вокруг лагеря был безопасным, надежным и очень простым. Вот река: тут мелко и нет омутов, а есть небольшая заводь почти без намека на течение. Вот брод на другой берег, к дойке и ключу, который мы прозвали Ниагарой. Туда никто по своей воле не ходит, разве что заставят. Кому охота лезть в ледяную воду, а потом тащить через брод канистры? Вот заросли чертополоха, туда никто не суется. Вот полуница, полевая земляника: если год урожайный, ягоды можно собирать здесь же, на месте стоянки, потихоньку обходя по кругу собственную палатку.
В том году ягоды было много, к нашему приезду она уже созрела. Мы уже обобрали ее внутри лагеря, но все никак не могли наесться. В то утро мы сидели на склоне и молча обирали стебли вокруг себя.
Пихали ягоду в рот целиком, с бледно-зелеными прицветниками, которые было невозможно отодрать от красной мякоти.
— Я тут подумал. — Артем вытер рот и сплюнул. — Давайте выкопаем землянку. Сделаем там свой штаб, взрослых пускать не будем.
— Ну не знааааю, — протянула Леля, глядя под ноги. — А что мы там будем делать?
— Да что угодно, — сказал Артём. — Главное — что там будем только мы.
— Можем свечки принести туда, — поддержала его я.
— Со свечками и в палатке можно.
— Да блин! — взвился Артем. — Они в пищеблоке по вечерам бухают и песни орут, а нас спать отправляют! А днем вечно то черепки помой, то воды с Ниагары натаскай. Все время есть риск, что припашут. А так они нас хотя бы видеть не будут.
На том и порешили. Разметили прямоугольный участок под землянку на склоне. Не слишком далеко от лагеря, но и не слишком близко — так, чтобы нас не слышали взрослые. Я выпросила у взрослых одну штыковую и одну совковую лопату. Мы сняли дерн и приступили к работе.
Через пять дней землянка — чуть меньше полутора метров в глубину в том месте, что выше по склону — была готова. По периметру оставили земляные выступы, чтобы сидеть — как будто кухонный уголок. Вырыли очаг, и Артём — откуда только знал, что надо сделать именно так? — увел в сторону от основного помещения отверстие для дыма, чтобы наш огонь не залило дождем и чтобы мы не угорели в землянке.
Сходили с топориком в ближайшую посадку. Рубить живое не пришлось: несколько акаций засохли, но пока не сломались.
Положили стволы на поверхность. Дядя Коля нехотя выдал Артему кусок полиэтилена для крыши. Сверху на полиэтилен накидали соломы вперемешку с землей и травой, чтобы землянка была не так заметна на склоне. А еще — чтобы было темно и не очень жарко.
Землянка была готова. Мы проводили в ней все дни до позднего вечера, прерываясь лишь на купание и еду. Младших детей старались к себе не пускать, а старшие льнули к студентам из соседнего лагеря, и интереса к нам не испытывали.
Как-то днем мы втроем сидели на земляных приступках и ждали, пока внутри очага, в моем маленьком железном котелке, согреется вода для чая.
Внезапно Артем вытащил из шорт пачку сигарет.
— Кто будет?
Мы с Лелей переглянулись. Я спросила:
— Где взял?
— У папки спер.
— А если он поймет?
— Да у него по всем карманам заначки, даже не заметит..
И протянул пачку — не мне, Леле. Та сморщила нос:
— Для голоса вредно, у меня хор.
Я же не раздумывала ни секунды:
— Дай попробую!
Я вытащила из пачки сигарету, Артем чиркнул спичкой. Я затянулась, закашлялась. Потом еще и еще. Рот наполнила горькая слюна, но сплевывать в очаг я не стала, чтобы не разочаровать Артема. Мне казалось, он смотрел на меня с искренним восхищением. Наконец-то я ему нравлюсь, думала я.
Не прошло и трех дней, как я заметила, что Леля и Артем не всегда зовут меня в землянку. А потом они и вовсе начали везде ходить без меня. Я удивилась: как это так? Я показала им, где купаться, сводила на Ниагару, я нашла лопаты, я, в конце концов, вместе с Артемом курила вонючие сигареты его отца. Но теперь меня будто вынесли за скобки примера на сложение.
Я находила их в землянке весело болтающими или тихо молчащими — но непременно друг с другом. Меня не прогоняли, но моему присутствию и не радовались. Когда я приходила и пыталась завести разговор, Леля тупилась и молчала, а Артем сосредоточенно шевелил палкой в очаге, приподняв одну бровь — так обычно делают, когда слышат от собеседника несусветную глупость. Иногда кто-то из них произносил пару слов — они переглядывались, хихикали и замолкали.
— Крылья, ноги… Главное — хвост! — быстрый взгляд на меня, взрыв смеха, точка.
Я не понимала, что происходит, а потому злилась и грустила. Но не могла заставить себя отстать от них, не могла отказаться от них, пусть даже неявно меня отвергавших — и от землянки.
Я не могла читать, не ходила, как в прошлые годы, к тульским студентам жечь костер по вечерам. Не зная, куда себя приткнуть, шаталась по лагерю, иногда спускалась в землянку, не выдерживала пытки тишиной, уходила. Мама иногда спрашивала, что происходит, но объяснить я ей ничего не могла. Что бы я ответила? Что Леля и Артем молчат, когда я оказываюсь рядом? Что они шутят так, что понятно только им двоим? Что они меня не прогоняют, но и рядом с ними никто третий будто не выживет? Что мы втроем построили землянку, а теперь они хотят, чтобы я туда не ходила?
Не было у меня никаких доказательств. Не было ни драк, от которых остались бы синяки, ни, как в школе, записок с грубостями. Чем отчетливее они демонстрировали, что не рады мне, тем сильнее меня к ним тянуло.
Так прошло три недели.
Когда тем вечером я пришла в землянку, Артем и Леля уже были там. Они принесли кусочки хлеба с пищеблока и теперь жарили их на палочках в очаге. Я спустилась внутрь и присела на земляной выступ.
— Что делаете?
— Не видишь, хлеб жарим, — нехотя ответил Артем.
— А можно мне тоже?
Они с Лелей переглянулись.
— Ты не можешь посидеть где-нибудь еще?
— А почему я должна сидеть где-нибудь еще? Я же тоже землянку копала, почему теперь мне сюда нельзя?
Артем цыкнул зубом. В моменты, когда он злился, мне казалось, что он еще красивее, чем обычно.
— Ну и что, что копала. Ты вечно за нами ходишь, следишь, ни на речку без тебя, ни к посадке. У тебя своих дел нет? Ты же книжки с собой привезла, мама твоя хвасталась, мол, ты читаешь все время.
— Но я хочу с вами. У вас что, секреты какие-то?
Он вздохнул и пошевелил палкой в очаге. Леля молчала и смотрела куда-то в угол. Я приподнялась и вытащила из кармана последнюю надежду — украденные у мамы сигареты. Кинула Артему пачку. Он схватил ее на лету и бросил обратно.
— Не надо, у меня свои есть. Иди к студентам сходи, может? Вон, они уже петь начали. Там явно поинтереснее, чем с нами.
В землянке как будто кончился воздух. Глотая слезы, я выбралась наружу. На небе уже появилась Венера. На другом берегу Непрядвы пчелой звенела дойка. Взрослые собрались на пищеблоке: борты железных кружек бились о канистры с бражкой, чиркали спички, открывалки взрезали банки с тушенкой. Студенты на другой стороне оврага уже орали под гитарный бой: «Акинаком рубану, рубану, по античной роже, э-эй!» Но мне не хотелось ни петь, ни слушать байки родителей и их друзей.
Я пошла в палатку и, не зажигая свечу, переоделась в пижаму и залезла в спальник. Я слышала, как вернулись Леля и Артем, как они тихо пожелали друг другу спокойной ночи, как почти синхронно расстегнули и застегнули молнии на тамбурах. Чуть позже в свое отделение палатки залезли мама и папа. Повозились, хихикая, и затихли до утра. Над Непрядвой стояла густая июльская ночь.
Я проснулась оттого, что услышала крик Артема.
— Сгорела! Землянка сгорела!
Мимо палатки глухо протопали чьи-то ноги. Я вылезла из спальника, натянула лосины и футболку, вышла наружу.
На склоне рядом с нашей землянкой столпились дети и взрослые. Артем плакал, лицо его скривилось, уголки губ поползли наверх. Леля промчалась мимо меня по тропинке, смешно раскидывая голени и локти рук в стороны.
Пахло горелым деревом и чем-то еще химическим, совершенно не подходящим к этим полям, всполохам шалфея и зверобоя, к этому небу и ягодам земляники, которые лопаются под затвердевшими голыми пятками.
Я медленно подошла к землянке. Бревна, державшие соломенную крышу, обуглились посередине и провалились вниз. От черного нутра землянки поднимался дымок: это тлели остатки соломы и полиэтиленового полотна. Земляной перешеек, отделявший очаг от самой землянки, обвалился, да и не было теперь никакого отдельного очага, только огромная, воняющая пластмассой и костром черная дыра в земле.
— Наверное, вы очаг свой нормально не затушили, — неуверенно сказал кто-то из взрослых.
— Да там вчера все прогорело, я точно помню, — взвизгнул Артём.
Леля сглотнула:
— Мы проверяли, ни одного уголька там не было, мы еще золой засыпали.
Ее папа положил руку ей на плечо:
— Я же говорил, что надо всегда заливать.
Взрослые поохали и разошлись по своим делам, младшие дети убежали на речку.
Около землянки остались мы втроем.
— Я же точно все потушил, — всхлипнул Артем. Внезапно осекся и поднял глаза на меня:
— А ты вчера после нас сюда не приходила? Может, это ты тут ночью чаи распивала и пожар устроила?
В глазах зачесалось, и я почувствовала, что сейчас расплачусь от обиды. За что он так со мной?
— А почему ты Лелю не спрашиваешь? Я раньше вас вчера спать ушла, ты же это и сам знаешь!
— Докажи.
— Можешь у мамы моей спросить, она всегда меня проверяет, когда ложится.
— Вот и спрошу!
— Вот и спроси.
Леля присела на корточки, обхватила длинными руками коленки и засунула в рот травинку. Протянула:
— Ну что ты так расстраааиваешься, новую же выкопать можно…
— Вторая такая не получится, да и копать дней пять, а мы через неделю уезжаем.
— Может, все-таки…
— Заткнись, дура! — Артём резко перешел на крик. Лелины глаза за очками расширились, она открыла рот, но ответить не успела.
— Идиотка, ты не понимаешь ничего! Они нам даже лопаты теперь не дадут! Папка как увидел сейчас, что с его полиэтиленом драгоценным стало, сказал, чтоб никаких больше землянок, а то голову оторвет.
И он снова зарыдал. Леля, побледневшая, но все такая же спокойная, медленно встала с корточек. Молча развернулась — и пошла в сторону лагеря. Я, немного помедлив, сделала то же самое. Артем же остался на месте. Сгорбившись и уткнув голову в колени, он просидел у землянки весь день до позднего вечера. Я услышала, как расстегнулся и снова застегнулся полог его палатки, когда наконец открыла привезенную из Москвы книгу, чтобы почитать перед сном при свече.
Оставшуюся неделю мы почти не общались. В день рождения Леля и Артем по очереди сухо меня поздравили. Я заметила, что они стараются не встречаться взглядами. Артем целыми днями пропадал в полях или на реке. Леля несколько раз ходила со мной купаться, но на этом все. Я провалилась в «Тиля Уленшпигеля» и почти целыми днями валялась в тени от нашей палатки с книгой.
Взрослые потихоньку завершали свои археологические дела. Чистили кисточками извлеченный из земли керамический гончарный горн, забрасывали землей и укрывали дерном место раскопа. Земляника сошла окончательно, а по ночам теперь было прохладно, и среди дневной жары нет-нет, да и набегали тучи, приносившие грозу. Лагерь снялся в начале августа. Мы вернулись в Москву.
Когда мои родители собирались в гости к Лелиным, я придумывала разные предлоги, чтобы не ездить с ними: то контрольная завтра, то плохо себя чувствую, то с подругами договорилась погулять. Больше мы с ней не виделись. Папа Артема продолжал ездить в экспедиции и все так же веселил студенток и бесил взрослых, но сына с собой уже не брал. А я с тех пор доверяла книгам гораздо больше, чем людям.
Странное дело: я почти забыла, каким был вкус полуницы, как выглядели посадка и Ниагара, каким было дно Непрядвы — илистым или песчаным. Но до сих пор помню то утро, пахнущее жженым полиэтиленом и горелой соломой. Помню сгорбленную фигуру Артема, помню застывшее и побледневшее Лелино лицо. Помню, как между нами повис вопрос, на который ни у кого не было ответа.
А еще я помню лунную июльскую ночь. Помню траву под босыми пятками, помню, что на ней не было росы. Помню притоптанный шар чертополоха и занозу под сгибом большого пальца. Помню пижаму, испачканную на коленях землей. Помню шуршание сухой соломы в черноте землянки и засунутые под бревна тетрадные листы, которые никак не хотели заниматься. Помню, как по дереву пополз первый неверный огонек, как капнул на плечо расплавленный полиэтилен. Помню, как билось сердце, когда я застегивала вход в нашу палатку, как сопели ничего не подозревавшие мама и папа, и весь лагерь мирно спал, и до рассвета оставалось так мало — но для меня вполне достаточно.

Испытательный срок
Директор по персоналу, моложавая дама с профессиональной улыбкой, непринужденно расположилась по другую сторону блестящего белого стола.
— Ну что же, Анастассия, — как и все здесь, она произносила Асино имя с едва различимым присвистом, — давайте подведем итоги ваших первых трех месяцев в нашей компании. Но для начала расскажите, как вам живется в Дублине?
Ася задумалась. Она устроилась в европейскую штаб-квартиру известной технологической компании абсолютно случайно — отличный пример реализации судьбы, хоть в учебнике по фатализму его публикуй. Просто открыла поисковик, куда-то не туда нажала и очутилась в разделе с вакансиями. Зацепила блуждающим взглядом знакомые слова в описании должности, наудачу подала заявку, потратив на заполнение анкеты от силы полчаса. Позже выяснилось, что человека искали в русскоязычную команду к приятелю приятелей (Москва все-таки круглая, говорил же ее бывший коллега), и собеседования посыпались одно за другим, как горох из прорвавшегося пакета. Затем Ася будто со стороны наблюдала свои пасьянсы из визовых документов, суетливые сборы, прощальные вечеринки, переговоры с раздутыми чемоданами, чтобы те потерпели еще немного, и прочий сумбурный экшн, предвещавший долгий путь.
И вот теперь, как ей живется в Дублине? Помнится, на выходе из аэропорта наглый ветер без лишних церемоний плеснул ей пригоршню холодной дождевой воды прямо за шиворот. Куда ни глянь, из урн топорщились остовы поломанных зонтиков. Сорок восемь килограммов — недоразумение, а не тело, жалкий союзник в ежедневной борьбе со стихией. Спасает лишь то, что Ася упряма, как бараний бог, чем и компенсирует природный недостаток веса. Пришлось бы иначе выбирать маршруты, руководствуясь скорее направлением ветра, чем временем, достопримечательностями или, на худой конец, здравым смыслом…
Своими границами Дублин напоминал Асе жирную, растекшуюся вокруг чернильницы кляксу: город дугой лег в бухте Ирландского моря, утратив плавные очертания где-то в районе западных окраин. Дома красно-серого кирпича, казалось, грелись в редких лучах капризного кельтского солнца. Монотонную кирпичную рябь прерывали только бесстыже яркие двери: рыжие, лиловые, синие. А что, замечательная традиция, считала Ася, в мире должно оставаться место для дверей всех возможных цветов, а бледные снобы с обостренным чувством прекрасного пускай держатся в пределах благородных тонов яичной скорлупы.
Ее дом — темная громадина на сотню квартир — носил достойное имя Gandon Hall, неминуемо вызывавшее у русского человека мимолетное першение в горле. Через пару месяцев после переезда Ася все-таки решила узнать, кем был тот самый Gandon, — как выяснилось, выдающимся ирландским архитектором, который построил чуть ли не все мало-мальски монументальные дублинские сооружения второй половины восемнадцатого века. Словом, не пес начхал. Ее даже гордость разобрала — на пару минут, не дольше. Выше по карте, на севере, начинались неблагополучные бетонные кварталы, поэтому квартиру Ася проветривала с неизменным воем сирен — пожарных, скорых, милицейских, противоугонных — и каждая надрывалась на свой несносный лад. В усердии с ними мог посоревноваться разве что скрипучий волынщик, ожесточенно дудевший на ближайшей площади на радость туристам. От громких звуков Ася спасалась в офисе в южной части города, рафинированной и респектабельной, пронзительно тихой (пожалуй, слишком на Асин непритязательный вкус).
В Дублине поначалу было слегка неуютно. Она скучала по Москве, иногда — сильно. Скажем, в конце первой недели в продуктовом магазине накатило так, что чуть не взвыла. А ведь было бы забавно — стоит девочка в очереди, на голове шапка с помпоном бескомпромиссного горчичного цвета, и рыдает белугой, крепко прижимая к сердцу килограмм отборной донегольской моркови. Но она ничего, сдержалась.
Многое приводило Асю в недоумение. Например, необходимость расплачиваться точной суммой (монетами!) в городских двухпалубных автобусах — считай себе мелочь в ладошке да смотри не скатись кубарем с узкой лестницы. Рискнешь потребовать сдачи, и водитель, бурча, выдаст тебе чек с напечатанным остатком — такие нужно копить и потом в специальном месте обменивать обратно на деньги. Или лисы. От ее квартиры всего-то минут пятнадцать ходу до центра, но они шныряют ночами под окнами. Когда Ася увидела их впервые, решила: ну все, приехали, совсем рехнулась на благодатной почве эмигрантской тоски, галлюцинации — даже такие симпатичные, как городские лисы, — это же ни-в-ка-ки-е-во-ро-та. А нет, оказалось, вполне нормальное явление, подумаешь, не стоило так волноваться.
Или вот еще беспардонная манера местных запросто заговаривать с незнакомцами. И хорошо если это просто ни к чему не обязывающий диалог на пару минут («Как вам Дублин?», «Ужасная погода!», «Вы смотрели вчерашний матч по регби?»), но можно было и основательно влипнуть. Пару дней назад она зашла в паб на Мальборо-стрит с очаровательно богохульной вывеской «The Confession Box». Исповедоваться Ася не хотела — нужна была мелочь в автобус. «Good things come to those who wait», — назидательно сообщил вальяжный тукан с винтажного рекламного плаката «Гиннесса» за спиной соседа по барной стойке. Это был морщинистый ирландец, который запивал хрустящую утреннюю газету второй пинтой пива. Пока оседала пена на третьей, он рассказал ей про сэра Томаса Дадли по прозвищу Bang Bang, что патрулировал улицы Дублина каких-то шестьдесят лет назад. Любитель ковбойских фильмов, тот все время держал наготове церковный ключ исполинских размеров и при всяком удобном случае наставлял его на прохожих, крича: «Bang-Bang!» Жертвы и свидетели покушений быстро прониклись к нему симпатией и стали подыгрывать — стрелять в ответ или падать на землю. И не то, чтобы этот нехитрый сюжет как-то кардинально украсил Асину жизнь (вовсе нет). Но уйти по-английски посреди рассказа было решительно невозможно: во-первых, ирландцы, так уж исторически сложилось, терпеть не могут все британское. Во-вторых, они отменные рассказчики. В тот день она опоздала на работу, впрочем, совершенно об этом не пожалела.
Дублин все же был по-своему обаятелен. Близился Хэллоуин. Витрины магазинов заволокла бутафорская паутина, из окон тут и там таращились ехидно осклабившиеся тыквы, а на улице нужно было проявлять бдительность: на голову так и норовил упасть особенно шаловливый скелет. Вот и в нее врезался сегодня — нет, не скелет, но мальчонка лет шести в полном боевом облачении рыцаря-тевтонца. «Ты такая красивая, мне надо тебя спасать!» — заявил тоном, не терпящим возражений, и убежал. Ася же, хоть и была девушкой без пяти минут эмансипированной, пошла дальше с твердым намерением срочно угодить в какие-нибудь несерьезные неприятности. Надо — значит надо.
Больше всего ей нравилось в обеденный перерыв гулять вдоль Дублинского залива — от офиса нужно было проехать пару станций на быстроходной электричке. Недавно похолодало до плюс четырех, что для местных равносильно климатической катастрофе. Лебеди вылезли из воды и грузно расселись по берегу, и лишь несколько сумасбродных уток мужественно плавали по черной поверхности. Остальные птицы глядели на них со смесью умиления и легкого шока, как обычно смотрят на слетевших с катушек, но по-прежнему любимых родственников. Внезапно лебеди оживились: промеж дюн возник хмурый испитый мужчина, в одной руке початая банка пива, в другой — увядший батон. Он был одет в истасканное пальто когда-то синего цвета, подол которого уже распался на отдельные полосы войлока. Образ дополняли вязаная красно-белая шапочка и растянутый свитер с оленями — ни дать, ни взять маргинальный дух прошлогоднего Рождества. Когда батон кончился, и лебеди снова сугробами осели на берегу, мужчина внезапно запел хорошо поставленным голосом — удивительно чистым, глубоким, столь не подходящим своему обладателю. У Аси сбилось дыхание: почему-то ей показалось, что ничего прекраснее этих незатейливых ирландских баллад она никогда не услышит.
А ведь есть еще насквозь пропахшее шоколадом крошечное кафе в Темпл-баре, где седая хозяйка дает щедрую порцию мороженого с морской солью, есть зачарованная библиотека Тринити-колледжа, в которой всегда поддерживают специальную температуру, иначе некоторые книги рассыпятся в прах, есть звонкие струны так похожего на арфу моста Сэмюэла Беккета и алый маяк на конце Великой южной стены полуострова Пулбег, загадочные надгробия Гласневинского кладбища и лиловая дрожь вересковых полей и, конечно, радуги — бесконечная череда радуг, утешительный жест прихотливой погоды… Как много Дублина успела она увидеть всего за три месяца.
— Анастассия, так как вам в Дублине? — повторила вопрос кадровик. Ася улыбнулась и с уверенностью сказала:
— Чудесно. Потребовалось немного времени привыкнуть, но теперь я не могу представить себя в другом городе.
— Рада слышать. Итак, перейдем к обсуждению итогов вашей работы. Вот здесь у меня лежит анкета, заполненная вашим руководителем. — Женщина нахмурилась. — С сожалением вынуждена сообщить, что испытательный срок вы не прошли.

История К.
1. Отъезд
На семинарских классах профессора Х. мы делали задания большими группами, и каждый раз ты работал в паре с кем-то все время новым. Так однажды мы оказались лицом к лицу за маленьким столом: мой визави — красивый, широкоплечий, со скошенным асимметричным лицом, большим ртом, веселый, смелый, с фатовской развязной улыбкой. Он сказал только:
— Я почему-то так сразу и думал, что ты говоришь по-русски.
Дальнейшее складывается как серия эпизодов, написанных поверх крепко сбитых учебных будней желтыми пастозными красками.
Мы пошли подработать на летний сбор яблок, К. высоко на лестнице специальной палкой с резцом и треугольным захватом красиво подцепляет на дереве круглые, золотистые, будто излучающие свет красно-желтые плоды, я внизу, в длинной юбке, принимаю их у него из рук и складываю в корзины.
В темном лесу мы едем на велосипедах после грозы от земли, и изо рта белый пар; мы переходим бурную глинистую речку по кривому вихляющему бревну, каблук подворачивается, сучья скользят по глине — я почти касаюсь руками воды, когда он хватает меня сзади за пояс куртки, ловко удерживает и, на лету прижав головой к голому дереву, жарко, взасос, целует.
Летом, под пение птиц, сбросив крутящиеся колеса велосипедов в яму, мы падаем с расцарапанными руками и ногами в короткую жесткую траву, в спутанных зарослях ежевики и терна (солнце продирается сквозь слоистые вершины желто-зеленого, богатого листвой, раскидистого шервудского леса), — и мне вдруг вспоминается другое солнце, тяжелые рюкзаки, холмы, налитые смородиной тучи, детство и импровизированный побег на попутках по долгим белым дорогам из пионерского лагеря.
Он дарит мне серебряное кольцо бабушки и говорит, что теперь, после этого, по-другому уже просто не может быть, теперь мы всегда будем вместе.
В гуще занятий между многопудовыми томами по философии и классами по международному праву, собственным авторским проектом по конфликтам (нашей темой были конфликты на постсоветском пространстве) и бумажным стаканом кофе, втиснутым в плотный график (вечеринки, тусовки, вино, проза; была еще ночь). Ночью я не спала, лежала с тыльной стороной ладони на глазах, думала только о К. Какой он хороший, красивый. Богатый. Я стала заниматься конфликтами на Кавказе, более узко войной в Чечне — это была тогда популярная, востребованная и модная тема, — одновременно готовилось сразу несколько отчетов, а в голове стала складываться стойкая диаграмма соотношения лиц, ролей, распределения участников, сил и событий — каналы поставок и сбыта оружия, связь с арабским террористическим подпольем, расстановка сил, участие миротворцев, перемирие Урус-Мартана и Хасавюртские соглашения, — как вдруг К. в одночасье собрал свои вещи, вызвал такси и с утра выехал в аэропорт к рейсу. Я вышла проводить его «на рейд» — крутую каменистую гряду у взморья; на зимнем холодном ветру он быстро забросил вещи в машину, — ветер дул нещадно, трепал и швырял в лицо холодные волосы. Что-то было в этом прощании — странное, неочевидное, недосказанное, — какой-то особый, дополнительный смысл, хотелось сказать тогда; этот смысл стал ясен позже. Я спросила К., когда он назад, он сказал что-то невнятное про дела семьи и необходимость навестить больного отца. Мы даже не обнялись, просто махнули друг другу на расстоянии.
2. Верхние Талои
Я вернулась в Ист-Крэверн Колледж, развернула на одеяле в своей комнате штудии, проекты прогресса и планы захвата, — подходила отчетность сразу по двум годовым проектам, плюс работа в рамках ***-ского гранта, как вдруг, среди бела дня — как будто хватила наркотика, что-то толкнуло меня в спину — все бросила; решение все свернуть и рвануть к любимому на Кавказ созрело разом; еще быстрее собрала вещи и в тот же день покинула колледж.
Это была моя территория. До Краснодара на самолете с пересадкой в Минске, до Гудермеса на автобусе, а дальше до Грозного вдоль подножия хребта уже на перекладных, в глушь равнинной холодной степи. Я ехала на такси, потом на попутке, на подводе с беженцами на тяжелых черных узлах, на повозке, запряженной ослом, даже, затянув потуже косынку, под мелким ледяным дождем на броне танка сбоку, по колено в грязи, под трепещущим трехцветным флагом, сказавшись независимым исследователем.
Помню свое первое утро там — зима, мокрый лед, мокрый воздух, рваными клочьями мокрый снег; горы; и ветер заносит мокрые хлопья в открытый подставленный рот. Грозный еще разорван, размолот, как бульдозерами, войной, по стенам следы от пуль, в руинах прячутся оборванные люди, горят костры в бочках, ходят патрули; эхом редкие выстрелы. Первую ночь я провела в полуразрушенном доме на груде камней, прижав к груди мокрый рюкзак; ночью проснулась, — крутая, звонкая тишина от земли до огромного, высокого, совершенно беззвучного неба, вокруг руины, вдали горы, через проемы дверей и окон видны другие проемы, и через дыру в стене мимо завалов и вывороченных с корнем труб, мимо лица, мимо белых озябших рук плывет белый снег.
Дом К. высоко в горах, над рекой Сунжей. До села Верхние Талои добралась рано утром, в мороз и одновременно встающий с земли туман, когда с застиранного неба падали редкие, как цветы, снежинки, и, открыв рот и подставив язык, я ловила ртом медленные кружевные соцветия, — ночь, горы, высотный разреженный воздух и беззвучные белые вершины Кавказских гор. Утром, в темноте, прижимая к себе рюкзак, я наконец встала столбом у камеры наблюдения перед широкими крутыми воротами.
Мне были скорее рады, сказали, что гость — это ангел в доме, выдали легкий белый платок, согрели чаю, старейшины любезно встретили и твердо передали в ведение женской половине во главе с матерью К. Фаизой и его сестрами.
Первое впечатление от его дома было — легким, воздушным, как будто окружили чем-то белым, мягким, как вспоротая ножом перина, снежным, просторным; в доме фонтан, закрытый внутренний двор; отец, ходящий по нижнему дому и внутреннему двору, заложив руки за пояс (больным он не выглядел); по верхней галерее выстроившиеся в ряд родные, похожие друг на друга сестры в черных платьях и плотных, черных, до подбородка закрывающих горло и лоб хиджабах с тонкой полоской расшитых белых платков, рядом с ними такая же сдержанная, прямая как струна, зашитая в черное мать; и сам К., вдруг ставший другим — спокойный, неторопливый, вальяжный, небыстро спускающийся с верхних этажей под шум фонтана, разминая в руках сигарету, рядом четверо братьев; вокруг все время отец (изредка он все же кашлял), двое старших дядьев и бизнесмен-деверь. После отбоя мы с К. сели на пороге комнаты (мне выделили комнату) и проговорили всю ночь, как раньше. Утром на следующий день, выпив степенный чай, мы одновременно заметили, что родственников стало меньше, и не сговариваясь, рванули в горы на его джипе, в снег, и потом подскакивая на буграх, как на лошади, въехали в сплошное белое месиво без верха и низа, — закатанные рукава, узкая золотая цепь у него на шее, моя белая, узкая рука на его большой темной руке, в лобовое стекло, как в лицо, валит снег, и мы остаемся одни.
Снег валит с неба все больше и гуще, наступает декабрь, в доме становится светлее и тише; говорят приглушенно; младшая сестра Адиля, все теснее и круче кутаясь в свой хиджаб, показывает мне в своей комнате маленький красный Адвент-календарь, где открывает каждый день по окошку. Рождество, и почему-то (хотя раньше этого никогда не было) неудержимо хочется молиться; стать на колени в снегу, где угодно, как подкошенной, и молиться, воздев мерзнущие руки, и ловить ими растрепанные белые хлопья, разворачивающиеся на лету в цветы.
К. сказал, что ему ехать, на второй же день, но вернулся быстро, через несколько часов, и был доволен и весел; я просила его не уезжать, пока я здесь (всего несколько дней), но он сказал — нельзя, у нас бизнес. Ездил обычно не один, на дядином джипе, вместе с двумя дядьями и деверем.
Завернувшись в белый платок, я остаюсь одна среди залепившего окна пуха, наедине с картой океанов мира и красными окошками Адилиного календаря.
Проблема в том, что, когда он не в отъезде, он все время рядом, на расстоянии вытянутой руки, но руку протянуть к нему нельзя, и говорить нельзя, остается только смотреть. Никогда не знала, что молчание может быть столь вещественно, материально, плотно.
Иногда меня приглашали к мужскому столу в нижнем этаже, — как сейчас вижу этот большой узкий медный стол, изузоренный восточными орнаментами. Старые и старшие члены семьи вокруг стола, на полу, едят орехи (длинные зеленые фисташки, фундук, нут, разложенные в темные точеные вазочки), макают в пряности, аромат настоящего кофе по-турецки, сваренного хозяйкой по всем правилам в турке с цикорием. Важно, склонив головы, изредка кивая, слушают мои рассуждения о теории этнических конфликтов и применимости к ряду случаев конфликтов на постсоветском пространстве международного права.
Прошла неделя, К. уже совсем не бывал дома; я все чаще сидела под окном, зараставшим снеговым одеялом, и ходила в свой первый разрушенный дом в нижнем городе, зачем-то зажигала свечу и ставила ее среди снега на подоконнике или просто сидела на куче камней и смотрела, как снег падает с неба в дыру на крыше или через разбитую дверь.
Разрыв был жесток, краток, как в греческой драматургии, яростен, стремителен, ярок. Перед мужской частью семейства, степенно пьющей чай у стола, со мной в белом платке, из-под земли вырос мой брат Петр — размахивая корочками, он бешено пролетел все посты, практически вышиб ногой дверь и бросил передо мной на стол билеты на самолет на завтра,
старейшины встали, —
тут же в дверях где-то из бокового входа выскочила и стала вкопанная как столб Фаиза, за ней выскочила и тоже встала как столб, сломав на груди руки, Адиля —
Петр в ярости выдернул меня из-за стола, сорвал белый платок, заявил, что я поеду с ним прямо сейчас, я заорала «Не имеешь — права!», — он схватил, я увернулась — отчетливо помню в этот момент лицо К. — весь проходящий по нему спектр эмоций, как волна смываемых водой красок, — на его лице были последовательно написаны — страх, ярость, отчаяние, гнев, снова отчаяние, сомнение, колебания, сдача, но в итоге он — не шевельнул пальцем, ни один мускул не дрогнул, он не двинулся с места, будто прирос к полу.
Петр потащил за руку к выходу, — я вдруг разом обмякла, как мокрая вата, и перестала сопротивляться, еще не начав.
Все вокруг вдруг так сильно изменилось, стало медленным, вялотекущим, искаженным, скривилось в гримасе.
Когда толкали сзади в спину, я двигалась вперед, будто в гору, криво стояла, расставив пошире ноги, чтоб не упасть, вытирая ладонью горячее лицо, прижимала к сухим глазам поданный мятый платок; надо мной сверху смыкались волны моей катастрофы.
Казалось, ничего нет больше моего горя, оно было огромным, как мир.
Петр просто вез меня на себе, как багаж, как куклу.
За всю кривую раздрызганную дорогу нас не раз останавливала милиция, задирали капюшон, смотрели в глаза — искали наркотики. Какие дороги по России — кривые, черные, разодранные. Только на выходе из Шереметьево я впервые слегка встряхнулась, почувствовала резкий, пронизывающий до костей холод и провела маленькую ревизию, — худая, натянутая, как струна, шея с витыми синими жилами, холодные и голые запястья, голод и медленно расходящаяся по венам, как отложенная реакция на травму, адская непереносимая боль, — не горе от потери любимого, не гнев, ярость или досада, не смертная тоска (по его рукам, вещам, движениям, по расположению предметов при тех или иных обстоятельствах, или по своему будущему без него), но только одна острая голая боль без всяких лимитов, от которой нет сил даже реветь и с которой просто придется жить, и с каждой минутой ее становится не меньше, а наоборот, больше.
Дома — синие фиалки на окне, ориенталистские полотна на темных стенах; брат бросил меня — уронил с плеча на большую кровать в родительской спальне, — я даже не заметила, что это моя страна и мой дом; потом с раздирающей мозг мигренью я лежала в своей комнате на своей детской кровати среди детских игрушек, как бросили, с плеером и размотанным наушниками, и непрестанно крутила только «Кино» и «Нирвану», особенно остро чувствуя, как весь огромный выученный мир и мировая культура со всеми текстовыми аллюзиями, младшими голландцами и младогегельянцами, сонеты Шекспира и Данте, эподы Горация и Британский музей, и сложенные в стопки мои будущие, сформированные мускулистой прозой, полные замечательных мыслей, красиво изданные, еще не написанные прекрасные книги, — все это сжимается и безвозвратно отходит, отклоняется, отдаляется и уплывает далеко в сторону, как земля от отдавшей швартовые лодки. Мой мир стремительно рушится, и, распутывая провода, глядя на темнеющие сумерки, я в стотысячный раз за день закрываю глаза руками, и лицо само резко и беззвучно кривится в застывшей, как античная маска, растянутой гримасе, — «Песен, еще не написанных, сколько, скажи, кукушка, пропой…»
3. Анатомия боли
Когда руки горят, если ничего не делаешь, сидя у стола, я пишу план: сменить университет в Х. на университет в Лондоне, потом вообще бросить, эмигрировать к М. в Италию, уйти в армию, уйти в монастырь.
Пока пишу, легче. Это способ временно отставить от себя боль.
Глядя в разные углы, он и я не заметили, как тихо, незаметно присели, незаметно собрали чемодан и рюкзак и поехали (толща какой-то интенсивной, полупрозрачной боли как не пропускающая, сопротивляющаяся среда); и вот мы одни на свинцово-белом, контрастном острове У., по другую сторону от материка, и я совершенно с другим. И все вещи на острове окрашены болью — белая мазанка над заливом с волнами вокруг камней, темный рисунок листьев на белых сырых стенах, деревянная стилизованная бочка у колодца с очень холодной водой, в доме раскрошенный яблочный пирог и бадья светло-коричневого водянистого английского кофе, узловатые весенние ветви яблонь в окнах, и на них волнуемые холодным ветром льняные, кисейно-белые трепещущие цветы — время года раннее, сырое; в небе разлиты свинцовые белила; высокая, согнутая скобой женщина в национальном костюме — юбка до пола с синими и красными полосами, — низко склонившись, подносит пиво, подает с черного противня только что испеченные пироги с мясом, в тарелке рыба и вареные овощи.
Я сижу на полу согнутыми руками вниз перед полуразобранным чемоданом, — он походя тычет в спину чем-то тяжелым. «Двигайся!» — и я шевелю руками, продолжая разбирать чемодан.
В окнах облака над Английским каналом; когда проходишь горами, по верху мелового хребта, — до горизонта море, и вокруг травы больше, чем воды в Атлантическом океане.
Облака — их пенит, пружинит, вздувает, бесконечно крутит; поднимаясь и клоня к земле траву, ветер несет их со стороны Кельтского моря, с южной оконечности Корнуолла — самого ветреного и широкого места Ла-Манша, — и завязывает их над утесами в тугие полуразмотанные жгуты.
Море цвета селитры — у берега серое с песочно-белыми жилами, мраморное, дальше сине-зеленое, лиловое, кобальтовое, и все время шуршат над головой, звенят и скребут по пестрым камням сухие от ветра соломенные желтые травы.
Облака поднимаются над морем против ветра, стоят над хребтом меловых утесов крутыми, шумящими купами, ветер наносит их от Ирландского моря и крутит, и крутит, и крутит в бесконечные нераспутываемые жгуты.
Цвет — смородиновый, свинцово-синий, бирюзовый, белый, — цвет моря и неба, и вокруг мелкие желтые цветы среди зеленых разросшихся трав.
Над шумящим непрекращающимся водоворотом волн, над краем утеса, выдвинутого как язык в сине-зеленую зыбь обрыва, огибаемого белой каймою пены, я совершенно, непоправимо, фундаментально с другим; ветер носит и треплет незаправленную, жестко сплетенную косу; это — анатомия боли; пока я еще трепетно, фундаментально, принципиально и последовательно с другим, мой любимый со мной; пока еще К. со мной — его губы на моих губах, и его поцелуй на моем языке (я наклоняюсь вперед над утесом и высовываю язык, кажется, что сюда долетают соленые брызги волн, разбивающихся внизу о камни), его руки на моих руках, и ямки на сгибах моих локтей на месте сгибов его локтей. Проходит один день, другой, третий; у меня высокая прическа; в руках трава, жесткий венок, аравийские четки, какие-то черные камни; внизу под обрывом мерно гремят и гудят голые прибрежные валуны; катятся вдаль к Ирландии и Корнуоллу черные, прусско-синие, кобальтовые темно-пенные круговые волны.

Морозь-ка!
Воздух в лесу, казалось, звенел от холода. Марфуша надвинула капюшон по самый нос, но теплее не становилось. Зубы давно уже, независимо от ее воли, выстукивали какой-то ритм, напоминающий марш. Она упрямо держала подернутый инеем транспарант, на котором растерянно жались друг к другу кривоватые буквы: «Весне дорогу!»
Наконец, откуда-то сбоку послышалось задорное посвистывание. «По-то-лок ле-дя-ной», — разобрала Марфуша с детства знакомый мотив. Затем по снегу захрустели шаги. Все ближе, ближе — и вот из-за вековой ели выглянул Морозко собственной персоной. Посох в его руках был похож на обледенелую метлу. Старик остановился. Холодные голубые глаза удивленно уставились на озябшую женскую фигурку. Марфуша упрямо моргала в ответ.
— Тепло ли тебе, девица? — заговорил, наконец, дед.
— Холод собачий, — отрезала девушка, стараясь, чтобы транспарант не дрожал в руках.
Морозко покачал головой, покрутил посох. Ветер — не очень сильный, но противный, колючий — впился в лицо Марфуши, проникая под капюшон.
— Тепло ли тебе, красная? — уточнил старик.
— На Северном полюсе потеплее будет. Проваливай отсюда. — Марфуша старалась говорить как можно злее, чтобы скрыть предательский спазм в горле.
Морозко быстро взмахнул посохом, и резкий снежный вихрь сорвал с Марфуши капюшон, обдал ледяным ужасом, вырвал из рук транспарант. Марфуша зажмурилась, закашлялась, — но вихрь тут же стих. Нарочито медленно она встала, подняла транспарант, отряхнула его, надвинула на брови капюшон и вновь застыла на месте.
— Может, теперь стало теплее? — вкрадчиво улыбнулся дед.
— А может, хватит дурацких вопросов? Сказала уже: жуть, как холодно. Дуба дать можно.
Студёная мертвящая муть — не ветер уже, а именно странная, незримая, парализующая морозная волна — накрыла с головой. Шапка, пуховик с капюшоном, варежки, меховые сапоги были бессильны под этой волной, будто голой сидишь. Марфуша зажмурила глаза, ощущая под веками подобие ледяной корки, и решила, что настал ее последний час. Но тут морозная волна схлынула. Морозко покачал головой и уселся на торчавший рядом пень.
— Ну, и что же ты здесь забыла, упрямая тепличная барышня? Пуховик какой-никакой есть, рукавицы есть. Для прогулок по деревне, походов за водой должно хватить. В лес-то мой для чего пожаловала? Здесь всяко холоднее. Сидеть бы тебе спокойно на печи да есть матушкины калачи…
— Понимаешь, старый, даже если дома в тепле сидишь — лес все равно в окно видно. А он давно стонет от холода, дед, ты не замечал? Кусты ломаются под корками льда. Птицы падают на лету. У медведей бессонница в стылых берлогах, ревут по ночам. Посмотри, даже у ели ветки дрожат.
— Твои ль заботы это, девица? В лесу нынче я хозяин. Да и не только в лесу. Захочу — все избы ваши сдую, по льду босиком танцевать заставлю. Но ведь я этого не делаю, знаю своё место. И ты своё знай. Зачем в чащу лезть? Ты ж не Иван-царевич, чтоб за подвигами в путь отправляться. У тебя свои, девичьи заботы должны быть, аль позабыла про них?
— Ну что ж, если тебе так понятнее — считай, что я шубу норковую хочу. И сундук с самоцветами. Да ещё жениха богатого. Нормальные девичьи заботы.
— Ага, — Морозко довольно потёр руки в пуховых варежках, — вот с этого и надо было начинать.
— И что тогда?
— Тогда для начала научил бы я тебя, сударыня, как нужно со старшими разговаривать. Сестра твоя умеет, между прочим. Брала бы с неё пример.
— Ещё бы. Настька же терпила у нас. Как настоящая русская баба.
— Не баба, а девушка. Очень милая, между прочим. Кожа бела, как снег, косы тёмные, как вечернее небо… А ты? Лицо красное, руки потрескались, волосы соломой торчат… В зеркало-то давно смотрелась? Могу одолжить, кстати. У меня новенькое есть, из натурального льда.
— Спасибо, не стоит. Я с детства знаю, что рожей не вышла, так нечего мне и смотреться туда.
— Это ты зря. Знаешь, в народе говорят: с лица не воду пить. Хотя красота тоже важна, конечно. Но поверь мне как мужчине, главное — душа. Скромность, вежливость, приветливость. А тебя, чай, дома совсем избаловали… Капризная, как королевна.
— Да лучше уж нищенкой быть. Мать шагу в сторону не дает ступить: «Ах, Марфушенька, ах, душенька! Не трожь веретено, уколешься. Не подходи к печи, обожжёшься. Не лезь в речку, застудишься. Сиди у окна, сказку слушай да леденец кушай». Блевать уже от этих леденцов хочется.
— Ай-ай-ай, что за слова такие из уст красной девицы? — нахмурил снежные брови дед. — Пусть и не так ты хороша, как твоя сестра, но послушай старика: тебе бы манеры — так даже ты жениха неплохого сможешь заполучить. Есть у меня кое-кто на примете. Устроить свидание?
— Обойдусь.
— Ух какая упрямая. А шубу-то дать? Норковой, правда, нет, дефицит, но лисий тулупчик предложить могу. А то даже мне на тебя жалко смотреть, трясешься в своем китайском пуховике. Подумай, девки в деревне обзавидуются!
— И что я за это буду должна?
— Ну, почему сразу должна? Это ведь как игра: если правила соблюдаешь, то и честно выиграть в конце концов можно. Вот Настенька твоя с этим справилась. А она ведь хрупкая, тонкая, как тростинка, ей, чай, сложнее было.
— И с чем же она справилась?
— Ты дурочку-то из себя не строй. Не первый день в сказке живёшь, мне ли тебе правила объяснять? Моё дело спрашивать: тепло ли тебе, мол, девица красная? А твоё дело — кутаться да отвечать, как положено. Морозушкой меня назвать, батюшкой. И мне приятно, и тебя награжу как положено. Разве это так уж мудрено?
— Может, и немудрено. Только странная у нас сказка получается. Я на других росла: там говорили, что врать плохо.
— Да кто тебе врать-то велит? Это же элементарная вежливость, девочка! Вежливость и уважение. Старость надо уважать, и силу надо уважать, этому тебя не научили, что ли? А кто в лесу сильнее всех, если не я?
— Знаешь, старик, есть такой фильм. Хотя вряд ли ты смотрел… В общем, там говорили, что сила — в правде. Даже если я сейчас скажу, что мне тепло — ведь и я, и ты будем понимать, что это враньё. Вот в чём суть.
— Не понял.
— Ты можешь меня заморозить. Можешь все деревья в лесу в сосульки превратить и на кусочки разломать. Зверей запереть в норах под снежными завалами. Деревню нашу бурей снести. Вот твоя сила. Но ты не можешь заставить меня чувствовать тепло, когда отмораживаешь мне конечности — и тут уже твоя слабость. Не надо мне на Настьку кивать. Она не врала, не льстила тебе. Она просто родилась такой. Её бьют, за косы таскают — а она ничего не чувствует. Ей хамят, плюют на неё — а она улыбается. Если честно, я думаю, что ей и награда твоя не нужна нисколько. Она что в тереме с мужем-красавцем, что в трухлявой избе с сожителем-алкашом одинаково будет себя ощущать. Так уж положено мученицам. А я росла не в чёрном теле. В итоге ни красоты, ни манер, ни терпения у меня нет — это правда. Но зато я хорошо понимаю, холодно мне или тепло — и этого ты не можешь у меня отнять.
— Да, нелегко тебе в наших краях живётся, наверное, — почесал бороду Морозко. — А от меня-то ты чего хочешь? Стоишь тут, мерзнешь, плакат этот зачем-то притащила. «Весне дорогу»… У меня ли весны просить вздумала? От тулупа и жениха отказываешься, грубишь старику… Даже не знаю, что с тобой, дурой, делать: в ледышку превратить или домой отпустить?
— Домой не пойду. Осточертело всё. Там или до конца жизни леденцы жрать, или замуж выходить за какого-нибудь идиота. Отец и мать по очереди друг друга колотят да к бутылке прикладываются. Соседи уже и не здороваются толком. Настя уехала — совсем пусто стало. Раньше я глядела на неё и думала: бывают же люди, а! В лохмотьях ходит, оплеухи терпит, в свинарнике спит — а всё ей нипочём. Родителям в ноги кланяется, работает, песни свои напевает да всё краше становится. А главное, все ведут себя, будто так и надо: и мать, и отец, и сама Настя, и соседи… Мне все казалось, что я в доме нужна только для того, чтобы хоть кто-то видел и понимал, как же это всё абсурдно. Каюсь, я сама её иногда и за косы таскала, и шпильками колола… Но я ведь просто хотела, чтобы она хоть что-то почувствовала, хоть раз взяла и закричала: хватит, прекратите, так же нельзя, я тоже человек! Но блаженная — она и есть блаженная… А всё же без неё мне теперь дома совсем делать нечего.
— И ты решила добровольно превратиться в снежную бабу? Это я могу устроить: дуну, плюну — и готово.
— Валяй. Дело твоё. Так уж вышло, что от одиночества я стала чаще смотреть в окно, на лес. Поражалась сначала, как безграничная твоя власть в эту долгую зиму. А потом поняла, что весь наш огромный лес — совсем как Настя. Мёрзнет, трещит, кукожится, помирает. И не может сказать: заигрался ты, Морозко, вот что. Мы тепла хотим, весны хотим, на дворе уже март давно. А раз больше некому тебе об этом напомнить — придётся мне. За этим я и пришла. Твоё дело морозить — так морозь. А еще лучше — вали из леса, тебе на пенсию пора.
И Марфа замолчала. Застыла на месте, выпрямилась, сжала губы, подняла транспарант, закрывая им лицо от усиливающейся пурги, и превратилась в недвижный, полный отчаянной решимости истукан. На вопросы она больше не отвечала.

Накануне
Обычной гурьбы не наблюдалось: только пара мальчишек гоняла мяч. Во дворе было тише обычного, и даже ветер, казалось, не заглядывал сюда, будто имел в то утро более важные дела где-то далеко.
Состояние Таи напоминало предобморочное — мир резко тускнеет, голова идёт кругом по всё более и более широкой орбите, ноги тяжелеют и ими невозможно двигать, словно пытаешься бежать в воде. Воздуха не хватает. Проблеск створки окна заставил Таю повернуться — выглянувшая оттуда женщина открывала рот, как рыба, но звуков не издавала. Очевидно было, что обращалась она к играющим пацанам. Ещё одна тетенька, абсолютно босая, выскочила из противоположного подъезда и увела хозяина тряпичного мяча в дом. Тая осталась одна.
Синее небо теряет безмятежность и наливается красным, словно место комариного укуса. Атмосфера зудит. Кажется, будто солнце набухает и вот-вот лопнет: алое клубами туч застилает весь небосклон, но вместо дождя на город сыпется пепел.
Дорога до школы за все годы не успела наскучить. Но сейчас, по пути на фотосессию для альбома, наутро после выпускного, всё меняется. Почему именно сейчас? Почему именно в тот момент, когда будущее должно принять Таю? Пришедшие с утра результаты экзаменов обещали, что будущее будет ясным, а не таким.
В эти светлые перспективы не вписывается липкий пепел, покрывающий траву и превращающий дома в единый черный силуэт. Не вписывается и голос Миши: «Я не набрал порог». Миша? Тая озирается, но не может его увидеть.
— Иди к школе.
Тая повинуется. Мир окрашивается в инфернальный союз чёрного и красного, в цвета горящего деревянного дома: обуглившиеся головешки и языки пламени. Проезжая часть центральной улицы покрывается прахом сожженной травы. Из-за спины Таи со всех сторон выбегают люди. Вернее, назвать их людьми не повернётся язык. Полупрозрачные силуэты, блекло-болотная солдатская форма. Тая слышит нарастающий гул, словно приближается поезд. Люди щёлкают винтовками, вспыхивают рыжие искорки выстрелов. Время становится вязким. Тая всматривается в неясные лица. Призраки бегут сквозь неё. Вот знакомые глаза, но Тая не может понять, где видела их раньше.
У одного пробегавшего на груди блеснул значок с гербом города. У другого через всё лицо вулканической трещиной кровил шрам. Вот кто-то уронил медальон — Тая подобрала, раскрыла, прочитала фамилию своего одноклассника и бросила вещицу ему вслед. Голос Миши звучал совсем близко, за плечом.
— Ясность ясеневая и зоркость яворовая, чуть-чуть красная, мчится в свой дом, словно обмороками затоваривая оба неба с их тусклым огнём.
— Миша!
Тая оборачивается. Вместо Миши перед ней замер силуэт без лица, сквозь который видна наползающая пепельная туча.
— Я рождён в ночь со второго на третье, в ненадёжном году, и столетья окружают меня огнём.
И когда этот, как и все остальные призраки, растворяется в воздухе, Тая кричит в надвигающуюся тьму.
***
Мама просунула голову в приоткрытую дверь.
— Ты чего кричишь?
Тая скинула с себя влажное одеяло. Духота июня необязательного года вместе с нервами портят сон. Кто безмятежно спит в ночь перед выпускным?
Будем честны: тихая паника начинается уже за месяц. Хотя каждая девушка за пару лет знает, как она будет выглядеть на значимом празднике.
Луч летнего солнца цепляется за оконную раму. Безоблачное небо вскоре растворяет последние следы кошмара.
— Да спалось плохо, мам. Не переживай.
Каждый хоть раз в жизни сталкивался с дальнейшим: или лично, или свидетелем. Укладка гнёзд на голове. Тая знает, что шпильки будут больно впиваться, но оно того точно стоит. Снова и снова перерисованные стрелки. Тушь, попавшая в глаз. Шутливые битвы с подругами за расчёску.
Живот начинает сводить. Тая тоскливо поглядывает на бутерброды, которыми завтракает отец. Голодовка длится со вчерашнего дня, и всё ради главного: чтобы влезть в чудесное выпускное платье. Надо сказать, мера эта излишняя. Тая и без того легка и воздушна, как яблоня в цвету.
Под вечер даже не думало холодать. Во дворе пахло жасмином, листва переливалась ожерельями на солнце. Соседи улыбались при виде выпускницы и по-доброму завидовали: где сейчас их юность?
— Тая! Смотри, смотри! — Саня Пилюзин, славный малый, без царя в голове, но добрый. — Дед подарил!
На груди Сани крохотный значок с гербом города и юбилейной датой.
— Красота, Саш! Пускай судьба отмерит нашему городу в сотни раз больше!
Пилюзин, довольный, убежал к ребятам. Тая глазами искала Мишу, но Миши не было. Он появился, когда все уже перешли из школьного двора в актовый зал. Тая специально оставила рядом с собой местечко и время от времени, как бы невзначай, поправляя причёску, оборачивалась на выход. Наконец, в дверях показался Миша. Тая улыбнулась и помахала ему.
— Грамотой за особые успехи мы хотим наградить… Тая! Все учителя верят в твой светлый путь. Не подведи!
— Честное пионерское! — улыбается Тая, моментально отыскав взгляд Миши. Миша аплодирует горячее всех.
Одноклассники шутили: с самой красивой парой всё известно заранее, можно разыгрывать второе место. Учитель музыки глубоко вздохнул, потёр сухие ладони и мягко прикоснулся к клавишам. Робко, а затем все увереннее, набирая обороты, зазвучал вальс.
— Ребята! — У пруда в городском парке Леха Лавочкин взобрался на небольшой пень, а выпускники столпились вокруг него. — Ребята! Сейчас все мы разлетимся кто куда. Но я… Я хочу сказать: каждого из вас запомню на всю свою жизнь. Ну, Пилюзин, что ты ржёшь? Не порти речь! О чём я? Да! Каждый из вас по-своему чудесен. И я уверен, что в этом прекрасном мире найдётся место и нам. Давайте помнить — мы друг у друга всегда есть. Поэтому обещайте не теряться!
— Обещаем!
— Конечно, обещаем!
— Ну, Лёха!.. Сказал так сказал!
Июньские утра коварны и холодны, но этот холод — малая цена за последние часы вместе. Некоторые после прогулки начали расходиться по домам, не дождавшись рассвета. А зачем? В июне, кажется, солнце и вовсе не уходит полностью за горизонт. Тонкая бледная полоска ночником освещает сонные улицы.
Компания самых стойких переместилась к Лёхе на квартиру. Родители предусмотрительно ретировались на дачу. Всю ночь Миша держал Таю за руку. Даже когда после шампанского ребята снова начали танцевать, когда все живо, наперебой болтали — делились планами, вспоминали самые весёлые истории школьной поры… И не было на свете никого счастливее, чем Тая. Разве что Миша — ведь счастливая Тая была с ним.
В окне, с трудом опираясь на горизонт, поднималось красное солнце. Вдруг Тае показалось, что красный тяжелый свет заливает комнату до потолка, вытесняет воздух. Улыбка медленно сползла с ее лица. Тая устремилась в ванную и там застыла перед зеркалом. Отвернула кран на полную, умылась, случайно намочила челку. Капли падали в раковину с набухших волос.
Дрожащая мокрая рука скользит по круглой ручке, ощущает деревянную шершавость двери. Дверь распахивается. В комнате — полупрозрачные силуэты в защитной форме. Один поправляет на сквозистой груди значок с юбилейными датами. Второй нагибается, поднимает с пола раскрытый медальон. Внутри пожухлая бумажка, на ней выведено: «Лавочкин Алексей». Силуэты качаются, словно водоросли на дне озера.
— Тая, с тобой всё в порядке?
Призрак с голосом Миши подается вперед, пытается взять Таю за руку. Вместо живого прикосновения она чувствует лишь холод сквозняка в пустой комнате.
Пульс участился. Что-то замерло между горлом и грудью, не дает вдохнуть. Тая выбежала из квартиры, хлопнув дверью. Этот хлопок разогнал красную вязкую массу и вернул Таю в июньское утро. Миша нагнал её под яблоней в соседнем дворе.
— Тая, ты чего?
— Я не знаю! Не знаю! У меня ужасное предчувствие… Вроде… Вроде всё чудесно, и я счастлива. Да! Я никогда не была такой счастливой, Миша. Но всё это будто понарошку, понимаешь? Будто стоишь на рельсах, а они гудят. На тебя едет поезд, ты не видишь его, но знаешь: он близко. Завтра придут результаты…
— Ты что, переживаешь из-за экзаменов? Да брось! Всё будет отлично.
— Я за тебя переживаю, Миша. Представь, если ты не сдал? Если тебя заберут в армию? А вдруг что? А как я здесь? Зачем мне без тебя?
— Тая, не переживай. Сейчас я рядом. Дай руку. — Их пальцы сплелись в замок. — Хватит мне баллов. Давай завтра встретимся у школы? Уж куда-то я точно поступлю, будь уверена. Съедемся, всё будет хорошо! Я тебя люблю. Я люблю тебя, Тая, слышишь?
Тая слушала и плакала. Тая тоже любит Мишу. А солнце окрашивает розовым облака и стены домов.
***
Встать пораньше, чтобы успеть сфотографироваться. Мучение, конечно, сниматься после выпускного, а не до. Ну да ладно.
— Тая! Сдала! Отлично!
Мама искрилась от счастья: дочка — надежда и гордость семьи.
— А как Миша? Как Миша?
— Не знаю точно. Не очень хорошо. Мне Пилюзина звонила — я с её слов…
— Нехорошо?..
Мама пожала плечами и вышла из комнаты. У Таи затряслись руки. Она надела первое попавшееся и выбежала во двор.
Мальчишки самозабвенно гоняли тряпичный мячик. Было тихо и безветренно. В открытом окне первого этажа неразборчиво бормотало радио. Кроме пацанов, на улице никого.
Тая брела и, кажется, чувствовала, как пепел прожигает её кожу. Нужно взять себя в руки и дойти до школы. Миша точно будет там. Грохот открывшегося окна заставил Таю обернуться. Взволнованная женщина кричала одному из мальчишек:
— Домой! Толя, домой немедленно! Война!

Ошибка
3:15 ночи
— Можно побыстрее?
— Да-да, сейчас, секунду! Извините, он первый раз летит, не знает, куда идти. Вот, садись в кресло у окна. Побыстрее. Все нас ждут. Молодец. Женщина, проходите, пожалуйста.
— Наконец-то! Коль, давай, чего стоишь? У нас в самом хвосте…
— Сел? Все хорошо? Давай ремень пристегну. Молодец. Скоро взлетим.
— Страшно будет?
— Может быть, да.
Уважаемые пассажиры, добро пожаловать на борт…
— Все, все сели. Одеялом накрыть?
— Нет. Не холодно пока. Пахнет только странно.
Наденьте маску сначала на себя, а потом на ребенка…
— В самолетах всегда чем-то пахнет. Попробуй уснуть. Всю ночь будем лететь. Долго.
— Топливо. Точно вам говорю. Я этот запах ни с чем не спутаю. Я когда служил…
— Витя, да замолчи ты, ребенка только напугаешь! Извините, перебрал…
Хорошего полета!
4:15 ночи
— Курица или говядина?
— Две курицы, пожалуйста.
— А что за звуки?
— Какие? Поешь и спи дальше.
— Странные звуки. Скрежет какой-то.
— Поешь.
4:30 ночи
— Скрежетать сильнее стало! Ты не слышишь?
— Нет, не слышу. В самолете много звуков, все гудит, все работает. Его строили очень умные люди. Гении. Не переживай, поспи.
— И пахнет еще! Давай позовем стюардессу! Мне страшно! Пожалуйста!
— Тихо, тихо, не плачь. Сейчас позову.
4:40 ночи
— Вот сейчас! Теперь слышишь?
— Да, теперь слышу. Стюардесса обещала, что все будет хорошо. Отвлекись от звуков. Хочешь, я расскажу тебе сказку? Ты уснешь, а когда проснешься, мы уже будем у моря.
— Давай. Я ее знаю?
— Нет. Я никогда ее тебе не рассказывала, но сегодня расскажу.
— Только тебе нужно будет говорить громче, чтобы я услышал. Так громко.
— Хорошо. Ты слушай и ничего не бойся. Я расскажу тебе про гения, который жил со мной в соседней квартире.
Зима
Первые семь лет я провела в пятиэтажке в маленьком городе. В стране, которой ты никогда не увидишь. И чьих песен ты никогда не услышишь. Виталий Вениаминович делал важное дело, а его мать смотрела телевизор. И пока они вот так были, я могла жить.
Виталий Вениаминович работал каждый вечер за столом под открытой форточкой. Его мать всегда лежала на раскладном диване в нескольких метрах от стола и смотрела телевизор. Даже ночью я слышала через стену монотонные рассказы про животных, про нашу страну, про погоду.
— Ты у них в гостях была?
— Да. Один раз.
Родители отправили меня взять в долг. Виталий Вениаминович открыл дверь. Высокий, с огромной бородой, в шерстяном свитере с дырками. Он пах сигаретами и чаем.
Пока он искал мелочь на кухне по каким-то банкам и полкам, я прокралась по темной прихожей, завешанной вещами, встала на четвереньки и поползла по коридору, заставленному мешками, в комнату. Я выглянула из-за угла и увидела его мать на диване. Такая старая, худая, сжавшаяся.
Она курила сигарету, смотрела в орущий телевизор, шептала что-то себе под нос и сбрасывала пепел желтым пальцем в банку на животе. Квартира пахла табачным дымом, как и моя, но он был каким-то другим. Может быть, книги, которыми была завалена вся их однокомнатная квартира, по-особенному впитывали дым. Математика, физика, статистика, сопротивление материалов, проектирование, еще какие-то сложные слова.
Мне не хотелось уползать домой к родителям. Там пахло другими сигаретами. Книг не было. Телевизор давно продали. Остался только магнитофон и два дивана.
«Что они тут делают целыми днями? Никогда их не видела на лестнице. Он, наверное, умный очень, сидит за столом, работает…» — думала я.
Кто-то похлопал меня по плечу. Я вскрикнула и тут же испугалась, что меня услышит его мать. Она показалась мне очень строгой.
— Не бойся, вот нашел мелочь. А мама уже давно почти оглохла, — сказал он, протягивая мне кулак.
Я встала, и когда Виталий Вениаминович высыпал деньги в мою ладонь, я увидела, что он добавил к мелочи две конфеты в сиреневой обертке. Мои любимые. В саду на елке такие выдавал Дед Мороз.
— А что дальше было?
— А дальше я съела конфеты на лестнице, чтобы родители не заметили, и пошла домой. Я думала о Виталии Вениаминовиче — его важном деле и столе, заваленном исписанными бумажками, странной матери, их книгах — каждый день, пока меня не увезли от родителей.
— Как можно увезти от родителей?
— Слушай дальше и узнаешь.
В один из вечеров первого месяца зимы Виталий Вениаминович, как всегда, работал за столом. Он писал в зеленой тетрадке синей шариковой ручкой. Цифры, уравнения, буквы, причудливые символы. Мать курила на диване. Телевизор глушил все остальные звуки.
— Какие еще были звуки?
— К нам на скамейки у дома приходили петь. Круглый год.
Все как у людеееееей! — ворвалось в открытую форточку.
Елка рядом с телевизором мигала наполовину потухшими гирляндами и старыми потрескавшимися игрушками.
— И у нас зимой елка.
— Да. У меня дома ее никогда не было.
Я мечтала о елке, но родители всегда забывали принести. С каждым годом они забывали все больше и больше. Елка, подарки, одежда, еда. Единственное о чем они никогда не забывали — сходить к соседям за самогоном, обменять талон на водку, спеть песню.
— Самогон что такое?
— Водка без талона.
В тот зимний вечер мои родители хлопнули дверью и пошли к соседям. Я не любила, когда они так делали. Возвращались поздно, пьяные. Падали, валялись в коридоре. Я тогда ложилась на диван, обматывалась клетчатым одеялом, закрывала глаза, прижималась к холодной стене и прислушивалась, представляла.
Виталий Вениаминович взял со стола очки с обмотанной синей изолентой дужкой. Надел их и всмотрелся в уравнение в одной из своих тетрадей. Из рук выпала ручка. Она покатилась по столу и упала на пол. Он резко встал, больно ударился об угол стола пальцем в шерстяных, связанных матерью носках.
— Мама, получилось!
Мать стряхнула пепел и прокричала:
— Виталик, тетрадки свои не забудь перед сном убрать! Слышал, румыны переименовались!
— А что у него получилось?
— Скоро узнаешь. Не перебивай.
Виталий Вениаминович не ответил. Он согнулся над столом, на тетрадку с уравнением упала капля пота.
— Главное, не потерять, главное, не потерять, — задыхаясь, шептал он себе в бороду, подчеркивая уравнение карандашом.
Дрожащими руками он собрал тетрадки, ручки, бумажки в ящик стола. Разложил диван, обернулся в одеяло, прижался к стене. Мои родители все еще валялись в коридоре. Мать Виталия Вениаминовича убрала банку с живота, поставила ее на пол и уснула под звуки телевизора, освещаемая елкой.
Весна
Виталий Вениаминович проснулся рано утром. Надел клетчатые тапки и пошел на маленькую кухню. Поставил чайник на плиту. За окном надрывались птицы, дворник мел мусор, мать лежала на диване, звук магнитофона моих похмельных родителей пробивал стену.
Перемен!
Виталий Вениаминович расслышал звонок настенного телефона.
Он выбежал из кухни, чуть не уронил столпившиеся в коридоре остатки зимних консервов матери и схватил трубку. В ней уже говорили.
— Сообщаем вам, что высланные вами материалы прошли тщательную проверку нашим конструкторским комитетом. Вы приглашены посетить наш НИИ через месяц. Вам будет вручена грамота и денежные средства.
— Так правда говорили?
— Да. Но иногда даже они сбивались.
— Сумма будет немного меньше, чем обещанная. Сами понимаете, такая ситуация…
— А можно цветным телевизором? Мама любит смотреть, — улыбнулся Виталий Вениаминович.
Он повесил трубку и прокричал матери на диван:
— Мама, он полетит! У меня получилось!
— Виталик, чаю-то сделаешь?
Он, улыбаясь, прошаркал на кухню. С надрывающегося, орущего чайника уже слетела крышка.
Требуют наши глаза!
Виталий Вениаминович схватил раскаленный чайник. Он выпал из его руки прямо на тапку и облил ногу кипятком.
— Больно было?
— Очень.
Крики, шум, поход в поликлинику по тающим грязным лужам с лысой елкой в руке. Мать попросила выкинуть.
Но все это неважно. Виталий Вениаминович знал, что он полетит.
— Кто? Куда?
— Скоро узнаешь.
5:00 ночи
— Ты слышишь? Скрежет стал еще громче! Все проснулись!
— Слышу. Еще немного осталось. Потерпи. Скоро прилетим. И сказка скоро закончится. Я только подумала сейчас, что концовку придется немного изменить.
Лето
— Виталик! За молоком хоть сходи! Целыми днями за столом!
Виталий Вениаминович сидел рядом с матерью и поэтому услышал ее крик.
Он вышел в дырявой футболке из нашего дома и пошел мимо скамеек в универмаг.
Полковник Васин созвал свой полк!
В магазине, уже не пахнувшим рыбой и мясом, потому что в той стране тогда ничего не было, толпа женщин в одинаковой одежде окружила пустые прилавки.
— В Москву немцы возят! А мы тут стоим как дуры! — билась об прилавок женщина с высокой прической.
Виталию Вениаминовичу удалось пригнуться, обойти нескольких женщин, выпрямиться, встать на цыпочки и разглядеть в витрине пакет молока.
— Один?
— Да.
— Меня ждет, — прошептал Виталий Вениаминович.
Вдруг пакет поплыл куда-то вдаль. Ноги начали подкашиваться. Зрачки увеличились. Лоб покрылся потом. Виталий Вениаминович рухнул на пол универмага. Женщины разлетелись в стороны. Крики, ноги, пакеты, юбки, каблуки.
— Мужчина! Мужчина! Вы чего? — кричал прямо в лицо Виталия Вениаминовича рот с золотым зубом.
— Ошибка, в расчетах где-то ошибка. Цифры на молоке. Тринадцать два семь семь дефис семь девять, — тихо сказал Виталий Вениаминович.
— Совсем уже рехнулись все!
— Спился, наверное!
— Сами вы спились! Мужчина, нормально все?
Виталий Вениаминович поднялся из магазинного гула и, пошатываясь, спотыкаясь, падая, побежал домой.
— Какая ошибка?
— Скоро узнаешь.
Осень
— Кто это? — наконец-то услышал в трубке Виталий Вениаминович.
— Я вам расчеты высылал. Ошибка, там где-то ошибка! Я вам месяц пытаюсь дозвониться! Я точно не знаю какая, но его нельзя строить.
Ему приходилось перекрикивать телевизор, мой плач за стеной, разговоры трех пьяных сантехников, менявших трубу в его туалете.
— Почему ты плакала?
— Точно не помню.
Может быть, это был тот день, когда под моим глазом появился иссиня-черный синяк. Он потом еще долго не проходил. Отец все кричал, что если я расскажу кому-то в школе, то будет еще больнее. Я сама виновата. Я опозорила его перед друзьями. Я шумела вчера. В школе я сказала, что мне по лицу ударили мячом во дворе. Все поверили.
Еще я плакала, когда болела. Мать обмазывала меня медом и заворачивала в красное ватное одеяло. Оставляла так на целый день. А я смотрела на узоры старых обоев. Обои могли менять цвет и превращаться во что угодно. Огромные рыбы. Странные страны. Ближе к ночи — ведьмы, вампиры, привидения.
— Страшно!
— Да. Мне тоже было очень страшно. Но пока за стеной Виталий Вениаминович — все хорошо.
— Почему?
— Я тогда еще не знала, что у сказки другой конец. Он должен был построить лучший в мире самолет. И тогда он бы забрал меня, и мы улетели бы вместе с ним и с его строгой и почти глухой матерью в страну с морем, с цветными телевизорами, с едой, с книгами, и с конфетами в сиреневой обертке.
Но ему ответили в трубку.
— Виталий Вениаминович, он построен. Ваши материалы были перепроверены лучшими умами нашей страны. Или вы им не доверяете? Первый полет будет совершен в январе. Все по плану. До свидания.
— Нет, нет! — закричал Виталий Вениаминович в ответ на гудки.
Он повесил трубку, закрыл глаза и поправил очки.
— Виталик, ну чего там? Трубу починили? — крикнула с дивана его мать.
Виталий Вениаминович зашел в туалет. Двое сантехников громко говорили о чем-то, третий сидел рядом, курил и пел.
Но я хочу быть с тобоооой!
Зима
Виталий Вениаминович проснулся поздно вечером за столом. Он утонул в бумажках, цифрах, тетрадках. Мать лежала на диване. Ее освещал цветной телевизор, остатки гирлянд на елке. Я за стенкой собирала вещи — платье, игрушку, карандаши.
— Ты уедешь куда-то?
— Заберет от родителей бабушка. В большой город, совсем не к морю. Но это неважно.
В открытую форточку Виталия Вениаминовича залетали песни.
Моя ладонь превратилась в кулак!
Он надел очки и всмотрелся в тетрадки. Под страницей одной из них он увидел маленький скомканную бумажку — 13277-79. Он скинул все со стола. Тетради, бумажки, ручки, карандаши, цифры полетели по комнате.
— Мама, я нашел ошибку! Я понял!
Мать встала с дивана, надела тапки и медленно пошла на кухню.
— Ладно, Виталик, пойдем хоть чаю попьем. У них там самолет какой-то новый упал.
5:10 ночи
— Упал его самолет?
— Да.
— Виталий Вениаминович плакал?
— Да.
— Он может исправить ошибку?
— Нет.
— Мы тоже сейчас упадем? Так громко и быстро все!
— Сейчас, сейчас. Я наконец-то прилетела.
И ты не бойся.
Закрой глаза и вообрази. Любимые конфеты.
Я не стала как они. У тебя елка была каждый год.
Вот, смотри — море.

Пенни
Горький утренний кофе. Горькие утренние таблетки. Когда запиваю, они застревают в горле.
За завтраком он смотрит на меня. Сидит напротив и скалится гнилыми зубами. Желтые глаза сверкают безумными искрами.
— Катя всё расскажет? Всё-всё?
Его писклявый голос фонит в ухе, невольно отстраняюсь, зажмурив один глаз. Поутру он всегда такой.
— Да, всё-всё… — отвечаю я голосом матери, уставшей от возни с неразумным ребенком.
Между делом ковыряю вилкой подгоревший омлет. В воздухе до сих пор стоит запах сковородки. Он мешается с канализационной вонью — опять в ЖЭК звонить, вечно их пинать приходится.
— И Катя расскажет им про меня…
— Господи, да больно ты им нужен! Не буду я про тебя рассказывать. Мы будем говорить обо мне! В десятый раз тебе объясняю…
— Как о Кате? — Он говорит медленно. Приходится ждать конца каждой фразы. — Но ведь… Ведь жизнь Кати изменилась, когда в ней я появился…
Я стараюсь не смотреть на него. Мне не нравится, когда он так близко. Его мерзостное дыхание сводит меня с ума…
— Сколько раз тебя просила чистить зубы?
— Я не хочу, чтобы все знали обо мне…
Он не слушает. Он никогда меня не слушает.
— Я буду говорить о себе, — уже с нажимом отвечаю я.
— Если ты расскажешь про меня, я буду долго плакать. И ходить за тобой по пятам.
— Ты и так за мной по пятам ходишь…
Я вздыхаю, поднимаюсь с места и задвигаю стул. Разговор окончен. Он молчит. Я смотрю в тарелку. Какой толк в завтраке, если всё равно есть никогда не хочется?
— Пенни, никому ты не нужен… — наконец поднимаю на него глаза. Он выглядит расстроенным.
— Пенни знает… Но Пенни нужен Кате. Мне нравится, когда Катя называет меня Пенни. Словно монетка.
Я отворачиваюсь и ухожу по коридору. Утром здесь темно и прохладно.
— Надо было назвать тебя рублем. Или копейкой… И то больше толку было бы…
Когда я крашусь, Пенни сидит на полу. Он запутывается в своём дурацком костюме, вывернув голову так, что вот-вот шея сломается, и я, глядя в зеркало, стараюсь не обращать внимания на его нелепую возню. И вправду — почему вообще Пенни?
Съемка в полдень, но мы выходим в девять — я вечно блуждаю в переулках. Когда приходится ориентироваться по картам, голова иной раз просто раскалывается на части. Ненавижу карты. Ненавижу суету и толкотню большого города. Если бы не Александра, вовек бы из дома не выбралась.
В метро Пенни ведёт себя нормально — даже странно. Час пик всегда настоящее испытание с ним. Приходится брать его за руку, и его длинные ногти больно впиваются в ладонь. Мы с ним никогда не садимся. Встаем где-нибудь в углу вагона, в стороне от всех, и Пенни вынуждает меня развлекать его. Как-то он заставил петь эту дурацкую песенку… На нас косились. Но если бы я не начала петь, Пенни принялся бы скакать по вагону и издеваться над детьми. Мне не нравилось, когда он корчил им рожи. Было в этом что-то очень зловещее — я то к нему уже привыкла.
— Катя всё-всё расскажет…
Я посмотрела на Пенни. Он стоял позади меня, зажатый между мужчиной в деловом костюме и девушкой-подростком с проводными наушниками в ушах. Его слова тонули в ритмичных ударах колес. Я принюхалась. От мужчины разило едким одеколоном. Канализационный запах пробивался сквозь ядреный аромат — неужели мы унесли это зловоние с собой?
— Успокойся! — воскликнула я, глянув за спину. — Я ничего про тебя не расскажу, обещаю!
Несколько человек обернулись на меня. Я закатила глаза.
— Мужчина, а не могли бы мы поменяться местами?
Клерк вскинул брови. Покосился на Пенни, странно хмыкнул, окинул меня подозрительным взглядом и только тогда отошел в сторону. Я просочилась в угол. Пенни обиженно скреб следы от жвачки на металлическом поручне. За трясущимся стеклом проносились чёрные трубы и редкие желтые лампы.
— Ну что?
— Пенни будет плакать…
— Я же сказала, я ничего не расскажу, хватит придумывать!
Пенни протиснулся ко мне. Я почувствовала на лице его тяжелое дыхание. Оно обожгло кожу.
— Катя возьмет шарик?..
Я подняла глаза. У потолка вагона, между старыми желтыми лампами, болтался красный гелиевый шар. Каждые три дня Пенни уговаривал меня покупать такие в маленьком ларьке со всяким барахлом для праздников, но сам никогда в руки не брал, и в итоге с шариком приходилось таскаться мне. Люди странно смотрели на меня. Люди вообще крайне странные.
— Возьму я твой шарик… — Я дергаю за свисающую декоративную ленту, красное пятнышко подскакивает над нашими головами. — Идём. Наша станция…
Когда я протискиваюсь к дверям, Пенни что-то бормочет из-за спины. Я стараюсь не обращать на него внимания, мы уже страшно опаздываем. Когда я стою у светящейся карты в переходе, запутавшись в выходах, Пенни скачет возле ларька со всякой выпечкой. Теперь пахнет канализацией, пылью и мочой — в нескольких метрах от карты грудой свалены грязные кульки и поношенные клетчатые сумки.
— Пенни, идём! Я же опоздаю!
— Без Пенни Катя никуда не пойдет. Катя и Пенни всегда вместе!
Он кричал мне с другого конца перехода, и его сиплый голос отражался глухим эхом от каменных стен и громоздких колон. Людей становилось всё больше. Белые рюши костюма Пенни терялись среди мужских двубортных костюмов.
— Ну давай же, это очень важное интервью!
— Важнее, чем Пенни?
— Да, важнее, чем Пенни, чёрт тебя подери!
Пенни замолк. Лишь склонил набок голову и обнажил свои уродливые зубы. Я подняла голову — шарик волочился по потолку от легкого сквозняка.
— Так, всё, хватит с меня! — Я дернула за ленту и повязала её вокруг запястья в несколько оборотов. — Ты как хочешь, а я пошла!
И, не дожидаясь ответа, я развернулась и устремилась к выходу в город, расталкивая незнакомцев. Хватит с меня этого безумия! Постоянно играю по его правилам. Хоть раз же должно быть по-моему! Да и вообще… Куда он от меня денется? Пенни всегда рядом. Всегда.
Александра встретила меня уже в студии. Сразу набросилась с объятиями, побросав свои интервьюерские бумажки на кресле:
— Екатерина, спасибо вам, что пришли! Я понимаю, какой это подвиг!
Подвиг… Я лишь киваю, уставившись в пол. Шарик отбрасывает округлую тень в белесом свете софитов. Принюхиваюсь.
— Александра, простите… Мне кажется, или тут пахнет канализацией?
— Ой, нет, что вы! — Александра громко смеется, взяв меня за руку. — Тут разве что может пахнуть побелкой, в соседних помещениях ремонт. Боже нас упаси снимать там, где воняет тухлятиной!
Я оборачиваюсь, всматриваюсь в лица съемочной группы.
— Екатерина? Екатерина! Всё в порядке? Вам что-нибудь нужно?
На меня смотрят десятки озадаченных глаз.
— А… Да. Не могли бы вы… Устроить где-нибудь шарик?
Александра долго на меня смотрит. Протягивает руку к ленточке и отходит в сторону. Шарик пружинит за ней следом. На женщине элегантный костюм. Стук её каблуков отдается в дальних комнатах бывшей мебельной фабрики.
Когда мы сели в кадр, Пенни по-прежнему не было. Кругом толпились люди. Кто-то тихо сопел, кто-то негромко покашливал. В их чёрной силуэтной массе я искала рыжие волосы. Даже в темноте, за металлическими ногами и громоздкими отражателями, его должно было быть видно.
— Ну что, начинаем?
В тишине зашуршали листки. Красные губы Александры расплылись в улыбке. Меня обдало холодком мятной жвачки. И никакой канализации…
Под жарким колким свитером по спине скатились капли пота. На ладонях выступила испарина. Перед глазами стояла молочная дымка.
В толпе зашептались. Я прислушалась.
— Екатерина?
Мой голос что-то ответил. А глаза продолжали искать.
— Для нас это большая честь… Мы знаем, что вы сейчас переживаете не лучшие времена…
Её перебил кашель. Александра бросила в толпу гневный взгляд.
— Простите.
— Ничего…
Я приподнялась на кресле и вновь окинула взглядом силуэты.
— Вы хорошо себя чувствуете? Уверены, что готовы проходить интервью? Мы можем перенести встречу.
— Нет-нет… Просто… Просто мне нужно найти кое-кого.
— Кого же?
— Пенни… — Кажется, я впервые произнесла его имя вслух.
— Кто такой Пенни?
— Пенни… Он… Он мой друг. Мы пришли сюда вместе, а потом… — Я встала, оператор растерянно дернул рычаг своей камеры. Огромный стеклянный глаз уставился на меня. — Потом он пропал, и я переживаю, что с ним могло что-то случиться.
— Екатерина, Катя…
На мое плечо опустилась женская изящная кисть — белые длинные ухоженные пальцы, синие длинные ногти.
— Вы же пришли сюда одна…
Я обернулась на людей. Незнакомцы перешептывались. Я ловила на себе сочувственные взгляды.
— Катя? — Зеленые глаза Александры стали пронзительными. — Это галлюцинации. Вы помните цель интервью?
Александра разговаривала со мной как с ребёнком. Она разговаривала со мной, как я с Пенни.
— Простите. — Я высвободилась, кажется, задела ногу штатива со светоотражателем. — Мне нужно выйти. Здесь не хватает кислорода.
Александра опустила голову. Толпа разошлась. Вдали я видела свет и длинную металлическую лестницу.
— Пенни! — выкрикнула я, едва за мной захлопнулась тонкая деревянная дверь.
Мне отвечала тишина. Я отчаянно принюхивалась.

По дороге
Соседи не разочаровали. Наверху ехала милая пара: мальчик с девочкой лет двадцати — кажется, путешествуют по России. Тянули друг к другу руки, тихонько переговаривались и сидели в телефонах: идеальные попутчики. На соседнюю полку долгое время никто не претендовал: появилась надежда разместить там дорожные сумки и править в «нижнем царстве». Любая надежда, впрочем, может быть нарушена судьбой, а потому за три минуты до отправления на лавку рухнул мужчина лет то ли тридцати, то ли сорока пяти: украшенный неестественными, лишними какими-то морщинами, но энергичный, даже дёрганый. Анастасии Николавне шестидесяти двух лет от роду человек в морщинах уже казался понятным, и такое соседство её даже обрадовало.
Гомель — Санкт-Петербург, шестнадцать часов тридцать одна минута. К счастью, почти весь путь можно будет проспать. Если, конечно, никто не будет употреблять рядом. Поезд тронулся, дети наверху зашептались, сосед же по «нижнему царству» разбросал по сиденью вещи из сумки и, успокоившись, заулыбался, хотя и не спешил представиться. Анастасия Николавна несколько раз внимательно посмотрела на мужчину.
Ехали минут десять, но не отступать же от своей мысли:
— Федя! Ты, что ли? Помнишь, в НИИ, когда всё распалось?
Дурная тишина. И чего молчит — не хочет вспоминать? Или обманулась?
— Простите. — Ответил. — Очень неловко, я Пётр. А Фёдором отца моего зовут, кстати.
— А-э… Анисимов, может?
— Анисимов! Значит, вы были знакомы?
— Да, конечно, простите, вы так похожи на отца! Мы вместе работали четверть века назад… — Страшная мысль: четверть от сотни… — Как он? — Мужчина смутился, резко дёрнул головой и ответил:
— Отец умер как три года. Сердце. Но там ещё много чего было.
В 92-м, как стало понятно, что НИИшных зарплат не хватает уже и на еду, бросились звонить всем друзьям и знакомым, однокурсникам и одношкольникам: может, куда пристроят? А вечерами, когда работы совсем никакой не было: ни предложенной, ни на своем месте, собирались вместе за столом в кабинете начальника — тот вообще не появлялся — и делились новостями. Федя доливал девушкам чай, никогда не матерился и стабильно осведомлялся, как у кого дела, «дорогую нашу Анастаси» иногда приобнимал, вроде как по-товарищески. Рук не распускал. Сказать нечего.
— Да как же это так… Умер. Умер… Ему почти как мне — ему сколько было?
— Пятьдесят семь на момент смерти. — Пётр по-прежнему вежливо улыбался. — К сожалению, папа много курил и нередко выпивал. Вы не подумайте, алкоголиком не был. Но по праздникам — а их много — любил три-четыре рюмки… Ну, вы понимаете. Мы сколько с сестрой говорили, к врачам… А папа ни в какую: я, говорит, человек свободный…
— Свобода — осознанная необходимость.
— А?..
— Это из Маркса. Вам лучше не знать.
В вагоне становилось всё более душно. Пространство вокруг мутнело, смешиваясь с относительной тишиной, сдавливая пассажиров. Пётр потянулся к ручке окна. Раздался скрип, но окно не поддалось.
— Чёрт! Они их, что ли, задраили?
— Это всегда так на этих маршрутах. Даже не пытайтесь.
— Ужас. И как нам ехать полсуток?
— Терпеливо. — Анастасия Николавна улыбнулась, и Пётр вслед за ней вернул свою вежливую улыбку.
К середине 92-го в здании стали периодически отключать свет, и все сидели при свечах: кто-то приносил из дома, кто-то даже умудрялся взять из соседней церкви, где их раздавали бесплатно. Добрый священник, кажется, отец Филипп, говорил: «Где бы ни жгли, думайте о Господе». Вряд ли кто-то особенно думал, но, посмеиваясь, отца искренне благодарили: не у всех были подработки, чтобы ещё и свечи покупать. У Алки тогда родился сын, скидывались ей на детское питание. Она через год вернула всем до последнего рубля: оказывается, записывала, кому сколько. Вышла замуж за богатого мужчину — и вернула. Он разорился ещё через два года, и Алка, подавшись в бухгалтеры, тянула всю семью.
— А как он умер?
— А… Упал. Я возвращаюсь из магазина, вижу — папа на полу. Звоню в скорую, а сам палец к горлу приложил. Ну, и всё.
— Да. Понимаю. — Молчать было тяжело. — Похож ты на папу. Он прям как ты был… когда вместе работали. — Установилась пауза. Пётр, кажется, думал, как ответить. Анастасия Николавна заметила, что парочка наверху перестала шептаться. Интересно: слушают?
— Спасибо. Я знаю, он был красавец — я-то не дотягиваю. Говорил, девушки его любили. Но на маме он женился случайно, кстати: вроде как фиктивный брак ему нужен был для какого-то дела. А потом так с ней и остался. Дальше дети, а там уже…
— В наше время бывало всякое. — Мелькнуло: «и у меня бывало что-то». — Вы сейчас, молодые, наверное, только по любви? — Анастасия Николавна покровительственно оглядела Петра — и тут же удивилась этому ощущению превосходства старости. По отношению к мужчине в морщинах.
В начале нулевых Анастасия вышла за бывшего инженера, тогдашнего бизнесмена: чтобы не сидеть в девках, да и мужчина был хороший. Прогорел, как и Алкин муж — уже не без помощи «органов» — в 2005-м, но не спился, а ушёл в менеджеры. Или что-то вроде того, она никогда не интересовалась.
— Вы знаете, вот мне двадцать девять… — погодя, проговорил Пётр.
— Ох. — Такой молодой, а так выглядит?
— Что-то случилось? — Пётр дёрнулся.
— Нет-нет, продолжайте.
— Надеюсь, всё в порядке. Я если что…
— Продолжай, прошу.
— Хорошо, ну вот: мне двадцать девять. Я был женат уже, сейчас в разводе. Женился, чтобы семью завести: ну, мне мама с папой…
— С мамой дружите? — Зачем я спрашиваю?
— А, да. Общаемся иногда. Так вот, мне всегда говорили: влюбишься — женись. Я сейчас думаю, что это они так за себя отыграться пытались. Ну, вы понимаете: брак по расчёту, дети. Хотели, чтобы я счастлив был, словом. А я, дурак, и женился. Как мы изводились, вы бы знали! Слава Богу, у нас-то без детей обошлось. Знаете, как в кино: тарелки летят, крики, ор, потом плачем вместе, обнимаемся… — Пётр принялся тереть щетину на подбородке, уставившись на столешницу.
Анастасии Николавне было приятно, что удалось вывести попутчика на откровенность: не всё же ей делиться своим. Впрочем, она ведь ничего и не рассказала. Делилась с собой.
— Ну и вот. Всё. Она подала на развод, я не спорил. В последний день, когда выходили уже оттуда, сказала: «ты мой кредит исчерпал полностью». Я промолчал. Я же не банк какой-то. Да и чёрт с ним… Может, портвейна выпьем?
— Ой, старовата я уже для такого веселья! — Анастасия Николавна всплеснула руками, за окном прозвучал поездной гудок, и оба собеседника вздрогнули.
— Вы не пугайтесь, это не совковый. Нормальный портвейн, португальский. Я вёз в гости, но, думаю — ладно. В Питере куплю. — Пётр начал рыться в своей сумке, небрежно выбрасывая вещи на и без того захламлённую скамейку.
— Уверен?
— Абсолютно. Вы можете совсем на «ты» перейти, я вас всё-таки младше. — На столе оказались бутылка и пакет с пластиковыми стаканчиками.
— Ну, да… Наверное, как сын. Но давайте я буду скакать. Не хочется ощущать себя бабушкой. — Наверху будто послышался смешок. Или показалось.
— Как вам угодно. — Кивнув, Пётр открыл бутылку штопором, привязанным к кольцу ключей, и разлил по полстакана. — Ну что ж, за встречу?
— За встречу. — Анастасия Николавна отхлебнула значительный глоток и чуть поморщилась. Пётр выпил залпом.
— Вы знаете, я про причины брака родителей узнал лет в шестнадцать. И то хорошо, что узнал. А сестре моей старшей — совсем рано рассказали. До сих пор не знаю, почему. Но иногда думаю, что это нас как-то различает, что ли… Она сейчас большой человек в рекламе. Зарабатывает ого-го! Мне и не снилось. Работает по двенадцать часов.
— А как семья у неё?
— Не лучше, чем у меня. Но хоть не выходила чёрт знает за…
Они жили в НИИ хорошо, ходили друг к другу в гости, на свадьбы и будто бы существовали в большой коммуне, как однажды заметил дедушка Алки, старый партиец. Советский коллектив быстро редел, Анастасия же до последнего избегала мучительной мысли о поиске новой работы, отшучиваясь в разговорах, что «положила тут свою молодость — положит и жизнь». Впрочем, на фоне преуспевающих бывших коллег шутка быстро стала казаться угрожающе правдивой. Лишившись почти всех старых знакомых в родном пыльном здании НИИ, Анастасия в итоге ушла в частную фирму, сразу же стала получать зарплату в четыре раза больше — и регулярно, а институт так и вовсе расформировали через полгода.
— Выходит, сестра старше вас и живёт одна?
— Совершенно верно. «Карьера — впереди». С другой стороны, я вот тоже теперь не женат. А карьера, ну… не жалуюсь…
— Я тоже не жаловалась… Простите — перебиваю.
— Ничего-ничего.
— …а потом оп — и шестьдесят. — Пётр налил ещё портвейна, Анастасия Николавна тут же взяла стакан в руку. — За годы в пользу! — Они манерно чокнулись.
— А вы сами замужем?
— Была. Скажи, Федя обо мне ничего не рассказывал?
— Кажется, нет… Но я мог не запомнить! — Взгляд Петра убежал путешествовать по стенам вагона.
— Ребёнка, в общем-то, воспитала я одна. Внуков навещаю: они в Москве живут.
— Сын у вас, дочка?
— Сын. Хороший парень, самостоятельный. Всё сам. Но и обо мне нечасто вспоминает.
— Интересно, — Пётр хмыкнул, — сказал бы так обо мне отец? Наверное!
— Тоже всё хотели по-своему?
— Хотел! Да вышло всё равно по родительским советам… Бунта не случилось. Но с матерью почти не общаемся. Обижается за что-то — чёрт знает. Может, за то, что развёлся.
— Так не срослось у вас, чего обижаться!
— Тем более, и они с отцом развелись. Да за то и обижается, небось…
— Бракоразводный у нас с тобой, Пётр, разговор. — Анастасию Николавну уже вело от выпитого, и внутренний блок сообщал: пора остановиться.
Стемнело. Молча, с кивками друг другу, выпили ещё по полстакана и как-то автоматически легли спать. У паренька на верхней полке внезапно громко заиграла музыка, буркнул: «простите!» Никто не обижался. Духота, окончательно завладевшая вагоном, даже способствовала сну: казалось, умереть во сне не так страшно, как в осознанности.
Впрочем, никто не умер. Вспоминала, как смотрели мультфильмы, сын ещё был совсем маленький. Кролик и ёжик лежали на траве, встречая рассвет, кролик изображал поезд: «чучух-чучух, чучух-чучух», и от этого им легко засыпалось, несмотря на солнечные лучи. Сын, кажется, улыбался и тоже засыпал. А уюта не было. Не для него, конечно — для неё. И она ненавидела себя за то, что, лёжа на кровати с ребёнком, не любит его сна, не любит этого момента, не хочет заснуть вместе с ним и отпустить свои мысли.
Анастасия Николавна проснулась ночью. Тихо слышалась музыка из наушников мальчика наверху. Поезд стоял, и было удивительно, что на пути из Гомеля в Петербург есть ещё какая-то важная, по-видимому, остановка. Пётр что-то бормотал во сне и ворочался. Анастасии Николавне не спалось. Голова уже начинала болеть от выпитого, но сон не шёл — шли, и даже бежали, мысли, и, чтобы избавиться от них, Анастасия Николавна отхлебнула из стоявшей на столешнице бутылки. Показалось, что Пётр проснулся и всё увидел — нет, ворочается, как и раньше.
Когда уходила с работы, с остатками коллектива устроили по традиции проводы. Опять были невкусные кремовые торты и дешёвое, но, в общем, приятное шампанское. Танцевала с парнем, чьего имени не помнит, и с Федей. Он что-то говорил — вряд ли важное — но теперь жалко, что шампанское крепко выбило из головы, что. Приехал даже начальник, раскланивался, никого не ругал за праздник и безделье: понимал, что на отчётность всем давно плевать. Через восемь — почему-то помнится точно — месяцев умер от инсульта.
Поезд стоял очень долго. Сильно хотелось спать — но сон не шёл. Тишина прерывалась криками где-то за окном, шёпотом проснувшейся парочки наверху, тянувшей друг к другу руки, бормотанием Петра во сне. Всё это повторялось слишком часто, но приходилось следить: чем ещё заниматься, если не спится. Хотелось заплакать, но плач не шёл. Нескоро, однако до первой синевы рассвета, поезд двинулся, и удалось заснуть.
Проснулась Анастасия Николавна поздно. Пётр угрюмо причёсывался, глядя в окно, как в зеркало. Двое сверху молчали, лишь изредка слышался звук уведомлений их телефонов. Болела голова.
— Знатный портвейн, Пётр. Было гораздо вкуснее, чем в сэсэр, а голова болит так же. — Пётр не сразу, но ответил:
— Главное, что вкусно. А пострадать всегда успеем, верно?
— Ещё как, — неожиданно подал голос мальчик сверху. Может, даже по другому поводу.
Как вышли из поезда, прямо у дверей, Анастасия Николавна легонько дотронулась до плеча Петра:
— Вы мне позвоните. — И протянула подготовленный ночью листок с номером. — Поговорим… Теперь, считай, не чужие люди: полдня вместе ехали. — Взяв листок, Пётр отрывисто кивнул, фирменно улыбнулся и быстро двинулся в сторону выхода к метро. Анастасия же осталась стоять, не замечая толкающих её, бурчащих, извиняющихся людей.
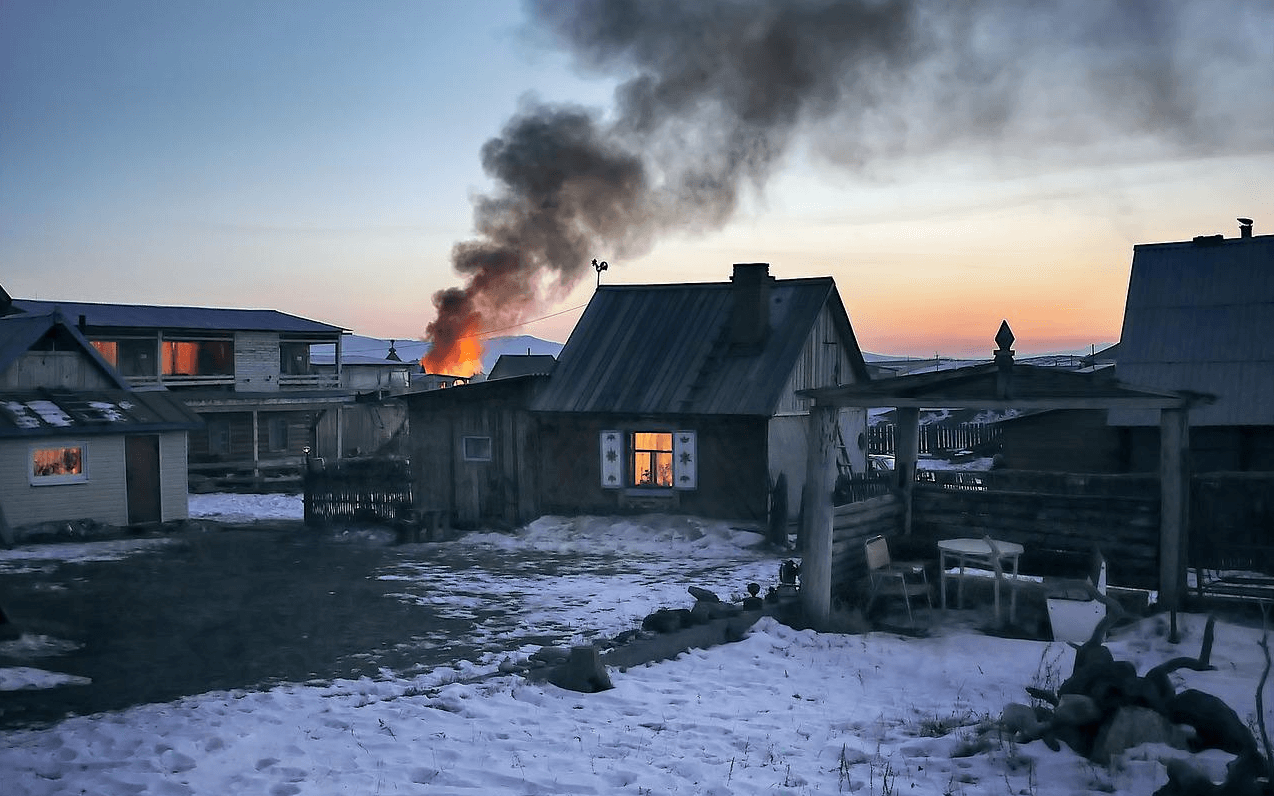
Пока не появилась ты
Январским утром Инга сосредоточенно смотрела в предрассветную темноту за окном плацкарта и чувствовала себя дурой. «Какого черта сорвалась, отправила бы письмо, а может, вообще зря все это затеяла».
Сейчас, после смерти матери, Инга нуждалась в отцовской любви и поддержке, боялась потерять брата. С Чеченской войны вместо денег он привез инвалидность. Контуженый и хромой, с пьяными воплями «Аллах Акбар» вырывал в доме подоконники, крушил мебель.
Инга ехала к отцу без предупреждения. Они не виделись двадцать лет.
Ей было пять, брату на год меньше, когда расстались родители. Инга помнила, он их любил. Помнила, как от бессилия злобно бросил матери на вокзале: «Приползешь на коленях!» Поезд тронулся, отец бежал в слезах по перрону. Мать крикнула с подножки в ответ: «С голоду подыхать буду, на алименты не подам!»
В Тайшете Инга пересела в рейсовый пазик. За дорогу нервы разыгрались до боли в поджелудочной. Водитель указал на дом. Минут пятнадцать она топталась на морозе, разглядывала ажурный тюль на окнах, простенький двор без собаки с разметенными тротуарами. Ноги околели, и Инга решилась.
— Здравствуйте, — осторожно прикрыла за собой дверь. Едкий запах браги непроизвольно заставил поморщиться и отозвался толчком в животе. — Протасевич Георгий Иванович тут проживает? Энергосбыт. Нужно данные уточнить. — Чуть перестаралась с деловым тоном, поставила небольшую дорожную сумку на пол и бегло осмотрела интерьер. Врать в глаза так и не научилась.
Выдержав паузу, тучная женщина в простеньком ситцевом халате, накинутом поверх ночнушки, прищурилась, наклонив голову в сторону:
— Здра-а-а-сьте и тебе, — растянула певуче, просканировала шапку-кубанку с горжеткой из чернобурки, срок беременности и импортные сапоги гостьи. Сделала пару шагов назад, подбоченилась и выдала в лоб: — Не дочкА ли ты ему часом? Ингой зовут?
— Почему вы так решили? — полушепотом сдала позицию и робко заглянула в бесцветно-прозрачные глаза хозяйки.
— Мясо с кровью третий день снится. Гадаю, какую родню черт принесет. — Нервно поправила растопыренной пятерней запущенную стрижку с остатками краски «баклажан» на седине. — Да ты проходи, раздевайся, коль приехала. Тутака мы живем с отцом твоим, двадцать лет душа в душу.
— Спасибо. — Обезоруженная Инга, краснея от стыда, прятала стеснение в возню с одеждой и обувью. Вот и не верь после этого снам.
— Срок большой, — указала глазами на живот. — Из далёку приехала?
— Через месяц в декрет. Из Иркутска я. Ночь на почтово-багажном. Билетов не было.
— Приспичило, стало быть. Разминулась ты с батькой. В магазин отошел, скоро будет. — Хозяйка разглядывала Ингу с интересом, провела в зал и указала на диван. — Значит, будем знакомиться, Инга. — Тяжело опустилась в продавленное кресло напротив, прикрывая ладонью вырванные нижние пуговицы халата. — Зинаида Ивановна я. Рассказывай, как нашла нас. — Впервые улыбнулась наигранно. –– Или, может, покушать хочешь с дороги?
— Нет, спасибо. Туалет на улице?
— Зачем же. У нас в доме удобства, по коридору налево.
Обе женщины нуждались в передышке.
— Мама умерла в марте. Вот я и решилась. Знакомая в паспортном столе помогла. Искали отца во Львове, а он рядом оказался, — отчиталась Инга хозяйке и двум молодым парням, изучающим ее с многочисленных портретов и фотографий. — Сыновья? — кивнула, не выдержав.
— Сошлись в тот же год, как вы от него уехали, — будто не слышала вопроса Зинаида, уставившись в одну точку на ковре. — Ухаживал как положено, не сразу приняла. В любви и достатке подняли двух моих сыновей.
— А совместные есть?
— Нет, не хотела строгать винегрет. Думала, вы объявитесь, он уйдет. — Взяла фотографию с журнального столика, затряслась телом и заплакала. — Три года как схоронили. Враз погибли. Авария. Невестки уже замуж выскочили, детей народили, живут припеваючи, а мои в земельке лежат, — заголосила, заикаясь.
Инга, не соображая, чем помочь, присела рядом на колени, поглаживая несчастную по руке. Ее мутило от запаха в доме, хотелось на воздух, живот возмущался пинками, ныла поджелудочная.
— Пойдем на кухню, я корвалолу накапаю, еду подогрею, скоро сам придет, — резко успокоилась хозяйка и вытерла сырость ладонями. — Ты не думай, мы про вас всегда помнили. И карточка в альбоме твоя есть. Даже в «Жди меня» думали подавать, — указала на табурет.
— Так вы одни совсем. — В душе Инги разгорелась надежда, что они с братом нужны в этом доме.
— Как же, спиногрызов подкидывают, водимся. Слушай, а давай договоримся, — вмиг оживилась и повеселела, капая лекарство в рюмку. Лицо заиграло хитрецой. — Ты молчи, как он придет. Посмотрим, узнает ли, –– не успела договорить Зинаида, как хлопнула дверь, раздались шаги и шуршание пакетов.
— Тс,— приложила она палец к губам и подмигнула: — договорились? Пересядь быстренько. Вот сюда, к печке.
— Зиночка, всё по списку, что заказывала. Сдача и чеки в кошельке, проверь сразу. — Короткое «здрасте» кинул и Инге отец, не взглянув.
Тараторил отчёты, мельтешил по кухне с тарелкой. Гремел крышками кастрюль, заглядывал, чего бы съесть. Хозяйка украдкой ухмылялась.
Инга не сводила глаз. Сердце выпрыгивало: «НЕ УЗНАЛ. А я бы узнала! Узнала бы даже при случайной встрече на улице. Не прошла бы мимо. Свитер нарядный, ему к лицу».
— Жора, разуй зенки, дочь твоя приехала, — ехидно прикрикнула хозяйка, потеряв терпение.
— Пошла ты на хуй, дура ебаная. Шутки шутить придумала, — закинул кусок сала в рот и спешно продолжил хлебать суп.
Инга часто заморгала, пыталась справиться со слезами, не выдержала и захлюпала.
Зинаида истерически ржала.
Отец поперхнулся, соскочил, замельтешил по кухне, прокашлялся и выбежал как ужаленный, растерянно бросив:
— Пойду титан затоплю, помыться надо.
— Сейчас опомнится, придёт,— сунула Инге ковш с водой Зинаида Ивановна.— Перекусим, до магазина прошвырнемся. Обзвоню всех, пусть приходят, посидим вечером.
За дровником на корточках Георгий выкурил сигарету, нервно сплевывая слюну. Вернулся в дом, подошел и обнял дочь. Они целовались, говорили, плакали и опять говорили, перебивая друг друга.
Зинаида удалилась в спальню. Вздыхая, присела на угол кровати. Пальцы потянулись к пышной герани на тумбочке. Медленно, обрывая засохшие листья, она мусорила на дорожку. Потом заплакала и обчекрыжила всю зелень. Рыдая, смяла в кулак красную шапку соцветия и остервенело дернула. Горшок опрокинулся на пол и разбился. Зинаида тут же опомнилась, быстро вытерла слезы и принялась ладонями сгребать землю в кучку. До нее никому не было дела.
Получалось, что три года назад осиротела только она.
— Радость у нас, дочкА к Жоре приехала, — с гордостью сообщала Зинаида знакомым по дороге в магазин и обратно. Удивленные односельчане искренне радовались.
Подтоваривалась Зинаида Ивановна основательно, не скупилась. На глазах любопытных покупателей хмурила брови, артистично отпихивала кошелек Инги.
Третий день ее, как редкую картину, показывают знакомым, друзьям, родственникам. Отец-обладатель — грудь колесом — гордится высшим образованием, должностью, интересным положением дочери. Подкладывает подушечки под спину, жмется, обнимая.
— Помнишь, как я опозорилась на елке в клубе? Рассказала стих про зайца, который вышел на крыльцо, мне еще тогда подарили зубную пасту «Ну, погоди» и щетку, чтоб не материлась. Я расплакалась. Краски хотела.
— Я как услышал, со стыда дернул курить на улицу. А ты ещё с выражением прочла. Долго меня мужики потом подкалывали. Ну и память у тебя! А ты еще что-нибудь помнишь?
— Много чего из жизни на БАМе. У меня волосы зимой к стенке примерзли. Уши постоянно болели. Лечили грудным молоком соседки.
Улыбка исчезла с лица Георгия, ладонь заелозила по затылку. Инга помнила, как он пинал маму в живот, рубил ее вещи, но промолчала.
Главное, нашлись. Столько всего впереди. Вспоминали. Строили планы.
Расстались любезно. Инга пригласила отца и Зинаиду Ивановну с ответным визитом. Записала в их блокнот адрес брата и свой. Объяснила, что декретный отпуск проведет в поселке, по месту работы мужа-охотоведа.
Инга приехала домой. Не раздеваясь, в верхней одежде завалилась на диван и дала волю слезам. Не понимала чувств. Отголоском сверлила обида за маму. Отец набрался, и за столом, при людях, у него открылся обвинительный понос.
— Не смей о ней плохо. Вырастила нас, как смогла, без алиментов. За всю жизнь дурного слова о тебе не сказала, — пресекла его Инга.
— Быстро спать! Ишь, раздухарился тут, — рявкнула Зинаида, выдернула мужа из-за стола и утащила мешком на кровать.
«Дура. Прикинулась бы нищебродкой, типа, жить негде», — ругала себя Инга. Она испытывала ржавый привкус от встречи из-за подробных расспросов Зинаиды Ивановны об имуществе, материальном положении.
Весной Инга родила сына, месяц тянула с именем. Ждала, заглядывала в почтовый ящик. Отец не появился. Внука назвал свекр.
В декретном отпуске Ингу затянула деревенская жизнь. Она уволилась с работы, открыла магазин и уговорила брата с семьей переехать в свой поселок. Инга подарила ему мечту детства — пару лошадей. С них и началось его фермерское хозяйство.
Прошло шесть лет. Летним утром Инга проснулась с непонятным предчувствием. Гасить волнение решила уборкой и стряпней.
— Будто кого ждешь, — в обед поинтересовался муж.
— Знаешь, мне кажется, сегодня приедет отец, — неожиданно вырвалось у Инги, и она расплакалась.
— Сколько можно. Успокойся уже,— приобнял и пожалел ее супруг.
В восьмом часу вечера, когда приезжает рейсовый автобус, залаяла собака. В ограду вошел отец. Маленький, жалкий, растерянный.
Инга лишних вопросов не задавала, будто расстались вчера, а он и не оправдывался. Георгий гостил у детей месяц: восторгался природой и приемом, равнодушно поглядывая на внуков. Инга замечала, надеялась, что со временем подружится. Отпраздновали ее тридцатилетие, и отец заторопился домой, к пенсии. Оставил номер телефона.
В сентябре снова приехал, вывалился на землю из такси, растеряв шлепки.
— Доца, заплати, без денег я, — распорядился, заплетаясь языком и ногами. От отца разило перегаром, мочой и корвалолом. Из сумки торчала ондатровая ушанка, сапог и горлышко поллитры.
— Перезимую у вас. Пенсеху на книжку перевел. Зининым внукам по велику куплю.
До новогодних праздников Георгий не дотянул. Прощались по-доброму. Финансами, сухпайком и попутной машиной Инга его обеспечила. Дозвонилась до Зинаиды Ивановны, чтоб встречала добытчика.
— Деньги наши таскает на пропой. Не хочу, чтоб дети мои видели пьянку. Натерпелась сама в детстве и с ним, и с матерью. Чужой он мне, понимаешь, чужой,— оправдывалась перед мужем, когда он заступался за тестя.
Прошло восемнадцать лет. Во время ремонта нашла старую записную книжку. Листая, наткнулась на номер отца. Недолго думая набрала, уверенная, что недействительный. Раньше соединял коммутатор, а сейчас у всех сотовые. В последнее время Инга часто вспоминала об отце. «Не по-человечески тогда все как-то получилось. Если жив, то старый. Вдруг немощный лежит».
Неожиданно раздались гудки, Инга нервничала, не готова была к разговору.
— Алё,— прозвучал уставший женский голос, она обомлела. — А-лё. — На той стороне провода требовали ответа.
— Это Зинаида Ивановна?
— Да.
— Здравствуйте, это Инга, дочь Георгия Ивановича, хотелось бы узнать о нем, душа болит в последнее время.
— Вспомнили, значит, об отце. Душа у них заболела, значит, — сделала паузу и ее понесло: — Нет его. Два года как умер. 14 января, у меня на руках. Восемь лет лежал после инсульта, а я из-под него говно ворочала. Он ждал тебя, ждал до последнего.
Инга выслушала все обвинения, попрощалась, предупредив, что не будет больше ее беспокоить.
Она смотрела в окно и в очередной раз чувствовала себя дурой, от которой нет никому покоя. Но наконец-то Инга услышала главные слова для оправдания своей бессердечности:
«Пока не появилась ты, у нас было все хорошо».

Полет в детство
Ах, вот стала бы я птицей, вещим вороном, или нет, ласточкой-временицей, и взлетела бы над миром, над заботами суетными, над пропастью между людьми, над всем временным да низменным, заглянула бы хоть одним глазком, как сказка сказывалась, как дело делалось, как жизнь жилась.
Как же свободно, как же хорошо, крылья сильные, небо синее-синее, солнце ласковое, теплое, а внизу целый мир, пахучий, яркий, счастливый.
Ботиночки беленькие, новенькие, скрипучие. Досточки под ногами узкие, надо ступать аккуратно, пяточка к носочку, пяточка к носочку. Из досок сложена дорожка, вокруг досок, по словам бабули, эка грязища непролазная! Споткнешься и все, утопнешь, ботинки изгваздаешь, а то и вовсе затащит тебя грязюка, затянет, не выберешься. Наташка боится утопнуть и крепче вцепляется в материнскую руку.
Наташка уже умеет считать до пяти:
— Ла-а-аз досочка, два-а-а, тл… — Мамина рука крепкая, Наташкина ладошка вспотела, затекла.
— Да не тяни ты, горе мое луковое! Осторожно шагай! — Мама делает вид, что сердится. Ho Наташка знает, что она понарошку брови хмурит, потому что на самом деле мамины глаза улыбаются, и вид у нее праздничный и счастливый. На маме светло-голубое пальто, на ярком солнце eё волосы переливаются золотыми нитями, и Наташке мама кажется принцессой из книжки, которую она ей читает перед сном.
Они идут по широченному полю по тропинке из досок, вокруг только жижа и глина. Остро пахнет сыростью, землей, лежалыми листьями, свежей пыльцой. По полю натыканы небольшие деревца, листвы на них еще нет, а только светло-зеленые прозрачные шапочки, как облачка, тонкие стволики почему-то измазаны белой краской по низу.
— Это известь, — говорит мама, — от вредителей.
Наташка пугается. Мама считает, что главный вредитель у них в доме — это Наташка, потому что Наташка все портит. Все, до чего у нее руки дотягиваются. Наташка представляет, что ее могут тоже выкрасить в белый цвет. Выкрасят и выбросят. Так бабуля говорит, когда отец чинит дома какую-нибудь штуковину. Наташка обожает смотреть, как отец с важным видом стелит на столе газету и раскладывает инструмент. Наташке строго-настрого запрещается подходить, особенно к «паляльнику». Наташка залезает на стул с другой стороны и втягивает носом вкусный дымок. Бабуля строго смотрит на отца, недоверчиво скрестив руки под неизменным фартуком, а потом уводит Наташку в кухню, от греха подальше. По дороге она качает головой и бубнит себе под нос вот это самое про выбросить. Отец все-таки слышит, сердится и уходит из комнаты, хлопнув дверью.
Сейчас отец вышагивает впереди, быстро и широко ступая, все остальные едва поспевают следом. Эта досочная дорожка ему явно узка, штанины его брюк слегка касаются земли и уже покрылись мокрыми коричневыми пятнами. За ним неуклюже прыгает с доски на доску Валерик. Валерик — Наташкин старший брат. Валерика никто за руки не держит и не одергивает. Ему вообще все можно. В семье Валерик — предмет всеобщего обожания, потому что он часто болеет, болезни у него какие-то страшные и его все дружно жалеют. Не то, что Наташка, кобылка здоровая, горе луковое и семейный вредитель. Наташке иногда хочется так сильно заболеть, чтобы все и за нее тоже испугались. Чтобы и ее жалели, гладили по голове и давали сладкого колючего лимонаду, а не гадкого молока с пенкой.
Позади Наташки с мамой, подобрав длинную юбку, пробуя каждую доску на прочность, ковыляет бабуля и недовольно причитает.
— Ох, матерь божия, царица небесная, в какие ж выселки нас определили?
— Мама, что ты такое говоришь? Совсем недалеко, всего час с небольшим от центра, зато у нас своя квартира, понимаешь, своя! Не надоело тебе за шкафом жить, посмотри, красота-то какая!
А вот два взмаха крыльями, и уже лечу над старинным селом Зюзино, бочком притулившимся к южному краю Москвы. Построилось село на высоком пригорке, среди Ясеневских лесов вдоль Каширского тракта сначала боярином Глебом Морозовым, тем самым, у которого молодая жена Феодосия прославилась в истории как боярыня Морозова. После Морозова село попало в государственную казну и было передано князю Прозоровскому, сподвижнику Петра, за заслуги перед отечеством. При нем село разбогатело, князь разбил сады с фруктами да ягодами, отстроил оранжереи, где потом умудрились даже цитрусовые выращивать. Избы крепкие поставили, возвели храм каменный, да усадьбу барскую. Живи-радуйся. Только у всего есть начало, и у всего есть конец. Усадьба переходила из рук в руки, какой хозяин желал работать, тот сады берег и множил, кто уродился без интереса к жизни созидательной, тот проматывал наследство. А тут и семнадцатый год грянул, война, разруха, не до оранжерей было, и захирела деревенька Зюзино. Советы организовали колхоз, свинарники построили, сады часть повырубили, а часть запустили. В сорок первом всех мужиков на фронт забрали, да там они и сгинули. Одни бабы с ребятишками остались, на страну горбатились. А пришел к власти товарищ Хрущев, и одним махом присоединил Зюзино к Москве, сравнял с землей сады и избы, усадьбу-то давно на доски растаскали. Храм только почему-то оставил, не посмел. Улицы расчертил и все назвал в честь крымских городов, Керченская, Херсонская, Симферопольский бульвар, Севастопольский проспект… Любил Крым, видать. И стали расти в Зюзино как грибы первые в Москве пятиэтажки-хрущевки! Потянулась вереница грузовиков с нехитрым скарбом, сундуками да фикусами из Арбатских коммуналок в деревню Зюзино, в еще неизвестную, но, казалось, счастливую новую жизнь.
И вот стоит теперь Наташка перед большим новым домом, он белый-белый, длиннющий, дверей много, а окошек еще больше. На каждом этаже есть балкончики, совсем как в ее книжке про кошкин дом. Только у кошечки один балкончик, а здесь много-много, развешены, как гирлянды на елке. Мама наклоняется к Наташке:
— Во-он, смотри, наш балкон! — Она показывает пальцем вверх.
Наташка тянет шею, щурится, солнце слепит глаза, «наш» балкон она не видит, но ее переполняет счастье просто потому, что улыбается мать, и бабуля уже не ворчит, и Валерик берет ее на руки и кричит:
— Ну вот же он, смотри, Наташка!
И летит Наташка над землей, и видит огромный дом, еще совсем пустой, квартирки как Наташкины кубики, один к другому, один над другим.
В каждом кубике будет своя семья, в каждом кубике сложится своя судьба, свои беды и горести, свои маленькие и большие счастья, свои свадьбы и свои поминки. Еще не приехала на первый этаж Олька, что будет самой лучшей подружкой на всю жизнь. Еще не заехал сосед с черной большой собакой, которую потом отвезет в лес, потому что у него жена родит маленького, а собака будет возвращаться и возвращаться голодная и тощая, и Наташка, рыдая, будет ее тайком кормить у задних сараев. Еще не заехал толстый Лешка с пятого, с которым будут драться не на жизнь, а насмерть, нет еще Олежки с третьего, тощего мальчугана с длинными руками, за он что получит прозвище Макака, с кем будут дружить, не разлей вода, до 10-го класса, пока того не заберут в армию. А из армии он вернется уже женатым и сильно пьющим тайком от жены. Еще не замостили дороги и не привезли толстенную бочку с молоком, за которым надо стоять в очереди с бидоном, не построили булочную с хрустящими, самыми вкусными на свете бубликами, которые нет сил донести домой, не откусив; тетя Люба еще не открыла ларек с мороженым, самое любимое за девятнадцать с розочкой в вафельном стаканчике, но денег хватало только на фруктовое за семь в бумажном. Еще не выросли тополя, покрывающие полы легким подвижным пухом каждый июнь, не посажены еще раскидистые, знаменитые махровые московские сирени вдоль аллеи, да и нет самой аллеи, по которой Наташка будет бежать в школу, а позже и в институт. Еще жива бабуля, не заболел смертельно отец, еще смеется счастливо мать, потому что потом почти перестанет. Брат вырастет непутевым и «всю душу из нее вынет».
А пока отец — высокий, красивый, с залихватским русым чубом, — открывает большую, еще пахнущую свежей краской дверь в подъезд, и все, робея и торопясь увидеть свою будущую жизнь, заходят внутрь.
И последний взмах, и последний круг. Стоит мое Зюзино, утопая в зелени, и населяют его уже новые люди. Не видно детских шумных ватаг на улицах, теперь дети играют в компьютерные игры тихонько в своих квартирах, забыты волейбол и штандер, не воюют казаки-разбойники, не качают резиновых младенцев дочки-матери, никто не режется в расшибалочку и не прыгает в классики. Заросло травой футбольное поле, новенький торговый центр похоронил любимый каток. Нет ни булочной, ни тетилюбиной палатки. Да и не нужно это больше никому. Вот уже и новый приказ вышел: снести «хрущобы», построить башни повыше, улицы пошире. И опять затрещат стволы деревьев и повалятся камни. Опять будет жижа и грязь, и вновь будет строиться совсем другой, незнакомый Наташке город.
Вон, далеко внизу, я вижу Наташку, она теперь Наталья Владимировна, располнела, очки на носу. Никого не осталось здесь от прежней Наташкиной жизни. Все разъехались, разбрелись кто куда. Да и Наташкин дом теперь не здесь. Давным-давно вышла Наташка из старого подъезда, тихонько закрыла дверь — сынуля под мышкой, чемодан в руке, — и усвистала в другую жизнь. Что поделать, молодость хочет перемен. Жизнь-то всякого намешала, много накрутила, но вдруг отступила суета, захотелось хоть немножко прикоснуться к уходящей памяти.
И идет сейчас Наташка по старой своей улочке, осторожно ступает пяточка к носочку, пяточка к носочку, как бы не упасть, как бы не оступиться, и в шуме старых, пока еще живых тополей ей слышится добродушное бабулино: «Куда ты, бесяка, не пожрамши, голову сломишь! Матерь Божия, прости мя грешную!», громогласное отцовское: «Кто дома? Я пришел!», звонкое мамино: «Наташа! Домой! Ужинать!»
— Ну, мамочка, ну еще чуть-чуть, еще немножко!

Последний день детства
Сентябрьское утро. Скоро в школу. Как не хочется вставать! Так тепло и уютно в постели. Мила сколько могла оттягивала момент, когда нужно будет вылезать из-под теплого ватного одеяла. Отопление еще не включили, и в спальне довольно прохладно. Рядом кровать младшего брата Андрюши. Он тоже не торопился подниматься. В детскую неожиданно зашел отец, непривычно серьезный, сосредоточенный. Он подошел к Миле, наклонился над ней, ласково- пытливо посмотрел ей в глаза, поцеловал в щеку и спросил:
— Ты меня любишь?
Она удивленно посмотрела на него, кивнула. Потом он поцеловал братишку, что-то прошептал ему на ухо и вышел из комнаты. Поведение отца озадачило Милу. Никогда раньше он таких вопросов не задавал и был довольно скуп на проявление нежности. «Что-то с ним не то! Странный он какой-то в последнее время!» — мелькнуло в голове у Милы, но она уже выскочила из постели.
Скорее натягивать коричневое школьное платье, черный фартук. Кружевной воротничок и манжеты сверкают белизной. Не забыть повязать пионерский галстук! Погладила еще с вечера. Портфель собран. Можно бежать в школу. Ах, да! Позавтракать! Мила заглянула на кухню, подняла крышку кастрюли, укутанной полотенчиком. Опять манная каша! Мама уже на работе. Ей к семи. Она воспитательница в детском саду. Мила недовольно опустила крышку кастрюли и решила, что позавтракает в школьной столовой. Можно купить жареные пирожки с повидлом, горяченькие.
В прихожей громко хлопнула дверь. Так! Андрюшка уже убежал! Мила вышла в прихожую, половину которой занимало трюмо с большим зеркалом. Надела новенькое пальто, красное, с капюшоном, производства ГДР. Его купили в Москве, где Мила с родителями и братишкой впервые побывала в летние каникулы. Мила покрутилась перед зеркалом, поправила волосы. Из прихожей хорошо просматривалась большая комната — зал, как ее называли, — которая ночью служила родительской спальней. Отец стоял у окна спиной к Миле. Высокий, темноволосый, в сером свитере, который ему очень шел.
«Почему он на работу не идет?» — удивилась Мила. Она вдруг вспомнила, как на днях отец застыл посреди комнаты, прислушиваясь к чему-то, широко раскрыл глаза и спросил ее:
— Мил, ты слышишь? Говорит кто-то!
Мила даже тогда немного испугалась, но маме говорить ничего не стала. Мама и так на него обижена была, не разговаривала с ним уже несколько дней. А ведь когда отец не пил, он был тихим, спокойным, лежал на диване, книги читал.
И теперь Мила смотрела в спину отца, тот стоял не шелохнувшись. Она немного помедлила, но так и не решилась его потревожить. Ей нужно было спешить на уроки.
До школы всего десять минут ходьбы, даже если идти очень медленным шагом. Дорога шла через любимый парк со старой детской площадкой. Можно было обойти продуктовый магазин и выйти на наводящую тоску своей прямизной, бесконечную, заасфальтированную парковую аллею, которая упиралась в школу. Миле больше нравилось пробежаться по тропинке среди деревьев, но тогда сначала надо пройти мимо бараков, из которых часто вываливали нечистоты прямо на улицу. Мила шла между березок и сосен, вдыхала свежий осенний воздух.
Когда-то давно на месте их поселка стоял густой лес. Поселок появился во время Великой Отечественной войны, когда под Казань был эвакуирован крупный военный завод из Ленинграда. Мила на секунду представила себе: ни бараков, которые остались с военной поры — говорят, пленные немцы строили, — ни «хрущевок», выросших в шестидесятые, — в одну из таких они переехали из небольшого села Аки, когда Миле было три года, — ни огромного, праздничного Дворца культуры с колоннами, где она занималась хореографией, а сплошной лес. Мила очень любила лес. Она в нем, можно сказать, выросла.
Рядом с их прежним жильем, старым деревенским домом, рос дремучий овражистый лес. На одной половине того дома располагалась школа, где мама работала учительницей начальных классов. Мила вспомнила вдруг, как они совсем недавно ездили с мамой и братом в родное село по грибы. К бабане зашли, папиной тете, та обрадовалась:
— Аня, я уж тебя заждалась! Грибов-то в лесу, грибов! И белые, и подберезовики, и подосиновики!
Мама очень любит собирать грибы. Она небольшого росточка, проворная, быстро взбирается в гору и радостно кричит:
— Ой! Белый! Подберезовик! Ой! Еще один!
Миле обидно. Она внимательно глядит себе под ноги — и ничегошеньки. Вдруг наконец вырастает перед ней крепенький молодой подберезовик с коричневой бархатной шляпкой набекрень.
— Мам! Я тоже нашла!
Мама пытается спрятать улыбку. Мила возмущается:
— А! Так ты его раньше увидела и специально мимо прошла! Так нечестно!
Мила не заметила, как подошла к зданию школы. Ее догнала Ира, одноклассница.
— Мил, привет! У нас русский первым уроком?
С Ирой были знакомы с раннего детства, росли в одном дворе, вместе в первый класс пошли, а еще Таня, Гуля, Венера, Оля, Олег, Юрка. Человек десять. Дружили. Летом до темноты играли вместе, пока мамы домой не загонят. А сейчас уже в пятом классе.
Русский и литературу у них вела классный руководитель Фарида Ренатовна, женщина строгая, с темными волосами, всегда гладко зачесанными и собранными на затылке в небольшой пучок, и маленькими злыми глазками. Фарида Ренатовна принципиально не пользовалась косметикой и очень этим гордилась. Ее побаивались, на уроке всегда царила тишина.
В самом разгаре урока в дверь классной комнаты неожиданно постучали. В женщинах, стоявших на пороге, Мила с удивлением узнала маминых сотрудниц из детсада. Пошептавшись с женщинами, Фарида Ренатовна изменилась в лице, как-то странно посмотрела на Милу и велела ей собрать вещи и идти домой. У Милы засосало под ложечкой. Пока она складывала вещи в портфель, сорок пар глаз внимательно следили за ней. Она вышла за женщинами в длинный мрачный школьный коридор, там ее уже поджидал братишка.
Шли по парковой аллее, молчали. Уже на середине пути одна из женщин вдруг обернулась к ней и произнесла вполголоса:
— Мила, твой папа умер!
Мила всем своим детским тельцем воскликнула:
— Нет! Неправда! Этого не может быть!
Женщина спросила:
— Андрюше скажем?
Мила посмотрела на братишку, сжала его теплую ручку и ответила:
— Подождите! Не надо! Я сама!
Очень скоро она узнает о том, как мама, движимая дурным предчувствием, сорвалась с работы домой, но было уже поздно, спасти их отца она не успела. А сейчас Миле захотелось заслонить братишку от беды, которая так беспощадно на них обрушилась.
Так Мила неожиданно повзрослела. А было ей всего одиннадцать лет.

Птичка
Базиль Волин всматривался в лобовое стекло. Прижавшись всем телом к рулю, он пытался разглядеть очертания дороги. Извиваясь, она то появлялась перед автомобилем, то терялась в тумане. Пар покрывал голый лес. В одно мгновение сосны стыдливо изгибались в попытках скрыть свою осеннюю наготу, в другое — исчезали, оставаясь прошлым.
Дорога растворялась. И он улыбался, замирая на мгновение и проверяя, не зарождается ли щекоткой между рёбер тревога, не расходится ли по телу дрожь. Ничего. Страха нет, вместо него — мальчишеское чувство азарта. Волину до безумия нравилась его затея. Русский князь замышляет здесь захват Кронштадта, вспомнил он слова из газетной статьи. Кости брошены, и в этот раз он победит обстоятельства. Находчивый и решимый Волин.
Он то про себя, то вслух повторял слова, которые приготовил для встречи с Мартой. Он будет вежлив, но напорист, он ей всё объяснит, а она всё поймет. Ведь посуди сама, эта встреча — какая-то нелепая ошибка, наваждение. Они не могут быть вместе, у них за душой ничего нет — ни немецкой марки, ни российского рубля, — у этого нищего изгнанника и этой девочки с Александерплац.
На поворотах его руки соскальзывали с руля, он вытирал ладони о серые шерстяные брюки, рукавом убирал капли пота со лба и подавался вперед снова, всей силой надавливая на педаль газа. Марта, должно быть, ждёт уже его у озера, в черном расшитом бисером платье, которое он попросил ее надеть для встречи. Эта бледная девочка ждёт его. Бедная девочка.
Посмотрел на часы. Секундная стрелка назло торопилась быстрее завершить круг, Волин опаздывал. А если уйдёт? Чёрт бы побрал этого доктора Краузе — свалился на голову (энтшульдигунг, так сказать, мимо проходил), завёл пустые разговоры: о делах в галантерее, об этой глупой жёлтой канарейке, которую на днях завела жена. Напоследок спросил, не повторялись ли приступы. Нет, доктор, всё хорошо, доктор, думаю, я иду на поправку. Волин ухмыльнулся. Болван, так я тебе всё и выложил. Хватает того, что это глупая девчонка грозится рассказать о своём ублюдке в каждом приличном берлинском доме. Не допущууу. Он подвывал, потряхиваясь за рулем.
Как это началось? Снова летний вечер их встречи. Волин вышел из галантереи, где служил управляющим, и побрёл к Нойе Шёнхаузерштрассе — сердцу ночной городской жизни. Пьянящий дурман окутывал район, сбивая с ног нездешнего обитателя. Кроме фонарей, улицу освещали огоньки от сигарет местного сброда и стеклянные бриллианты женских засаленных платьиц. По-мальчишески нескладная, в черном, обшитом дешевыми бусинами платье она, словно бездомная кошка, подобралась к Волину так близко, что он чувствовал кисловатый запах её тела через вуаль одеколона фирмы Мюленс. Огоньку не найдется? Голос почти детский. Волин поднес зажигалку к ее лицу. Марта смотрела на него широко распахнутыми, утопающими в черной туши глазами, вишневый бантик губ на запудренном добела личике затянул папироску, чтобы разжечь турецкий табак.
Выдохнула и тут же потерялась в клубах дыма. Рядом раздались шаги — полицейский. Стыдно. Волин замешкался, не зная, уходить или оставаться. Не обращая внимания на богатого господина и девчонку возле него, полицейский прошёл мимо. Снова шаги — звук отдаляющихся каблучков.
Волин знал, где может найти ее снова. Чтобы унять душевное беспокойство, он часто блуждал по Берлину без всякой цели. Благопристойные улицы западной части города стесняли его. Среди местных мужчин, от которых пахло кожаными чемоданами и английским мылом, и женщин, которые пили мокко и ели пирожные, Волин чувствовал себя чужаком. Он то и дело слышал запах покинутости и бедности, который исходил от него самого. И чтобы забыть о нем, Волин слонялся по злачным местам, заглядывал в ночлежки, шел на вокзалы. Все эти седобородые старики в лохмотьях, бродяги с узлами за спиной, бесстыдные и запуганные женщины в серо-буром тряпье притягивали его, приюты, где пахло грязным бельем, квашеной капустой и потными испарениями возвращали его к жизни. Он скитался по кабакам и кабаре, которые держали такие же, но совсем другие эмигранты, терялся среди медвежатников, карточных шулеров, рыхлых беззубых Элли и тощих крашеных Берт.
В одном из таких кабаре он снова увидел Марту. Она танцевала на сцене вместе с другими девушками. Восточная сказка — бусы золотым водопадом ниспадают вдоль упругой голой груди, вливаются в бурный поток бахромы на атласной юбке. Волин сел за столик у сцены. Безучастно кивая на все предложения официанта, он следил за юным телом, извивающимся в такт арабским мотивам. Словно беде — заклинатель змей — Волин смотрел на Марту, на свою беду.
По окончании представления Волин задержался в зале. Он хотел подойти к ней, но не мог решиться — кровь прилила к голове, он не был уверен, что помнит, как говорить по-немецки. Стыдно. Наконец, с силой оторвавшись от столика, он рванул к выходу, но выйти не успел. Марта окликнула его. Я рада вас видеть, не уходите.
Они начали встречаться тайно — в обшарпанных трактирах на окраинах города. Там, в сизом дыму, сквозь который с трудом пробирались вялые звуки оркестра, их никто не замечал, не пялился на его дорогой костюм, начищенные ботинки и её новые чулки. Чтобы не порвать их о старые деревянные стулья, Марта сидела у него на коленях, попивая тминную водку и жуя бутерброды.
Волин не рассказывал ей о своём прошлом, о том, как оказался в стране и лишь изредка обращался по-русски: «моя птичка» — за тонкую и низкую талию, осанку и княжеский профиль. Дивное создание. О русских она знала не более, чем вся Европа — казаки, русские певцы и балалайки. Она просила отвести ее в эмигрантский театр или ресторан, где официантками работают бывшие княгини — в черных передниках и с блокнотиком на цепочке черненого серебра. А на улицах звонко хохотала, когда он вдруг нервно озирался по сторонам и надвигал на глаза шляпу, боясь быть пойманным.
С Мартой к Волину пришли спокойствие и ясность, и ему начало казаться, что в ней и есть спасение — долгожданное его освобождение, счастье, которое ему было недоступно раньше. Он перестал принимать таблетки и шаловливо выбрасывал желтую пилюлю в сток канализации у дома, чтобы количество, оставшееся в баночке, совпадало с рекомендациями доктора.
Так продолжалось несколько месяцев, до наступления осени.
Привычно весёлая Марта стала вдруг плаксивой и раздражительной. Она потребовала от него снять ей комнату. Волину показалось, что она подурнела и внешне — неухоженная, она встречала его в старом грязном халатике, за ней по комнате тянулись запахи водки и сигарет. При встрече Марта могла молчать часами, уставившись в пыльное окно, выходившее на железную дорогу.
Наконец, она рассказала ему, что ждёт ребёнка. В тот момент Волину показалось, что тяжелое серое небо, нависшее над Берлином, вот-вот свалится на него одного и придавит насмерть. Под угрозой была его привычная жизнь, состояние, которое он рассчитывал получить от жены, работа в галантерее — хозяин, его тесть, вышвырнет зятя на улицу и запретит появляться на пороге дома. Он вспомнил тех нищих, что видел в приюте, и с ужасом представил себя рядом с ними, куривших одну трубку на всех. Людское месиво, разбросанное по ночлежке, словно тюки на перронах.
Вернулись приступы. По несколько дней Волин не выходил из дома, вздрагивая от каждого телефонного звонка, на которые торопился ответить сам. Появляясь на улице, он поднимал воротник своего макинтоша, прятал лицо за широкими полями шляпы и устремлялся к остановке трамвая, не оглядываясь по сторонам. В галантерее он скрывался в подсобном помещении, а после смены торопился вернуться домой. Западная часть города стала его крепостью, и за ее границы Волин не выбирался.
Проходило время, Марта не звонила, и он был готов поверить, что эта девочка навсегда упорхнула из его жизни. Пока однажды она не появилась на пороге его дома.
Протяжный звук клаксона. Пролетевший мимо автомобиль попытался вернуть его в реальный мир — его машина ползла по обочине. Он очнулся от полусна и остановился, чтобы перевести дух. Через пролесок сверкало стекляшками озеро, слабые солнечные лучи пробивались через сероватое небо. Свежий осенний воздух наполнил салон. Выкурив сигарету и справившись с внезапно нахлынувшим сомнением, Волин двинул дальше.
Он свернул на знакомом повороте. Однажды Волин намеревался свести счеты с жизнью в этих местах — не хватило духа. Сегодня черёд Марты, и он справится. Он должен.
Съехав с дороги, Волин остановился. Мокрыми от пота ладонями он ощупал карманы серого колючего пиджака — на всякий случай в правом лежало старое отцовское пресс-папье с царским гербом. Он вышел из машины, стряхнул с ног нарастающую дрожь и осторожно, озираясь по сторонам при всяком звуке ломающейся ветки, направился к старой лодке, которая была пришвартована у берега.
***
Господин в сером костюме осторожно направлялся к берегу озера. Подойдя к воде, он задержался у старой пришвартованной лодки, которая была спрятана в раскидистой иве. Он топтался на месте и стеснительно жестикулировал, будто разговаривая с кем-то. Затем, промочив ботинки и брюки, забрался в лодку, с трудом отвязал от дерева прогнившую верёвку — не слушались руки, и оттолкнулся. Лодка отплывала от берега медленно, хотя и легко. Отойдя к середине, господин в костюме перестал грести и поднял вёсла. Он смущенно улыбался, глядя перед собой. Одно весло положил на дно, другое — продолжил держать. Вдруг этот господин захохотал, вытянув свободную руку в сторону противоположного берега, и медленно поднялся со скамейки. Он покрепче схватился за оставшееся в другой руке весло и с силой замахнулся для удара. Весло, не встретив препятствия на своем пути, полетело прямиком в озеро. Господин в сером костюме потерял равновесие и упал в воду.
Пустая лодка повальсировала недолго и, наконец, застыла на месте.

Свет
Сегодня ледяная пустыня не в духе. Метель поднялась страшная. Она метет снег с севера. Снежинки больно впиваются в глаза — приходится натянуть баф и спрятаться за капюшоном: мех всегда спасает от колких ледышек. В такую пургу на улице делать нечего, видимость никакая, того гляди заметет. Только прожектор на дизельной прорезает беспросветную тьму. Становится страшно. Смертельно хочется пить.
Дверь от станции замело. В какой-то момент кажется, будто она и вовсе примерзла, но нет — повезло. Снежный тоннель принимает меня. Из груди вырывается клок пара и растворяется в сухом промороженном воздухе. Темно. Тихо. Только пурга завывает за дверью, но теперь это там, и это там меня не касается.
Трёшников приветственно улыбается издали — все неизменно стоит на своем заснеженном постаменте и наблюдает. Припорошенный снегом, с чуть покривленным лицом, но все такой же — снисходительно понимающий, одобрительно смотрящий. Авиационные парашютные ремни лежат грудой. В проеме стыдливо боком стоит списанная плита, покрытая инеем.
Дорога к кают-компаниям подсвечена маленькой одинокой лампочкой, подвешенной под снежным потолком. Бугристые снежные стены вынуждают пригибаться — нужно дойти до склада. Железная дверь уже ждет, скрываясь за вставшей колом шторкой советских времен.
Дверь приветственно поскрипывает, впуская внутрь. Дыхание снова образует клубы пара — облачной дымкой они расползаются по складу. Резко разит хлором. Бывшая каюта начальника теперь охраняет списанную медицинскую аппаратуру. Операционный светильник таращится на меня своими зеркальными глазами.
Говорю себе идти дальше и осматриваюсь. Старая заброшенная советская техника осуждающе смотрит. А ведь это им еще повезло — тем, кого оставили на складе, — какую-то технику и вовсе бросили на произвол судьбы в снегах. Антарктика коварна: ее зыбучие снега наскоро погребут под собой все, что осталось на поверхности — ей это не впервой.
В лабиринтах заброшенных помещений легко потеряться — железные двери похожи одна на другую. Всюду хрустит промороженный пол. Богом забытые ящики с неизвестным содержимым водружены друг на друга — в ожидании своего часа, который, вероятно, никогда не наступит.
Березы на стене кают-компании успокаивают, пускай и краска потрескалась и выцвела от времени, а то кажется, что его здесь и вовсе не существует — бродишь в этом безвременье.
В камбузе закончились крупы и сахар — набираю несколько мешков, сунув их подмышку. Вспоминаю про пельмени в одной из коробок и забираю сразу несколько пачек — про запас, — и возвращаюсь к снежному тоннелю. Ноги увязают в сугробах. Снег рыхлый, сыпучий. Надо скорее в радиодом. Почему же так хочется пить?
Бип-бип-бип…
Металлический привкус во рту горчит, заставляет морщиться. Хочется сплюнуть, но некуда — приходится терпеть.
В камбузе светло. В полярную ночь с апреля по декабрь это становится особенно ценно — не приходится всматриваться в беспросветную тьму. Здесь влажно, но дышать все еще трудно. Слышу странное сопение в груди, пытаюсь откашляться — тщетно.
Вываливаю на стол еду и сбрасываю на диван тяжелую куртку. На неё баф и перчатки. Они горкой покоятся сверху — надеюсь, не придется выходить снова. Как же хочется пить…
Пока готовлю, работает телевизор. «Первый». Новости. Какое-то неразборчивое бурчание на фоне. Метель продолжает петь где-то над головой — даже сквозь метры снега ее слышно. Хочется не слышать, слушаю «Первый», помогает.
Вкуса пельменей не чувствую. Отхлебываю бульон, доливаю в тарелку прямо из кастрюли, но все еще хочется пить. Жадно вспоминаю снег в топилке — влажный, блестящий при свете фосфорной лампы. Надо достать воду. Надо натопить еще снега.
Пока нет информации. Никаких гарантий. Только время покажет…
«Первый» неразборчиво бормочет. Мелькают картинки.
Бип-бип-бип…
Снова металлический привкус. Снова страшно.
Вентиляционная вытяжка работает на износ, а дышать все так же тяжело. Перебираюсь в кают-компанию, «Первый» идет следом, продолжает звучать. Ведущий дает комментарии.
Беру в руки обрезанный кий и встаю в углу стола. Самый кончик упирается в обшитую деревянными панелями стену: ударю по шару — ударю по стене. Бам! Звука не слышно. Только «Первый».
Дочь… доча…
В углу над погасшим экраном компьютера стоит телефон. К нему ведет толстый оранжевый провод — работает.
— Ало! Ало, мам! — кричу в пустоту, хватаясь за трубку.
Дочь, мы так волнуемся… Уже столько времени прошло.
— Ало! Ало! — бью телефоном об ладонь. Голос продолжает звучать.
Так хочется услышать твой голос… Папа вон уже третью неделю не спит. Молится. Мы все тут надеемся. Надеемся, что не все потеряно. Что ты нас слышишь…
— Слышу, мам! Слышу!
Ну ты хоть какой-то знак подай… Уже столько времени прошло… Говорят, с тобой надо разговаривать, что ты можешь слышать. А я чувствую себя полной дурой! Интересно, о чем ты думаешь…
Чертов телефон!
Вновь хочется пить — сильнее прежнего. «Первого» больше не слышно. Метель стихла. После голоса не слышу ни звука. Хочется пойти проверить, как там — снаружи, но боязно. Вдруг опять ночь. А хочется света. Я так долго его жду. Так долго ищу.
Говорят, на Южном полюсе красиво: ребристые холмы Антарктиды похож на раковины в лучах солнца — но я их не видела, мне рассказывали. А снег под ногами скрипит, разными нотами. Во всяком случае он должен, но сколько я ни ходила — не слышала. Может, он только при свете дня настроен петь?
Вдали стоят американские космические вышки — похожие на рога. При минус шестьдесят, как сейчас, они, должно быть, трещат под собственным весом. Но и они далеко. Без света туда не добраться. Свет только здесь — внутри. Но тут от него мало пользы, когда там — полярная ночь.
Выхожу в коридор. Вновь в нос ударяет резкий запах — на этот раз антисептик. Невыносимо. Затыкаю нос, но запах все равно забирается в голову. Она начинает раскалываться.
Бип-бип-бип…
Обшарпанные стены не пахнут — все пропитано едким антисептиком. Пытаюсь спрятаться в комнате. Старое ветхое одеяло лежит у изголовья, вместе с простыней, обнажившей просевший матрац. Падаю сверху и пытаюсь вдохнуть. Раздается хрипение, страшно.
Бип-бип-бип…
Чувствую собственное сердцебиение. Хочется пить.
В коридоре горит лишь одна лампа — вдали. Иду к ней, прислушиваясь к собственным шагам. Неестественная тишина. Лишь гулко бьется сердце. Свет. Мне нужен свет.
Отворяю двери по очереди — одни будто стонут, другие странно похрапывают. И везде темно. Беспросветная сгустившаяся тьма.
Нужно бежать. Ускоряю шаги. Метели не слышно. Снаружи, должно быть, рассветает.
Забываю про жажду. Про металлический привкус. Про сердце. Еще немного. Я чувствую.
Сбегаю по заснеженным ступенькам и чуть не поскальзываюсь — приходится цепляться за неровные стены. Снег от моих касаний ссыпается вниз. Трёшников впервые недоволен. Провожая меня, торопливо пробирающуюся по тоннелю, он осуждающе смотрит вслед.
Бип-бип-бип…
Там должен быть свет… Должен!
Выталкиваю деревянную дверь. Становится холоднее. Впервые я чувствую холод костями. Следующая дверь поддается чуть легче. Последняя, железная, не хочет отворяться. Я слышу метель. Она зовет меня.
Бип-бип-би-и-и-и-п…
Со скрипом дверь поддается. Глаза, привыкшие к свету, не могут поверить. Ночь. Беспросветная ночь…

Сон Адама
Когда Иван очнулся в больнице, в руке у него был телефон — тот самый, который он погубил три года назад. Произошло это во время страшного ливня, который застал Ивана на безлюдной улице. Иван шел к метро из поликлиники, решил прогуляться. Неожиданно загремело, засверкало и хлынуло. Лило как из ведра — Иван едва различал за стеной грохочущей воды зеленые и красные пятна светофоров. Он промок мгновенно, целиком и полностью, достал телефон и попытался вызвать убер — никакого транспорта на улице не предполагалось, так же, как и никакого укрытия. Какое-то время телефон показывал дающие надежду синие пульсирующие круги «ищем водителя», но потом экран пошел серыми помехами и выключился. Иван отругал себя за неосмотрительность.
Теперь же этот телефон опять был у Ивана, как будто кто-то заботливо вложил его в ладонь и согнул пальцы — мол, держи и не потеряй на этот раз. Та же модель, тот же цвет, даже царапина на корпусе сохранилась. Иван пошевелился — сильно болела нога, наверное, перелом. Попытался оглядеться, но не смог приподняться. Вероятно, нога в гипсе, на вытяжке. Как он попал в больницу? Иван не помнил. Опять посмотрел на телефон. На знакомом экране светилось зеленым сообщение ватсапа, Иван удивился: отправителем была Люда.
После ливня телефон так и не удалось восстановить, как и отношения с Людой. Иван связывал эти два события, считал, что в тот момент в его жизни началась полоса неудач. Пока телефон был в ремонте, Люда каким-то образом оказалась недоступной. Она и раньше не слишком поощряла Ивана, а сейчас, когда он лишился возможности позвонить, написать сообщение и оперативно ответить, он начал нервничать, караулить — чем вызвал окончательное отторжение.
Иван вгляделся в сообщение. Люда писала: «Я на море». Иван задумался и закрыл глаза. Он ничего не понимал и не помнил, но его это не особенно беспокоило. Не было сил. Какое море? Может быть, Люда уехала и пишет ему? Может быть, это какое-то старое сообщение? Или это шифр? Мысли проплывали в голове Ивана, как неторопливые облачка, каждое из предположений могло оказаться правдой. Ивана это успокаивало и отвлекало от главной загадки: откуда Люда вообще взялась снова в его жизни? Иван хорошо помнил свои страдания трехгодичной давности, Люда его отвергла. Как, почему она вернулась?
Иван почувствовал вес металлического корпуса, погладил пальцем царапину и приготовился задремать. Шаги. Иван улыбнулся. Люда кашлянула. Иван еще немного помедлил и посмотрел.
Да, это Люда, ясные глаза, загорелая кожа, волосы светятся медом. Раньше она всегда была настороженной, бледной, с тревожной межбровной морщинкой. А сейчас… Глаза ее показались Ивану яркими, голубыми. Как будто раньше он видел ее в черно-белом варианте, а теперь картинку сделали цветной. Люда сказала:
— Проснулся? Доброе утро. Я выкупалась пораньше, а то потом жарко.
И волосы ее, кажется, раньше были не такими, мелькнуло в голове у Ивана. Но эта мысль утонула в потоке счастья: она снова с ним, он слышит ее голос.
— Жарко? — Иван решил немного сориентироваться в этом новом, неожиданном для него месте.
— Невозможно жарко, — подтвердила Люда. — Даже у бассейна.
Она не была похожа на посетительницу больницы. Иван попробовал пошевелить ногой — боль вроде бы осталась на месте.
— Ну что, пойдем завтракать?
Если он может идти, значит, нога не сломана. Или она имеет в виду, что…
Люда подошла к изножью кровати и поправила что-то.
— Извини, одеяло скомкала тут на тебе.
Иван почувствовал, как нога словно освободилась, с нее спали оковы предполагаемого гипса. Он пошевелил коленом — небольшая боль, просто неудобно лежал, нога затекла. То есть он не в больнице?
— Хорошо, что тут все есть внутри, под кондиционерами, — словно решила помочь ему Люда. — Можно весь день не выбираться наружу, и не скучно. Хороший отель!
Иван сел на кровати и огляделся. Действительно, он был в номере гостиницы. Белые стены, которые он принял за больничные, были освещены утренним солнцем, слегка покачивались желтоватые занавески. Дело начало проясняться. Иван привстал и осторожно наступил на ногу. Боли не было.
***
Иван сидел напротив Люды. За окном шумело море, Иван слышал, как волны ритмично накатываются и бьются о берег. Кричали чайки, Иван представлял, как они носятся над набережной, залетают за длинные пирсы, пикируют к воде. Он обернулся полюбоваться, но окно закрывала воздушная кремовая штора. Скатерти тоже были слегка желтоватые, всюду разливался неяркий свет, Люда тоже испускала рассеянное медовое свечение. В зале, кроме Ивана и Люды, никого не было. На тарелке у Люды лежал кусок арбуза, ярко-розовая мякоть и полосатая зеленая шкурка. Вдруг арбуз словно растекся. Теперь сердцевина и шкурка лежали отдельными кучками. Люда взяла ложечку и зачерпнула немного розового:
— Вкусное мороженое!
Мороженое! Теперь понятно. В зале было тихо. Иван хотел спросить, почему они одни, но вместо этого сказал:
— Пойдем сейчас купаться?
— Ну что ты, кто же сейчас идет на пляж, самое пекло.
В доказательство у Люды на лбу выступили капельки пота. Иван кивнул. Действительно, надо переждать жару здесь, под кондиционерами. Однако, как он ни пытался сосредоточиться, не чувствовал ни прохлады, ни жары.
***
Иван сидел напротив Люды. Чайки отдаленно покрикивали, море шумело. Люда была все такая же медовая, сладко улыбалась. Иван не помнил, о чем они только что говорили. Люда доедала мороженое — десерт после обеда. Иван предложил прогуляться. Люда ласково посмотрела на него:
— Ваня, ну мы же решили, что сейчас слишком жарко.
Кремовая штора закрывала вид на море, Иван предполагал, прекрасный. Он смотрел на Люду, на капельки пота, нежные щеки и горячий лоб. Достал телефон: все то же сообщение от Люды. Больше никто не звонил и не писал. А кто должен был звонить? Он же на отдыхе с любимой девушкой, вот к нему никто и не пристает. Иван задумчиво смотрел на телефон.
Люда доела и сказала:
— Ну что, пойдем?
Иван встал и двинулся за Людой по пустынному светящемуся залу. В дверях ресторана заметил: что-то не так с боковым зрением — впереди по-прежнему все ясно, чистая ковровая дорожка, по ней вышагивают стройные Людины ножки в коричневых сандалиях, а вот сбоку как будто стало темно.
Иван резко повернул голову, и ему показалось, что в зале мгновенно включили свет — некоторые предметы слегка дрожали в нечеткой фокусировке. Он снова посмотрел вперед и почувствовал, как сбоку пространство схлопнулось. Жара, жара — мозг его работает с трудом и зависает, как перегревшийся компьютер.
***
Иван сидел напротив Люды. Ему казалось, что стало немного темнее и холоднее — вероятно, уже время ужина. Скатерти чуть тронула сумеречная тень, они уже не отливали желтым, отдавали, скорее, в сиреневый. По-прежнему волновалась штора, а где-то там, за ней, шумело море, кричали чайки, рисуя перед мысленным взором Ивана набережную и пирсы.
Люда доедала мороженое, блестела ярким лбом и улыбалась. Иван улыбался ей в ответ. Он достал телефон — еще раз проверить, может, все-таки кто-то позвонит или напишет? Нет, все то же сообщение Люды так и висит зеленым прямоугольником, и все та же царапина сзади, на корпусе.
Иван провел пальцем по экрану — убрать сообщение, ведь Люда уже вернулась, и уже прошло сколько-то времени. Кстати, сколько? Это их первый день здесь или второй? Иван не помнил.
Экран не отреагировал на прикосновение, сообщение так и висело, даже не дернулось. Иван нажал на кнопку сбоку — выключить. Кнопка была, поддавалась пальцу, только экран не изменился: все то же Людино сообщение на темном фоне.
Иван вдруг понял, что никакой это не экран — просто нарисованная картинка. Никакой жизни не было внутри телефона, он послушно показывал сообщение, которое Иван долго ждал и изо всех сил хотел увидеть. И сам корпус был пластмассовый, ненастоящий. Как будто кто-то сделал игрушку в виде мобильника, а для достоверности утяжелил кусочками металла. Иван вскочил.
Люда схватила его за руку:
— Куда ты?
Иван вырвался и побежал вон из зала. Что это за место? Он должен увидеть море.
***
Море переливалось предзакатными волнами, пахло солью, перекатывалось кудрявыми барашками. Все было так, как и представлял Иван — набережная, каменистые пирсы, пикирующие чайки. Голова прояснилась от свежего ветра. Главное — спастись от Люды и выбросить телефон. Иван бежал по пирсу, вырываясь из кошмара. Люда, тарелка с мороженым, душный зал ресторана остались позади. На середине пирса он остановился. Надо успокоиться. Вероятно, у него нервный срыв. Он не помнит и не понимает, как он сюда попал, но это временно. Сейчас он выбросит этот проклятый мобильник и все вспомнит.
У пирса колебалась прозрачная вода, лизала камни. Иван размахнулся и разжал пальцы — телефон полетел, раздался всплеск.
Он медленно тонул, а с Иваном происходило что-то странное. Ему казалось, что в воду погружается он сам — внезапно морской пейзаж затуманился, растекся, стало резко не хватать воздуха. Иван сделал несколько судорожных движений руками — попытался выплыть из морских глубин, куда его неумолимо затягивало вязким водоворотом.
Вырвавшись на секунду, обернулся на берег — там все расплывалось, словно кто-то плеснул водой на свежую акварель. Мир терял свои краски, проступало нечто серое, странное…
***
Дорога была скользкой, машина вылетела на встречку. Перед глазами Ивана возник серый кузов грузовика с темными грязными подтеками. Перехватило дыхание. Как в замедленном кино, машина стукнулась о кузов, Иван почувствовал резкую боль в ноге. Небо оказалось внизу, осенние мокрые деревья махнули ему на прощанье растрепанными ветками. Серое небо, блеклые облака.
И — ничего.
***
Люда сказала: «Хочешь попробовать?» — и протянула ложечку с розовой сахарной горкой.
Иван улыбнулся и кивнул.

Ясновидящая
Раздался звонок в дверь, и меня послали открывать. Сказали: «Пойди открой, это ясновидящая». Я уже ничему не удивлялась, потому что у нас дома в то лето творилось черт знает что. Маму сначала положили в больницу, потом, не вылечив, отправили обратно, так что нам с бабушкой пришлось прервать мои последние школьные каникулы и срочно возвращаться в Москву — еле-еле по знакомству достали билеты. В нашей насквозь атеистической квартире появились свечи и иконы, приходил с кадилом и бормотаниями батюшка, и после его визита на четырех сторонах света над оконными и дверными проемами остались непонятные рисунки, как будто кто-то начертил могилу с крестом и вокруг — буквы. Я потом, уже когда мамы не стало, забиралась на подоконник и рассматривала эти тайные знаки, пыталась расшифровать, да так и не расшифровала. Жить с загадочными символами в нескольких метрах от кровати было жутковато, но выручала близорукость, благодаря которой я большую часть времени о страшных чертежах могил с крестами не вспоминала.
Мне с детства полагалось постоянно носить очки, но я стеснялась и при посторонних надевала их только в крайнем случае — в кино или в театре. Вот и сейчас я шла по коридору и заранее вся сжималась: там за дверью, вероятнее всего, ясновидящая, а я тут перед дверью — наоборот видящая крайне неясно. Придется вглядываться в незнакомое лицо, наугад достраивать черты, вежливо направлять улыбку примерно в глаза гостье, говорить «здравствуйте» в пустоту — ну, не в пустоту, но, по крайней мере, в муть.
В дверь, которую я шла открывать, было вставлено матовое шершавое стекло. Нарочно такое, чтобы даже ясновидящим и просто людям с хорошим зрением было не разглядеть, кто там за стеклом стоит. Когда я подошла к двери почти вплотную, стало понятно, что за мутным стеклом не одна ясновидящая, а примерно полторы. Рядом с одним силуэтом обычного человеческого роста проступал другой, в два раза ниже: он мог оказаться невысокой елочкой, небольшой байдаркой или карликом.
Я оттянула щеколду, открыла дверь, и стало ясно, что рядом с ясновидящей стоит ребенок.
— Здравствуйте! — поприветствовала я оба размытых лица.
Лица растянулись, изменились — по опыту я знала, что это улыбка.
Мальчик размером с небольшую елочку улыбался во весь рот и сверкал глазами. Женщина тоже смотрела так ясно, что мне даже показалось: я ее неплохо вижу. Одним рывком головы я пригласила сразу обоих:
— Проходите.
Обратно в квартиру мы шли втроем.
— Это Ваня, мой помощник, — объявила ясновидящая. — Он тоже посмотрит, ладно?
В прихожей уже суетились, распределяя тапочки, папа и две мои бабушки (родная и двоюродная): всем было интересно своими глазами увидеть ясновидящую — высокую, светловолосую, с совершенно человеческими кудряшками и вежливым голосом. Не вышла встречать гостей только мама: после больницы она совсем не вставала и грустно шутила на эту тему. Над шутками ее смеялась только я одна, и только я одна из всех, как полная дура, не понимала, к чему идет дело.
За два дня до визита ясновидящей у меня случился день рождения. Мне исполнилось шестнадцать, и двоюродная бабушка испекла торт. Это был самый бессмысленный и неуместный торт в моей жизни, которому вообще никто не обрадовался, и я не помню, ел ли его кто-то, кроме меня. Я-то ела. За пустым столом в кухне, где на клеенке стояла папина чашка с коричневым от чая дном, лежали пакетики с сухими травами, частично распотрошенные коробочки лекарств, бумажки с телефонными номерами. Я уплела один кусок — и со всех ног побежала на улицу навстречу Максу, который нес мне цветы и подарок — книжку комиксов. Я комиксы не очень любила, но Макса, как мне казалось, любила очень, поэтому и комиксам обрадовалась.
Прежде чем разрезать торт, я вставила в него шестнадцать свечей, зажгла и понесла к маме в комнату, чтобы она тоже видела, как я их задуваю. Мне тогда хватило глупости, чтобы порадоваться: мама видит, как классно я загасила все с одного раза, и счастливо улыбается со своей безнадежной постели, на которой, теперь-то я знаю, ей предстояло провести еще ровно пятнадцать дней.
Пятнадцать дней — это не так уж мало! Мы могли бы много чего успеть. Сходить на Тверскую и Старый Арбат, сгонять на самолете в Сочи или Таллинн, объесться мороженым и ее любимыми «белочками», налепить вареников с творогом и пельменей, наварить холодца, напечь кулебяк, устроить два-три застолья с гостями, танцами и песнями, сшить себе по платью и, может, она даже успела бы связать мне на прощанье новый свитер. Но, к сожалению, у мамы ни на что не было сил, и к тому же ни она, ни я ничего не знали про то, что дней остается всего пятнадцать. И все они будут потрачены на борьбу: остаться в живых, вот всё, что было сейчас важно для мамы. Побежать поскорее увидеться с Максом — вот что было важно для меня. Я целовала маму в щеку, приносила всё, о чем она просила, поднимала подушки повыше и до вечера убегала. А когда возвращалась, дней оставалось четырнадцать. А потом тринадцать… Но мне хватало глупости и веры в будущее, чтобы снова и снова убегать, поцеловав маму на прощанье и услышав ее ласковое и, наверное, с каждым днем все более слабое: «Пока, солнышко».
Глаза у мальчика Вани оказались ярко-голубые и как будто чем-то подсвеченные изнутри. Мы с ним совсем недолго пробыли в комнате вместе с мамами, он шепнул что-то своей, и она попросила меня поскорее снять со стены над кроватью плакат с Виктором Цоем и целлулоидные картинки мультстудии «Пилот» со смешными, но действительно страшноватыми персонажами.
— От них черное исходит, очень много, — пояснила ясновидящая.
Я не очень ей поверила, потому что мультипликационные картинки раскрашивал мой любимый Макс, когда подрабатывал в «Пилоте», а Виктор Цой ведь вообще главный романтик, хотя куртка, глаза и волосы у него действительно черные, так что, может, мальчик Ваня не зря насторожился. Я послушно открепила опасные картинки и унесла. Бабушки на кухне запричитали — они, мол, так и знали, что одно зло от этих моих чертей.
Потом ясновидящая попросила нас с Ваней уйти, и мы пошли в соседнюю комнату, куда на время маминой болезни переселили нас с попугаем. (Жить не на своем месте нам с попугаем оставалось чуть больше двух недель, теперь-то я это знаю, а тогда не знала — интересно, знала ли ясновидящая).
Ваня пришёл от попугая в восторг.
— Неужели разговаривает? — спросил он и вытаращил свои нечеловечески-голубые глаза.
Не знаю, как там черное, испускаемое Виктором Цоем, но от мальчика Вани шло что-то настолько светлое и доброе, что я, сидя рядом с ним и демонстрируя нехитрые трюки нашего Чики, впервые за долгое время чувствовала себя дома хорошо и не хотела сбежать.
Наконец выйдя из комнаты, ясновидящая сказала:
— Мы с Ваней подождем, где скажете, а ты, — она обратилась ко мне, — садись и перепиши вот эту молитву. Будешь каждый вечер читать рядом с маминой постелью, убирать черноту.
Я в жизни не читала ни одной молитвы и сейчас с ужасом уставилась на несколько страниц непонятного текста, который мне, во-первых, предстояло переписать (что за бреееед!), а во-вторых, потом читать вслух. Читать изо дня в день! Сколько дней, интересно?!
(Сейчас-то я знаю, что чуть больше двух недель, но тогда не знала).
Папа, заметив мое кислое лицо, похлопал меня по плечу и сам ответил:
— Конечно, конечно, будет читать.
Я вздохнула и пошла искать тетрадку («Возьми новую, чистую!» — крикнула мне вслед мама Вани). Потом я уселась рядом с мамой и стала переписывать, пока бабушки и папа угощали прозорливых гостей чаем.
— Спасибо, — улыбнулась мама. — Представляю, как тебе неохота.
— Да ладно, — буркнула я.
Мама погладила меня по руке, но об этом я не хочу вспоминать, потому что у нее тыльные стороны ладоней были все в синяках от капельницы и сильно болели, кто-то посоветовал собачью шерсть, и мама прикладывала серые кусачие варежки, которые никогда не любила и не носила, и варежки вроде бы даже немного помогали, но я не знаю, куда они потом делись, и так мне их жаль, так жаль…
— Готово, — крикнула я минут через двадцать, тряся рукой, которая разболелась от долгой писанины.
— Очень хорошо, — похвалила ясновидящая и стала объяснять, что дальше.
Читать полагалось с какой угодно громкостью, можно даже шепотом, главное — чтобы рядом в это время горела свеча.
— Вот попробуй, начни при мне, — попросила Ванина мама. — Увидишь, что будет.
Мне ужасно не хотелось. Какая глупость — при незнакомых людях произносить эту белиберду и делать вид, что я не вижу в этом ничего странного. Рассмеяться или рассердиться, закричать и убежать к Максу или просто куда глаза глядят мне не позволяло воспитание.
— Ладно. — Глубоко вздохнув, я опустилась на пол рядом с маминой постелью, зажгла свечу на тумбочке перед зеркалом и начала. Мама, кажется, спала, или просто ей было больно, и она устала и лежала с закрытыми глазами.
В переписанной чуши я понимала только предлоги и отдельные слова, которые ни во что не складывались, но ясновидящая сказала, что это нестрашно, главное — читать.
И я читала.
На второй или третьей фразе пламя свечи начало жутко трещать, дымить и мигать, как будто в него попали и сгорают заживо хрустящие мошки. Голос у меня задрожал, я хотела было остановиться, покосилась на ясновидящую, но она рукой велела мне продолжать, и я с грехом пополам дочитала до конца — под сухой треск свечи.
Каждый из оставшихся вечеров я усаживалась на пол и читала — и всякий раз огонь свечи трещал и моргал в такт непонятным словам. Пока я проводила этот странный магический ритуал, мой папа, инженер и главный технолог крупного пищевого предприятия, разводил на кухне в особых дозах ядовитые травки, за которыми днями и ночами охотился по всей Москве (например, болиголов, засушенный правильным способом, можно было найти только у одной старушки во всем городе) и поил маму каплями настоящей отравы, которая, будь доза побольше, ее бы сразу убила, а так должна была, наоборот, вылечить.
Когда мои молитвы и папино ядовитое зелье проиграли битву, я долго сидела одна в комнате с попугаем и смотрела в стену. Потом пошла на кухню и увидела, что бабушки не плачут, но двигаются как-то бессмысленно, как будто заблудились в лесу, и суетливо решают, какой из темных платков кто из них наденет на похороны, а папа стоит у открытой балконной двери в моей любимой красно-синей рубашке в клеточку, выпускает дым и много-много раз повторяет вслух:
— Нескольких дней не хватило. Должно было помочь. Должно было. Просто по схеме не успели пропить. Еще бы несколько дней.
Но дни закончились. От моего дня рождения их оставалось ровно пятнадцать, как ни старайся.
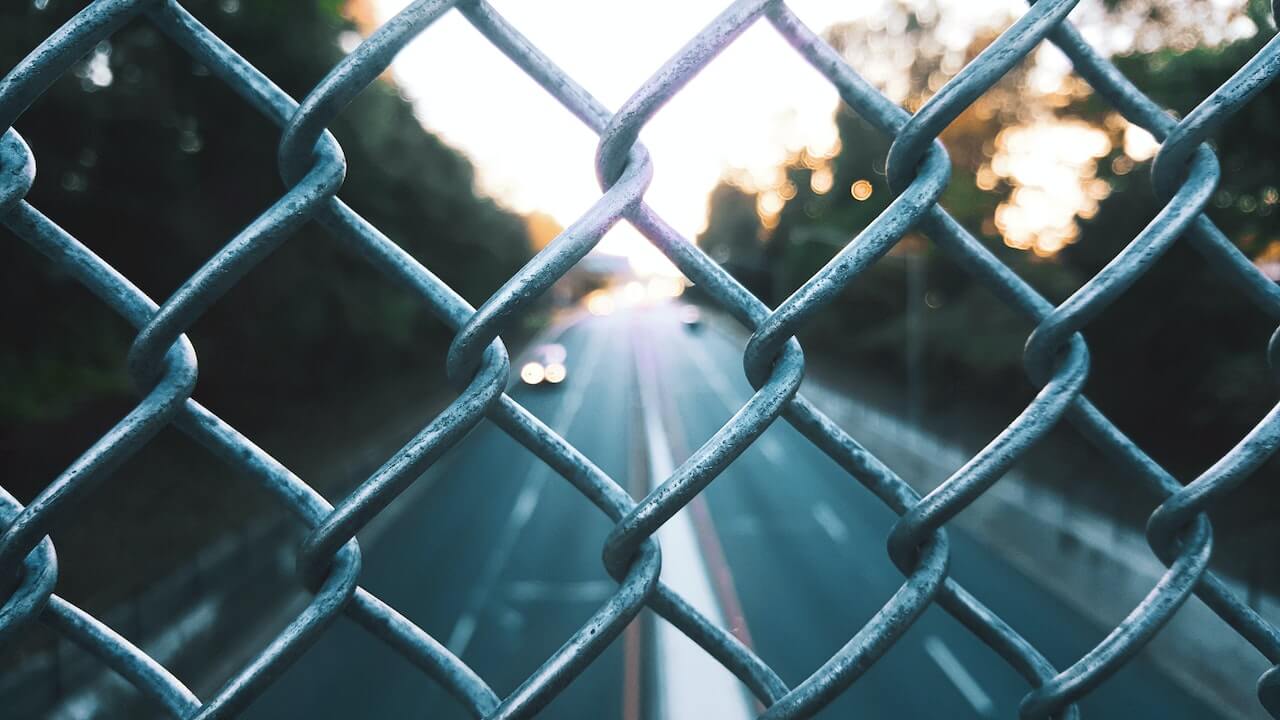
8 лет
30 декабря 2013 года я стояла над Днепром и смотрела на густой туман, который окутал реку. Казалось, что это дым от костров доплыл сюда из центра города, чтобы скрыть от моих глаз красоты города и природы вокруг, запутать, увести внимание. Только Родина-мать пыталась показать себя, высоко над головой подняв меч, но и от неё остался лишь силуэт.
Я приехала в Киев на ночном поезде из Москвы, буквально за день до отправления успев купить билет на сидячее место. Сложно было себе объяснить, что меня сюда привело. Через три дня я улетала в глухую непальскую деревню на волонтёрский проект, организовав себе к окончанию университета нетипичный для России того времени gap year. Украина на моём маршруте не значилась вовсе, но меня тянуло сюда словно магнитом, особенно в этот раз, когда я надолго улетала на другой конец мира. Сейчас, в 2022-м, когда я нашла себя в абьюзивных отношениях с российским государством, я даже не могу уверенно сказать, в чём было дело — в моём интересе к одному украинскому хлопцу, с которым у нас была долгая полудружба, не закончившаяся ничем, или в моей любви к Украине целиком.
Романтический интерес, одетый в жуткий лапсердак, встретил меня на вокзале, и мы отправились гулять по городу. Все свои вещи я оставила в камере хранения. Больше всего мне не хватало шапки — температура была хоть и выше нуля, но погода была промозглой, и я сразу же продрогла до костей. Когда я вспоминаю ту новогоднюю промозглую неделю своей жизни, в голове играет песня Океана Эльзы:
Холодно…
Якби не було,
Як не болiла б
Твоя любов.
З ким не вела вiйну,
В тобi я втоплю свою весну.
К тому моменту евромайдан длился уже почти месяц. Центр города был весь в баррикадах — я с беспокойством смотрела на самодельные противотанковые ежи, покрышки, брёвна, скамейки. Прежде мне не доводилось видеть такой организованный хаос. Особенно было странно смотреть на город после последнего приезда сюда в июне 2012-го года, в разгар Кубка Европы по футболу. Контраст с зелёным умытым городом был слишком разительным — волнения были в самом разгаре, протестующие надолго обосновались в палатках на Крещатике, а зайдя за любой угол, легко можно было наткнуться на угрожающих «беркутовцев», которые будто бы даже не передвигались по своей воле, а были выстроены в ряд, как фигурки лего. Смерть ходила где-то рядом, погибло уже несколько человек из «Небесной сотни», но чувства страха в то же время не было — более того, ощущение свободы распирало изнутри и будто бы передавалось между людьми по воздуху.
Мы ходили по дымному центру города, не останавливаясь, будто нас что-то гнало вперёд. У нас не было цели куда-то добраться и что-то определённое увидеть. Как обрывочно мы кружили по Шевченковскому району, такими лоскутами я и вспоминаю мелкие детали: скрытое в дыму уличное пианино, на котором играли случайные прохожие, Киево-Печерская лавра, до которой мы дошли, но, оказавшись у входа, передумали заходить внутрь, модные рестораны, которые продолжали принимать гостей. Жизнь везде кипела очень бурно, я всё воспринимала через огромную волну адреналина. Сегодня мне даже не удаётся вспомнить, почему мы решили ночевать в здании Киевской администрации, которое ещё в начале декабря захватили протестующие и организовали внутри ночлег. Конечно, идея не могла быть моей — единственной моей опцией был хостел, но сопротивляться я не стала — дух приключений всё так же гнал вперёд, не давая задумываться. Мы уютно обосновались под выданными нам колючими шерстяными одеялами, над нами очень высоко раскинулся потолок. Мир колотился за окнами, завтрашний день будто не существовал, да и сегодняшний будто бы немного подтёрли ластиком. Забавно — на украинском слово безопасно будет безпечно. Я чувствовала себя беспечно.
Спали мы беспокойно, но не от страха, а от бесконечного количества звуков со всех сторон. Мне казалось, что я и не спала вовсе, настолько обострены были все мои чувства. Так незаметно для себя заснуть только в детстве, когда кажется, что ты бодрствуешь, как вдруг дёрнешься всем телом и ощутишь своё пробуждение. Так случилось у меня тогда — только я лежала, ощущая тепло его тела рядом, сжимая его руку, чтобы не потерять в ночи, как наступило утро, и нужно было собираться и уходить.
За завтраком он буднично сказал, что хочет вернуться в родной город и встретить Новый год там. Кажется, мы оба были перегружены всем происходившим вокруг, поэтому общались будто сквозь толщу воды — и слова, и жесты приходили с задержкой. Поэтому мы очень мирно договорились, что я остаюсь в Киеве и дожидаюсь вылета своего самолёта, а он едет домой. На вокзале он так же буднично признался мне в любви, поцеловал и уехал. Сейчас я думаю, что бы я сделала, если бы знала, что это будет нашей последней встречей? Наверное, вздохнула бы с облегчением — мне было сложно переживать так много всякий раз, когда была рядом с ним. Но как бы я поступила, зная про 2022-й?
А тогда у меня даже не получилось всерьёз обидеться на него, хоть он и бросил меня вот так. Киев не казался мне чужим, и я почувствовала даже какое-то облегчение, очутившись с городом наедине. Я шла по улицам и чувствовала, как вся энергия людей проходит сквозь меня. Я подошла погреться к огню, перебросившись парой слов с молоденьким пареньком, назвавшимся Богданом. «Поцелуемся?» — широко улыбнулся он. Я отказалась, тоже улыбнувшись в ответ.
Новый год я чуть не проспала — добравшись наконец до душа в найденном впопыхах хостеле и отогревшись впервые за пару дней, я нестерпимо захотела спать. Но всё же меня что-то разбудило за полчаса до полуночи, я быстро собралась и пошла в сторону Площади Независимости, где сотни тысяч людей встречали Новый год. Я медленно шла к эпицентру, внезапно столкнувшись с компанией львовцев, с которыми я познакомилась в хостеле. Так они и стали людьми, с которыми я встретила 2014 год, а не с человеком, который признался в любви несколько часов назад. Мы хором пели песни, танцевали, двигались в унисон. Ни до, ни после я никогда не почувствую себя настолько своей на родине, и воспоминания о пережитом счастье будут ещё больше подчёркивать мою горечь, когда Россия станет причинять всё больше боли всему, что я люблю.
Следующей ночью я улетела в Непал. Тогда, сидя в глухой деревне посреди Гималайских гор, я урывками получала новости об аннексии Крыма, с тревогой ожидая объявления войны. С русскими ребятами в лагере мы всё думали, как мы поступим, если объявят мобилизацию, но волнение вокруг потихоньку будто бы затихало. Мы не могли даже предположить, какую цену и когда нам придётся заплатить. А тогда я вернулась в новую для себя Россию, где будет проникать всё дальше липкость несвободы, которую я узнаю и ненавижу, но упрямство так и не даст мне покинуть страну.
Я начала писать этот текст в мае. Промучившись над первыми строками, я поняла, что мне важно написать другу, герою текста наряду с Киевом. Хоть мы и не виделись с ним с тех пор, по моей инициативе прервав общение, раз в пару лет кто-то из нас объявлялся в сети и задавал вопросы за жизнь. Он интересовался, не загребли ли меня, когда политический режим закручивал очередную гайку. А я не могла не писать, когда в очередном сне раз за разом пыталась добежать по Потёмкинской лестнице до Чёрного моря.
Написала я и в этот раз. «Уезжай», — написал он мне. «Посмотри ролики о том, как разорвать порочный круг абьюзивных отношений — со страной те же механизмы работают, мне кажется», «Не разводи достоевщину — зачем так страдать?», «Ты же знаешь, что из-за рубежа ты больше поможешь, чем оттуда?», «Ты же помнишь, что достойна лучшего?»
Я понимала. Но написала ему я не за этим. Мне нужно было поговорить с человеком, который стал свидетелем того, как я впервые в жизни почувствовала разницу между свободой и её отсутствием. И одновременно его же я и назначила виновником за ту боль, которую я испытываю сейчас. Не дыши я тогда тем дымно-туманным воздухом, мне было бы комфортнее быть приколоченной к земле, как моим предкам — сначала крепостным, затем раскулаченным, запуганным властью, покорно терявшим раз за разом всё накопленное. Возможно, мне не было бы так больно сейчас, когда русский мир уничтожает не только Украину, но мою свободу, которую я так и не успела по-настоящему обрести.
Слишком жестоко навешивать такие роли на человека, который воюет сейчас за свою страну. «Я понимаю», — написала поэтому я. «Но я всё равно остаюсь». «Обещаю, что не буду слишком страдать».

Неудобные люди
— Положи! Положи на место! У нас дома и конфеты, и печенье — все есть! — разжимает побелевшие от усилия детские пальчики молодая мама на кассе в продуктовом. Горластик лет трех визжит, вырывается из маминых рук. В кулачке разноцветный фантик. Зрители в очереди замерли в ожидании. Чья возьмет?
Мама — пряди волос выбились из небрежного хвоста, серое лицо заливается краской, — не поднимает глаз от малыша. Отнимает у сына добычу, выносит его из магазина. Корзина с покупками так и остается на кассе. В этом родео нет победителей.
Женщина с маленьким ребенком стоит в одном строю с инвалидами и пенсионерами — никакой экономической пользы, одни неудобства. Дети кричат и своевольничают в магазинах, кафе, больницах.
Мамы тоже хороши! Выглядят как алкаши в понедельник. На работе не знают совести с бесконечными больничными. И друзья они так себе: разговоры только о памперсах да кишечных инфекциях. Никаких тебе поздних посиделок и спонтанных отпусков, в гости не заглянешь — ребенок спит. Лучше пусть дома сидят и не отсвечивают своими солнышками. Так всем спокойней. Мамы, как волосы, радуют только на голове (дома), а если в супе или раковине, то лучше не надо.
Одно кормление грудью чего стоит. Время от времени в сети появляются статьи о том, как маму «задержали» в кафе при попытке кормления малыша грудью и удалили из заведения. При этом никому в голову не пришло предложить альтернативу публичной трапезе маленького человека (в виде уединенного места, например). Зато из каждой форточки кричат, как полезно грудное молоко, и до шести месяцев ребенку ничего другого ни-ни.
Помню, как сгорала от стыда в самолете, когда, не сумев успокоить полуторогодовалого сына, предложила ему грудь. Отвернувшись к окну, кормила парня под душным платком и глотала обидные слезы от шепотков и косых взглядов.
— Ощущение такое, будто я шесть лет срока отмотала, — смеется подруга Рая (ее история практически идентична историям многих моих приятельниц). Год назад она разогнала детей по садам и школам и пошла на работу «отдыхать». Рая — талантливый преподаватель. После декретов ушла из школы, стала репетитором.
— Выходные? Я ими наелась. Лучше буду красивая в ZOOM сидеть и у доски стоять. Там за это платят, ценят меня! А в эту горшочную преисподнюю больше ни ногой.
Думаю, первые воспоминания ее детей о маме не будут сплошь карамельными: трико с вытянутыми коленями, потрескавшиеся от бесконечных готовок/ уборок пальцы, стеклянный взгляд. Слезы через день. Не без причины: из бюджета только макароны. Муж сутками на работе. Трудоголик, да и дети его, честно сказать, напрягали. А еще не понимал, что делать с мокрющими глазами жены. Так и плесень в семье завестись может.
Жена на хозяйстве — штука удобная. Мужьям вряд ли придет в голову что-то менять, тем более, когда их поддерживают женщины.
Мама Раи (тощей цейтнотницы с синяками под глазами) изо всех сил восхищается зятем и советует дочери беречь его и давать побольше отдыхать. Подобные рекомендации я слышала от мам многих знакомых. Да что далеко ходить, моя мама рекламирует мне моего же мужа, будто ей за это премию к зарплате начисляют. Бабушка вообще смотрит на него, как на единорога с цветком папоротника в зубах:
— Не пьет, не курит, по морде не бьет! Деньги домой носит. И детей купает. Че те еще надо?
И я теряюсь на пару дней, почти верю, что не хочу полчаса тишины или выйти из дома впервые за неделю и поговорить с людьми, которые не ходят под себя и не полощут руки в моей тарелке.
Любопытен мужской взгляд на «женское предназначение» и разделение домашних обязанностей. Мужья подруг признаются, что до декрета «бытовухи» всем доставалось поровну, а потом жена перестала работать, и большинство домашних дел легло на ее плечи. Про послеродовую депрессию и прочие бонусы, которые женщина получает в роддоме в комплекте с малышом, вообще мало кто слышал. Отсюда ступор от резких перепадов настроения, отсутствия трудового энтузиазма и странностей вчерашней роженицы.
Папы работают и считают, этого достаточно. А если выйдут во двор с ребенком, то нимб над их головами появляется сам собой. Восхищенные и завистливые взгляды мам и других детей обжигают спины героев. Мужчина навсегда становится «крутым папой из второго подъезда». При этом работающая женщина с чистой квартирой и ужином на плите, которая каждый день торчит на игровой площадке, ни у кого трепета не вызывает.
Подруга Марина благоговела при виде моего мужа в парке со старшим сыном:
— Я все думала, какой уникальный папа. Еще своего пилила, что он с малой никуда не ходит. Я же не знала, что ты в это время с токсикозом валяешься.
Женщина — красивая, здоровая, успешная — пытается бежать дистанцию наравне с мужчиной. Ее дорожка, в отличие от трека сильного пола, изначально с барьерами. С рождением ребенка здоровья и сил резко убавляется, тренерский состав (коллеги, начальство) и фанатский клуб (друзья, часто семья) устраняются, а дистанция превращается в стайерскую. Но скорость-то нужно поддерживать спринтерскую, если хочешь, чтобы в тебе видели ценность. Или сойди с дистанции.
Женщины участвуют в патриархальной эстафете и передают ее правила из поколения в поколение. Несогласных принято считать феминистками, и если не жечь на костре, то тыкать горячей головешкой, чтобы порядочных людей с толку не сбивали.
Девочкам с детства важно всем нравиться. Психологи объясняют это тем, что у девочек раньше, чем у мальчиков, созревают мозговые центры, отвечающие за навыки общения. Малютки стараются угодить взрослым, чтобы формировать новые эмоциональные связи и контакты. А тут еще постоянное: «ну ты же девочка» и длинный перечень требований. Так с благословения природы, девчачьи ножки уже на выходе из песочницы подгибаются от кирпичей общественных ожиданий. С годами эти кирпичи проваливаются внутрь, в самое нутро девочки-девушки, и вот, уже женщиной, она не может и чай заварить без одобрения окружающих.
Девочек учат заботиться о семье, муже, детях, а о себе — нет. Не зря же «жертвенность» и «женщина» начинаются на одну букву. Прекрасный пол надрессирован ничего себе не позволять и самоедствовать.
— Хочу жрать тайком сладости и не делиться с детьми. Нормальная мать все для детей, а я кукуху свою берегу, — читаю сообщение от Раи.
Для нее сделать что-то для себя — преступление. Даже конфета, не поделенная на четыре части, не лезет в горло. Вот это убежденность! Почти религия. Неудивительно, что на просторах интернета и в физическом мире, как грибы, растут секты «Подгузника и поварешки». В одних учат нравиться мужчинам (читай: причесываться, одеваться и не перечить), в других — будят внутреннюю богиню, в третьих — все разрешают. Ведь декретницы готовы платить деньги, чтобы им разрешили… Оставить ребенка мужу, вызвать няню, сходить на прогулку, расправить плечи, сварить пельмени на ужин, не помыть сегодня пол. А иногда там просто говорят мамам, что они молодцы. Что-то типа «Фронта освобождения от самоедства» — помогают слезть с себя и не обесценивать домашний труд, не испытывать чувство вины перед каждой грязной тарелкой и нестиранным носком.
Материнство — самая тяжелая работа на свете. Женщина не ребенка рожает, а себя новую. При этом благодарность детей никто не гарантирует, а вот обиды будут.
Как-то раз я спросила своего психолога:
— Оля, с чем к тебе обращаются чаще: с обидой на маму или папу?
Ответ был ожидаемым, неожиданностью стала статистика: 9 из 10 запросов — претензии к маме. Получается, что круглосуточная вахта в детской не делает счастливыми ни мам, ни детей. А малыши копируют взрослых. Если у родителя улыбка перевернута вверх ногами, ребенку сложно вырасти счастливым — счастье срисовать не с кого.
А что, если мамы будут рвать не известное место, а удобные стереотипы? Ну, скажем, оставят малышей папам/бабушкам/няням и пойдут гулять с подружкой, пить кофе в кофейне на углу. Или возьмут и, как в Норвегии, отправят в декрет папу (сначала перекрестясь, конечно, чтобы не совсем богохульно). Небо не рухнет на землю, и солнце утром взойдет, как обычно. А со временем, может, в общественных местах поставят кабинки для кормления младенцев. Кое-где они уже есть.
А пока патриархальное общество и сами женщины медленно разворачиваются к мамам лицом, я, как когда-то Мартин Лютер Кинг, помечтаю за «свой народ»:
«— Положи, пожалуйста, на место. У нас дома полно сладостей, — улыбается спокойная мама малышу, который стащил у кассы какую-то жвачку. Мальчик упрямится, кричит. Случайный парень из очереди вызывается сложить для мамы покупки в пакет и поставить в тележку. Мама рассчитывается и возвращается к своему упрямцу, им предстоит воспитательная беседа, в которую никто не будет лезть (глаза закатывать и фыркать тоже никто не будет). Потом их встретит папа и донесет тяжелые пакеты до машины, а вечером отпустит маму погулять. Она вернется довольная и отдохнувшая, принесет мороженое, которым все перемажутся под веселый хохот сына. Мальчик навсегда запомнит этот вечер и веселую маму с мороженым на носу. Потом вырастет, станет заботливым отцом, понимающим мужем, и ему не придется “прорабатывать обиду на мать”».

Океан в зрительном зале
На солнечной поверхности спокойного моря внезапно появляется огромный черный плавник. К нему присоединяются несколько других, подобных ему — некоторые поменьше, другие похожи на башню подводной лодки высотой в два метра. Они принадлежат крупным черно-белым зубатым китам, которых из-за формы плавника, похожего на косу, и называют косатками. Впереди стаи плывет одна из самых старших ее представительниц, которая имеет неоспоримый авторитет в стае. Ослушаться ее не может никто из семьи. Направления, которые она выбирает, не обсуждаются — все плывут туда, где, по ее мнению, будет более вольготно, сытно и можно будет отдохнуть, поиграть, увидеть что-то новое.
Она уже бабушка, ей около 60 лет. Нигде больше в животном мире, кроме как у слонов, некоторых дельфинов и, несомненно, нас, людей, нет такого «института бабушек», когда старшие самки перестают воспроизводить себе подобных и продолжают жить, передавая опыт потомству своих детей. Что интересно, взрослые самцы остаются на вторых ролях и всю жизнь испытывают трогательную привязанность к своим матерям.
В поисках добычи косатки проплывают десятки, а то и сотни километров в день. По наблюдениям, за сезон они могут переплыть океан от края до края. Эти «тигры океана» находятся в конце пищевой цепи и никогда не сталкивались с врагами. До недавнего времени, когда неким сухопутным созданиям с огромным мозгом не показалось, что будет забавно видеть, как гигантский зубатый кит прыгает в ближайшем бассейне и послушно выбирается на бортик, хлопая по его поверхности грудными плавниками.
Чтобы заполучить столь эффектного артиста, нужно сначала его поймать на просторах океана. Окружить стаю сетями и с помощью лодок отбить от семьи самых маленьких китовых детей-годовичков или подростков. Взрослый кит в океанариуме уже не нужен, дрессировке он не поддается, а навредить тренерам, защищая свою свободу, может. Но какая же мать отдаст своего детеныша этим чужим существам на лодках? Родители, бабушки, старшие братья и сестры яростно защищают своих малышей. Если отец начинает толкать носом лодку загонщиков, то он может и пулю получить, чтобы устранить, как досадную помеху. И он больше никогда никого не защитит.
После отлова оставшаяся на свободе семья годами переживает ужасную потерю своих сородичей, находясь в подавленном состоянии. В итоге стая может даже распасться, так и не пережив психологической травмы.
Отловленных детенышей же надо подготовить к работе в океанариуме. Их держат в своеобразных загонах в морских бухтах, где учат слушаться людей, а главное — питаться чуждой им мертвой рыбой. Надо сказать, что косатки из рыбоядных популяций по каким-то причинам не подходят для дрессировки. Поэтому вылавливают исключительно косаток, питающихся теплокровными млекопитающими.
Примером того, как обращаются отловщики с пойманными косатками, может быть нашумевший случай с так называемой «китовой тюрьмой». Летом 2018 года поставщики живого товара в океанариумы Китая отловили около ста белух и двенадцать косаток. Их поместили в блок выгороженных вольеров в бухте Средняя Приморского края. Внимание зоозащитников не позволило дельцам продать всех выловленных животных в Китай, как планировалось ранее. Но и выпустить их обратно в океан не давала надежда получить сотни миллионов долларов выручки. Шутка ли, одна косатка стоит порядка десяти миллионов долларов. Новых «артистов» очень ждут более сорока китайских океанариумов, построенных за последнее время. А Россия — единственная страна в мире, где морских животных продолжают ловить в «просветительских целях».
Узники «китовой тюрьмы», пройдя через холодные зимние месяцы, когда бухта покрывается ледяной коркой, томились без движения в ней больше года, питаясь непривычной для них мертвой рыбой. За это время самый маленький и слабый детеныш косатки, которому уже дали имя Кирилл, и три белушонка исчезли. На запрос зоозащитников об их судьбе отловщики дали ответ, что те сбежали на свободу. Неизвестно, сколько костей таких «освободившихся» детенышей косаток, белух и моржей покоится на дне бухты Средняя.
К счастью, под давлением международных природоохранных организаций китовую тюрьму пришлось закрыть, а всех находящихся в заключении китов и белух выпустить на свободу, где они благополучно освоились и продолжили жить со своими вольными сородичами. Перед выпуском ученые прикрепили к ним спутниковые передатчики и отследили их передвижение. Многие из бывших пленников замечены в больших стаях косаток, к которым они примкнули после выпуска. По наблюдениям они хорошо выглядят и вполне успешно освоились в компании с новыми родственниками, а возможно и нашли свою семью.
Но не всем животным так повезло, и они оказались на долгие годы в заточении, развлекая зрителей — прыгая через кольца или катая тренеров на спинах. Если косатка не слушается дрессировщика, то к ней применяются изощренные методы психологического давления. Например, я однажды видела, как в Лоро-парке переставшего выполнять команды самца косатки загнали в отдельный крохотный бассейн, где он только и мог, что обреченно висеть на поверхности воды без возможности повернуться. Для такого социального животного, как косатка, подобная изоляция — страшное наказание. И тогда в отчаянии он начал биться головой о борт бассейна.
Надо ли говорить, что на следующем шоу он беспрекословно выполнял команды тренера — выпрыгивал на сцену, катал дрессировщиков на спине и кружился под музыку по первому требованию. Такие представления в Лоро-парке проводились по три за день. И каждый раз косаткам и дельфинам необходимо было работать до изнеможения, выполнять приказы и получать наказание в случае ослушания. Естественно, что такое обращение не способствует увеличению срока их жизни в неволе.
В дикой природе косатки доживают до 90 лет. В океанариумах продолжительность их жизни обычно не превышает 20–25 лет. В хлорированном бассейне страдают их внутренние органы, хозяевам приходится пичкать животных лекарствами — антибиотиками и обезболивающими для того, чтобы продлить им жизнь в этих условиях. Но все равно организм не выдерживает подобных условий содержания, и кит погибает. Многие океанариумы подменяют умершее животное другим и продолжают выдавать его под тем же именем за погибшего.
Если же несчастному пленнику удается продержаться дольше этого срока, то участь этого умного, эмоционального и общительного существа совершенно не завидна. В океанариуме Майами живет самая одинокая косатка в мире — Лолита. Ей уже 52 года, из которых последние 32 она провела в одиночестве. Все ее компаньоны давно умерли от болезней и стресса. У Лолиты проблемы с глазами из-за слепящего солнца, от которого ей некуда скрыться в открытом тесном бассейне, у нее нарушены функции почек и печени от лекарств, которыми ее пичкали всю жизнь. Психологическое состояние ее не лучше — она подавлена, раздражительна и беспокойна. Зоозащитники писали петиции и подавали в суд на океанариум из-за невыносимых условий содержания животного, но владельцы нашли способы обойти эти претензии, скрывая реальное состояние здоровья Лолиты.
Способность косаток и дельфинов к эхолокации превращает их нахождение в замкнутом бетонном пространстве в пытку из-за многократного отражения звуковых волн от стенок бассейна. Эти морские животные в буквальном смысле начинают сходить с ума от стресса, безысходности и тоски. И несомненно, в таком состоянии огромный зверь становится опасен для человека. В 2010 году в одном из океанариумов США самец косатки по кличке Тиликум во время представления убил дрессировщицу. Свидетели отмечали, что незадолго до этого события кит был раздражен и вел себя агрессивно, из-за чего часто оказывался в изоляции. В итоге он просто утянул женщину под воду и с силой начал трясти, пока она не погибла от полученных травм. Видимо, эта агрессия была вызвана нарушением его естественного поведения из-за подобного жестокого обращения. Обычно в дикой природе косатки не рассматривают людей как предмет охоты или игры. Да и общаться с нами они тоже не стремятся.
Невозможно повторить условия жизни косаток в океане, с его просторами, течениями и обилием добычи, даже в самом большом океанариуме — с замкнутым пространством, мучительными способами принуждения и бесконечными шоу, сопровождаемых криками и аплодисментами зрителей.
Несмотря на информацию о неподходящем содержании морских млекопитающих в неволе, огласку самых громких случаев жестокого обращения с ними, количество зрителей в океанариумах не уменьшается, а многие ходят туда не один раз. Возможно, дело в неразвитой эмпатии к разумным существам другого вида, столь непохожим на нас.
Но есть же примеры, когда люди бросают все силы, время и средства на то, чтобы вызволить косаток, попавших в трудную ситуацию, например, в ледовый плен или на мелководье. Тогда зрители с волнением следят за новостями об оказании им помощи. Так почему эти же зрители остаются черствы по отношению к тем животным, которые вынуждены день за днем ютиться в тесном бассейне с хлорированной водой вместо того, чтобы рассекать поверхность океана на свободе?
Настоящее счастье наблюдать дикое вольное животное в естественных условиях. Но чтобы попасть в места их проживания, нужно потратить достаточно много денег, сил и времени, что большинству людей недоступно. Поэтому они приходят в океанариум увидеть с трибун зрительного зала кусочек океана и показать ребенку живого кита.
Без понимания того, что стоит за индустрией развлечений с морскими животными, зрители продолжат ходить на представления с косатками и дельфинами и строить океанариумы из-за спроса на подобные шоу. Тогда как во многих странах они закрываются, как негуманные по отношению к разумным существам, обладающим огромным интеллектом, развитой социальной структурой и признанных законом «нечеловеческими личностями». Животных же отправляют на реабилитацию. Никакие зрелища и развлечения не стоят свободы и жизни живого существа.
Видимо, надо менять отношение к нашим соседям по планете. Они имеют такое же право свободно жить на ней, а мы это право обязаны уважать.

Рот подковкой
Антон ушел в конце марта. Аневризма. Мы и слова такого не знали, как, видимо, и невропатолог. Сосудорасширяющие препараты сделали своё дело, и Антоши не стало.
Вокруг шумели «судить, сажать…», а я сидела на полу в спальне, обхватив себя руками, и молча раскачивалась из стороны в сторону. Дверь постоянно открывалась, кто-то заглядывал в комнату, но, не найдя слов, молча прикрывал ее.
Первое время муж очень поддерживал. Я на какое-то время стала странненькой. Взялась читать псалмы, метаться в поисках скульптора, который смог бы изваять точную копию сына, приставала к Лехе-кузнецу, чтоб помог с почтовым ящичком, куда я могла бы бросать Антоше записочки в могилку, — главное, чтоб не намокли, — и положить мобильный телефон, чтобы он знал: мама всегда рядом. Сергей ни разу не попытался отговорить. Да и бесполезно было искать разум в том, что могло только дышать, ни мыслить, ни чувствовать я тогда не умела.
Через год муж аккуратно завел разговор об усыновлении. Я этого не хотела, но понимала, мужу ребенок нужен. А может быть, в нем и спасение?
В представлении многих, сложившемся на основании добрых советских фильмов, контакт между приемными родителями и ребенком возникает, как любовь с первого взгляда. Отнюдь… Ситуация в опеке сложная и очень мутная. Приемные родители ждут своей очереди, и тут кому как повезет со временем ожидания. Активные могут посетить областную базу данных — печальное зрелище. На область попадают те, кого не взяли по месту рождения. Бесконечная череда больных детей с явными отпечатками родительского алкоголизма во всем облике смотрят с фотографий в альбомах. В базе можно выбрать одного ребенка, на встречу с которым и выпишут пропуск. Других детей увидеть нельзя. Поэтому опасения, что нас обступит толпа детишек с мольбой в глазах, хватающих за юбку с криком «мама!», были напрасны.
Нашлись знакомые, у которых есть каналы, где за определенную сумму могли подобрать и пол, и цвет глаз, и родителей с кандидатской степенью. Однако, сама мысль о «покупке» ребенка была нам с Сергеем отвратительна.
Мы поехали знакомиться с тем, которого предложила опека. Никакого выбора сердцем это не предполагало.
Малышка не приняла меня. Кучерявая щекастая девочка, рот подковкой, совершенно четко почувствовала, что я ее не люблю. Я не могла. Прошло всего полтора года со смерти сына, и, ушедший для всех, он до сих пор жив для меня. Я плохо представляла, как возьму ребенка на руки не просто как тетя, а как мать. Тошнота подкатывала к горлу, когда я мысленно обустраивала комнату сына под новую хозяйку. Моего состояния она не могла не почувствовать, она поняла его и хмуро отвернулась.
К мужу дочь пошла с радостью, по-обезьяньи обхватив его ручками-ножками и, уютно уложив черные кудри на его плече, тихо шелестела, вторя ему: «Масииинка, доооздик…». Я им не мешала. Да и не могла. По лицу бегали холодные противные мурашки, у меня был был был ребенок, и другого я не хотела, не могла тогда хотеть.
Пройдя сложный путь по базам данных, домам ребенка, умом я понимала, что, если брать, то брать надо ее. Полтора года ребёнком никто не занимался, а она не только чудом осталась живой, но ловила любую информацию на лету, самостоятельно ела и имела свою точку зрения и характер. Она, никому до сих пор ненужная, цеплялась за эту жизнь как виноградная лоза, ползущая по совершенно гладкой стене.
Через неделю мы везли нашего ребенка домой. Конечно, хотелось как можно быстрее снять с нее нищенские одежки и переодеть во что-то красивое, свое. Мы, наверное, странно смотрелись в магазине, когда вжавшийся в папу ребенок не давал ничего на себя примерить, а родители попросту не знали его размера.
Когда же дома девочка самостоятельно, позволяя лишь ненавязчиво помогать ей, надела на себя все это богатство и подошла к зеркалу, мне впервые пришла в голову мысль: «моя! Женщина!» Дочь обхватила себя ручонками и долго не давала нам снимать с нее так понравившуюся ей одежду, упрямо повторяя: «Мой!»
Так в сорок семь я ушла в декрет, и жизнь наша с дочкой потекла в обычном режиме наличия маленького ребенка в доме. Я делала все, как надо, но душа была пуста. Мы ходили в две школы раннего развития и в бассейн, как я понимаю, для того чтобы я могла быть на людях и заниматься с ребенком при помощи других. Своего рода избегание личного контакта.
На эту борьбу души и здравого смысла наложились бесконечные папины командировки, ночные звонки и эсэмэски, случайно оставленные закладки порносайтов на компьютере, упаковка от презерватива в нагрудном кармане рубашки… Папа был с нами весьма условно, своего рода праздником, который попросту не может быть вечным.
Через два месяца попытки примирить себя с мыслью о мужской полигамии, я порезала его любимые рубашки, сложила все в мусорные мешки и закрыла за ним дверь. «Папа усел?» — тихо спросила заспанная дочь. Через месяц ей исполнилось два.
В момент аффекта мы слепы, глухи и бездушны. Оставшись одна, еще не пережив горе расставания с сыном, еще не успев полюбить эту судьбой обиженную девочку, я кричала сестре: «Заберите ее у меня, я не хочу…» Я жить не хотела, о каком ребенке могла идти речь, когда у женщины вообще не осталось никаких ресурсов, кроме чувства долга?
Помню то утро. Антошкина комната, в интерьер которой вписали детскую кроватку. Дочь на горшке, я — напротив. Плачу, не могу не плакать, беззвучно, одними глазами и душой. Комната сына еще живет его жизнью и как будто нехотя пускает в свои объятья кудрявую чужую девочку. А впереди у меня опять день, полный забот, которые преодолеваются с трудом, нежеланием, просто потому что надо.
Я не заметила, как моя кроха следит за мной, а она вдруг по-взрослому попросила: «Мама, не надо…» Я впервые посмотрела ей в глаза и осознала, что дочь все чувствует и ей больно, ведь у нее никого в этом мире нет, кроме меня. Никого. И у меня только она. Вот этот момент перевернул все. Девочка моя, солнышко, у тебя будет самая лучшая мама, самый теплый дом, ты — моя жизнь.
Моя дочь стала точкой возрождения, точкой опоры, смыслом жизни, счастьем каждого дня.
Я неправильная мама. Я живу по принципу любви много не бывает. Где-то балую, наверное. Но и сейчас, в тринадцать, она бежит навстречу и утыкается в меня, зная, что здесь дом, здесь тихая гавань, здесь безоглядная любовь и душевное откровение.
Меньше всего я задумываюсь о генах. Кто из нас может похвастаться тем, что знает свои корни глубже бабушек, прабабушек, в лучшем случае? Я не могу. Кое-что знаю о прародителях по маминой линии, очень скупо, явно не все. Мы никогда не знаем, что может проявиться в родном ребенке. Возможно, дочь не будет Софьей Ковалевской, скорее всего, но она растет добрым, творческим человеком. Прекрасно танцует, рисует, плавает, жалеет бездомных животных, любит готовить, не любит зоопарки, как символ несчастья зверей, она преданная подруга, защитник всех незаслуженно обиженных и просто надежный человек.
Гены? У нас широкая щиколотка, не моя, и запястье не изящно, фигура, которая может еще измениться, типа «яблоко». Когда дочь поднимается по ступенькам впереди меня, я невольно улыбаюсь, — носки вовнутрь, икры крестьянские, не наше, но такое хорошее, родное до дрожи.
Есть очень близкие родственники, которые на любой мой рассказ о дочери реагируют однозначно: а что ты хотела? гены! Я опускаю эти комментарии. Я приучила себя думать, что они завидуют моему счастью, тому, что у нас такая любовная гармония дома.
Однако, я бы покривила душой, сказав, что меня никогда ничего в дочке не тревожило. И я очень рассчитывала на помощь воспитателей и психолога детского сада. Я знала достаточно о ее родной семье, и мне были важны любые наблюдения, замечания специалистов, чтобы знать, где подстелить соломы и в каком направлении двигаться. Благодарна им бесконечно.
Было несколько встреч со звездным психологом из Москвы. Тогда дочь без разбору предлагала свою компанию всем соседям, задавая один и тот же вопрос: «А можно я пойду к тебе ночевать?» Психолог объяснила этот феномен отсутствием первичной привязанности, то есть тем, что в тот момент, когда младенцу нужна была помощь взрослого, этого самого взрослого (бабушки, мамы, папы и т. д.) рядом с ним не оказывалось. Для формирования этой привязанности было необходимо признаться дочери в том, что я не родная мама, и только после этого привозить ребенка на беседу с психологом.
Моя дочь до сих пор помнит, как я ее кормила. Она это придумала, ей так видится, и я не могу подкосить ее этим признанием. Не все дети одинаковы, нельзя всех под одну гребенку. Это мое мнение, я так чувствую.
Кстати, с возрастом мы от проблемы свободного шатания из гостей в гости избавились. Сегодня дочь не любит ночевать вне дома даже у подружек. Ей нужна мама, свое пространство, кот, пес, одним словом, атрибуты дома.
По поводу отсутствия папы рядом, да теперь уже и вообще отсутствия, она страдает. Эта та боль, которой она редко делится, но носит в себе всегда. Папу она пытается почувствовать в любом мужчине, встречающемся на нашем пути. Был человек, которого она даже начала называть папой, жалела, скучала, но это отдельная история. «Папа» оказался пьющим и в понятие дома не вписался.
Интересно, до школы на вопрос, кем она хочет быть во взрослой жизни, дочь мудро отвечала — мамой. Никто ее этому не учил, но она и сейчас не пройдет мимо плачущего, с удовольствием будет лепить с малышами куличики, вытрет сопли и слезы, поцелует, прижмет к себе, и я поражаюсь ее внутренней силе и самости.
Вот только не так давно в разговоре она очень спокойным тоном заявила, что детей у нее никогда не будет, потому что мамой быть сложно.

Счастливые трусов не надевают, или жизнеописание одного нудистского пляжа
«Боже, — подумала я, — если бы это видела бабушка, ее бы сразу хватил кондратий!». Вот так экспрессивно началось мое знакомство с культурой натуризма. Дело было в Каталонии в середине 2000-х годов, когда я впервые попала на местный нудистский пляж. Небольшой, окруженный высокими утесами, поросшими средиземноморскими соснами, он был поделен на две части скалами. В правой стороне, на почтительном удалении, загорали и купались нудисты, в левой — любители более традиционного отдыха. До центра города далеко, на машине не подъехать, поэтому пляж сумел сохранить очарование намного дольше своих соседей. Чтобы туда попасть, необходимо было долго спускаться вниз с холма по тропинке и потом не без труда подниматься, отдав до этого все силы солнцу и морю. У самого входа вас встречал стенд с правилами посещения. Это был пляж смешанного типа, то есть снимать одежду необязательно. «Место настолько красивое, что можно потерпеть и нудистов», — договорилась я сама с собой и осталась здесь почти на пятнадцать сезонов, по несколько недель в году. Меня постепенно затянуло в уникальную атмосферу свободы и гармонии, ведь натуризм — это, прежде всего, единение с природой, а нудизм — всего лишь самый заметный атрибут этой философии, и он в идеале исключает сексуальный компонент.
Вообще, Испания знаменита своими нудистскими пляжами, и не только. Есть еще кемпинги, отели, бары. По данным Испанской Федерации Натуризма (Federacion Espanola de Naturismo — FEN), основанной в 1981 году, в стране около четырехсот пятидесяти пляжей для такого вида отдыха, и все их можно посмотреть подробно на сайте www.naturismo.org. Трудно сказать, когда именно здесь зародилась эта культура. Страна, хоть и католическая, но южная и с огромным по протяженности побережьем. К примеру, один из старейших нудистских пляжей Европы, Aguas Blancas, известный с 1950 года, находится на Ибице. Популяризация нудизма в Испании напрямую связана с окончанием правления Франко, когда начался процесс демократизации общества. Еще при жизни диктатора в стране насчитывалось несколько десятков неофициальных нудистских пляжей. В 1988 году был отменен закон о непристойном поведении в общественных местах. Нудизм был юридически декриминализован настолько, что сейчас в Испании не воспрещается появляться полностью обнаженным, по сути, где угодно. Местные муниципалитеты стараются бороться за надлежащий облик городов и деревень и принимают ограничительные законы. Однако Испанская Федерация Натуризма пристально следит за происходящим в каждом регионе и реагирует на все очень активно. По словам ее руководителя, Исмаэля Родриго (Ismael Rodrigo), они борются за свободу самовыражения, то есть защищают право человека раздеться там, где одежда действительно неудобна, не нужна и даже вредна. Все это, конечно, вызывает много вопросов, но лично мне трудно спорить с тем, что купаться голышом несравнимо приятнее, чем в синтетическом купальнике. Плавали, знаем.
Одним словом, на каталонский пляж меня затянуло надолго. Помимо яркой средиземноморской красоты, он был примечателен своими старожилами. Каждый год, когда я только приезжала, спускалась к морю и видела все тех же, но без полосатых купальников, становилось легко и радостно на сердце от понимания, что есть в этом мире островок стабильности. Один из самых ярких представителей этого сообщества — небольшой крепко сбитый мужичок, очень смуглый той естественной смуглостью, которая бывает у португальцев и бразильцев. Я почему-то про себя прозвала его сантехником. Он приходил всегда после двух-трех, в рабочей одежде, снимал и аккуратно складывал ее, закуривал сигару, брал в руки радио с антенной, взбирался на скалы и коптился весь оставшийся солнечный день, с высоты взирая на все происходящее и не выпуская сигары изо рта, а из рук — радио. Пара седовласых мужчин-пенсионеров все время беспрестанно что-то обсуждала так эмоционально, как способны мужчины, пожалуй, только в Испании и Италии. Я любила сидеть поодаль и просто наблюдать за ними, задавая себе только два вопроса: о чем же они могут столько говорить и как у них не отсохнут языки? Был там и чернявый маленький аргентинец, который без конца курил марихуану, косяк за косяком. Да такую крепкую, что забалдеть можно было, просто находясь рядом. Другой, испанец средних лет, тайно ловил в расщелинах скал осьминогов и морских ежей. Для этих целей у него было самодельное копье-гарпун. Многие это знали, но никто его никогда не сдавал смотрителю пляжа. Он всегда с радостью делился рецептами приготовления морских гадов — ценное знание для жителя средней полосы России. Вечером приходил лысый молодой человек и долго медитировал, смотрел на море, блаженно улыбаясь, купался, а потом явно по зову сердца собирал мусор и на песке, и в море. Такая глубоко личная ежедневная практика. По воскресеньям пляж был похож на улей из семей, представленных совершенно разными поколениями. Они приходили с переносными холодильничками, наполненными всякой едой — сыром, хамоном, оливками, хлебом, вином. И так и сидели до самого вечера — ели, пили, купались, загорали, говорили, потом все убирали за собой и отчаливали. До следующего воскресенья. Во всем сквозило уважение к себе и природе. Я не одна подсела на эту атмосферу. Постоянными ежегодными посетителями были и другие иностранцы — пара геев из Бельгии, несколько французских и немецких бездетных семей, швейцарец из Цюриха, похожий на Пьера Ришара, отменный пловец. Так и запомнился мне голым, с белокурыми кудрями и в ластах. Спустя несколько лет его сын был в Москве в командировке, и я передала ему небольшой сувенир, уже даже не помню что. А взамен получила небольшой сверток, развернув который увидела песок с того самого пляжа. Странный, но трогательный привет. В этой пляжной семье появлялись и русскоговорящие люди. Они существовали в той же парадигме, что и все остальные, и ничем не выделялись. Особенно забавным и неожиданным было видеть тех же самых персонажей в городе — в кафе, на улице, в магазине — одетыми. Соединить эти две картинки удавалось не сразу.
В последние лет семь моих антропологических наблюдений с пляжем стали происходить необратимые изменения. В этот странный и по-своему гармоничный мир вторгся массовый турист из восточноевропейских стран. Сначала польские молодые люди, больше походившие на подростков, толпами, в разной степени алкогольного опьянения приходили глазеть на все происходящее. И это было только начало конца belle epoque. Чуть позднее местность, прилегающую к пляжам, изуродовало массовое строительство. Алчности застройщиков и риелторов не было границ. В результате почти всю недвижимость скупили русскоговорящие выходцы из бывшего СССР. Пляж не смог остаться в стороне от этих процессов. Его наводнили люди, так и не сумевшие увидеть всю прелесть этого места. Русскоговорящие девушки разных возрастов предъявляли миру природную и искусственную безупречность своих тел и лиц. За ними в поисках приключений подтянулись благодарные зрители мужского пола со всех близлежащих деревень. На следующем этапе появились семейные, а точнее, женщины с детьми. Мужья, очевидно, оставались дома, в наших широтах, зарабатывать деньги и жить своей жизнью. Мамы в купальниках, с детьми, передвигаясь группами, стали занимать места в нудистской части. Они окапывались на своих подстилках, отвоевывая все больше территории у самой линии моря, возмущались по-русски самим присутствием голых людей вокруг и, жестикулируя и привлекая к себе внимание, громко обсуждали между собой, как губительно это соседство для их детей. Детки же — и малыши, и подростки — тем временем купались в море в масках посреди голых людей. Потом подтянулись еще и любители селфи. Все это стало выглядеть настолько дико, что оставаться там больше не было сил. Местные беззубо наблюдали за всем происходившим, видимо, потеряв за предыдущие десятилетия спокойной жизни способность к сопротивлению.
Однажды одна испанка пришла на пляж со своей маленькой пучеглазой собачкой, расстелила подстилку, положила на нее песика и стала загорать. Собачка вилась вокруг нее, ни разу не ступив на песок, как будто была специально выдрессирована. Вдруг откуда ни возьмись появился смотритель пляжа и сообщил ей, что она нарушила правила, взяв с собой животное. Тогда женщина гордо встала и громогласно заявила всем вокруг: «Я уведу собаку, когда все снимут одежду». Это одна из последних сцен, что я наблюдала. И тут больше нечего добавить. К сожалению.

Тело как память
После того как в десятом классе предполагаемая лучшая подруга взломала мой электронный дневник, чтобы прочесть скрытые записи, я перешла на бумажный блокнот. Старательно переписала в него каждое слово, боялась что-то забыть. С возрастом записи я стала делать реже, а потом они и вовсе исчезли. Теперь мой дневник — мое тело.
Тело хранит все, что с тобой случилось. Оно одновременно и объект памяти, и сама живая память. Если задуматься, совсем не обязательно обращаться к внешним предметам, чтобы вспомнить что-то про себя. Все самое врезающееся в память остается на теле: вот они, шрамы и шрамики, следы от ожогов, растяжки от резкого роста, запрятанные в глубине переломы. Тело — это пространство для персональной истории, и точками отсчета в ней становятся следы и отметины, которые постепенно покрывают тело узором, сплетаются в целую карту прошлого. Рассматриваешь ее и отправляешься в путешествие во времени — переходя от неровностей к выступам, скользя пальцами по белым и красным отметинам, можно написать почти травелог.
I
Сверху донизу мое тело усыпано брызгами шрамов от ветрянки — такая смешная болезнь с зеленкой. Мне не очень повезло, я заболела в двенадцать, для ветрянки это «неудачный» возраст. Ненавистная мучительная болезнь с температурой терзала три недели и не давала спать. Корочки на ранках превращали кожу в кору дерева, а от запаха зеленки начинало тошнить. Когда я наконец вышла из дома, уже наступила весна. С рук еще не смылись зеленые пятна, а я с нежностью гладила майские листочки. Смотрю на полусотню шрамов и думаю: надо бы сделать дочери прививку — но каждый раз то забываю, то в районной поликлинике заканчиваются вакцины.
II
Если по пунктирной линии этих брызг спуститься вниз к левой лодыжке, там, прямо на самой косточке, окажется белый след от ожога. Он долго и упорно алел, а сейчас его найти могу только я. Вот мне шестнадцать, мальчик по прозвищу Фрост везет нас по ночной летней Москве от моего дома до смотровой на Воробьевых горах. Я вся в черном, на каблуках и, разумеется, без шлема. Не подумав (по-видимому, вообще ни о чем), плотнее прижимаюсь ногами к мотоциклу и навсегда запечатлеваю на себе ту поездку — обжигаюсь о раскаленную выхлопную трубу.
На следующее утро, приехав на дачу, скажу маме, что оступилась и случайно ободрала ногу. А еще через пару недель узнаю, что Фрост разбился на своем мотоцикле; что от смерти его спас тот единственный шлем, что у него был; что, оказывается, ему нет восемнадцати и лежит он в больнице с открытым переломом ноги. После аварии я долго ездила к Фросту, покупала на карманные деньги для него фрукты и сигареты, была влюблена и думала, как же нам повезло не убиться вместе в те выходные.
III
От аварии, впрочем, увернуться не удалось. Она настигла меня в ноябре 2015 в Лондоне, всего лишь через полтора месяца учебы в магистратуре. После субботних утренних пар я решила прогуляться до Ковент-Гардена. Там, на одной из бесконечных маленьких улочек меня сбило такси. Все как показывают в кино: герой смотрит на дорогу, делает шаг, и вдруг музыку обрывает оглушительно громкий хлопок, вместо картинки — непроницаемая чернота. Ни звука, ни света, ни памяти.
Авария — это то, что живет со мной каждый день. Больше всего пострадала правая рука (спасибо, что я левша), и теперь любая тяжесть, стресс, перемена погоды и даже танцы на свадьбе друзей неизменно отдаются болью. Так на теле что-то зарастает, превращаясь в артефакт прошлого, а что-то — делает прошлое настоящим.
Когда я очнулась в больничной палате, у меня не было никаких ощущений, мир воспринимался как в замедленной съемке. Удивившись, что проснулась в очках, справа от койки я увидела двух полицейских, которые протягивали мне телефон: нужно было позвонить родителям. В мешанине провалов и вспышек памяти пыталась узнать, сделали ли рентген, забывала свой возраст и тщетно звала медсестру на помощь, чтобы добраться до туалета. Наконец, лекарства перестали действовать, и сквозь вату в голове я поняла, каким сильным был удар. Так страшно мне не было никогда в жизни.
В больнице возиться со мной никто не захотел, зачем-то соврали, что даже сотрясения мозга нет. Наутро вручили пачку обезболивающих и попросили освободить койку — и так больных много. Покормить за целые сутки и вовсе забыли. Сидя в одной лишь больничной рубашке на завязочках, без трусов, я звонила рыдающей маме и спрашивала, как ехать в общежитие, если всю одежду срезали в скорой? Казалось, что и рука держится на тонкой завязочке и вот-вот оторвется.
По счастливой случайности в Лондоне жила мамина подруга, с которой они прожили в общежитии «голова к голове» четыре года. Тетя Света приехала с пакетом одежды, на кого-то накричала и забрала меня к себе на неделю. В ее квартире недалеко от Риджентс-парка, где меня почти каждый час пытались чем-нибудь накормить, на диване я могла спать только сидя. Через три недели приехала домой на новогодние каникулы. В Москве мне поставили целый список диагнозов, а следующие два месяца я прожила на обезболивающих и в плечевом бандаже. Реабилитацию проходила во время каникул — вопрос о прерывании учебы даже не стоял.
Спустя некоторое время позвонили из полиции и попросили забрать вещи. В участке мне вручили запаянный мешок с изрезанной на куски одеждой в пятнах крови. Разложив лоскуты на кровати, из таких же лоскутов памяти я старалась понять, как все произошло. Вспомнила, что за день до аварии мне впервые приснился покойный дедушка, папин отец. Приснился таким, каким был до онкологии — улыбающимся, с густыми зачесанными наверх волосами и в наглаженной рубашке. Вспомнила, что в то утро проснулась в большой тревоге, нашла православную церковь недалеко от Гайд-парка и поехала поставить свечку. С тех пор дедушка снился мне лишь пару раз и всегда как предупреждение.
IV
Странно проснуться в непослушном, не подчиняющемся тебе теле, когда это уже свершившейся факт. Еще более странно наблюдать будто со стороны за тем, как твое тело меняется, принимает новые очертания и сосредотачивается на другом, еще не рожденном человеке. После родов я не узнавала себя, особенно лицо и глаза: из зеркала глядел кто-то другой. На бедрах проступили варикозные звездочки — это в бабушку по папе. До рождения правнучки она не дожила. Бабушку насмерть сбил грузовик прямо у подъезда ее дома во время нашего свадебного путешествия. Родители решили ничего нам не говорить до возвращения в Москву, а в день приезда, ответив на мой настойчивый звонок, мама на одном выдохе сказала: «Бабушку сбил грузовик, в общем, похороны во вторник или среду».
Почти ровно через год родилась дочь. С ней к картографии тела прибавились расходящиеся на груди узоры, первые морщины и разбросанные по бедрам фиолетово-лиловые звезды с тонкими извилистыми прожилками. Фиолетовый — красивый цвет, бабушка в такой красила волосы.
V
Мы носим на себе следы прошлого, и с каждым годом их только больше. След, каким бы он ни был, стирает границу между прошлым и настоящим, а значит, прошлое — всегда с тобой. Эту карту напоминаний в самых разных уголках тела можешь прочитать только ты. Ведь сами по себе следы ничего не говорят, они лишь молчаливо напоминают, будто наклеивают на отдельные события стикер «NB!».
Мое тело хранит мою историю, неразрывной цепью связывает с теми, кто ушел. Мама все чаще замечает: «Ты так стала похожа на бабушку», и в этом тоже живет память. Между тем следы зарастают, светлеют, отдаляют от воспоминаний. Проведешь рукой — уже совсем и не больно. Так нарастает новая кожа.

Фруктовые сады
Когда я открываю дверь в мамину квартиру, я не понимаю, как такое могло случиться, что все ушли и меня оставили единственным хранителем всего этого богатства: множества памятных вещичек, книг, рукописей, бумаг и многочисленных семейных историй. Почему я? Почему я единственная? Ведь я всё забуду, переиначу, запомню по-другому. Разве можно мне было такое доверить? Мама, папа, как вы могли?
Чувствую себя неуклюжей толстой девочкой, когда надо быть изящной, ловкой и пластичной.
Я ведь наследница всего этого, что бы это ни значило.
***
Я держу в руках тончайший лист папиросной бумаги, весь исписанный мелким почерком. Обычно папа писал крупнее, размашистее, но тут он старался, чтобы больше уместилось слов, больше сведений, больше рассказать о том, как он готовится к нашему приезду, и ещё о том, как хорошо там, где он нас ждет… На письме стоит обратный адрес: «Praha 6 Thak’urova 3″OMS» CSSR
Папа ждал нас в Чехословакии.
Листок неуловимо пахнет табаком. Письмо, видимо, долго хранилось в папином огромном письменном столе, похожем на корабль, а там в ящике лежал табак. Папа давно бросил курить, активно занимался спортом, но табак продолжал лежать в его столе вместе с этими письмами.
Он пишет, что соскучился, ждёт, когда уже мы приедем. Квартира прекрасная, на окраине города с видом на холмы. На одном холме расположился сосновый бор, а на другом фруктовые сады. Письмо датировано январем 1975 года, поэтому он пока ещё не знал, какие это будут сады весной, но был уверен в том, что нам там хорошо будет гулять. Он гулял там сегодня, но до озера так не дошёл, очевидно, свернул не в ту сторону.
Полдня он ходил по магазинам и покупал всякие хозяйственные мелочи: ножницы, булавки, а теперь по телевизору смотрит чешский фильм про войну. Смотрит не очень внимательно, потому что ничего не понимает. Язык ещё не выучил, некоторые слова оседают, а как следует заняться чешским пока времени нет. Завал на работе. Поэтому ещё он очень ждёт маму с её немецким. Чехи хорошо понимают по-немецки.
Нельзя сказать, что в Чехословакии сильно любили русских, но маме впоследствии удавалось оставаться в образе хорошенькой фрау с ребёнком. Наша семья удачно вписалась.
Папа получил работу в Чехословакии, в редакции журнала «Проблемы Мира и Социализма». Ирония в том, что редакция этого весьма коммунистического издания располагалась тогда в здании бывшей католической семинарии, которая сейчас благополучно вернулась на своё законное место. По адресу, на который приходили дорогие сердцу письма Тгакурова 3, сейчас расположен богословский факультет.
Папа в другом письме пишет: прелесть этого места в том, что можно пешком ходить на работу, а летом здесь, как на даче, и даже можно купаться. Он, как приехал сюда, сразу же успокоился и даже начал нормально спать. Он пишет, что возможно дело не только в близости к природе, а в удивительной атмосфере города, в котором никто никогда не спешит. Он просит маму «приготовить» какие-то подробности «про Настюшку» для телефонного разговора, который состоится в понедельник. А также целый список поручений, кому позвонить, кого поблагодарить, у кого забрать папины публикации, «труды».
Вскоре папа за нами приехал, и мы все вместе отправились в сказочную страну моего раннего детства, Чехословакию. Мне было от роду три месяца, и я не помню ровно ничего, кроме того, что мне рассказывали потом, что отражено в слайдах и письмах.
Недавно я нашла эту драгоценную связку писем.
Они лежат передо мной, письма, которые писала мама для своих родителей. Она пишет, что из окна их квартиры открывается удивительный вид на холмы с грушевыми садами, они прямо сейчас цветут и это что-то такое, чего она ещё не видела. Они выезжают на прогулки на машине, а за окном такая красота, «старый город нас с Юрой просто пленил». Но Настюшка всё время спит, её не интересуют иностранные государства. Она даже не просыпается, когда мы её перекладываем из машины в коляску. А там везде цветут сакуры.
Я всю жизнь потом буду слушать рассказы об этих сакурах.
Мама пишет только хорошее. Я не увидела в письмах упоминания о том, как мы все втроём попали в автомобильную аварию. Все трое получили небольшие ранения разной степени тяжести. Совсем не так уж давно мама рассказала мне в связи с этим, что отдала меня двум проезжающим мимо незнакомым женщинам, чтобы они отвезли меня в больницу. Я была в ужасе от её поступка. В моей голове вообще не укладывается, как это — двум незнакомым женщинам отдать грудного ребёнка? Но там и тогда это было совершенно нормально. Эти добрые женщины меня и правда отвезли в больницу.
В больнице я впервые встала на ножки. Ничего этого в письмах нет. Зато есть про то, как я начала говорить «мама и папа». Поначалу я не очень разбиралась, кто из них кто. Папу называла мамой и наоборот. Конечно, эти университетские преподаватели сразу же начали ко мне придираться и объяснять как надо. Мама с восторгом пишет, как я решила эту проблему. Стала их обоих называть «мапой».
Судя по всему, нам там было настолько хорошо, как никогда не было ни до, ни после. Мама пишет бабушке уже в 1977 году, что она не приедет во время отпуска домой. Ребёнку нужен простор и воздух. На дачу тоже не поедет, потому что везти слишком много всего, в том числе подушки и одеяла. Придумала отговорки для мамы с папой. На самом деле лето мы проводили в Еванах, что расположились к востоку от Праги, маме никуда больше не хотелось.
Я потихоньку росла, и когда мне было около года, папа настоял, чтобы мама начала работать. Рабочий график мамы не был уж очень напряжённым, но Настюшку надо было с кем-то оставлять. Таким образом, у меня в няньках образовалась целая чешская семья. В этой семье были мама и папа, и две маленькие девочки Люцинка и Катаржинка. Катаржинка, совсем кроха, всё время спала в коляске на балконе, а Люцинка была постарше, и это ей давало преимущество надо мной возвышаться и говорить по-чешски всякое, что мне хочешь-не-хочешь приходилось понимать. Например, она говорила приблизительно следующее: «Ты ниц не умиш, а я вшехно умим». Я не помню точно, как обстоят дела в чешском с личными местоимениями, но в переводе это обозначало: ты ничего не умеешь, а я всё умею. Она намекала на мою некомпетентность. Это было ужасно обидно: и чего такого она, спрашивается, умела? Я в конце концов разозлилась и отобрала у неё носовой платок с собачками. Чудесные маленькие собачки с нарядными бантами на фоне старого города. Люцинка показала мне это чудо и начала хвастаться. Я хоть была меньше, но так вцепилась в неё и в этот платок, что ей пришлось уступить. Был скандал, мы обе знатно покричали. Прибежала её мама, выяснила что случилось, смеялась. Успокоила Люцинку и оставила мне мой трофей в подарок. Люцинке было сказано не хвастаться. Я была страшно собой довольна. Кажется, дома я продемонстрировала «свою прелесть» маме и победоносно заявила ей «ты ниц ни умишь, а я вшехно умим!». Маме, как и мне, тоже было очень обидно такое слушать.
Что касается платочка, родители долго выясняли, действительно ли мне его подарили или я его всё-таки отобрала у девочки. Они не могли добиться правды, потому что и то и другое было правдой. Однако после разговора с няней всё утряслось. Платочек этот я храню всю свою жизнь, он до сих пор где-то лежит. По мере того как я росла, он становился все меньше и меньше, а сейчас стал совсем маленьким, выцвел и немного истлел по краям, но всё равно необыкновенно дорог.
Я еще немного подросла, и пришло время меня отдать в чешские ясли. Найти это место на карте не удалось, так же, как и дом, в котором мы жили: адреса не сохранились, только название улицы «К Червенему Врху»…
Я помню, как бегу перед другими детьми и выкрикиваю приветствие: «Агой!» Так делали все дети, потом надо было встать на место, в строй.
Мне нравилось в Чехословакии, нравилось даже в яслях. Для меня вся эта страна, всё то время как будто сотканы из воздуха и света. Я долгое время думала, что именно там я и родилась, но потом узнала, что это не так.
Посещая ясли, я заболела воспалением лёгких. Это было время перед самым отъездом. Мама меня, ещё не до конца оклемавшуюся от болезни, собрала и отвезла в СССР к своей маме. И оставила. Так произошло моё изгнание из рая. Меня у бабушки оставили почти на целый год. Что такое год в этом возрасте? Это целая вечность. Мама сказала что-то вроде того, что не может выхаживать меня, потому что работает, ей некогда. Потом она говорила, что им надо было завершить дела в Чехословакии и возвращаться уже домой, командировка заканчивалась. Похоже, что они действительно месяца через два вернулись на родину. Но меня забрали только через год. Я их не видела, не помню, чтобы кто-то из них навещал меня. Мне говорили потом, что они занимались очень сложным обменом и разменом, покупали квартиру, делали ремонт. В моем детском мире тогда образовалась дыра.
Я помню это пасмурное небо, будто света стало меньше, я стою в очень просторном, чистом помещении, надо мной где-то очень высоко реет белый лепной потолок. Передо мной незнакомые люди, мне говорят, что это мои бабушка и дедушка. Маленькую прабабушку я замечаю потом в креслице в углу. Дверь закрывается, мама исчезает, я остаюсь одна с этими людьми, я пытаюсь им что-то сказать, а меня не понимают. Я слышу, как бабушка, тогда ещё незнакомая мне женщина, говорит ещё не знакомому мне деду.
— Она говорит по-чешски, я ничего не понимаю.
Я действительно говорила на странном диалекте, всё вперемешку: и русские, и чешские слова.
Однако мы быстро подружились. Лечение, забота, ежедневные прогулки, беседы, в которых я многое узнавала впервые. Скоро бабушка и дедушка стали мне самыми дорогими и близкими людьми. Дыра потихоньку затягивалась, становилась незаметной. Весь год, что я жила у бабушки, была уверена, что родители в Чехословакии, что они вот-вот приедут и заберут меня и увезут обратно, надо только дождаться. Я скучала. Однажды этот день действительно настал. Мы с бабушкой и дедушкой вышли встречать родителей на улицу. Папа парковал машину, мама и папа разбирали вещи. Бабушка увидела их и говорит мне:
— Вот же твои родители! Беги к ним скорее.
Я направилась в ту сторону, не будучи ни в чем уверена. Остановилась перед машиной и стала разглядывать её. Это был запорожец. Я поглядывала на этих людей и думала, а действительно ли они мои родители. Или всё-таки показалось? Может, бабушка ошиблась? Мои сомнения развеял папа, он сказал:
— Девочка, не стой здесь, отойди. Тебе нельзя здесь стоять.
Ну, я и отошла обратно к бабушке.
Бабушка спросила меня, в чем дело, почему я вернулась. Я пересказала ей наш разговор, и все потом смеялись. Особенно довольна была бабушка. Она торжествовала.
— Вон как я ребёнка откормила! Родные папа с мамой не узнали.
Папе было неловко, он пытался шутить. Мама пыталась сразу меня схватить и целовать, но я не давалась. Теперь незнакомой женщиной для меня была она.
Что-то драгоценное, что было раньше между нами, безвозвратно порушилось и до конца не восстановится уже никогда. Позже мы с мамой станем хорошими подругами, но то тепло и защищенность уже не вернутся.
Что было раньше, в той стране, сотканной из воздуха и света, то, что начало расти в тех фруктовых садах, вдруг заболело и поменялось.
Где же вы, райские фруктовые сады моего детства? Там люди, которых давно уже нет, продолжают заботиться обо мне и пишут друг другу письма. Там папа строит мне горку из письменного стола, а мама выходит со мной на прогулку под цветение сакур. Там мама ещё скучает по своим родителям, а папа пишет нежные письма маме.
Как случилось, что ничего этого больше нет?

Бархатная стена
Последний раз я слышала мамин голос в тот день, когда в Украину ввели войска. Несколько часов к ряду я безуспешно пыталась до неё дозвониться. «Абонент недоступний або знаходиться поза зоною дії мережi», — снова и снова отвечал мне равнодушный автомат. Наконец мама позвонила сама.
— Светуля, привет, — донеслось сквозь скрежет и помехи.
— Мама? Мама, это ты? Наконец-то!
— В Сумах тревожно. Мы все поедем на дачу. Связь…
— Мама, что у вас происходит? Что за войска? Везде пишут, что в Сумской области танки.
Шум, треск, шипение.
— Мы все поедем. И папа, и Алёна с детьми, и дядя Юра…
— Мама, ты меня слышишь? Ты слышишь меня?
— Ты, главное, не реви… обещай…
— Мама, я ничего не слышу! Что ты говоришь?
Треск, шипение, короткие гудки. Связь прервалась окончательно.
Третий день от родителей не было вестей. Как сомнамбула, я бродила из комнаты в комнату по нашему небольшому дому под Питером, не замечая ни мужа, ни сына. Они у меня что-то спрашивали, я что-то отвечала, но все мои мысли были там, в лентах новостей с мест боевых действий. То и дело я забивалась в угол дивана поближе к роутеру и гипнотизировала взглядом телефон, перепрыгивая с одного телеграм-канала на другой. «Всё хорошо, всё будет хорошо», — уговаривала я сама себя. Сознание отказывалось совмещать открыточные виды города детства с кадрами взорванных мостов и горящих складов. К вечеру третьего дня с незнакомого украинского номера пришло сообщение:
«Света, мама просила передать, что они на даче».
«Спасибо огромное!» — настучала я в ответ и облегченно выдохнула.
Просила передать. Значит, в порядке. Они на даче. У них просто нет связи. Я прикрыла глаза и в мельчайших подробностях представила родительский загородный дом из красного кирпича в сосновом лесу. Ажурная решетка входной калитки, искрящаяся на солнце цинковая крыша мансарды, огромный подвал — просторный, с высоким потолком, по периметру заставленный вареньями и соленьями. Отец построил хороший дом. Я встала с дивана и, покачиваясь, пошла на кухню к мужу.
— Максим, родители укрылись на даче, — выдавила я из себя и обессиленная опустилась на стул у него за спиной.
— Вот видишь! Все обойдется, я же тебе говорил. Ты смогла дозвониться?
— Сообщение пришло.
— От кого?
— Я даже не знаю, — рассеянно ответила я.
Вернувшись в комнату, я села на диван и открыла последнюю переписку.
«У меня нет этого номера. Кто это пишет?»
«Алла Николаевна»
Алла Николаевна? Я мучительно соображала, кто такая Алла Николаевна, пока до меня не дошло, что это моя тетка, мамина родная сестра.
«Тетя Алла, это вы?»
«Вы в Сумах?»
«У вас все в порядке?»
Ответа не было. Не отрывая взгляда от экрана телефона, я потянулась за плюшевым пледом и закуталась в него по самый подбородок. Когда же мы с тетей Аллой встречались в последний раз? Года два назад, наверное, как раз у родителей на даче. Упрямая жесткая челка, отливающая сединой, неизменный преподавательский тон. Когда-то тетя Алла была моим кумиром и образцом для подражания. Всегда безупречно одета и причесана, острая на словцо, все папины друзья побаивались её метких шуточек. Может, поэтому она так и не вышла замуж, всю жизнь посвятила студентам, преподавая английский в университете.
Вдруг экран телефона вспыхнул сразу тремя сообщениями.
«да»
«в убежище»
«в Троицком соборе»
От этих слов я невольно сложилась пополам, будто это в меня ударила взрывная волна. Оцепеневшими руками я держала телефон, на экране которого светились сообщения от маминой сестры. Я не знала, что написать ей в ответ. Низко опустив голову, как китайский болванчик я раскачивалась из стороны в сторону, а слезы крупными каплями сыпались из глаз прямо на плед, лежавший на моих коленях. Мягкий ворс мгновенно поглощал влагу, скрывая мою слабость от домашних. Мишка у моих ног собирал конструктор, Макс возился на кухне. «Я не знаю, что ей ответить. Я не знаю, что ей ответить». — Как попка-дурак, я талдычила про себя единственную фразу. Голова отказывалась соображать.
— Максим! — закричала я мужу, не отрывая взгляда от экрана телефона. — Я не знаю, что ей ответить!
Макс вышел из кухни, на ходу вытирая руки полотенцем, сел рядом со мной и положил левую руку мне на плечи. Он прочел слова на экране телефона, и я почувствовала, как под весом его руки еще глубже проваливаюсь в мягкие диванные подушки.
— Света, я тоже не знаю…
Какое-то время мы с ним сидели, уставившись в погасший экран телефона, но тут из кухни донесся запах гари. Макс выругался на себя и помчался убирать с огня сковороду. Во мне внезапно появилась решимость, я собралась с духом и выдала на-гора первое, что пришло в голову: «Спасибо, что помогаете держать связь с родителями. Не могу даже представить, насколько вам сейчас тяжело». Я отправила сообщение и замерла в ожидании ответа, но ответа не было. Да и что тут скажешь. Погасив экран телефона, я откинулась на спинку дивана.
Как бы я хотела быть сейчас с ними. Воображение рисовало наш обычный летний день на даче. Залитая солнцем веранда, детский смех во дворе, мама суетится у плиты. Тетя Алла курит в проеме двери во двор, прислонившись плечом к косяку. Помню, когда мы виделись в последний раз, она спросила, как продвигается мой шторный бизнес. Да, именно так она и спросила. Неужели она не знала, что никакого бизнеса у меня нет, что я просто шью шторы на заказ? И с такой горькой усмешкой спросила, будто считала это занятие каким-то недостойным. Она явно ожидала от меня большего. Тетя Алла так гордилась мной, когда в составе приемной комиссии принимала у меня экзамены в университет. А я что? Жарю котлеты, натираю полы, а в свободное время сижу за швейной машинкой. «Стоило ради этого столько учиться, университет заканчивать с красным дипломом», — ворчал отец время от времени, вспоминая о моих былых успехах в учебе. Он и в мастерскую ко мне нагрянул прошлой весной прямо из аэропорта, наверное, только для того, чтоб про красный диплом напомнить.
***
Моя мастерская находилась в старом аварийном доме в самом центре Питера. Небольшая комнатка на первом этаже, крохотное зарешеченное окно во двор-колодец чуть не на уровне земли. Возможно, когда-то там была дворницкая.
— Папа?! — Открыв дверь на стук, я чуть тут же её не захлопнула.
На пороге стоял отец в распахнутом кашемировом пальто, по щиколотку проваливаясь в рыхлый мартовский снег. Рядом с ним поблескивал золотыми замочками огромный дорожный чемодан, а из-за плеча выглядывала мама и смущенно улыбалась.
— Почему вы не предупредили, что прилетаете?
— Да вот, решили сюрприз сделать! Заодно посмотреть, где ты обитаешь.
Отец поднатужился, подхватил неподъемный на вид чемодан и без приглашения ввалился в крохотный тамбур моей мастерской. Мама как тень проскользнула за ним.
— На что тут смотреть, — ворчала я себе под нос, закрывая тяжелую металлическую дверь на засов, — я просто здесь шью. Дома неудобно, а здесь…
Просочившись за спинами родителей, я прошла к рабочему столу, а они как вкопанные остановились на придверном коврике. Мама с любопытством разглядывала крохотное помещение, а отец не мог оторвать взгляд от алого бархатного занавеса, который целиком закрывал противоположную от входа стену. Роскошная ткань, собранная в сложные драпировки, струилась каскадами и мягкими складками ниспадала к подножию стены.
— Это что? Это ты что ли? Сама? — наконец выдохнул отец.
В ответ я лишь неуверенно пожала плечами, мол, разве тут есть еще кто-то. Отец мельком посмотрел на меня, но тут же отвел глаза и исподлобья окинул мастерскую взглядом строителя с тридцатилетним стажем. От него не укрылись ни ржавые подтеки на трубах центрального отопления, ни облезлая краска на оконных рамах, ни вздыбившийся линолеум, брошенный прямо на прогнившие доски пола.
— Я не понимаю, я тебя не понимаю, ты же можешь… я же могу. — Отец запнулся, опустил глаза и в поисках нужных слов принялся теребить замочек от своего чемодана.
Оставив отца стоять на пороге, мама прошла к столу. Она полистала альбом с моими эскизами, подошла к занавесу, отвернула его край, внимательно посмотрела на потайной шов, которым был простеган подклад, и улыбнулась своим мыслям. Я то и дело переводила взгляд с мамы на отца, боясь шелохнуться. Наконец, отец собрался с мыслями, уперся обеими руками в стоящий перед ним высоченный чемодан, поднял на меня глаза и выпалил в сердцах:
— Не хочешь ты со мной заниматься бизнесом — занимайся шторами, на здоровье! Но можно ведь найти просторное помещение, нанять профессиональных швей, открыть несколько салонов по всему городу!
— Пап, это все очень сложно, — попыталась я замять неприятный для меня разговор на старте, — да и Мишка совсем маленький еще.
Но, услышав это, отец изо всех сил хлопнул ладонями обеих рук по чемодану и с разбегу вскочил на своего излюбленного конька:
— Ты всю жизнь собираешься за ним горшки выносить?! — закричал он. — Как ты не понимаешь, время уходит! Еще пять — десять лет и всё, силы не те, азарт не тот! Тебе няньку не найти, что ли?
— Витя! Витя, пожалуйста, — пыталась перекричать его мама, но отец не обращал на неё никакого внимания.
Тогда она встала между мной и отцом громко спросила, где здесь можно помыть руки.
— Люда! — рявкнул отец. — Не видишь, что мы разговариваем?! Вечно ты перебиваешь! Зачем тебе мыть руки?
Мама посмотрела отцу прямо в глаза и дрожащим, но твердым голосом повторила:
— Витя, мне надо помыть руки.
— Да понял я, понял, — огрызнулся отец. — Ты тоже молодец, ходишь, смотришь, молчишь. Тебе вообще наплевать, что она сидит в этом подвале?
— Витя, прошу тебя, не надо. Она взрослый человек, она сама знает, как ей лучше.
— Что она знает? Что там она знает? — с горечью процедил отец. — Ты думаешь, почему она не хочет, чтоб я ей помогал? Это же из-за него. Это все из-за его гордости, боится ранить его «чуйства»
— Папа, мама, — робко вставила я. — Вообще-то она — это я. И чувства Максима совершенно ни при чем.
— Да-да, Светуль, конечно, — похлопала мама меня по плечу, — так где у тебя туалет?
С этими словами мама сняла норковый берет и протянула его отцу. Отец выхватил из её рук берет и стиснул его обеими руками. Я отвела в сторону тяжелую штору, за которой пряталась небольшая дверца в коридор, дала маме крохотный ключик от туалета и объяснила, как его найти в лабиринте дешевых офисов.
Как только мама скрылась за дверью, отец притих. Из него будто выкачали воздух. Он сделал два шага в сторону окна и, как сдувшийся шарик, осел на единственный стул. Теребя в руках мамин берет, отец смотрел в окно, а я стояла в двух шагах, упершись ладонями в поверхность рабочего стола, и смотрела на него. Он сидел, почти не касаясь спинки стула, с опущенными плечами. Вокруг его ботинок растеклась лужица воды от растаявшего снега. На коленях лежала увесистая кожаная сумка-планшет. В детстве мы с братом шутили, что у нашего папы не сумка, а кошелёк, потому что она всегда была забита под завязку купюрами — дневной выручкой от его на тот момент многочисленных книжных ларьков. Не удивлюсь, если это и сейчас так. Наличным папа всегда доверял больше, чем кредиткам. Я смотрела на него, а видела десятилетнего лопоухого мальчишку с хитрющим взглядом, которого объектив камеры поймал сидящим в растянутой спортивной кофте на изгороди в его родной деревне. За спиной у этого мальчишки виднелся дедовский крепкий пятистенок, бескрайний выгон для коров и речушка, змейкой уходящая вдаль. Тут он оторвал взгляд от окна, глянул на свои ботинки и как ужаленный оторвал ноги от пола.
— Батюшки родные! Ты посмотри, что я натворил, сейчас все твои шторы перепачкаю! — вскрикнул он.
Я так углубилась в воспоминания, что не сразу сообразила, что случилось.
— Светуль, вытирай скорее! Потечет же!
Я быстро оглянулась по сторонам, сдернула с гладильной доски отрез белой хлопковой ткани, опустилась перед отцом на колени и не спеша стала промакивать воду, которая натекла с его ботинок. Отец, озадаченный, наблюдал за мной, сидя на стуле с оторванными от пола широко разведенными ногами.
— Да брось. Брось под ноги. Я сам.
Но я, не обращая внимания на его слова, закончила промакивать воду на полу, протерла ему подошвы ботинок и подняла на него глаза.
— Можешь опускать. Теперь не запачкаешь.
Он сидел на стуле вполоборота к окну, а я так и стояла перед ним на коленях с мокрым отрезом ткани в руках и смотрела на него снизу вверх. В конце концов он не выдержал моего взгляда, стал крутить по сторонам головой и что-то бормотать о том, что тут дел-то всего на несколько дней, что можно потолок подвесной кинуть, трубы поменять.
— Комнатка у тебя крохотная, метров девять, наверное? — все приговаривал он. — Это не сложно, это совсем не сложно. Здесь один мастер управится, ты только скажи.
Я встала, прижалась губами к его пушистому выцветшему затылку и тихо сказала:
— Я знаю, папочка, я знаю.
В этот момент за шторой скрипнула дверь. От неожиданности я отскочила от отца и нечаянно его толкнула. Отец чуть было не навернулся вместе со стулом, но в последний момент успел с него соскочить, а сумка-планшет звучно плюхнулась на пол. Из сумки веером рассыпались зеленые купюры. Стул на колесиках откатился к окну, но отец устоял. Пытаясь удержать равновесие, он слегка покачивался и прижимал обеими руками к груди мамин берет. Мама закрыла за собой дверь, задернула штору и обернулась. Она стояла в длинной норковой шубе на фоне алого бархата, а на ее лице блестели капли воды.
— Там не было полотенца, — начала было она, но вдруг заметила странную позу отца и осеклась. — Витя, что случилось? Почему твоя сумка на полу?
— Да так, просто, упала, — смутился отец.
Мама присела перед отцом на корточки и аккуратно сложила в сумку рассыпавшиеся купюры, потом ловко подцепила сумку за ремешок и повесила отцу на плечо.
— Что у вас произошло?
— Ничего, — выпалила я и машинально спрятала за спину мокрый отрез ткани, который держала в руках.
— Вы ругались, пока меня не было? — не успокаивалась мама.
— А когда мы ругались? — хитро улыбнулся отец. — Да и с чего бы нам.
— Ладно, Светуля, — обратилась ко мне мама. – Мы, наверное, поедем? Ты с нами?
— Не могу, — покачала я головой. — У меня срочный заказ.
Я дала родителям ключи от дома, закрыла за ними дверь и какое-то время сквозь зарешеченное окошко смотрела на их удаляющиеся фигуры. Отец шагал широченными шагами, чуть прогнувшись под весом огромного чемодана — рыхлый снег не позволял поставить его на колесики. Мама в своей длинной шубе мелкими шажками семенила следом, едва придерживая его под локоть. Перед самым входом в арку она обернулась и помахала мне рукой.
***
В руках завибрировал телефон. Я вздрогнула, мгновенно очнулась и увидела на экране сообщение от тёти Аллы.
«Света, тебе есть о ком позаботиться. Будут новости, напишу».
С кухни доносился запах гари. Макс гремел посудой. Уже третий день я выхожу на кухню в лучшем случае поесть, а то и поесть забываю. Мишка лишний раз боится ко мне подойти со своими задачками, да и толку подходить, если я всеми мыслями там, в новостях. Хороша забота. Я взяла свою голову обеими руками, сильно сдавила виски и резко отпустила. Всё. Хватит. Встав с дивана, я взяла в руки плед и несколько раз хорошенько его встряхнула. Потом обернула его вокруг талии и завязала узлом на боку. Левой рукой я подхватила подол новоиспеченной юбки и направилась к лестнице на второй этаж. Поднявшись на пару ступеней, я оглянулась на Мишку и окликнула его.
— Мишуля, собирай игрушки. Уроки сами себя не сделают.
— Пять минут, мам, — как обычно, отмахнулся он, — мне только гараж достроить.
Я с нежностью посмотрела на белокурую лопоухую голову своего первоклассника, склонившуюся над недостроенным домом.
— Может, тебе помочь?
— Не надо, я сам, — ответил Мишка, не отрывая головы. — И вообще, как ты мне поможешь? Ты же ничего не понимаешь в строительстве.

Вскрылось
***
— Вы куда?
— У ребенка нарыв, нас госпитализировали к вам.
— А, так это не к нам, у нас кардиология. Этаж девятый, направо. Там детская хирургия.
— Спасибо, понятно.
А что “понятно”? Ничего же непонятно. Странный прыщ забросил нас в стационар перед выходными. Надеюсь, ничего страшного. Хоть бы обошлось, прошло так мало времени. А тут новая весна, опять болезни, опять врачи…
— Вы куда?
— У ребенка нарыв, нас госпитализировали к вам.
— А, семимесячный? Проходите в четвертую палату, кроватка нужна?
Женщина, мне нужно домой, только домой.
— Да, пожалуйста.
— Сейчас принесут, располагайтесь, знакомьтесь. Вас пока двое.
Пока двое. Двое — это хорошо для государственной больницы. Легче будет договориться о режиме дня. У младенца режим строгий, как мы вообще его будем соблюдать? Боже, прости за многомесячное нытье, я не думала, что ты все это реально слушал. Погоди, но ты же милосердный и не наказываешь. Видимо, все-таки наказываешь, я ведь на Рождество ныла, и в пост ныла, и сейчас ною. А на прошлую Пасху еще и иронизировала, украшая круглую спину своего молочно-кремового кота цветной присыпкой. Так и написала в Facebook —“кулич здорового человека”. Потом смеялась в трубку, когда мама просила меня не грешить и отварить яйца, а после поместить в луковый отвар, чтобы было экологичнее, чем краска. В краске одни химикаты, только здоровье губить. В апреле не хотелось его губить, а осенью уже было все равно. Может, если бы я отметила день твоего воскресения и покрасила яйца, все бы сложилось иначе, а? Как же скрипит кровать, как мы будем спать.
— Сколько вам?
— Семь месяцев, здравствуйте.
— Нам восемь. Позавчера прооперировали парапроктит. Бабушка мыла Ваню и заметила. Прыщ там такой большой, красный, пульсирует. Ну я и пулей сюда. Сразу прооперировали, пока не вскрылось. Если прыщ вскроется и заражение пойдет, можно тот самый орган потерять, представляете?
— Не представляю.
— Теперь около недели восстанавливаться.
Она сказала неделю. Неделя — это очень много, что мы будем делать здесь семь дней с детьми, которые хотят ползать.
— Самое печальное, что сюда посетителей не пускают — ковид. Только передачки.
— Будет нам тоскливо.
Как в сентябре 2019 года. Холодный коридор роддома. Дежурная медсестра с выцветшими глазами смотрит на экран дорожного телевизора Samsung CS 14V10R. У мамы такой был, стоил четыре тысячи рублей в 2011 году в “Эльдорадо”. Работал исправно. Где он сейчас, кстати? Wifi слабый, приходится смотреть канал “Домашний”. В огромных одноразовых тапках “гуляет” стопа. Но хоть кто-то гуляет, хоть что-то домашнее.
Да. Здесь однозначно будет тоскливо.
— Я надеюсь к Пасхе выписаться, мы обычно ее отмечаем всей семьей в деревне у бабушки.
— У мамы вашей, которая прыщ нашла?
— Да не, у бабушки. Мама тоже туда приезжает.
Офигеть, у нее еще бабушка жива. Сколько ей? Сорок пять?
Жаль, если не успеем выписаться, я Ване наряд заказала на Wildberries.
— На Пасху наряжаться нужно?
— Ну мы же празднуем. Посмотрим, конечно, на самочувствие Ванечки. Пока ему еще антибиотик дают и швы обрабатывают. Жалко малышей, такие маленькие.
— Да уж, рановато для операций.
— Пока Ваню резали, я разговаривала с родственниками, они меня успокаивали. Так бы сдурела от ужаса!
— Хорошо, когда есть поддержка, да.
— Ты одна, что ли, воспитываешь?
— Нет, у меня муж есть.
— А родня помогает?
— Помогает.
Зачем я это сказала? Никто же не помогает.
— Правда, все в основном в Сибири.
— Ребенка раздевайте и в операционную. Готовность пять минут.
***
— Мам, привет! Мы с малышом в больнице. Он сейчас под наркозом, а я хожу возле двери и считаю зеленые ветки на линолеуме. От двери до стены их ровно восемьдесят шесть. Я предположила, что если число будет четным, то операция закончится успешно. Досчиталась до восьмидесяти пяти, испугалась, но потом заметила, что восемьдесят шестая-то есть! Просто она побелела под сыпью штукатурки. И значит, все будет хорошо.
— На ужин проходим!
— Кстати, отец звонил полчаса назад. Беспокоится. Приятно. Но вообще так хочется зажмуриться, топнуть ногой и оказаться дома. В месте, где я могу упасть в твои мягкие и прохладные руки, а ты в сотый раз скажешь, что “все пройдет, пройдет и это”. Я знаю, что взрослые способны поддержать себя сами, но именно сейчас так хочется быть самым маленьким человеком в нашей крохотной хрущевке, в городе, о котором с любовью вспоминают только постаревшие работники комсомольских строек. Я не люблю Усть-Илимск. Ты знаешь, я не могла в нем вынести больше трех дней. Этих семидесяти двух часов более чем хватало, чтобы съесть все конфеты “Левушка”, выпить несколько литров чая за полуночными беседами о тех, кто когда-то был рядом. А что еще там делать?
— Ну что круги нарезаешь, пойдем на ужин.
— А, да я не смогу сейчас есть.
— А потом не будет! Там запеканка творожная, съешь пару ложек, сил прибавится. А то потом малыша плачущего вернут. А ты голодная и уставшая, как качать будешь?
Как в первый раз, в 2019 году, в роддоме №6 города Минска. Сколько я тогда не ела? Месяц?
— Пусть здорового вернут, главное.
— Вернут. Ванька вон уже сесть может. Нас на выписку готовят. А то что мы, как неудачники, тут на выходных будем. Попросила маму конфет купить врачу, чтоб наверняка выписали. А она и кулич да яйца зачем-то притащила. Оставить тебе?
Не-у-дач-ни-ки.
— Не, мне принесут.
— Так лучше мое съешь, что я это домой потащу. Все натуральное, мама делала с бабушкой.
— Да мне тоже сделают. Испекут.
— Твои ж в Сибири?
— Прилетят.
— Ну ладно.
— Запеканка, кстати, вкусная.
— Да, изюма много.
***
— Привет, мам, а помнишь, как мне в четыре года вырезали аденоиды? Это мое первое воспоминание о больнице. Операция была ужасная, меня посадили тебе на колени, запрокинули голову и холодными щипцами дернули что-то в горле, после чего я несколько минут извергала кровавые потоки в пластмассовый зеленый таз. Сейчас я вспоминаю это как приключение, но тогда… Вряд ли мой сын запомнит свою первую больницу, но я все равно стараюсь его здесь веселить. Это ведь тоже жизнь! И он уже поправляется.
— Малыш, отдай карусель Ване. Он уходит.
— Эй, дружок, мы уходим, тебе тоже скоро игрушки принесут, не переживай.
— Игрушки, точно. Надо попросить принести игрушки.
— Ну же, давай. Хватить плакать, это не твое, отдай уже.
— Да ладно, давай эту карусель вам оставим, потом как-нибудь заберем. Так плачет.
— Нет, так нельзя, это ваше. Поплачет и перестанет, отдавай давай!
— Ой, малыш…Давай все же подарю, у нас дома похожая карусель есть.
— Не надо нам ничего! Мы справимся. Не надо, у нас все есть, идите уже, у нас все хорошо, он просто плачет, он просто ребенок и это каприз.
— Ну…смотри сама. Отдыхайте тогда. Пошли мы.
— Спасибо! С приближением Пасхи. Светлой.
— И вас.
— И вас.
***
— Христос воскрес!
— Воистину воскрес! Измеряем температуру и по палатам, буду кварцевать.
— Царская у нас палата, сын, ничего не скажешь. Места много, еду выдают, жаль помыть голову негде. Точнее, есть, но как же я тебя одного оставлю? Мы с тобой неразлучники — я держусь за тебя, а ты — за меня, что мы без друг друга?
Близкие друг другу — свет. Кто это сказал? Или там про другое было? Да какая разница — точно свет.
Я это поняла лет в семь, когда, засыпая, смотрела на тонкую желтую полоску под закрытой дверью в мою комнату. Когда она горела — было нестрашно. Когда гасла — тревожно. Что там, в другой комнате? В порядке ли? Порой в темноте было невыносимо, и я шла навстречу страху, держа за плюшевое ухо своего друга-зайца. Мы видели, как спит отец, как под тусклым лучом ночника мама читает толстую книгу “Дорога уходит вдаль”. Тонкой полоски света не было, а близкие все равно были. Сразу хотелось спать.
— Передачи привезли, кто ждал?
Когда умерла мама, все потемнело, свет остался только на разбитом экране старого айфона. Последние сообщения в мессенджере были о погоде и о том, стоит ли покупать красивую одежду на выписку из роддома. Я, кстати, до сих пор не знаю ответ. Галочка о прочтении не появилась, зато появилась тяжесть в груди и уверенность в том, что все хорошее — в прошлом.
— Восьмая палата, вам тут целый пакет куличей с игрушками.
— А может, и не все.

Дед
Вчера вернулись из Португалии. Несколько дней идет *** с Украиной. У нас оттуда, правда, никого, но кто же точно знает. Мы летели с мужем из Лиссабона, и я не переставала думать о деде Якове. О том, что мы никогда с ним ни о чем не разговаривали. Да что разговаривали, мы почти друг друга и не знали. Что такое два года для ребенка и два последних года для уходящего из жизни человека. Я так жалею об этом. Прилетели поздно, в половине первого ночи, и когда приехали домой, я первым делом взяла фотографию деда с бабушкой, где они стоят, прижавшись друг к другу. У деда широкие брюки, какой-то обширный пиджак и мягкая шляпа, а бабушка так хорошо улыбается, взяв его под руку, у нее смешно расставлены носки туфель, как у балерин в пятой позиции. Мама, как увидела эту фотку, рассердилась: «Что ты выставила, они тут как колхозники!» А мне она нравится. Они такие настоящие оба. Дед серьезный, но видно, что хочет улыбнуться в объектив, а бабушка и не борется с улыбкой. Покрутила рамочку под ночной лампой, рассмотреть их еще раз. Эта фотка дает мне сил. А сейчас это так важно. Не могу успокоиться, все время плачу, не могу поверить, что началась ***, в России сейчас нельзя произносить это слово, заменили «специальной операцией», а тех, кто против, забирают в отделение, кому повезет, отпускают, кому нет — сажают. Пишу все это и сама не верю своим словам.
Не знаю, почему я вдруг стала думать о деде. В Португалии всплыла тема о важности отцов в жизни дочек, не просто детей, а именно дочек. Я почти всю беседу промолчала. Дед, наверное, и не сомневался, каким будет мой отец, только почему тогда не отговорил маму выходить за него замуж? Она говорила, что родители запретили ей иметь ребенка без мужа. А ей было всего двадцать. И она вышла. А потом родилась я, и дед потерял голову от любви ко мне. Может, вспомнил своего первого умершего ребеночка и везде со мной таскался. Боялся, что упаду, когда училась ходить, и долго не расставался с детскими «вожжами», покупал книжки с картинками и голубые платьица к глазам, и мое первое слово было «деда». А потом он заболел, и я помню, как приходила медсестра, как я плакала, когда она делала ему уколы, помню ее черный чемоданчик на стуле в комнате. Мама не верила, говорит, не могу помнить, я была слишком маленькой, мне не было и двух лет, пока я не описала ей точную картину того прихода врача. Дед с бабушкой жили в коммуналке на Врубеля, а мама с отцом и свекровью на Алабяна, и дед всегда гулял со мной в поселке художников, а когда уже не мог вставать, то попросил маму не приводить меня, ему было слишком тяжело. А потом его не стало. Почти сразу после моего дня рождения в апреле. Через несколько дней. Я видела потом фотографии. Меня всегда удивляло, зачем делают фотографии похорон. Это же страшные фото. Печальные люди, заплаканные женщины, открытые гробы с ушедшими. У них холодные белые лица. Разве не лучше оставить на память фото живых?
Я выросла. У меня даже дети выросли. Я родила девочку, назвала ее именем бабушки. Лиза. И мальчика. Он носит имя его деда со стороны отца. Андрей. Удивительно, что в нашем роду и у меня, и у детей не сложилось с отцами. Их папа умер, когда они были совсем маленькими, а мой просто не присутствовал в моей жизни, а когда присутствовал, мне хотелось, чтобы он вообще исчез. И после всех этих разговоров там, в Португалии, я начала думать о деде, я не хотела думать об отце. Ни о том, что, наверное, он ни в чем и не виноват, это все жизнь, водка и болезнь. Но я не люблю думать о нем. Почти все воспоминания об отце это панический ужас перед пьяными. А когда я думаю о деде, то я тоскую по бабушке. Она так и любила деда до самой смерти. Она прожила без него еще долгую жизнь. Меня вырастила и моих детей. А я уехала потом далеко и навсегда. Почему так выходит в жизни, и почему мы уезжаем от любимых людей? Погоня за счастьем? За лучшей жизнью? Я не знаю. Я жалею о бабушке, но не жалею, что уехала. Вспоминаю бабушку: когда утром я уходила в школу, она всегда махала мне из окна, пока я ее видела, а когда возвращалась, она опять улыбалась мне из нашего окошка третьего этажа. Сколько детей, которые уезжают сейчас из Украины, будут плакать по своим бабушкам…
Нам так о многом надо было бы поговорить с дедом. Я бы ему рассказала и про школу, и про институт. Про то, как заболела, еле выжила. Как влюбилась, родила детей от любимого парня, а он умер, два месяца не дожил до двадцати пяти, и я озлобилась на всех, решила свалить к чертовой матери. Так и вышло. Уехала с французом. Чтобы ничего не вспоминать. И не говорить о своей любви. Сейчас уже жалею, что почти никогда не говорила с детьми об их отце. Закрыла в сознании дверцу в эту часть воспоминаний и выкинула ключ далеко-далеко в море, чтобы никогда не найти.
Море. Оно играет такую важную роль в моей жизни. Никогда бы не подумала. Родиться в поселке Сокол, пойти в школу на Речном, как самый обычный московский ребенок. Ездить иногда на дачу к друзьям, но так влюбиться в море? Еще когда мама только познакомилась с моим будущим отчимом и мы стали ездить на все лето на море, оно завораживало меня, я могла смотреть на волны часами, как на огонь в камине. Помню, мы ходили ночью купаться голышом и наши тела блестели и переливались синим в темной воде под лунным светом, оказывается, это такой планктон, который ночью светится! Дед тоже любил Кавказ, мама рассказывала, он возил ее к морю, бабушке было нельзя на солнце и она ждала дома, а дед писал ей каждый день письма и увез маму домой на несколько дней раньше срока. Забавно, что и мои дети полюбили море. Лизочка говорит, что никогда не сможет жить в городе без моря. Удивительно.
После Москвы я долго жила в Париже. Целых семь лет. Потом переехала в Ниццу и теперь скучаю по любимому Парижу так же, как скучала раньше по Москве, до боли в сердце. Когда я возвращалась из Франции в Москву, все казалось таким красивым — ночные трамваи, светящиеся окна домов, обшарпанные арки, пыльная листва Тверского бульвара. Сейчас я очень люблю фотографировать, но тогда у меня не было фотоаппарата, да и не только у меня, почти ни у кого не было. Но я навсегда запомнила те картинки Москвы. Наверное, я больше никогда не смогу вернуться туда. По крайней мере, сегодня я думаю так. Мне так страшно и больно от этого, да и не только. У меня нет новостей от моей Танечки, которая выехала вчера под бомбами из Киева в Мукачево, я даже не знала названия этого городка рядом с границей Венгрии. Вчера она должна была ночевать на вокзале, комендантский час ведь, а сегодня должна добраться до семьи ее сестры, они уже в Венгрии, но пока не выходит на связь. У нее с собой маленький рюкзак и крохотная собачка. Я так боялась спрашивать, если она смогла взять собачку с собой. Она говорит, что берут всех, люди без вещей, но с переносками с кошками, клетками с птицами, с большими собаками. Я плакала и просила простить меня, она меня успокаивала, не я ее. Она говорила, что больше не может плакать и устала бояться, хочет только добраться до сестры и выспаться. Я жду ее к нам, но не знаю, если она сможет доехать так далеко. Хотя бы знать, что она жива и в безопасности. Она прочла мое сообщение в восемь утра, и так и не ответила, может, мало батареи.
Все время думаю о Танечке, о бегущих от беды семьях, об этих круглолицых малышах в вязаных шапочках с помпонами, у всех эти трогательные шапки с пушистыми толстыми помпонами, как у моих детей в детстве, слезы катятся по щекам от злости на собственную беспомощность, на то, что решения принимаются людьми, которым наплевать на эти помпоны. А это так важно, чтобы у ребенка была теплая мягкая шапка, иначе у него заболят уши и он будет плакать ночи напролет, как я в детстве, а бабушка грела мне уши лампой с синим светом и делала водочные компрессы. У ребенка должна быть шапка с помпоном, мама и папа, собачка. У ребенка должен быть дом.
Когда приедет Танечка, мы крепко обнимемся, наплачемся, я накормлю ее, положу спать. А быть может, мы будем с ней разговаривать всю ночь, как каждый раз, когда она приезжает. А на следующий день мы пойдем на море. Я знаю, она очень любит море, как и я. Море это свобода и красота. Красота человеческой жизни, красота перемен, игра красок и теней. Море всегда разное и всегда неизменное. Море бесподобно и непредсказумо. Море и есть жизнь.
И еще мы первый раз за все время будем говорить о деде. О моем единственном и замечательном дедушке Якове, фото которого она никогда не видела, я хочу, чтобы она знала о нем. И чтобы она знала, что он тоже обнял бы ее крепко-крепко. У меня был хороший дед. Он знал цену жизни.

Дознание
Как всегда, задерживаюсь на работе. Специально. Пересчитываю карточки учета несовершеннолетних с моего участка, заношу цифры в таблицу.
Марченко Елизавета 17.07.1983 г.р. — употребление спиртных напитков, член группировки. Убираю в архив. Не дотянула три месяца до четырнадцатилетия. Повесилась дома в ванной через неделю после группового изнасилования друзьями. В классе была изгоем, в компании отморозков — звездой. Больше не могу. Завтра напишу рапорт на перевод в дознание, давно зовут.
Работала спокойно в детском саду воспитателем, пела и танцевала на утренниках с малышней, мастерила поделки. На глаза попалось объявление в районной газете о наборе инспекторов с педагогическим образованием. Звезд на погонах захотелось и высокой зарплаты. Защемило прошлое, потянуло спасать детей. И надо же было начальнику из двух десятков кандидатов выбрать именно меня.
Отдельная стопка — неблагополучные семьи. Три папки кропотливой работы нескольких лет на лишение родительских прав. Там уже опасно оставлять детей. Не факт, что в интернате им будет лучше. Дети всегда не хотят расставаться с родителями. Защищают их, выгораживают. Всего один случай, когда мальчишка из начальных классов подбросил записку директору школы с просьбой забрать его в детский дом. Отчим издевался, избивал, мать разделяла методы воспитания.
Пытаюсь забыть свое, защищаю детей от нерадивых родителей, жестоких сверстников и равнодушных педагогов. Никто лучше меня не понимает подростков из пухлых карточек. Никто не подозревает, как эта работа разрушает меня.
Родители строили БАМ, жили в бараке. Семейные пьяные ссоры часто заканчивались дракой. Мы с братьями боролись как могли за их любовь и внимание. Я громко, с выражением читала стихи, тянула шпагат, демонстрировала мостик, поднимая языком с пола пятак. Отец мной гордился, крепко обнимал и целовал. Мама сбежала от него без развода и алиментов, когда мне было шесть лет. Решила за всех.
Когда мне было семь, прибежала изумленная соседская девочка и просветила на куклах, откуда берутся дети. Я сделала вид, что впервые слышу.
Незадолго до этого наблюдала через прищур глаз, как дядька из компании утолял похоть c маминой подругой. Она сопротивлялась тихо, боялась напугать спящих детей.
И мама активно устраивала личную жизнь. Я перестала ночевать в ее комнате, чтоб не видеть.
Когда мне было девять, она уехала в город за новогодними игрушками и не вернулась. Прошел день. Второй. Мы дома одни. До праздника чуть больше недели. Старший брат с друзьями притащили елку из леса. В доме тревожно. На каждый шум мы выбегали с надеждой.
Маму поместили в вендиспансер на два месяца, а нас определили в интернат. Мои длинные волосы остригли наголо. Любимые платья раздали в общее пользование.
На прогулке возле учебного корпуса встретился знакомый дяденька из нашей деревни. Он работал на складе. В маленькой каморке с диваном угостил «Морскими» конфетами, выпил с горлышка водки и запустил грязные руки мне в трусы. От испуга пошла носом кровь, заляпала его свитер. Мужик замешкался, я успела убежать.
Маму любила, скучала по дому. Нам предлагали остаться в интернате, обещали отпускать по выходным и праздникам. Мы не согласились.
Самое сложное было явиться в косынке в класс. В первый же день пионервожатая вызвала меня из строя и унизительно отчитала на линейке за отсутствие парадной формы. На кружке по вышиванию мама мальчика, который носил мой портфель и провожал до школьного автобуса, спрятала нитки мулине в шкатулку и сказала, что нужно приходить на занятие со своим материалом. Новое правило касалось только меня.
В магазине, когда подошла наша очередь, мама положила тридцать две копейки за две булки черного хлеба. Продавец закатила глаза, намазанные синими тенями, к накрахмаленному колпаку и громко цокнула. Ехидно улыбаясь напомаженным ртом, выказывая брезгливость, высоко подняла блюдце и медленно высыпала мелочь в лоток, не пересчитывая.
Мамины подруги вдруг стали загружены делами. Многие односельчане перестали с ней здороваться. Соседская бабушка впервые не заняла десятку до получки, и мы швыркали чай без сахара и печенья. Старший брат успел вынуть из петли пьяную маму.
Проверки родительского комитета участились. Нафуфыренные офицерские жены из военного городка, где находилась школа, расхаживали в обуви по комнатам. Они осматривали обстановку, содержимое шкафа и холодильника, многозначительно переглядывались, поднимая бровки домиком. Меня бесило, что мама молчит. Сдерживая ярость, я грызла до крови кожу кончиков пальцев и ногти.
То мы подводили маму, прогуливая школу, то она подшофе ходила на дойку.
Однажды комиссия приехала, когда мы спали. Разбудили, чтоб проверить выполнение домашнего задания. Ночью мне пришлось учить басню «Стрекоза и муравей», Валерке — читать параграф по истории, младшему — решать примеры. Нас записали на продленку с бесплатным питанием. Старший брат отказался ходить.
Осенью 1984-го мне было двенадцать и я уютно лежала в больнице с гастритом в Северодвинске. Экзекуция с глотанием зонда для забора желудочного сока и диетический стол казались мелкими неприятностями по сравнению с военными действиями дома. Настойчивому желанию мамы устроить личную жизнь с дядей Витей препятствовал наш старший брат Валера. Он учился в восьмом классе и не желал видеть мужиков рядом с ней.
— Вырастите и разлетитесь, а мне потом что? Век одной куковать! — кричала подвыпившая мать.
Валерка выражал протест прогулами, прятался под кроватью. Потом открыто заявил, что в школу больше не пойдет.
В октябре мама с братом навестили меня в больнице. Он, довольный, хвастался обновками. Отношения между ними налаживались.
В начале ноября меня забрал дядя Витя прямо с процедуры. Врачи обещали прислать выписку по месту жительства. Без объяснений происходящего, посадил в электричку. Мы ехали в разных вагонах. Он сказал, что так надо. Велел на станции не дожидаться его. Завидев деревенский автобус, я поспешила занять любимое место на колесе. Меня потряхивало от холода и неопределенности, от плохого предчувствия. Странные взгляды односельчан настораживали, когда я приветливо здоровалась.
Проехали мост у деревни, и одна из бабок с первого сиденья повернулась и показала на меня рукой:
— Так вот же, дочка той самой доярки, у которой сын пьяный замерз.
— Пропила парня, курва, — добавила сидевшая рядом с ней старуха, покачивая головой.
Будто окатили кипятком. Я закусила варежку, чтоб не взреветь. На первой же остановке выскочила. Слышала, как водитель автобуса, наш сосед дядя Сережа, выматерился на сплетниц.
Я не бежала — летела домой. Ветер продувал пальто насквозь. Лицо кололо иголками от замерзающих слез, зубы стучали, тело сковывала дрожь. Встречные люди останавливались и провожали взглядами.
Возле дома меня перехватила зоотехник. Сказала, что дядя Витя сейчас привезет на совхозной машине Валеру и нам лучше с младшим братом переночевать у нее, набраться сил.
По дороге она рассказала, что Валера с мамой праздновали проводы в армию соседа. Поздно вечером брат попрощался с подругой у ее дома. Видимо, хотел сократить путь огородами, но его развезло от водки, он упал и уснул. Брата нашли на рассвете. Умер на маминых руках.
Младшего решили оградить от похорон. Утром я побрела домой. Вошла осторожно. Холодно. Все одеты тепло. Несколько теток сновали с кухни к соседям. Еду готовили там.
— Инга, проходи, проходи. — Кто-то взял меня за плечи, подтолкнул, направляя в зал. Наискось стоял гроб, в нем Валера. Мама сидела, держалась за край руками, склонив голову. Услышала мое имя, взглянула, криво улыбнулась. Лицо черное, опухшее. Непохожа на себя.
— Иди ко мне, не бойся, — еле выговорила. Я остолбенела. С места не сдвинулась. Валерка! Лежит. Красивый. Спит в новом пиджаке и рубашке. Так и не подчинился школе, не подстриг отросшие смоляные кудри.
Кто меня теперь защитит. Кто успокоит мать, когда она начнет съезжать с катушек. Я не справлюсь, нас заберут опять в интернат. Развернулась, пошла в свою комнату. На столе гора приготовленной посуды: ложки, тарелки, рюмки. С краю таз хлеба. Ювелирно нарезали. Зазвенело в ушах от мыслей: «Валеру унесут. Все припрутся сюда жрать и пить “Столичную”. Мать накидается до беспамятства. Они уйдут. Я буду караулить, чтоб опять не залезла в петлю. Нужно спрятать баллон с газом».
Накрыла ярость. Не смогла больше сдерживаться. Схватила край клеенки, дернула из последних сил. Звон бьющегося стекла. Полегчало. Жар растекся по телу. Слабость. Руки и ноги обмякли. Я против. Против всего, что происходит в моем доме. Засуетились, подхватили, уложили в кровать, на ворох чужой одежды.
Тихо плачу. Хочу просто остаться с братом вдвоем. Хочу упасть ему на грудь и лежать рядом, молчать долго под радио. Потом разговаривать обо всем и мечтать, чтоб родители помирились. Хочу слушать пересказ прочитанной им фантастики и признание, что все это сочинил он. И мы бы смеялись. Долго.
Так я осталась за старшую. Когда дядя Витя вернулся к своей жене, мама пыталась покончить с собой. И не раз. Я выливала водку и разгоняла сборища. На собрании в сельском клубе ей вынесли последнее предупреждение, обещали лишить родительских прав. Мне с братом пришлось научиться вести себя так, чтоб никто не догадался, как плохо у нас дома. Я разлюбила фантастику.
После 8 класса, в пятнадцать лет уехала к родственникам в Сибирь, где была никому не нужна. Главное, мое прошлое никто не знал.
Сейчас я сижу в этом кабинете и думаю над пятой заповедью Господа: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, да долголетен будешь на земле». Понимаю, что на исповеди еще ни разу не покаялась в смертном грехе. Наверное, поэтому мне нет женского счастья и дома никто не ждет.

И всем плевать
Мы идем с мамой в пивнуху на рынке недалеко от дома. Мне восемь. Через два года она порежет отца за измену, а пока она в темных очках, скрывающих следы побоев. Мама идет к друзьям. Я не знаю, что это за друзья такие. С моими друзьями мы ходим вместе в школу и учимся на уроках, гуляем во дворе и соревнуемся, кто ловчее вывернется на паутинке с облупившейся краской, ну или бегаем друг к другу в гости играть в лего, приставку. Я не знаю, что это за друзья такие.
Обрюзгшие мужики в кожанках. Их руки в маслянистых крошках сухариков, говорят о какой-то фигне. Мама с ними такая незнакомая мне. Время идет, я нервничаю.
— Нам пора домой, надо делать уроки, пойдем, пожалуйста, папа снова надает тебе пиздюлей.
Ее друзья ржут.
— Откуда это ты, малой, знаешь такие слова.
Я не слышу, что ты отвечаешь — пытаешься влепить мне по губам подпитой ладонью. Я уворачиваюсь. Мне обидно. Снова потом будешь говорить, что это из-за меня тебя отец поколотил.
Мы едем с мамой в Геленджик. Мне почти десять. Санаторий, море, чайки, караоке на бульваре — все дела. Мы подружились с другой такой парой. Мамки сразу заобщались, а с Васей мы вообще походили на братьев. Васе четырнадцать, и однажды его оставили присмотреть за мной в номере, пока сами ушли за продуктами. Вася мне очень нравился — особенно стрижка и то, как по-теплому он на меня смотрел.
Рынок, куда пошли мамки, был недалеко, и времени у нас наедине оставалось мало. Я офигел от такой удачи, ни с того ни с сего повалил его на пол и полез к нему в трусы. Вася тоже офигел и даже не успел толком отмахнуться. Да и не надо было. Руку я отдернул быстро. Мне никто не говорил, что в четырнадцать у парней уже есть лобковые волосы. Стало стыдно и противно, я отстал от него. Мы сели на разные кровати, да так и сидели. Он таращился на меня и молчал, пока мамки не пришли. В память о нем я потом постригся так же, с чубчиком.
Через неделю мы вернулись домой, и мама порезала отцу ногу — узнала, что у него есть другая женщина и другой сын. Тетя Мария повезла его в больницу, маму забрали в милицию, а я сидел с друзьями во дворе и хихикал над Петькой — он вляпался в собачью какашку и пытался вытереть пальцы подорожником.
Родители развелись.
Я целовался в сугробе. Мне пятнадцать или около того. С Мариной я встречался недавно — нас познакомил Марк на одной из перемен, когда мы обсуждали школьный театр. Марк классный, и мне очень хотелось с ним дружить. Он, судя по всему, был не против — все равно вместе отбываете этот срок. Он шутил надо мной и моей фамилией, обзывал прыщавым педиком, а я давал ему списывать домашку по русскому языку.
— Ты слишком умный, чтобы с кем-то встречаться, Дим, — сказал он однажды. Я запомнил эти слова. Поэтому на Марину я обратил особое внимание — пусть Марк видит, что я и умный, и могу встречаться, с кем захочу.
Встречаться с ней мы начали как-то просто и невзначай: оставались после уроков в медиастудии, что-то вместе сочиняли, при встрече в столовке целовались в щеку (тогда это был суперзнак, вы старшеклассники — только они так здороваются). Мы даже записались петь на концерте к дню святого Валентина. Репетировали изо всех сил песню Рики Мартина про тайное чувство. Да и увлеклись. Собственно, это Марина повалила меня в сугроб на катке, когда по парковому радио заиграла «наша» песня.
Знаешь, Марина, я бы очень хотел хоть что-то почувствовать в тот момент, но я не испытал ничего, кроме омерзения — твои губы слишком мягкие и маленькие, ты нелепая до охерения, недалекая, девушка-фантик. Ты не он. Я понимал, что догадайся Марк, что он мне нравится — я бы навсегда превратился в Прыщавого Педика. План был простой и коварный. Я даже начал курить, чтобы после уроков ходить с ним и ребятами тусоваться во дворе за булочной. Марк — местная звездочка — мелированные волосы, джинсы на бедрах, подпоясан ремнем с модной бляхой, нокиа что-то там с камерой. Словом, секс и талант. Марина, я с тобой, чтобы сойти за своего: тусоваться с вами, ходить на репетиции, где в программе пел он, быть классным. Такие дела.
Потом на концерте я буду так нервничать, что херово спою, что реально херово спел. Зрители все равно аплодировали. Но я-то знал, что все было очень плохо. И пока ведущий объявлял выступление Марка, я уже ничего не мог рассмотреть. Перед глазами то и дело мелькали папины кулаки, а в ушах звенели мамины визги.
— Мало быть Овсиенко — нужно еще уметь петь, — сказал Марк перед своей песней и улыбнулся своей фирменной. Все смеялись.
Я два дня лежал в своей комнате и давился втихаря слезами, а в понедельник просто подошел к нему и двинул учебником после урока литературы. Какой же ты мелированный мудак.
Я увидел, как моя одноклассница Аня отсасывала своему парню в подвале той самой булочной, где мы обычно курили c ребятами перед и после уроков. Мне шестнадцать, иду на золотую медаль. С Аней мы дружили. Она знала и про Марка, и про Марину, и про родителей. Еще мы читали стихи друг друга, оставляя смайлики напротив особо полюбившихся строчек. Она встречалась с готом: черные волосы до плеч, кожа и металл, сигареты и портвейн. Их сексуальность меня очень интриговала.
Как-то после школы мы вдвоем пошли к ней домой, смотрели «Заводной апельсин», курили в душевой (чтобы не воняло), и Аня разрешила трогать себя.
— Ну как тебе? — спросила она.
— Это было не так мерзко, как поцелуи в сугробе. С тобой у нас действительно есть связь, — ответил я.
Через несколько недель алкаш отец выгнал Аню в жуткий дождь стоять во дворе в одной ночнушке. Она постояла полчаса и пропала. Мы тогда ее искали всем классом и, конечно же, нашли. Та еще бунтарка.
Однажды я напился и отсасывал своему парню в подвале секретного бара в центре Москвы. Мне двадцать четыре. Я такой пьяный, что даже говорю по-французски с каким-то красавчиком. Я боюсь, что ты видишь, как я с ним флиртую. И чтобы не наломать дров, ухожу в туалет. Он такой огромный, что я тащу тебя туда, и ты хорошенько дерешь меня. Вернувшись за стол к друзьям, я молчу — боюсь запаха изо рта. Пью еще и катаю джин по полости рта, чтобы перебить запах секса. На следующий день, в похмелье, мы ссоримся, ты бьешь меня, и я ухожу во двор плакать на баскетбольной площадке. Не первый и не последний.
бабушка умерла мне только-только двадцать пять денег ноль секса ноль музыка сдохла мальчик в ноль дом работа работа дом интервью и первый альбом знаешь марк с фамилией овсиенко я пою я пью я глотаю а ты непойми где непойми как а ты с чубчиком как ты там в своем краснодаре вспоминаешь меня а ты анечка все также мерзнешь где-то а ты мамочка отхватываешь пиздюлей от очередного козла с ореховой пыльцой на пальцах интервью и первый концерт после концерта в катакомбы на кузнецком мосту кто-то ебет меня в даркрум а я даже не знаю нравится ли мне утром все равно не помню тусовка тусовка плакать в одеяле неделю концерт интервью порванный директ порванное очко о том ли ты мечтал Дима когда таскал папин диктофон и выл в него в туалете день в день ночь в ночь кажется я знаю все гостиницы города где можно неприглядно трахаться без камер давай рок давай ролл давай кислоту какой стыд а ведь просто хотел быть как Марк красивый и милый а случился очередной секс в большом городе я так больше не могу заверни меня в фольгу
Однажды я вел сонграйтинг в креативной школе. Мне тридцать один. За плечами рехаб, терапия и таблетки. Один из студентов шантажировал меня. Он хотел зачет, а я не хотел канселинга. Я не помнил его. Его же айфон помнил все: голые фото, грязные видео.
Мне снова восемь, я не хочу пиздюлей.
Мне снова десять, это моя рука в собачьем дерьме.
Мне снова пятнадцать, и не нужен еще один выкрутас в духе Марка.
Мне снова шестнадцать и мне стыдно, что другие увидят, как я сосу его член.
Мне снова двадцать четыре, un rendez-vous improvisé sous la lune, sourires crispés, situation compliquée.
пять мне двадцать умираю и я снова
Мне тридцать один. Я шлю тебя нахуй, и ты кидаешь ссылку на облако в чат курс. Все всё узнают. И всем плевать. Тебя отчисляют. И мне плевать.
***
Танцпол тонет в лязге техно, мы стоим у бара. Сетка зеленого лазера рассекает твое милое лицо. Я чувствую, ты уже устал танцевать. Я опрокинул вторую стопку коньяка и, морщась, смотрю тебе в глаза. Капли пота текут с твоей челки на бровь и скатываются ниже — на рыжую бороду. Ты облизываешь верхнюю губу:
— Я уже столько выпотел, что с меня льется тупо вода — без вкуса, без запаха.
— Да, плотно и душно, — соглашаюсь я. Бехеровка со льдом и вишневым соком холодно горячит глотку.
— Технобаня, бля, — улыбаешься в ответ, ты милый парень. Надеюсь, ты понимаешь это.
— Я очень давно не бывал в этом районе — раньше ездил сюда к папе на работу. Он еще пугал меня, что если буду плохо учиться, то однажды окажусь здесь на Угрешке перед этапом в армию.
— Как мило.
— Да пиздец, у нас с ним особо не сложилось. Такая гей-классика. Хотел бы я быть смелее. Если бы он все знал про меня, может, тогда бы у него действительно был повод ненавидеть меня. — Я наклоняюсь к твоему уху и нежно загибаю мочку внутрь — так лучше слышно, мне не приходится орать.
— Ты куришь? Хочешь выйти на улицу со мной?
— Да, пойдем. Только возьму куртку из гардероба — не хочу заболеть.
— Конечно. — Беру его за руку и увожу по лестнице к гардеробу.
Мы сели где-то за уличным танцполом. Ты достаешь набор для самокруток, колдуешь пьяными пальцами. Солнце освещает сквозь ветви твою мокрую шею, и мне так хочется гладить тебя:
— Обожаю этот фестиваль. Пожалуй, единственное место, куда я рад возвращаться. Здесь так много места, что можно и скрыться вот так ото всех, или пойти в гущу толпы и блядски тереться о мокрых красавчиков.
— Тебе скрутить? — Поправляешь табак в гильзе и прикуриваешь. — На возьми, я себе еще сделаю.
— Спасибо. Да, тут хорошо.
— Ты был в катакомбах? Там реально все трахаются?
— По идее, да, но я туда ни разу не ходил. Мне кажется, это так мерзко — трахаться в подвале завода.
— Хм, ну кому-то нравится. Это же такая вечеринка.
— Да, ты прав. Так странно работает мозг.
— О чем ты?
— Тут был мой первый секс с мужчиной. Тут неподалеку, — виновато улыбаюсь и глажу себя по волосатой коленке. — До сих пор не верится, насколько мне тогда хотелось перепихнуться, чтобы вот так уехать на Дубровку и перепихнуться не пойми с кем. Он был старше, чем мне хотелось бы. Помню, я тогда ни хера не понимал, как готовить себя к сексу, и когда он вошел в меня, я все переживал, что я… ну ты понимаешь… грязный. Так себе опыт. Потом он спал, а я всю ночь жался к спинке дивана. Все ждал, пока наступит утро, чтобы уйти оттуда поскорее…
Ты смотришь и будто приходишь в себя:
— Блин, прости. Просто вот мы с тобой сидим тут и говорим о сексе в подвале, а оно вон как…
— Мне норм. Что-то вспомнилось. Подумал, ты поймешь меня.
— Спасибо, что поделился, конечно. Значит, это был твой первый раз?
— Да. Мои родители давно были в разводе. Выпускной класс. Я тогда еще сочинил крутецкий план: отец думал, что я уехал к маме, а мама ждала меня на следующий день…
— Ты с папой жил?
— Ага. Так страшно было, что он все узнает. Я с тем мужчиной в смс-чате познакомился, а номер был на папу зарегистрирован. Я все ждал, что ему придет какой-то счет за переписку в этом чате, и он меня побьет и выгонит из дома. Мол, сын — пидор.
— Он не узнал, да? А сейчас знает?
— Нет. Мы несколько лет нормально не общались. После инфаркта он стал как-то теплее со мной, да и я справился с этим. Спасибо терапии. Я так ему ничего и не рассказал, не понимаю, зачем. Давай еще выпьем, а то что-то прям too much.
— Да, пойдем.
Я молчу, пока мы идем к бару. Вокруг парни и девушки в коже, в техно-робах, блестки, парики, спортивки — сколько вас тут таких, молчащих о себе за границей завода, там, во внешнем мире? Сколько вам сейчас лет?
Я хочу обнять кажд_ую из вас и уберечь.

Кайчи
— Кем мында? (Кто там?).
— Шебелдей (Чудовище).
— Кем? (Кто?).
— Алаккан кыс (Растерянная девочка). Корукте кайзы ачыкта (Бурундук, на которого охотятся).
— Бросающийся на острые сучья? Пееде?(Так?).
— Пееде полза! (Так и есть!). Он знает, что не проживёт зиму без своих запасов, и заканчивает самоубийством.
— Тебя разорили?
— Меня разорили, выжгли, вытоптали мою землю.
— Тебе больно?
— Мне очень больно.
— Чоок? (Почему?).
— По мен чер (Это моя земля).
Девочка вбежала в квартиру. Подумала: в придачу к ободранным коленкам — она недавно упала, когда неслась за обозвавшим её «шоркой», — теперь ещё ссадина на щеке. Мама, как всегда, промолчит.
Мальчишки сидели на лавочке, обзывали её. Слова хлестали невидимой плёткой. Она прыгала в резинку, старалась не обращать внимания. Выждав момент, когда они затихли, бросилась, кому-то порвала куртку. Разбежались. Беленького в алой шапочке она зацепила. Он ей нравился, они даже общались. Теперь он засадил ей кулаком в лицо. Она подобрала прут и попыталась ударить хоть куда, лишь бы больно. Удрал, обозвал её сумасшедшей.
Девочка сидела, обхватив набухающую ссадину.
— Что там у тебя?
— Ничего.
Мама достала йод, вату, промазала рану.
— Что, опять? — глухо, безразлично.
— Ты как маленькая.
Девочка вскинула глаза.
— Я сейчас.
Мама вышла на улицу. Девочка подлетела к кухонному окну. Глухо, словно из-под сундука, доносился голос матери с незнакомыми интонациями. Ругала мальчишек.
«Ойначалар? (Играете?)» — Старенькая бабушка убирает снежную насыпь, иногда, высоко задрав лопату, подкидывает снег в ледяной дом. Мы прыгаем и орём «Доождь!», кружась в мелкой белой пыли.
— Кем силер? (Вы кто?).
— Мы снежные кроты! Нет, тюлени!
Переваливаемся с боку на бок на льду. Щёки мои горят, в носу ледяные спички.
— Пойдём, — говорю сестре.
— Куда?
— Мы птички! — машу набухшими, с ледяными шариками, рукавицами.
— Что птички делают?
— Птички ходят по земле и оставляют следы.
— Какие?
На снегу — палочка, пересеченная дугой.
— Крестики, чё ли?
Бабушка умирала легко, без мучений. Когда знают: всё, что смогли, сделали — уходят тихо, спокойно; так заря медленно угасает, а жаркий день сменяется сумерками. Ногу могли отрезать, пожить бы, насколько хватит. Бабушка благословила маму, тётушек, дядьёв, двоюродного брата, решила уйти. Каждый по очереди подходил, наклонялся, услышав, отходил. Каждому досталось тёплое слово из последних сил. Мне горько, потому что я не услышала своего. Копошилась змеиным клубком ниоткуда взявшаяся злость, удерживала — и пропустила. Вместо цветов бросали еловые ветки, гроб выбрали самый скромный, она велела. Деревце посадили в день похорон. Мы с сестрой не плакали, бабушка наказала. «Почему?» — спрашивали; «Мне будет трудно, паллам (дети)».
В день похорон сестра не унималась:
— Почему ей будет трудно? Она мёртвая, не увидит!
— Откуда ты знаешь, увидит или нет? Вдруг на самом деле она не умерла!
— Это как?
Мне трудно, я хочу биться в истерике, как тётя Валя, которая обхватила бабушку и ныла, пока не отняли. Не выплёскиваюсь, говорю первое, о чём уже знаю:
— Наверное, как тот, который сошёл с креста.
Нас положили в спальне на кровати, гроб с бабушкой стоял рядом. Мама подтыкала одеяло долго, монотонно, словно отгораживая. Меня сморило, потом то ли внезапно проснулась. Села на краешке, посмотрела на мёртвую бабушку. Тонко, нудно жужжала муха, а рот у бабушки приоткрыт. Мухи ещё тут не хватало. Она залетит в рот. Стало не по себе. Я отвлеклась, махнула на муху. Бабушка села в гробу. «Вы думали, я умерла, а я живая! Смотри!» Поднялась, пошла по комнате, как не бывало перед смертью, здоровыми ногами (слегла она от укуса собаки, началась гангрена, ей почти сто лет). Слышу, вышла за входную дверь. Вернулась ли, не помню. Я заснула мертвецки, проснулась ли, не знаю.
— Сен пол кижи? (Ты была кто?).
— Нанек (Бабушка).
— Ноо сен иште? (Что ты делала?).
— Мен чооктапчаткан,(рассказывала сказки).
— Сен пол ырыс? (Ты была счастлива?).
— Кажется, да.
— Что ещё ты чувствовала?
— Тугезе (Всё).
— Ноо пол тугезе? (Что всё?).
— Что всё вышло, как должно было.
— Кокай! Кокай! Абеей….
— У тебя крепкое яйцо! Ох и крепкое!
Двусмысленное, не понимаю. Отец с бабушкой бьются яйцами.
— Чакши, чакши, козак! (Хорош, хорош, русский!).
Папа всё-таки разбил яйцо.
— Ох, кодак о пар!
Под нос, чтобы не расслышали. Улыбаюсь, она так часто ворчит.
— Христос Воскресе! — Заходит невысокий черноглазый дядя, бабушкин брат. Улыбается, достаёт из-за пазухи крашенные яйца да конфеты, наклоняется к нам. Заметила, что голова у него седая-преседая, около глаз глубокие морщинки.
— Берите, берите!
— Эйзинох, пече! (Здравствуй, старшая сестра!).
— Эйзинох, Коля, эйзинох!
Кланяются. Христосуются.
Бабушка держит в руках горку. Ура! Мы пойдём во двор катать яйца.
Нанек (бабушка по матери) с утра долго стоит в красном углу у тёмной иконы, на которой сквозь чёрное проглядывают золотом Божья Матерь с младенцем. Церковь в деревне сожгли давным-давно.
Взрослые пьют брашку. Розовую, с пенкой, на виктории. Наверняка вкусная. Глаза у женщин заблестели: поют, смеются. За окном витают снежинки. Мы выбежали. На улице снег пошёл сплошной завесой. Совсем недавно таял погожий весенний денёк. Такая вот Пасха.
Мама говорит, что нас больше не пустят в дом. Он отошёл родственникам, бабушка завещала. Осенью мы убрали огород, ветошь сожги, подготовили землю отдыхать. «Мам, для себя?» — с надеждой. Отстраняется. Ближе к весне запасается семенами. Лето будет!
Лето стояло влажное от постоянных дождей. Мы выходили, неслись на поле специально промокнуть. Хотелось впитать последнее до капли. Ныряя, надолго задерживаю дыхание, стараясь представить, что чувствует бурундук, потерявший дом. Выныриваю, когда хочется хлебнуть воды, насмерть.
Однако всё шло в свой черёд, если можно назвать такую последовательность поступательным движением. Школа-работа, работа-учёба, учёба-семья, учёба-дитя, работа-дом. Внутри запутаннее, потому что всякий хотел подавить меня, лишить голоса, превратить в перекати-поле, с другими получалось. Мне говорили, что многие талантливые спиваются, скалываются. В кулуарах знакомый дядька-поэт пытался поцеловать, его притягивала моя экзотическая внешность, он так и сказал, что шорок, мол, ещё не пробовал. Я слышала это всё время, иногда от женщин. Никогда не сдавалась. Отстранилась, он удивился. Другие посвящали мне стихи, читали прилюдно, я краснела, думала, куда бы сбежать, поскольку за этим следует продолжение. Один из них сказал, что упомянул меня в неком эссе и теперь я должна. Поняла, что именно, когда он с упорством осла пытался увести в свою квартирку. Отказала, в отместку он стал называть меня «поэткой». Впрочем, мне было пофиг. Все знали, что окололитературная возня абсолютно никакого значения для меня не имеет. Толпе всегда скучно, она ищет талантливых простачков, которым можно лить в уши. Простачки под воздействием друзей, предвкушающих экшн, творят всякое. Один сгорел в собственном доме, другой скололся. Толпе нужны функционеры и функционерки, хорошо пишущие и хорошо управляющие, лысые (или волосатые), часто неталантливые, но властолюбивые окололитературные дядьки и дурочки-поэтесски, которых они совращают, обещая какого-то мифического блага. Толпа рада пишущим родственникам известного писателя, которым бы надо подсобить. О какой дороге для талантов идёт речь?
Нам внушали какие-то писаные истины — пиши талантливо и тебя продвинут. Но чем дальше я погружалась в сообщество, тем отчётливее понимала, что одарённость другого делает всех злыми.
Я шёлковый ломкий мотылёк, летящий на свет бабушкиного фонаря. Призрачный свет давно потухшего фонаря. Она что-то услышала, вышла на улицу, постояла на крыльце. Никого, стрёкот сверчков, тишина. Вздохнула, потопталась на месте. Я здесь, где табачные листья! Она отмахивается от налетевшей мошкары, не слышит. Я лежу на земле, мои крылья сломлены, обожгла их, ударившись о стеклянный бок равнодушного электрического света. Равнодушного ко мне мира. Я погибаю, бабушка! Кажется, она заметила, оглянулась на дорогу, за ворота. Тонко-тонко взвизгнула соседская собака, завыла. «О, паллам, паллам!» — вздрагивает, входит в дом.
Существовало ли спасение? Да, мы собирались, читали, делились сокровенным. Спустя много лет, мы находили друг друга и узнавали, помогали, если нужно, радовались, если повезло, чисто-чисто, по-детски. Нас держит что-то общее, какая-то разделенная тайна, никто не знает какая.
— Сем ам-ла кем кижи?(Ты сейчас кто?)
— Мен теен-кижи. (Скорее, бродяга).
— Кайда сем теенчаткан? (Где ты бродишь?).
— Парчын черден. (По всему свету).
— Ноо сен пилиндирчаткан? (Что ты чувствуешь?).
— Эм (Дом).
— Кайда сен эм? (Где твой дом?).
— Мен токтатчаткан. (Я его оставила).
— Чойлаш (Неправда).
Сен кижи пол эм. (Ты и есть дом).
В дорогах дальних не нашедший дома//В слезах багряных боль моя неймётся//Кто я, не сведущий ни звука и ни слова//На сильном языке своих праотцев?/
Бабушка говорила, что у шорцев есть кайчи (сказитель).
— Кто это?
— Они пели песни.
— Зачем? — пристали мы.
— Чтобы люди не потеряли память.
У каждого рода был свой кайчи, кам (шаман) и паштык (вождь).
— Паштык? (хихикаем, диковинное слово).
— Самый главный, к кому приходили спросить важный совет.
Мне часто снится сон. Чертовщина. Я все, кроме себя. Бурундук, бросающийся на острый сук, потерявший запасы и дом, ворон, оставляющий на снегу тонкие следы, он внимательно наблюдает с дерева за весёлой пухлой девчонкой, бабушка, собравшая гурьбу внуков рассказать свою жизнь, бродяга — исследователь морей-океанов, про которого поют: «Капитан, капитан, подтянитесь! Только смелым покоряются моря!». Я — все они, кроме весёлой девчонки, ловко складывающей слова в смыслы. Зачем мне это, Господи? За что? Они исчезают. Картинка ломается, иду по тонкой верёвке сквозь бездну. На той стороне ждёт Кудай (здесь божественное существо), он поднимает кам туури (бубен шамана), окуривает меня. Стучит в бубен. Разносится д-о-олгий протя-я-я-жный звук, я просыпаюсь. Какое время? Кем мен кижи? (Кто я, что за человек?).
— Вы кто?
— Атая Чакшинова.
— А, наш гость, поэт! — Улыбка у неё искренняя; пригласила меня войти в комнатку, похожую на светёлку.
Там сидели студенты, нахохлившиеся девушки, затянутые в шерстяные шарфы, с наспех скрученными гульками на голове, и, несомненно, многие из них носили толстые линзы. В наш век? Я быстро представилась и начала читать, тихо, постепенно наращивая ритм, так построены почти все мои стихи. Я сжимаю маленькую, тоненькую книжицу, кажется, у меня дрожат руки. Главное, чтобы голос не дрожал. Закончила. «Можно вопрос?» Приглядываюсь, что-то в студенте мне кажется знакомым. Алая шапочка? У него алая спортивная повязка на белой пышной гриве. Это просто цвет. Вернее, так — единственная особь мужеска пола, красивый, между прочим, посреди девичьего факультета. «Заранее извиняюсь, конечно. Простите, может быть, вам покажется нескромным мой вопрос, но вы сами говорили, что вы многих кровей, так к какой именно крови вы себя относите? Кто вы?» Я ждала этого, сейчас мне легко.

Первая встреча, последняя встреча
Санкт-Петербург, декабрь 2006 г.
Бесконечная лестница эскалатора, кряхтя и постанывая, ползет вверх. Стоя в толпе, я рассеянно смотрю по сторонам, прислушиваюсь, втягиваю носом воздух. Как странно быть здесь опять — гостьей в собственном доме, в любимом городе, который так давно не мой. Поправляю солнечные очки, они все время сваливаются со лба, в очередной раз ругаю себя за привычку всюду таскать их с собой, такую неуместную в декабрьском питерском метро. На самом верху эскалатор снова встряхивает, очки падают на нос, и я вдруг слышу знакомый голос:
— Так и знал, что она припрется в темных очках! — Андрей стоит, опираясь на перила эскалатора, и смотрит на меня сверху вниз с ласковой усмешкой. Водрузив очки обратно на лоб, я внимательно вглядываюсь в него. За одиннадцать лет, что мы не виделись, он не слишком изменился, вот только как-то неуловимо повзрослел, чуть раздался вширь, чуть солиднее одет. «Заматерел», — грустно думаю я.
— Привет, — приподнимаюсь на цыпочки, целую подставленную щеку, вдыхаю давно забытый запах. Оглядывает меня цепким взглядом:
— А ты не меняешься, Белка.
— Все дело в прическе. — Я будто пытаюсь оправдаться. Он протягивает мне руку, и, взявшись за руки, мы выходим из метро. Вокруг гудит и суетится полуденный Васильевский остров, запах реки перебивается выхлопными газами, на ступеньках метро странные люди в белых футболках, натянутых поверх курток, с надписями «Евреи за Иисуса», со всех сторон тянут ко мне руки с листовками, и это кажется символичным. «Стоило ехать сюда из Израиля, — усмехаюсь про себя, — чтобы увидеть такое нелепое действо!»
Он ведет меня за собой:
— Прости, у меня короткий перерыв. Ты голодна?
В маленьком кафе полно народу, все деловито потребляют один и тот же невзрачный бизнес-ланч. Андрей приносит свой поднос, расставляет маленькие тарелочки по столу, принимается за еду. Я потягиваю кофе, грея руки о чашку. Если бы он не бросил меня тогда, в девяносто пятом, думаю неспешно, я бы, наверное, до сих пор жила здесь. Бегала бы вот так же в обед в кафе где-нибудь на Васильевском или на Петроградке…
***
Израиль, июль 1995 г.
— Погуляем, искупаемся, а потом я дам вам обед в лучшем рыбном ресторане Тверии. — Папа отворачивается от дороги и горделиво смотрит на нас с сестрой. Мы расплываемся в ответных улыбках — день обещает быть чудесным. Высокое солнце в ярко синем небе освещает каменистые уступы гор, покрытые желтой, словно выжженной, травой, выделяя и подсвечивая каждую деталь, будто хочет, чтобы я запомнила этот вид навсегда. Дорога круто спускается вниз, туда, где бирюзовой слюдой сверкает озеро Кинерет, в приоткрытое окошко задувает горячим зноем.
— Жалко все-таки, что Андрей не приехал. — Папа подкручивает колесико, делая радио громче. Стараясь перекричать музыку, заученно повторяю:
— Лагерь же, папочка, как ты не понимаешь! Такой шанс выпадает не каждому! Университет все оплатил, лагерь международный, в Риге, там лекции, интересные люди! — Эту мантру я твержу из раза в раз, изо всех сил стараясь объяснить нежелание мужа провести лето со мной в Израиле. — Я бы тоже не смогла отказаться от такой возможности!
Дорога уже идет вдоль озера. Настроение испортилось. Открываю окно пошире и подставляю лицо раскаленному ветру. «All the lonely people, where do they all come from? », — поет радио. Молча глядя в окно на банановые плантации и приближающийся белый город, вспоминаю недавний сон: Андрей размашисто вышагивает впереди по Невскому. Я тороплюсь за ним, не успеваю, почти бегу, протискиваясь сквозь толпу, повторяю жалобно в широкую спину: «Ну, может быть, хоть после лагеря сможешь приехать». А он, чуть повернув ко мне голову, глядя искоса сверху вниз, цедит отрывисто: «Посмотрим. Не думаю».
Нет, так не годится. Сбрасывая наваждение, резко встряхиваю головой. Сегодня мы, наконец, поговорим, и я смогу все исправить. Последний год был сложным, но ведь раньше все было отлично. В конце концов, мы же любим друг друга, и нельзя об этом забывать! Под обеспокоенными взглядами сестры снова лезу в сумку, проверяю, на месте ли телефонная карточка.
— Телефон, телефон, папа, останови тут! — Не дожидаясь остановки машины, я рванула ремень и сгребла в охапку сумку.
— Что за пожар? — Папа притормаживает на обочине, а уже я ринулась к автомату, одиноко торчащему на лужайке на самом солнцепеке. Разогревшаяся на солнце трубка обжигает мне руку. Вставить карту, набрать код страны, код Питера, номер — и вот уже любимый баритон произносит свое всегдашнее «Аллё».
— Андрюшечка, ну как ты? Соскучилась ужасно! Ты вчера вернулся домой? Как было в лагере? У меня всего пятнадцать минут, рассказывай скорее!
— Привет. — Голос на том конце звучит напряженно. — Я хотел тебе сказать, Белка… В общем, не возвращайся в Питер. Оставайся в Израиле. Пойми, Белка, тебе там будет лучше. Нам надо расстаться. — Как сквозь вату доносятся слова: «Для твоего же блага… родители… не получилось… долго терпел…»
— Что случилось? — перебиваю внезапно осипшим голосом.
— Ну, в общем, в лагере я встретил девушку… — Тошнота подступила к горлу. Чувствуя, что сейчас меня вырвет, сиплю в трубку:
— Забирай свои вещи и выметайся. — Звякнув, трубка косо повисает на рычаге, а я согнулась над вытоптанной травой и задохнулась горячей пылью, пытаясь сдержать спазмы. От машины ко мне торопится сестра.
***
Санкт Петербург, август 1995 г.
Вот я и дома. Войдя в любимую общагу Мат-Меха, с нежностью осматриваю пустой просторный вестибюль. Взгляд задерживается на отражении в стеклянной двери. Все-таки, здорово я похудела — за месяц восемь кило! Подбадривающе подмигиваю своему отражению, смело двигаюсь вперед. На вахте никого. Остановившись, бегло просматриваю выставленные за стеклом телеграммы и письма. Опа — открытка адресована Андрею. Из Польши. Наскоро читаю русские слова, аккуратно выведенные иностранным почерком: «Дорогой Андрей … было приятно познакомиться… Буду рад, если приедешь ко мне в Краков один или вдвоем с Машей». С Машей, значит. В горле поднимается дурацкий ком, не могу глотнуть, в глазах темнеет. Засунув смятую открытку в карман, нетвердым шагом поднимаюсь в комнату. Распахиваю дверь и застываю на пороге — пахнуло спертым воздухом, картина поспешного бегства представляется моему взору. Шкафы распахнуты, все вверх дном, среди мусора на полу чернеет одинокий мужской носок. Стоя в разоренной комнате, растираю бесконечные злые слезы по горящим щекам.
***
Санкт Петербург, декабрь 2006 г.
— Может, все же съешь что-нибудь? — Андрей смотрит заботливо, листает меню.
— Пожалуй, еще кофе. — Мы болтаем ни о чем. Рассматриваем фотографии, вытащенные из кошельков — мои дети, его дети, мой муж, его жена…
Глядя на него отстраненным взглядом, вспоминаю, как все начиналось. Как шумели по ночам деревья в лесном палаточном лагере летом 88-го, как он держал мою руку в своей, и я не могла вздохнуть от счастья. Неужели это мне было пятнадцать? Потом письма, много писем и звонков. Мой первый приезд в его город, он в красной рубашке, высокий, голубоглазый, счастливый, водит меня по пыльным улочкам степного городка, знакомя со всеми, шепчет, смеясь и поправляя мои вечно падающие солнечные очки: «Ты такая нездешняя». Любовь… Любовь? Мы пишем друг другу каждый день, его аккуратный мелкий почерк, и мой — размашистый, как курица лапой. Он пишет, что поступает в военное училище в Киеве, в ужасе шарахаюсь — я девочка из семьи почти-диссидентов, но ведь любовь! Приезжает на каникулы, молодой курсант, а я еще школьница, мама боится оставить нас одних, он шепчет, что мы всегда будем вместе, а я не знаю, сомневаюсь, не понимаю. Закончила школу, провалилась в Универ, живу с подружкой в Питере, летаю раз в месяц в Киев — Лавра, Крещатик, Андреевский спуск… с Андреем по Андреевскому спуску, бегом, за руки, вперед, к счастью.
Мой взгляд постепенно фокусируется на его лице, и я размышляю о том, как счастья не получилось. Сидим в кафе, совершенно чужие. Протягиваю руку, провожу пальцами по прохладной щеке, дотрагиваюсь до знакомой родинки. Вздрагивает:
— Что с тобой?
— Спасибо тебе.
— За что?
— За все, что у меня есть сегодня…

Родненький
В первом классе Саша написала сказку про куриц, а Саня долго смеялась. В шестом классе Саша сочиняла стихи про смерть и несчастную любовь, а Саня говорила, что они гениальны. В старших классах Саша взялась за рассказы, и Саня восхищалась их изяществом. Так Саша поняла, что хочет писать. И она пишет:
«Саша была влюблена в свою школьную подругу Саню, называла её родственной душой. Толстая и тонкая, они представляли собой комичную пару однояйцевых близнецов. Девчонки держались за руки на переменах и обменивались записочками на уроках. Однажды на биологии одна другой написала “иногда мне кажется, что мы” — дальше толстый прочерк розовым маркером. И точка. Потом они сожгли ту записку, развеяв пепел по ветру.
Их фамилии начинались на «Со» и кончались на «-ова». Сова — тотемное животное Саниной матери, директрисы школы, и логотип её гимназии. Она создала свой либеральный розарий специально для Сани, и дочь, повинуясь долгу, зубрила даты и формулы под её любящим взглядом от первого до последнего звонка. Директор боготворила Саню, крупицы обожания перепадали и лучшей подруге. Частенько она проводила дни у одноклассницы: за чаем с брусничным вареньем и коричными булочками, за просмотром фильмов из серии «Другое кино»: Кар-Вай, Джармуш, Линч… Они вели бесконечные философские беседы, особенно по ночам, когда время становится тягучим, а мысли цепляются друг за друга по логике сна. Однажды Саша спросила: «Кого ты любишь больше — меня или маму?» Ответ её разочаровал.
После окончания школы, на восемнадцатый день рождения, Саня подарила Саше увядшие жёлтые розы. А пару лет спустя, случайно столкнувшись на улице, обе сделали вид, что не узнали друг друга. С тех пор Саша перестала писать».
Это её предсмертная записка. Саша стоит на балконе двадцать пятого этажа, тяжесть в груди тянет вниз сильнее гравитации. Замёрзшие пальцы вцепились в перила, ветер морозит мокрые следы на щеках, пробирает через тонкую кожу до позвоночника. Но уже всё равно. Мама говорит, я в тебе разочарована. Ты совсем как он. А его я ненавижу.
***
Он — это дед. А Саша — это я.
В детстве я смотрела на бабушкины свадебные фотографии и недоумевала: как деда мог так измениться! На фото подтянутый мужчина с правильными чертами лица и роскошной чёрной шевелюрой. А дедушка… Ну что дедушка? Гигантский усатый казак из посёлка Горячеводск. Настолько огромный, что, говорят, когда мне было два года, я накакала ему в пупок: размеры пупка позволяли такую вольность. Дед знал пол-КМВ, здоровался с каждым вторым за руку. На левой у него недоставало нескольких фаланг — в детстве переехало пальцы трактором.
Мне три года. Готовясь ко сну, я командую: «Деда, врубай свой компуктер!» И как какая-нибудь Арина Родионовна, дед нашёптывает мне русские-народные сказки. Сюжеты их перетекают один в другой и не заканчиваются до тех пор, пока не засыпаю на китовом пузе. Мне четыре. Дед поёт зычным басом казацкие песни и меня им учит. До сих пор помню куплетов десять заунывной «По Дону гуляет…», петь можно вечно.
Он умер в самом начале ковидной эпидемии, в марте. Я в первый и в последний раз поцеловала его в лоб, бабуля задыхалась от рыданий. На отпевании в мягких лучах солнца, казалось, кружит не церковная пыль — всеобщее чувство вины. Мы дышали им в унисон: последние годы деда провёл в доме для престарелых с психическими расстройствами.
***
Бабушка позвонила, когда мы с мамой вышли в антракте со спектакля «Загадочное ночное убийство собаки».
— Он с ножом за дверью!
Говорят, в старости со многими мужчинами случаются такие вот приступы неконтролируемой ревности. Говорят, это одна из граней деменции. Говорят, у нас не было другого выхода, кроме как сдаться психиатрам.
Под галоперидолом дед превратился в призрака. Лицо его больше ничего не выражало, он спал сутками, усох до миниатюрности. Когда бабушка ещё пыталась врачевать его дома, иной раз от жалости пропускала одну-другую таблеточку, — и взгляд серых глаз вновь обжигал ненавистью. Да, у деда были галлюцинации. Но — ярость вдруг сменялась телячьей нежностью. Он поносил бабулю последними словами и дьявольски рычал: «Убью!», — а потом вдруг плакал, как ребёнок, просил прощения. В последние месяцы называл жену «мамочкой», целовал ей руки и умолял не оставлять его. Но она оставила, как и мы все.
***
Деда с бабой заменяли мне родителей первые семь лет, пока мама с папой растили другого ребёнка — свой бизнес. Да и потом заменяли: каждое лето я приезжала к ним в Пятигорск. Лет в двенадцать увидела мамин школьный рисунок — одуванчик — где стояла чужая фамилия. Да и отчество у мамы почему-то не Петровна… И тут детскую голову осенило. Дедушка, мой родненький дедушка, оказывается, мне чужой!
Бабушка сопротивлялась недолго. Да, с дедом они поженились, уже когда мама уезжала на учёбу в Москву. Свела сваха. Бабуля боялась одиночества хуже смерти, а дед казался порядочным и сильным мужчиной. За таким, как за каменной стеной. Но нет, не любила, никогда не любила.
А любила Эдичку. Того, кого я никогда не знала и не видела. Интеллигентного армянина, который всю жизнь писал стихи, пел, обожал театр и фотографию. Он, как и я, был кудрявым и гордым, у меня его глаза и нос. Познакомившись на танцах, они сразу закружились в вальсе взаимного обожания. Но после свадьбы всё пошло не так, брак распался.
Бабуля, когда ей было уже за семьдесят, случайно столкнулась с ним в санатории. Как в известной попсовой песенке, Эдик предложил ей сделать фотографию, не узнал. Он халтурил фотографом на улицах Кисловодска и нищенствовал. Бабушка его, конечно, накормила. Привезла домой, познакомила с дедом. Пока закидывала в стиралку обноски, дед дал ему свою одежду. За чаем с тортиком-шкатулкой Эдик рассказал, что живёт на улице: ушёл из дома, потому что квартира прослушивается ФСБ, а соседи травят его газом. Что личная жизнь так и не сложилась, а работы менял как перчатки, потому что люди злые.
Мама с ним встретилась, пыталась помочь, но он был равнодушен и к ней, и к этим попыткам. Она показывала ему карточки внуков, но его интересовал только свет, красиво ложившийся на объекты съёмки. Она была очень обижена: «А год спустя он умер: сумасшедший, никому не нужный, вонючий, занесённый снегом. Потому что любил вот это всё, что и ты», — то есть искусство.
***
Графомания. Писать может каждый. Профессия должна приносить доход. Мама, железная бизнес-леди, задавившая в молодости мечту быть художником, не читала Сашиных стихов и рассказов. Она всегда работала без выходных — говорит, ради детей, ради их будущего.
Саша чувствует, что должна оправдать все жертвы и надежды. Но ничего не выходит. Ей двадцать семь, она давно не пишет, у неё кончились идеи, кем будет, когда наконец вырастет. Она увольняется с седьмого места за последние полгода. Вновь и вновь выносит сама себе один и тот же приговор: «Вы нам не подходите».
А ты будешь меня любить, если я так и останусь никем? Мама говорит, нет. Мама говорит, ты позоришь меня перед людьми. Мама говорит, подними жопу и найди нормальную работу. Мы вложили с отцом в тебя столько сил. Ты же всегда была лучшей. Но я стою на балконе двадцать пятого этажа и готовлюсь раскрасить холодный асфальт внизу горячим и красным.
Какое число напишут над тем, что от меня останется?.. Забавно, ведь у деды через неделю день рождения. Похоронят ли нас рядом? Как встретимся, поздравлю. Ну что, на счёт десять.
— Раз. Два. Три…
Ёж, я буду любить тебя любой.
— Четыре. Пять. Шесть…
История Эдика ничего не значит.
— Семь. Восемь. Девять…
Ты моя родненькая внученька. Всё пройдёт. Это возрастное. Перемелется — мука будет.
Деда обнимает меня воображаемыми полами своей дублёнки и спрашивает:
— А помнишь, как я подарил тебе на Новый год оранжевые боксёрские перчатки? Как научил держать оборону и делать хук-хук?
— Да-да, ты научил меня драться и рычать. Ещё помню, как на твоих мохнатых руках я переболела ветрянкой. Температурила под 42, спросила: «Дедушка, а я не умру?», — а ты ответил: «Не умрёшь, ёж, никогда не умрёшь».
— И я всё помню.
— Десять.
Спускаюсь на землю пешком, по лестнице. Надеваю перчатки, чтобы согреть пальцы. Иду искать, кто не спрятался — я не виноват.
…Спустя три года Саша, закончив этот рассказ, недовольно отодвинет от себя компьютер — и столкнёт кружку с обжигающим молоком со стола. Белая жидкость расползётся по полу фигурой семейного призрака.

Сады
— Далеко же твой дедушка взял сады, — сокрушенно говорила Валентина Михайловна, качая головой. — Вот, попробуйте яблоки. Это я из своих садов привезла. Они у нас совсем близко от города. Можно доехать на втором автобусе. А твой дед взял где-то в глуши. Раньше туда электричка ходила. Но теперь станцию закрыли — надо добираться на попутках. Неужели завтра поедете? Может, лучше по городу погуляете?
— Да мы же на машине, тетя Валя, — снисходительно объяснил Игорь, взяв бледно-зеленое водянистое яблоко. — А город мы уже из окна посмотрели, с ним все понятно. Правда, Натали?
Чарующая архаичная Чердынь с медлительными коровами, пасущимися у старинного городского собора, тревожный глухой Ныроб, за котором кончался асфальт и начинались дикие болота, — все сегодня промелькнуло за окном автомобиля, поминутно подскакивавшего на заплатанном шоссе. А к вечеру по обочинам дороги нам стали попадаться серые холмы соляных отвалов — мы подъезжали к Осиновску. И хотя изначально я собиралась, раз уж нас сюда занесло, уговорить Игоря остаться на день в этом маленьком уральском городке, построенном в 1930-е годы и сохранившем слегка пропылившееся обаяние провинциальной сталинской застройки — идеальные декорации для фильма об октябрятах — теперь мне уже захотелось посмотреть сады. Заброшенные сады виделись мне романтически заросшими яблонями, сиренью и черемухой, с опустевшими домами, увитыми диким плющом.
Но в глубине души я была обижена, что мы приехали в этот пыльный провинциальный город его детства, чтобы посмотреть на него из окна автомобиля и переночевать в чужой квартире какой-то дальней родственницы вместо того, чтобы, как планировалось, остаться на ночь в палатке на реке Вишере у подножия величественного Ветлана. Но я знала, почему он так решил, хотя между нами об этом не было сказано ни слова. Мы почти перестали разговаривать, как только выехали из Москвы в наше летнее отпускное путешествие. И смотря в профиль на его красивое лицо, сосредоточенное на дороге, я думала о том, что кому-то придется это сказать. Но он один называл меня Натали. Так что это буду не я.
Перед сном, когда Игорь уже отвернулся к стене на своей кровати в другом конце комнаты («Пока, Натали, завтра рано вставать») и, возможно, заснул, я, не в силах уснуть, снова и снова вертясь на бугристом матраце и бесцельно серфя в телефоне, увидела всплывшее уведомление о новом мейле.
Мейл по-французски сообщал о том, что в доме престарелых в пятом округе Парижа на улице Валь-де-Грасс скончалась мадам Сильви Байер. И все волонтеры, когда-то знакомые с ней, приглашаются на похороны, которые пройдут…
В первую очередь я удивилась, что она умерла только сейчас. Десять лет назад, когда я с ней познакомилась, ей уже было девяносто пять лет. «Если так пойдет и дальше, мне исполнится сто», — с серьезным тоном говорила она, заставляя нас, студентов-волонтеров сдержанно хихикать.
Значит, все эти годы она была жива, эта маленькая горбоносая невыносимая женщина, способная, где-то раздобыв денег, сбежать в кафе, рассориться там с официантами и уйти в чужом пальто. Способная без билета сесть в автобус, идущий от Люксембургского сада на Монмартр, поспорить с водителем о политике и быть высаженной где-нибудь в районе Оперы. Как же вы отравляли нам жизнь, мадам Байер, как же вы протестовали, как же вы боролись.
Я вспомнила, как впервые встретила ее в «доме отдыха», в крошечном городке на берегу Атлантики, куда каждый октябрь, когда кончался летний сезон, отправляли из парижского дома престарелых 10-12 стариков из тех, кто мог себя обслужить. Когда сильные ветры и холодные дожди выгоняли в столицу последних курортников, увозящих в своих грузных семейных машинах более неуместные здесь яркие надувные круги, пестрые пляжные подстилки и значительно потрепавшиеся корзины для пикников, городок, наконец, скидывал с себя шелуху летнего помешательства и погружался в естественное оцепенение. И только яркие яблоки в оставленных садах нарушали эти серо-бежевые тона, в которых теперь были написаны все городские улицы.
Единственное кафе-табак, куда два раза в день привозили хлеб, собирало всех жителей — в основном пенсионеров, наивно решивших провести старость на берегу моря и теперь бредущих сквозь дождь и ветер к единственному островку тепла и света. За ними всегда семенили средних размеров белые собаки. Однако нашим подопечным местная жизнь была неинтересна. Между приемами пищи старики садились на стулья в гостиной и, уставившись в пространство, сцепив руки на коленях, вращали большими пальцами — интернациональный жест всех стариков — пока не начинали клевать носом. Нечасто кто-то из них выказывал желание выйти погулять в яблоневый сад, который примыкал к дому, такому же серому, как все дома вокруг. И совсем редко можно было уговорить их дойти до берега моря. Там, сев рядком на скамейку, они так же бессмысленно глядели вдаль, пока не наступало время отправляться на обед.
Мы сразу распознали в мадам Байер хулиганку и смутьянку. С первых минут она была всем недовольна: домом (почему я, старая женщина, должна подниматься в спальню на второй этаж?), мной (мне надо зашить пальто, но я ничего не вижу. Однако чувствую, что вы, мадемуазель, не умеете шить), своими соседями (они же не едят, они жрут и чавкают!). Правда, потом она смягчилась в отношении меня, хоть и не совсем: у меня была русская подруга, ее тоже звали Наталья, Натали. Она была балериной. А вот вы совсем не похожи на балерину.
«Мадам, а что вы делали во время войны?» — как-то спросили мы, когда любопытство наконец взяло верх над деликатностью. Старики сидели рядком в гостиной, перебирая пальцами, на кухне специально нанятая повариха-бретонка готовила очередное незаслуженной сложности блюдо, половина которого затем отправлялась в мусорный бак, а за окном падали в мокрую траву красные яблоки. «Какой? Первой или Второй? Во время Первой я была еще ребенком и делала пи-пи в штаны. Вам рассказать подробнее?» — ответила несносная мадам, и лишь тогда мы узнали, насколько она стара.
В первый вечер из своей комнаты я услышала, как мадам Байер поет. Это была наивная старая песня о девушке, влюбившейся в парня на празднике летнего солнцестояния, когда на площадях провинциальных городов разжигают традиционные костры, а из брассери доносятся всегда печальные, как бы они ни пытались обмануть своей резкой веселостью, звуки аккордеона.
Je ne sais pourquoi j’allais danser
À Saint-Jean, au musette,
Mais il m’a suffi d’un seul baiser
Pour que mon cœur soit prisonnier.
Ах, зачем я пошла танцевать
В этот праздничный вечер.
Первый твой поцелуй роковой
Нас навсегда связал с тобой.
Парень, конечно, бросил девушку, иначе не было бы песни.
«Так что вы делали во время Второй мировой войны, мадам Байер?»
«Я была модисткой. У меня было ателье на бульваре Сен-Жермен. Я шила шикарные платья. Вы такие не носите. У меня был возлюбленный, очень красивый еврей. Я прятала его у себя в ателье. Однажды ко мне с обыском пришел немецкий офицер, и я ударила его ножницами. Он умер. Я частями выносила его тело. Заворачивала в ткани. Я помогла своему любимому уехать из Парижа. И сама тоже уехала. Потом я нашла его. Но он не захотел быть со мной. Надья, Натали, может быть, хотите водки? У меня тут есть кое-что в заначке».
Ах, как не лишиться рассудка
В объятиях ласковых рук.
Как сладки слова, что нам суждена
Любовь без терзаний и мук.
Утром мы поехали в сады. Оставив машину, мы пошли по заросшей травой грунтовой дороге, пока путь нам не преградила огромная серая лужа. Тогда мы свернули в густой, пахнущий болотом лес и обнаружили, что это и есть те самые сады. Заброшенные участки заросли деревьями, одноэтажные сколоченные из тонких досок летние домики развалились. Только кое-где, раздвинув высокие папоротники, можно было различить остатки фундамента. Ручей, когда-то текший за домами, превратился в болото, а за ним на просеке гудела новая линия электропередач. В увядающей августовской траве валялись бутылки и остатки автомобильных покрышек.
Мы вернулись к машине и снова поехали мимо низкорослого болотистого леса, мимо заброшенных ангаров и соляных отвалов, дряхлых свидетелях когда-то кипучей заводской жизни, ставших ныне символом запустения.
— Знаешь что? — сказала я, смотря на его красивый профиль. — Давай, может, расстанемся? — и тут же отвернулась к окну. За окном щебень летел из-под колес в пыльный придорожный кустарник.
— Давай, — сказал он легко.
Потом мы свернули не на ту дорогу и плутали до темноты. Далеко же твой дедушка взял сады.

Три «М»
Нити вечные судьбы
Тянут Парки из кудели,
Без начала и без цели.
Дмитрий Мережковский
1. Мая
Вначале был пустая квадратная рама, устойчивая и необъятная, как старый широкий кедр. Рама появилась между мирами, залитыми светом. Потом возникли руки, держащие клубок прочных нитей молочного цвета. Началось творение. Руки превращали нити в тугие струны основы. Основа натянута, пришло время делать заработку, перебирать и соединять нити в пары. Одни попадают в ближние, другие в дальние, снова в ближние и опять в дальние.
В роддоме на Шаболовке безлюдно, вечер, суббота, июльское марево смешано с дымом горящих вокруг Москвы торфяников. Девочка родилась помятая, лиловая, зато быстро. Духота, открытые окна затянуты марлей, у мамы нет молока, ни одной капли нет.
Папа сразу назвал девочку Мая, но маме это не нравится, нет такого имени, она советуется с подругой, после сообщает: «Марианна». Папа не спорит, но так и будет всегда называть её Мая. Хорошо жить с двойным именем, где два, там и третьему место найдется.
Таких девочек миллион, тьмущая тьма, у которых папа и мама пытались друг друга любить или хотя бы договориться, потом отчаялись и очень устали. Не счесть таких девочек. Они как весенний снег, питают землю, растворяясь в буднях школ, институтов, профессий, выходов замуж, разводов, повзрослевших детей, постаревших родителей.
Детство проскальзывает дымчатым облаком. Юность врезается в мягкую ткань скандалами, таблетками, капельницами. Не вплетается никуда институт, бросает из стороны в сторону, пока однажды не закидывает в машину к подонкам. Попытка сбежать в ночной лес кончается страшнее, чем началась. Дальше стоп, а то швы разойдутся, вернётся мрак.
Ряд, заработка, стук колотушки, крючком подтягивается за узлом узел. Полотно чуть не сузилось до одного вдоха, чтобы медленно начать наполняться новыми смыслами.
2. Мзия
«Подумай, может, всё-таки со мной вернёшься?» — Мама скользит глазами по фигурам редких пассажиров вокруг. Я молчу, сколько можно объяснять. Рассматриваю свои короткие, когда-то вишнёвые сапоги на искусственном меху, в том, другом мире они мне нравились. Но здесь снег засыпается внутрь, подошва скользит по наледям, до весны бы дотянуть.
«Слушай, у тебя даже нет зимней куртки», — доносится до меня её голос. Мы стоим в душной деревянной избе сельского аэропорта. Вот-вот приземлится ЯК-40, и она улетит. Морозное, залитое солнечным сиянием, громадное снежное поле окружено ультрамарином гор. Снег под ногами рассыпчатый и голубой. Долго иду рядом с танцующей над дорогой позёмкой. Гудит улетающий самолёт.
«Ты папе от меня передавай привет, ладно? Скажи, что всё в порядке». — У меня противно меняется голос, появляются слезливые нотки. Отворачиваюсь, впиваюсь глазами в снежные перекаты хребтов. Мне хорошо здесь, за четыре тысячи километров на восток от прежней меня. Посреди ещё неизвестного и родного мира я опять родилась и учусь ходить.
Редкие машины шелестят мимо, одна притормозила, ускоряю шаг, «здрасьте, вы куда, а хорошо, я на повороте сойду». На переднем сиденье женщина оборачивается, смотрит на меня, я уже знаю этот взгляд, сейчас начнутся расспросы. Она увидела, что я не местная, но может с добродушной насмешкой спросить: «Кого здесь делаешь?». Это пароль, если не знаешь правильный ответ, то дальше будет настороженно: «Сама-то откуда?» «Из Москвы?» Женщина на переднем сиденье отворачивается и устало, на выдохе, глядя в окно: «Изжоги какие-то». До меня не сразу доходит, изжоги… она хочет сказать «изгои».
«За братом я приехала, он…», да блин, каким братом, у меня вообще братьев нет. Но в такую даль нельзя же просто, надо с целью. Всегда хотела, чтобы у меня был брат, помню, как моя грузинская бабушка гладит меня по голове и говорит что-то моему отцу с нежностью и тревогой, я не понимаю грузинский, спрашиваю, он грустно улыбается: «Она говорит, чтобы мы с твоей мамой брата тебе родили».
Пробираюсь по сугробам, свернула с дороги в поисках поворота к мосту, короткие сапоги полны снега. Куртка покрывается слоем инея и деревенеет, за синюю кромку горы скрывается низкое январское солнце. Мзия по-грузински «солнце», согревает это имя, наполняет светом моего задумчивого детства.
«Ты, однако, грузинка?» — усаживает меня за стол Лукерья Ефимовна. Изба натопленная, начисто выбеленная, стулья бирюзовой краской покрашены, коврики пёстрые, половицы широченные, по узким окошкам герань и фиалки. Иконы в дальней комнате за вышитой занавеской мелькнули тёмными огромными краями. По старой вере иконы должны быть без окладов, грех святые образы под мирскими украшениями прятать, гвозди в них вколачивать. Так и темнеют с семнадцатого века, прадедами принесённые, словно вкопанные навечно столбы, держащие небеса с золотыми звездами.
Ряд, заработка, стук колотушки, крючком подтягивается за узлом узел, я хочу научиться ткать ковры, настоящие, ворсовые, на вертикальной раме. На гранатовом фоне я сотку цветок, который держит в руках богиня-земля, вокруг неё будут звери, цветы и птицы. Мягким ворсом создам орнаменты, плотным переплетением их закреплю, острыми ножницами перережу все узелки.
3. Маша
Белю, штукатурю печку, вот здесь, у печной стены недавно стояла моя кровать. Я не могу видеть сейчас эту кровать, вынесла, спрятала её. На печке царапины глубокие, до кирпичной кладки. Я тогда в печку вцепилась, кричала, звала на помощь. Да какая помощь, заняты люди своими делами, с хозяйством управляются, еду готовят, дрова рубят, не слыхал никто ничего.
Сосед мой, Василий, раньше частенько заглядывал поболтать, чаю попить. Стучался робко, сразу с порога начинал застенчиво улыбаться. «Маш, варенье вот принёс тебе, мать передала, клубничное. Ты не смотри, что клубника такая мелкая, это дикая, а в огороде это не клубника, виктория. Вот лето наступит, я тебе покажу, где горную клубнику надо собирать, сходим с тобой». Беру прямо из банки полную ложку крошечных зернистых ягод, они пахнут мёдом, июнем, грозой.
Мне нравится быть Машей, ничего не надо объяснить. Вася оглядывается по сторонам, вздыхает: «Дом шибко холодный, из окон дует, с пола тянет, печка вся потрескалась, всё через одно место». Я уплетаю клубнику, пожимаю плечами: «Как-нибудь перезимую, хорошо, что хоть такой есть». Вася уходит и уже на пороге, без улыбки: «А я говорил супругу твоему, чтобы тебя одну не оставлял, он же не слушает никого». Больше Василий меня проведывать не приходил.
Переступаю невидимый порог, а там пусто. Только судьба по очереди загибает свои длинные пальцы цвета слоновой кости. Раз прокидка, дальние приблизились, два прокидка, ближние отдалились. Острым крючком подтягиваю на себя узел и резко выдёргиваю его за край.
Машин супруг неожиданно вернулся, она как раз с кровати пыталась сползти, дров принести, в доме со вчерашнего дня нетоплено. Какие-то кровавые ошмётки и на простыне тельце. Стучит по телу дрожь тяжёлой колотушкой, вся изнанка в рубцах. Не о чем с Машей говорить, пустая оболочка, тень. На кладбище маленький холмик зарастёт скоро свежей травой.
Слышу, как соседка выговаривает сыну: «Да ну её, отец до петли допился, мать не пойми где пропадает, у самой ни кола, ни двора, ни образования. Связалась с этим наркоманом, а тут ещё схватки, преждевременные роды прям в избе, даже врача некому было позвать, погиб ребетяночек ейный, непутёвая она девка, крученая, нервная, на кой она тебе, Вась, после всего-то».
Ускоряю шаг, чувствую взгляды, превращаюсь в колючий комок. Распрямляюсь только в лесу, расхожусь, растапливаюсь, как золотистое масло. Разуваюсь, хочу, чтобы в меня проникал холод. Весенний, животворящий, свободный, земной. Смотрю на бледные робкие стебельки едва проснувшейся медуницы.
Достаю из кармана длинную полоску ткани, это вместо бинта. Перевязываю грудь, из неё всё время сочится молоко, много молока.
Я — тень, блуждающая по подвалам сознания, но умираю только снаружи, внутри кто-то утончается до прозрачности. Деревья — великаны и горы — вертикали, стою рядом с ними с поднятой вверх головой. Темнеет, затягивается дождь, натянутые до неба нити берёз медленно раскачиваются.
Когда надрезаешь берёзовый ствол, начинает медленно капать сок, но если не подставить банку, сок через время застынет, из прозрачного сделается тревожным как бледная кровь. Никогда еще я не шла так долго босиком по лесу.
Деревья станут моей основой, только им под силу удержать это высокое небо. Ряд, заработка, равномерный стук колотушки, за узлом узел. Я тку свой ворсовый ковер, на гранатовом фоне Мать Земля, в руках у неё цветок, рядом звёзды, птицы и звери, а вокруг по кайме переплетаются буквы «М» — это древний орнамент весны.

Тридцать шесть градусов
Душок перегара смешивается с запахами пепельниц. Меня подташнивает. Я просыпаюсь. Отец сидит на краю кровати. Гладит по голове. Глаза красные, но осмысленные. По зрачкам пытаюсь угадать, каким будет день. Замираю, прислушиваясь, как ладонь спускается по волосам. Какой нажим. Дрожит ли рука. Резкие ли движения. Наконец, картинка сложилась. Все спокойно. Я делаю вдох. Мне шесть лет.
— Извини, — хрипит отец. — Больше такого не будет, честно-честно. В кино пойдем?
Киваю. Прижимаюсь лбом к шершавому свитеру. Вспоминаю, как вечером пряталась в шкафу. Полоска света падала на блокнот, что лежал на коленях. Я рисовала драконов. Водила карандашом по бумаге, и пьяный мат, звон стекла, мамины крики — драконы, от которых я еще сбегу, — оставались далеко, на окантовке сознания.
Ребра трутся о доски лавки. Волны трутся о мостовую. Моя голова на коленях Артура. Ветер бросает в лицо клочок воздуха. Я открываю глаза.
— Ой. Я что, задремала?
— Так сладко, что даже будить не хотелось. — Артур улыбается. Река рябью улыбается вместе с ним.
На город спускаются весенние сумерки. Пахнет прошлогодними листьями. «Вот бы нарисовать этот запах» — мысль, от которой я отмахиваюсь. Бесконечный спор с самой собой. Главное, бесполезный — я уже бросила художку.
— Весело вчера погуляли, да? — шепчу.
— Погуляли — это когда ты забирала у диджея микрофон? Я думал, ты его клеишь, а оказалось — обворовываешь.
— Не напоминай. — Я утыкаюсь носом в джинсы. Артур чешет мою макушку:
— Кажется, я женился на самой отвязной девчонке в мире.
— Уже жалеешь? — Чувствую, как похмелье постукивает в висок.
— Немного.
Я поеживаюсь. Не хочу, чтобы Артур о чем-то жалел. Разворачиваюсь, взгляд в небо за щетинистым подбородком.
— Больше никаких микрофонов, караоке и диджеев, лады? Это была прощальная вечеринка.
— Переходишь на борщи и сорочки? — Артур смеется.
— Перехожу на борщи и сорочки.
Я закрываю глаза.
Артур поднимает с земли пожухлый лист. Щекочет им мои губы, ноздри, ресницы:
— Обещаешь?
— Обещаю. Теперь-то все хорошо, понимаешь? — Голос хрипнет. С сегодняшнего дня Артур — мой побег от драконов. Я буду думать только о нас. Я буду оставлять узоры на стенах нашего дома вместо того, чтобы выводить их в альбоме. Драить сковородки к приезду его мамы. Ловить интонации, следить за движением зрачков, думать, прежде чем говорить. Обнимать. Дышать в рубашку.
Сквозь веки чувствую, что сумерки сгущаются.
Будильник на подоконнике подмигивает красными цифрами: пять утра. Я лежу поперек кровати в пуховике. Шерстяная шапка покалывает потный лоб. Каждый шорох отдает болью в макушку. Зря грозилась перепить бугая в татуировках.
Приподнимаю голову. Разглядываю очертания грязных тарелок на полу, косметичек, растянутых свитеров — там же. Углы заставлены чемоданами, хотя шкафы пусты. Отлично. То, что надо. Бардак снаружи резонирует с бардаком внутри. Мне становится легче, и я проваливаюсь обратно, в сонную взвесь.
Сон вспарывает звонок в дверь. От света раскалывается голова. Мне хочется, чтобы звонок отстал, прекратил цепляться за кокон из куртки и тонкой кожи. Но он не унимается. Я бреду в прихожую, не снимая пуховик.
— Уже уходишь? — говорит Вадим, когда открываю дверь. Слишком он бодрый.
— Нет. Только встаю.
Вадим принюхивается. Морщится. Я ухожу на кухню. Он следом. Сажусь на табуретку, стягиваю куртку и свитер. На предплечье желтеет синяк. Хорошо, под майкой живота не видно, туда Артур крепче приложился.
— Ань, так нельзя. — Вадим роется в шкафчиках. — Где аспирин? Голова бо-бо?
Я начинаю плакать. Отворачиваюсь к окну, чтобы Вадим не заметил. Он спросит. Что я отвечу? Что Артуша, герой идеальных кадров об идеальной семье в идеальных соцсетях, погладил меня светильником по виску? Если скажу, это станет правдой. Разрушит жизнь. Или уже разрушило? Или это я сделала? Или не я? Или не жизнь? Я не знаю ответов, а потому нападаю первой.
— Зачем?
— Что — зачем? — Вадим оборачивается.
— Зачем пришел?
Он опускается на стул рядом.
— Я волновался. Ты трубку не берешь.
Волновался он, блять. Бесит. Аж зубы сводит. Хочется ударить. Заорать. Выгнать. А он как обычно. Звоню в четыре утра после пяти лет молчания. Плачу, прошу перевезти от мужа на съемную хату, да, прямо сейчас, только, пожалуйста, не спрашивай ничего. И Вадим не спрашивает. Тащит чемодан. Ведет машину. Хлопает длинными ресницами. Я сижу на пассажирском кресле и не могу видеть эти ресницы.
— Ань. Чемодан-то разобрала?
Молчу. Молчу. Молчу.
— Ань. Что это было вчера ночью? — Черт, почему он не унимается?!
— Ты о чем?
— А ты не помнишь?!
Достает телефон. Открывает окно переписки. Оно сплошь синее — в моих сообщениях. Сует телефон мне в руки.
«Приезжай в бар. Мне плохо»
«Блюю в туалете»
«Вот бы сдохнуть»
«Напомни, как меня зовут»
«Хочу поглядеть на твои ресницы»
Я и правда не помню.
— Дай угадаю, — говорит Вадим. — Звонки мои ты тоже не слышала?
Злость проходит. Челюсти расслабляются. Руки теплеют. Думаю, как повезло, что не удалила номер Вадима. А все потому, что он у меня «Валюшей» записан — в школе кликуху получил за женственный образ. Когда Артур орал свиньей и требовал стереть из телефона «всех кобелей», Вадим-Валюша остался нетронутым.
— Прости, — говорю. Щеки щиплет. — Тебе лучше уйти. Я позвоню. Я понимаю, как это выглядит. Сейчас уходи. Спасибо.
— Я наберу вечером, — отвечает он, — только попробуй трубку не взять.
В доме тихо. Шорохи сводят с ума. Курьеры привозят еду, звонят и отходят на два метра от двери, будто я прокаженная. Карантин, мать его. Но я и правда чувствую себя прокаженной. Я заражаю каждого, кто подышит со мной одним воздухом.
Вадим ушел неделю назад. Его бритва все еще ржавеет в ванной. По утрам я по привычке ставлю на стол две кружки.
— Одиноко с тобой, Ань, — сказал он, когда прикуривал и объявлял, что мы расстаемся.
Я знаю.
— Ты меня любишь? — спросил он. Я молчала. Врать не хотелось. Любовь — это побег. От пьяных скандалов, от подсвечника, от себя. А если бежать не надо, я люблю?
— Ты использовала меня, — сказал он. — Ничего не говори. Я не злюсь.
Он ушел вечером. К утру я была еще трезва. Трезвее, чем когда-либо. Какие у меня планы? Да никаких. Я — песчинка, которая не нашла полку, где можно осесть пылью с такими же товарищами по несчастью. Надо бы стыдиться, но мне… все равно.
Я открываю окошко браузера и набираю в строке поиска «Куда идти, если идти некуда». Контекстная реклама предлагает стать лучшей версией себя. «Расул — проводник в новую жизнь. Почувствуй счастье преодоления. Найди путь в горах». Странные лозунги. Но мне плевать, чему верить. Я пойду по первой подвернувшейся дорожке.
Вверху, внизу, справа и слева белизна. Белизну подкрашивает в оранжевый горнолыжная маска. Август. Метель. Кавказский хребет. Пять тысяч метров над уровнем моря. И ни души рядом.
Я не заметила, как потерялась.
Проводник Расул с группой только что были здесь. Я шла за ними след в след. Была частью общего ритма. Потом обо что-то споткнулась. Куда-то упала. Когда поднялась, поняла, что осталась одна.
Интересно, меня будут искать?
Я оглядываюсь. Вдали, в оранжевой белизне, вижу синюю точку. Она движется, мигает. Кажется, что на экране реальности появились помехи.
Точка приближается. У нее уже есть руки, туловище, глаза. Маленькие. Она одета в комбинезон. Это девочка. Ей лет шесть, может, семь. Она дергает меня за рукав и говорит:
— Помоги.
Странно, метель свистит как ядерная боеголовка на взлете, впору контузиться. Но шепот точки-девочки слышен отчетливо.
Какой урод потащил ребенка в горы? За такое сейчас, наверное, родительских прав лишают.
Я опускаюсь перед ней на колени:
— Ты потерялась?
— Нет. Меня бросили.
— Не может быть.
Я начинаю злиться. На тех, из-за кого эта девочка здесь оказалась. Злость — хорошо. Она греет. Она лучше испуга.
— Меня бросили, — повторяет девочка-точка.
— Нас скоро найдут, и мама с папой заберут тебя. Как маму зовут?
— Не найдут. Мы замерзнем, и нас съедят горные драконы.
Я сглатываю комок в горле. Метель становится сильнее. Пальцы в перчатках уже коченеют. Скоро закоченеют ладони, запястья, локти, предплечья, горло, щеки… Стоп. Не надо представлять.
Я спешно стягиваю рюкзак, дергаю молнию, вытаскиваю из-под тяжелых слоев термоодеяло. На снег вываливается блокнот. Смешно. Кому он тут нужен?
— Смотри, — говорю, — это волшебная мантия. Под ней невозможно замерзнуть. — Давай сюда.
Я обнимаю девочку и накрываю нас обеих.
— Мантия защищает от драконов? — спрашивает она.
Я не отвечаю. Важно сохранить тепло. Одеяла хватит на час-полтора.
Я крепко прижимаю девочку к животу, груди и жалею, что не могу прижать еще крепче. Что сейчас не время растирать розовые щечки и холодные пальчики.
Вот бы оставить ее себе. Пить чай, сказки читать, мультики смотреть. Может, не отдавать ее родным, которые бросили ребенка в горах? Придумать что-нибудь, когда нас найдут. Нас ведь найдут. Расул обнаружит пропажу и вернется. А мне хватит моих тридцати шести градусов тепла, чтобы спасти нас двоих от метели и драконов. Первый раз в жизни я могу кого-то еще спасти.

Шедевр
Мы сидели уже не напротив, а рядом за одним столом. Расстояние между нами сокращалось с каждым днём. Чтобы достать книгу или листок, мне приходилось тянуться через весь стол, Андрей предоставлял такую возможность, спокойно, с интересом наблюдая за моими движениями. Мы работали над исследованием на протяжении трёх месяцев, оставаясь по вечерам в школе, в маленькой лаборантской моего кабинета. В этот день задержались, работая над очередной главой романа В. Маканина «Андеграунд, или герой нашего времени», разбирая традиции Маяковского, мотив флейты.
— У героя «Флейты-позвоночник» состояние на грани сумасшествия, Петрович у Маканина видит галлюцинации, у него приступ, он воет. Он учится жить вне слова, так говорится в романе. Но как это связать? — недоумевал Андрей.
— Ты мыслишь в правильном направлении! Помнишь, мы говорили, что у Маяковского «флейта — позвоночник» — это символ жизни, преображенный в слово. А путь покаяния Петровича начался со слова как символа жизни… Сейчас прочту тебе отрывок, ты поймёшь.
Я развернулась, чтобы взять роман. Быстро открыв нужную страницу, повернулась лицом к Андрею и наткнулась на его губы. Не оттолкнула, а, напротив, позволила сильнее обнять себя. Казалось, грань сумасшествия, о которой мы говорили, передалась мне: я послушно выполняла то, что предлагал мне этот мальчик. Я забыла, где нахожусь, кто я такая. Забыла, что Андрей — одноклассник моего сына-выпускника. Было легче не думать о деспоте-муже, детях. Ничего не было, всё исчезло. Передо мной чёрный квадрат, сквозь который я чувствовала нежные, но уверенные мужские руки, жадные губы, частое дыхание, новое тепло. Я расслабилась и как будто наблюдала со стороны, что происходит: меня отрывали заново, этот мальчик с лёгкостью откинул мешавшие мне двадцать лет, он вернул мне молодость. Но обаяние знаменитого полотна оказалось обманчивым, очнувшись, я увидела только чёрный квадрат окна, за которым надуманное мною несколько минут назад беспощадно исчезло, окуная с головой в ту жизнь, откуда хотелось вырваться.
Позже, дома, было время обдумать случившееся. Муж, как всегда, пришёл поздно, поужинал и лёг отдыхать, не обращая на меня особого внимания. Сын был со мной на кухне, хотел поговорить — так обычно мы с ним проводили вечера, обсуждая прожитый день. Муж не подпускал к себе Максима, не интересовался его успехами, поэтому сын искал поддержки у меня. Мы часто просиживали с ним допоздна. Помню, как в прошлом году вечерами в течение месяца он спорил и доказывал мне, что Л. Н. Толстой в романе «Война и мир» не прав в некоторых философских вопросах по поводу мира и войны. Я внимательно слушала, радовалась, что Максим читает, мыслит, рассуждает, изредка вставляла комментарии. Эти разговоры много значили для нас, но, когда в тот вечер сын пришёл, я попыталась от него отделаться, сказав, что очень устала.
— Спасибо, что уложил сестру, — улыбнулась я.
— Мам, что-то случилось? Ты опять была с Андреем? Вы ещё не дописали исследовательскую работу? Знаешь, мы стали много разговаривать с ним о жизни, он читает всё, что ты ему советуешь, его очень интересно слушать. Это всё благодаря тебе.
Я вздрогнула и ничего не ответила.
— Не волнуйся, у вас всё получится, Андрей тобой восхищается.
Я отвернулась, не в силах выдержать искренний взгляд Максима.
— Давай поговорим завтра, — наконец ответила я, и сын ушёл к себе в комнату.
Передо мной снова зиял чёрный квадрат оконной рамы. Всё сводится к нулю, это начало чего-то или конец всему. Выбирает каждый сам. Жалела ли я о том, что произошло, не знаю. Не могла себя обманывать: снова хотела увидеть Андрея и обнять его. Что это? Интрижка с моей стороны или с его? Не хотела об этом думать. Вниз я падала или крылья обрела? Не могла ответить ни на один вопрос. «Всё смешалось… в доме Облонских…». Хотела литературными аллюзиями объяснить произошедшее, но себя не обманешь.
Вспомнила урок литературы по поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души». Ученики не хотели читать поэму, часов по программе не очень много, не успевали. Набросала урок по «Повести о капитане Копейкине», без неё не обойтись, она ключевая. Я знала, что за несколько минут до начала урока обязательно придёт решение. И не ошиблась. На прошлом уроке поставила условие: если все в классе прочитают «Повесть о капитане Копейкине», то я закрою глаза на непрочитанную поэму. За завтраком Максим сказал, что прочитал повесть и поможет на уроке.
На занятии я не спросила сына, а обратилась к Андрею:
— Расскажите, пожалуйста, историю капитана Копейкина.
— Я не прочитал, — ответил он заносчиво.
— Почему? — не отставала я.
— Не хочу, неинтересно, и вообще не понимаю, зачем читать эту чушь!
— Спасибо за откровенность, — сказала я сдержанно, — открываем все тетради и выполняем тест по поэме Гоголя «Мёртвые души».
Все шумно выразили недовольство.
— Ну, Татьяна Михайловна, мы-то прочитали?! Спросите нас! — возмущённо обратился Олег. — Почему из-за одного должны страдать все?
Девочек было немного, они не вступали в спор, а мальчишки, особенно трое: Олег, Илья и Матвей — упрямо обвиняли во всём Андрея и не хотели выполнять тест, зная, что будет неудовлетворительный результат.
— Я слов на ветер не бросаю, все должны были прочитать эту часть поэмы. Разговор окончен, приступайте к заданию, скоро прозвенит звонок, — утихомирила я детей, наслаждаясь содеянным и зная, что Андрею несдобровать.
После уроков мне позвонил классный руководитель 10 «А» класса:
— Татьяна Михайловна, вас ожидает отец Андрея. Объясните, пожалуйста, что случилось с моим классом? Почему одноклассники устроили Андрею бойкот?
— Ровным счётом ничего не случилось, Александра Никитична. Я с ним встречусь.
До начала факультатива оставалось пять минут, дети сидели на своих местах, разговаривали мало, Андрей сидел один за второй партой третьего ряда, недовольный, исподлобья посматривая то на меня, то на одноклассников.
Я вышла из кабинета, встреча с отцом Андрея произошла молниеносно. Мне было высказано недовольство ситуацией, которую я создала, и выдвинуты отцом требования исправить положение, чтобы Андрею было комфортно в классе.
Все ждали моего возвращения, я это ощутила каждой клеточкой, когда вошла: двадцать шесть пар глаз смотрели, не мигая. Андрей выпрямился и насторожился.
— Вы ждёте отмены факультатива? Ни в коем случае! Приступаем к решению КИМов, — почти торжественно произнесла я.
На меня посмотрел сын и опустил грустные глаза. Вечером он меня упрямо убеждал в том, что я неправильно поступаю с Андреем и одноклассниками, что в жизни есть не только литература, которую я боготворю, а есть ещё ученики со своими характерами, интересами, а я об этом забыла. Так мы с Максимом «воспитывали» друг друга постоянно, и в этот раз я прислушалась к сыну. Нет, требования не изменились, но я старалась находить компромисс, прислушиваться к детям. Со временем стала замечать, что Андрей начал читать, выполнять домашние задания, задавать вопросы, писать творческие работы. В 11-м классе он сказал, что будет сдавать экзамен по литературе, я ему предложила написать исследовательскую работу и выступить на конференции МГУ в Колмогоровских чтениях. Он согласился. Над проектом работали три четверти.
Я снова пришла домой поздно. С Андреем готовились к защите исследовательской работы, через два дня конференция. Меня ждал сын.
— Привет. Опять задержалась? Посмотри, что я тебе принёс, — холодно произнёс Максим, указывая на тетрадь.
— Что за тон, сынок. Чья это тетрадь? Я устала, не хочу ничего читать.
— Уверен, что тебя заинтересует то, что в ней написано. Ты ведь у нас очень любишь читать, — ухмыльнулся сын.
Я уже начала сердиться, но было любопытно, что это за тетрадь. Когда открыла, увидела знакомый наклон букв, волнообразную букву «д» с петелькой вверху. Я не читала, а перепрыгивала с абзаца на абзац, словно скакала по знакомой местности, зная точно все кочки и неровности. Это были записи Андрея о наших встречах.
— Как эта тетрадь попала к тебе? — тихо спросила я.
— А ты догадайся. Как будто кто-то специально положил её на видное место, чтобы я прочёл, — отрезал Максим.
Вспомнила, что Андрей говорил о романе, который как будто он пишет, но тогда не придала этому значения. Он просил о редактировании после того, как напишет его. Я снова опустила глаза в тетрадь: хороший стиль, отличные диалоги, литературные аллюзии. Я видела в этой тетрадке плоды своих трудов. Андрей — хороший ученик, это будет отличная книга о романе ученика с учительницей бальзаковского возраста.
Что это? Месть за прошлое унижение? Подлость амбициозного подростка? Или творчество будущего писателя? Знала одно: эти записи разрушат мою жизнь, семью, отношения с сыном. Я забыла, всё, что мне было дорого в погоне за результатом. Пожалуйста, наслаждайся!
Позвонила Андрею:
— Ты зачем так поступил?
— Это будет шедевр, не правда ли? — почти торжественно произнёс Андрей.

Шесть лет и одна весна
А-а-а, как же больно-то, блядь! Ну и кто?! Сартр, сволочь. Мой мозг ты покалечил, до ног добрался? Саша, это знак тебе, что пора перестать ныкать деньги в толстые книги. Да что вы говорите, я бы на вас посмотрела без этих заначек. А это что. Почерк деда. Андрей, Пугачёв 5-15-72 (код 84574). Быченковы дом 65-324. Васютин. Васильев. Жуковец. Сафатыч. Саша водит пальцами по вышколенным печатным дедовым буквам и видит: сваренные им и посеребрённые качели, посаженный для неё куст жёлтой малины, берёзовый веник в мятом алюминиевом тазу, маленький рыжий шлем и ещё так много прекрасного, что столько было не унести.
Пятое лето
Дед еле растолкал меня и поволок на улицу. Мир досыпал, был пятый час, мутный воздух, зябко. Подъехала машина, и оттуда внезапно — достали велосипед. Самый настоящий, взрослый. С рычажками скоростей на руле, пурпурно-чёрный, но не новый. Чей-то бывший. Да, я просила велосипед, но чтобы бэушный? Что скажут ребята? Дед, конечно, всё заметил и спросил, не насрать ли мне. Иди лучше прокатись. В густой тишине закрутились колёса, защёлкали цепи, ветер спрятался в нерасчёсанных волосах. Вот уже дед остался за поворотом. Разогнавшись по шуршащей дороге, я свалилась в канаву. Так и лежала там, в мокрой от росы траве, среди пухлого клевера, обнимая свой велосипед.
Четвертое лето
На день рождения дед прислал ей денег, и она попросила у матери джинсы. Какие джинсы? Синие, на пуговицах, с карманами. Ты меня слышишь, какие джинсы, когда дома жрать нечего? Но джинсы купили и, как лишний рот, прямо в них посадили на поезд к деду. Только не доставляй проводнице хлопот. Конечно, мамочка.
Задолго, когда ещё не показался даже край перрона, она прилипла к окну, чтобы первой заметить дедово напряжённо-строгое лицо и взгляд, равнодушно скользящий по пыльным стёклам. В машине укачало страшно, дед остановил в лесу, усадил на пень и отпаивал кипячёной водой из помутневшей пластиковой бутылки. Когда заметили, что джинсы безвозвратно запятнались в смоле, она заголосила так горько, будто уже слышала раскаты материнского гнева, чем вконец напугала и без того взволнованного деда. Он разразился трёхэтажным матом, и так Саша узнала, что никогда нельзя плакать из-за сраного шмотья.
Третье лето
Он её потерял. Сперва искал кругом глазами, стоя на крыльце, звал. Обошёл участок. Посмотрел в душной теплице. Матюгаясь под нос, заглянул в остывшую баню и в сарай, хоть и запретил ей заходить туда одной. Со скрипом (третья, седьмая, восьмая) поднялся на второй этаж. Вот же мелкая засранка. Сходил до Быченковых, оттуда до лужи, где она часами ковырялась с головастиками. Нет. Пошёл до магазина, вернулся без неё и хлеба, про который попросту забыл. Стал звать громко, громче, громче. Пнул сафатовского любимца-кота, который некстати заплетался в ногах, и тут услышал её тихий смех. Саша залезла в Динкину будку и оттуда ликовала, как ловко вышло спрятаться. Но дед почему-то стал раково-пунцовый, покрыл её знатными ебуками и заставил в наказание (да за что?) нести помойное ведро на компостную кучу, выдав огромные, выше локтя, чёрные перчатки. Ей было обидно до горьких круглых слёз, но, когда она вернулась с пустым ведром, он уже оттаял и стал катать её в тачке по тропинкам, превращающим участок в ладонь.
Второе лето
Деду скажем, что всё потратили на ролики. Саша кивает, хотя тошно от одной мысли, что придётся ему врать. Тошно, как в той машине, когда её вырвало на облысевшую пятнистую голову впереди сидящего прадедушки. Их облапошили прямо в сердце Апрашки, и бабушке пришлось лезть за личной заначкой в лифчик, вот тебе, Люся, и гортензия, и голландская роза, и лилия Марлен. Домой ехали молча, электричка была под завязку, и Саша сидела прямо на новеньких роликах в прозрачном похрустывающем чехле. Когда наконец добрались до дачи, она услышала нежный пищащий лай — дед решил сделать сюрприз и привёз серый шерстяной клубок, который уже через неделю станет размером с внучку. Но Саша смотрела на собаку и ревела, потому что она деду — враньё, а он ей — щеночка. Дед зло сплюнул и выругался, что на уме у баб этих, у больших и у маленьких.
Крайнее лето
Тайно от деда они закопали под тоненькой черноплодкой трёхлитровую банку с зелёными грецкими орехами (чудом добытыми из Молдавии), растительным маслом и спиртом. Месяц в земле, в темноте, до полного растворения, потом по две столовые ложки три раза в день. Каждый воевал за деда, как мог. Бабушка перечитывала вестники ЗОЖ из распухшей стопки, Саша переписывала письмо счастья (уже 9 листочков), родители обзванивали госпитальных хирургов и онкологов. Потому что ногу резать, тут без вариантов, деда не устраивало — лётчик никогда не сядет в эту вашу блядскую коляску, лучше я сдохну. Ружьё, с которым поймали в сарае, отвезли к его лучшему другу, седобородому Сане Васютину, в необитаемый лес. Дед об этом не знал, а Саша знала, и когда они подолгу сидели вдвоём на холодном песке у залива возле Васютинского дома, от близости ружья становилось ещё холоднее. Почему ты называешь дядю Сашу бирюком? Бирюк — это счастливый человек? Но дед не хочет говорить о бирюках, шершавыми пальцами он прячет выбивающиеся волосы обратно ей за уши и плачет от ветра.
Весна
Три ступени перед Клубом. Когда спешишь за солдатской, самой вкусной на свете кашей, это так, ступенька! Когда надо признаваться библиотекарше, доброй тётечке Оле с чёрными усиками, что «Приключения Незнайки» встретились с зубами Динки, это три дооолгих ступени. Но сейчас хочется, чтобы они никогда не кончались, чтобы никогда по ним не подняться, чтобы никогда не оказаться внутри. Потому что там, вокруг пылающе-красного гроба — тягучий, густой запах гвоздик и валерьянки, а сдавленные стоны глухим эхом поднимаются под потолок, выше столовой, выше библиотеки, под самую крышу и оттуда — под плоское серое небо. Подойди, Сашенька, попрощайся. И Саша прощается. Едва коснувшись ледяной незнакомой руки и лишь на секундочку посмотрев на такое любимое, но неузнаваемое лицо, она рывком уткнулась в чей-то живот, и уже тёплая рука обняла её дрожащую голову.
Первый выстрел. Взлетают птицы. Она зажимает уши, воск от свечки капает прямо на кофту. Второй. Третий. Папа прячет её своей курткой от рвущих самую душу криков, от безжалостного стука молотка, от накатывающей волны понимания, что же всё-таки сейчас происходит.
Первое лето
Он улыбается, пока я разглядываю его. Лысый. Майка с полосками. Живот такой круглый! Спичка во рту. Папа тянет за руку к нему, мама стыдит: ну хватит, чего ты вцепилась отцу в ногу — это же твой дедушка, его не надо бояться. Толстая женщина с волосатой родинкой, ой, то есть бабушка, гремит в шкафу. Раз-два-три (загнутых пальца) сухих мухи в углу окна. Серёжа показывал, что будет с мушкой, если отрывать ей по очереди лапки и крылья. А с ней ничего не будет. Она просто умрёт. Зачем тебе спичка во рту? Если нельзя кричать в колодец саааашааааа, зачем там дырка? Если нельзя ничего трогать, зачем здесь столько всего? Этот гвоздь я украду. Потому что это я. Гвоздь потолще — мамочка, самый большой гвоздь — папа. А этот гвоздище — это дед. Злой. Когда папа вернётся и заберёт меня. Так думает Саша утром, но преследует деда весь день, с любопытством кошки вытягивает шею, смотрит снизу вверх и уже к вечеру привыкает окончательно к его бесконечно разлетающимся матеркам. Впереди у них первое лето — дом с занавеской у окна и ветром, ржавые бочки с жучками, рыбалка с карасями, лес с лисичками, морковные грядки с сорняками, Сашин затяжной бронхит, дождь на неделю и любовь на шесть лет. Деда, ты куда? Я с тобой!

Эспонтоны
Первое утро нового года началось с бесшумного секса под одеялом: боялись разбудить детей, спавших на соседних кроватях. Мы гостили в частном доме у моего брата в Казани. После серого Питера с его тяжелым небом было радостно смотреть, как яркое солнце освещает комнату. Как хорошо, что я предложила отметить Новый год в Казани, у меня совсем не было настроения готовить семейный праздник, и муж, несмотря на его прохладные чувства к моим родственникам, неожиданно согласился.
— Пошли прогуляемся по лесу, пока весь дом спит, — предложил муж.
Это было самое приятное, что он сказал мне за последние два месяца. Муж стал замкнут, неразговорчив, что-то скрывал от меня. То смотрел на меня с раскаянием и просил приласкать его, жаловался, что ему очень плохо, одиноко, то вдруг кричал на меня, сыпал нелепыми обвинениями, говорил, что я постоянно нарушаю его границы. Один раз не ночевал дома, сказал, что провожает своих друзей по творческо-терапевтической группе в аэропорт. На два дня уезжал в Москву с теми же друзьями на тренинг. Приехал оттуда сам не свой. Купил там огромную репродукцию «Поцелуя» Климта. Я уже начала подозревать, что он влюбился в другую женщину и завел с ней роман.
В моей жизни до замужества тоже был роман с женатым мужчиной. За три года он не сказал про жену ничего плохого. Я слышала их разговоры по телефону: он рассказывал ей, что он делал, что купил, когда приедет. Он него у меня остались три фразы: «жена — это хлеб, а любовница — пирожное, каждый день пирожное есть не будешь», «от частого употребления член не смыливается и жене достанется в таком же виде», «мужчина — существо полигамное».
Я никак не понимала, откуда у моего мужа такие неожиданные вспышки ненависти ко мне. Когда-то полтора года назад, когда у мужа еще только начинался этот тренинг личностного роста, он меня неожиданно спросил: «А ты не боишься, что мы с тобой разведемся?» Тогда я не поверила. Мне казалось, что моя жизнь — самая стабильная вещь на свете: муж зарабатывает деньги, я веду хозяйство и воспитываю детей. Мы строим дачу и сажаем сад. Теперь же я вообще не понимала, что происходит. У меня пропал аппетит, я похудела, меня стала мучить бессонница.
Сосновый лес находился через дорогу от дома. Мы шли по узкой, протопанной в глубоком снегу дорожке. Отраженное от белейшего снега солнце слепило глаза. Наконец мы дошли до широкой расчищенной дороги и пошли рядом. Было очень тихо. Я посмотрела на лицо мужа и увидела, что он улыбается. Впервые за долгое время мне стало спокойно, и я улыбнулась ему в ответ. Вдруг муж остановился и показал мне на деревья.
— Посмотри на эти сосны, — сказал муж. — Видишь: одна высокая и прямая, а рядом с ней хилая, недоразвитая какая-то сосенка. Ей явно не хватает солнца, соседняя сосна ее загораживает, мешает расти. Вот это мы с тобой. Ты зачахла в моей тени. Тебе надо выйти на солнце, отлепиться от меня, начать жить своей жизнью.
Я почувствовала, как будто почва уходит из-под моих ног.
— Посмотри на себя. Ты четырнадцать лет сидишь дома, не работаешь. У тебя нет никаких интересов, нет друзей. Как ты одеваешься, ты не женственна! Ты не выросла во взрослую женщину. Я понимаю, что несу ответственность за тебя. И я вижу, что ты меня любишь. Но понимаешь, я встретил женщину…
— Ты влюбился в нее?
— Нет. — Муж замялся и отвел глаза. — Да… я влюбился, — наконец с облегчением выдохнул муж и счастливо улыбнулся. — Ты не представляешь, какая это женщина! Когда она идет, все кобели увязываются за ней, а встречные мужики улыбаются и смотрят ей вслед, и они бы тоже пошли, если бы меня не видели с ней рядом. И дело не в том, что она очень красива и сексуальна. Вовсе нет. Она просто очень женственна. Я никогда не думал, что меня сможет полюбить такая женщина.
У меня не было больше сил это слушать, и я упала лицом в глубокий снег. Я не плакала, нет. Я уже давно не плачу, с детства, когда поняла, что слезами горю не поможешь, никто не придет утешать маленькую Лильку, наоборот, над ней же еще и посмеются или раздраженно скажут, что сама во всем виновата. До меня дошло, что муж сегодня улыбался не мне.
— Лиля, с тобой все в порядке? — сказал муж и перевернул меня.
Мне не хотелось смотреть на его глупосчастливое, безмятежное лицо, и я стала смотреть на синее прозрачное небо. Ничто не нарушало его покой: оно было высоко, холодно и абсолютно пусто.
— Ну все, хватит лежать — замерзнешь, — произнес муж и потянул меня за руки. — Ты знаешь, я хочу тебя с ней познакомить. И ты сама увидишь, какая это женщина.
— Зачем мне с ней знакомиться?! Я не понимаю, зачем я вам нужна?!
— Я не могу тебя бросить, да и она не согласится разрушать семью. От нее самой когда-то ушел муж и оставил ее с двумя детьми. Сейчас дети уже выросли, дочь вышла замуж, а сын в армии сейчас.
— Где ты с ней познакомился?
— На тренинге по развитию творческого потенциала.
Изначально этот тренинг был предложен мне нашим другом, но мне моя жизнь нравилась, мне ничего не хотелось в ней менять, да еще ходить куда и писать утренние страницы. Тогда муж захотел поучиться сам, несмотря на то, что много работал и занимался танцами. Это я могла бы с ней познакомиться первая и не допустить ее знакомство с мужем!
— Пойми, мы любим друг друга, и ничего уже с этим поделать нельзя. И я решил создать семью из нас троих! Вот увидишь, она тебе понравится, ты сразу в нее влюбишься. В нее невозможно не влюбиться.
— А дети? Ты о детях подумал?
— С нашими детьми все будет в порядке. Ира — детский психолог, она быстро найдет с ними общий язык. Еще Ира ведет тренинг женственности в своем Тольятти. Она поможет тебе, вырастит из тебя настоящую взрослую женщину, и тогда ты сама захочешь уйти от нас в свободное плавание. Доверься мне, я знаю путь, он очень непростой, но пройти по нему возможно.
Эти слова про выращивание из меня настоящей женщины я уже слышала когда-то очень давно от своего женатого мужчины. Тогда мне сказали, процесс успешно завершен. Оказалось, что нет: жизнь мне предлагает еще один курс, правда, очень дорогой. Но меня не бросят. По крайней мере, меня не бросят вот прямо здесь и сейчас. Господи, все что угодно, только не оставляйте меня. У меня появилась трепетная надежда, что это еще не конец.
— Поехали в Тольятти прямо сейчас, я нашел машину на бла-бла каре. Дорога займет часов пять. Ира согласилась и нас ждет.
— Она согласилась жить с нами, войти в нашу семью и переехать в Питер?
— Да, если у нас все получится в Тольятти.
— А что должно получиться?
— Вы должны понравиться друг другу.
— В каком плане?
— Нас объединит сексом втроем. Ты мне рассказывала, что у тебя был небольшой роман с твоей подругой в юности. Тебе нравятся женщины? Почему бы нам не попробовать?
Я опустила глаза и замолчала. Из этого мимолетного романа ничего не получилось. На четвертом курсе я полюбила зрелого женатого мужчину и отдала ему все, что у меня было. И там, где-то между нашими разлучками, у меня и произошел роман с подругой. Она сама стала за мной ухаживать. Сама бы я никогда не посмела. Я не любила ее и вскоре бросила, вернулась к своему женатому. Три года горя и радости, слез и любви, разлук и свиданий. Наконец, я познакомилась со своим будущим мужем и вышла за него замуж. По расчету. Потом, уже через полгода, я его полюбила. Я любила своего мужа. Это не было романтической любовью. Это было глубокое чувство привязанности. Прожив с человеком семнадцать лет, воспринимаешь его как неотъемлемую часть самой себя.
Во мне все перемешалось. Никогда не было у меня столько противоречивых чувств и желаний. Я не понимала, что со мной происходит и как мне надо поступить. Мне хотелось спросить у кого-нибудь совета. Но поделиться таким было совершенно не с кем: и я, накрываемая страхом и унижением, согласилась.
Дорога до Тольятти занимала пять часов. Мы проезжали мимо пустынных полей, покрытых снегом, мимо каких-то забегаловок с едой, мимо припаркованных фур. Вскоре мы доехали до Камы, переехали через мост и поехали дальше. Все по-прежнему было голо и уныло. Все дорогу муж переписывался с Ирой по телефону и сообщал мне, что она жутко волнуется, но доверяет ему полностью. По дороге мы остановились у одной забегаловки. Муж купил себе шаурму и с аппетитом ее съел. Меня же воротило от запаха еды, и я выпила только горячий чай. Уже ближе к вечеру, все истерзанные и обессиленные дорогой, мы въехали в город. Нас высадили, и мы пошли к дому. Ноги меня плохо слушались, а в животе кто-то перекручивал мои внутренности. Муж набрал номер квартиры в домофон. Никто не отвечал. Может, Ира решила нам не открывать? Муж позвонил по телефону, оказалось, что домофон сломался и Ира сейчас спустится.
Дверь открылась. Нас встретила Ира. Это была невысокого роста полноватая женщина с приятным открытым лицом. На плечах у нее была накинута светлая павлопосадская шаль с бахромой. Она улыбалась и куталась в шаль от холода. Когда мы вошли в лифт, я ее смогла рассмотреть ближе. Это не была роковая жгучая красотка. Она не выглядела наглой или бесстыжей. Она смотрела на меня своими большими прекрасными голубыми глазами смело, но без всякого вызова, скорее, с любопытством.
— А ты, оказывается, маленькая, — с удивлением отметила она.
— Мы одинакового роста, — возразила я.
— Тебе нравятся миниатюрные женщины? — спросила Ира моего мужа. — Я думаю, что между нами много общего.
Муж блаженно улыбался. Мы зашли в квартиру. В полумраке пахло какими-то пряностями, всюду горели свечи и играла медитативная музыка.
— Проходите, гости дорогие, и садитесь за стол, буду вас кормить. — Приятный голос Иры звучал успокаивающе.
Мы сели за стол. Я сидела напротив Иры и не могла оторвать от нее глаз. Все, что она делала, как выглядела, как говорила, было красиво. Мы выпили по бокалу красного вина за знакомство. Приятное тепло стало разливаться по всему телу. Я чуть-чуть поклевала салат, а муж съел большую порцию, потом еще мясо с картошкой. Он все ел и нахваливал.
— Ешь, любимый, ешь, мой дорогой. Это ничего, что я его так называю? — спросила меня Ира. — Я люблю смотреть, как он ест.
Я смотрела на мужа и не узнавала его, он совершенно преобразился. Куда-то ушло его высокомерие и самолюбование, которое обычно сквозило в его разговорах. Голос стал ниже и глубже, шутки стали остроумны, все, о чем он говорил было интересно. Разговор за столом шел так, как будто мы старые друзья, давно не виделись и вот наконец встретились и с удовольствием рассказываем друг другу свою жизнь. Ира спросила меня:
— Что ты любишь делать?
— Люблю петь романсы и песни о любви.
— Вот как, я тоже! Давай споем что-нибудь вместе. Знаешь песню Герман «Город влюбленных»?
Ира тихонько запела. Голос у нее оказался очень красивым, даже проникновенным:
Есть на далекой планете
Город влюбленных людей.
Звезды для них по-особому светят,
Небо для них голубей…
Я подхватила припев:
Посидим, помолчим,
Все само пройдет,
И растает гнев, и печаль уйдет.
Посидим, помолчим.
Не нужны слова.
Виноваты мы, а любовь права.
Мы пели и смотрели друг на друга. Ее глаза зацепили меня и не отпускали. Наши голоса удивительно подходили друг к другу, сливаясь в один. Я увлеклась настолько, что и забыла, где я нахожусь. Мы просто пели, и нам было хорошо. Песня ли, голос ли Иры, ее ли глаза, ее ли улыбка, ее ли плавные движение и речь, а может, аромат, разливавшийся по всей квартире от свечей, а может, бокал вина, выпитый на голодный желудок, а может, бессонница последних месяцев, тревога и усталость, — все это подхватило меня горячей волной и понесло. Не знаю, как так получилось, действительно ли, как говорил муж, Ира волшебница, но в этот момент я почувствовала к ней физическое притяжение.
— Нам надо выучить репертуар и давать концерты, а ты, дорогой, будешь нашим организатором и звукорежиссером. Это будет наш семейный подряд, — со смехом сказала Ира.
Ее слова о нашей будущей семье звучали так, как будто она уже все решила для себя о нас троих. Мне захотелось снять все границы, все барьеры, все преграды и довериться этой любви, в которой я ничего, как оказалось, до этого момента не понимала.
— А сейчас я предлагаю для того, чтобы нам больше сблизиться, сделать друг другу массаж. Я приглашаю вас в мою келью, это очень интимное место, и я туда редко кого пускаю.
Мы пошли в ее спальню. Посреди нее стояла двуспальная кровать. Ира зажгла три свечи, при свете которых мы начали неловко раздеваться.
— Давай сначала сделаем массаж нашему любимому мужчине, — предложила Ира.
Она налила массажное масло в ладони мне и себе и начала массировать. Муж истомно покрякивал. Потом очередь дошла до меня. Руки Иры были крепкими и без всякого стеснения массировали мое парализованное, скрюченное тело. Было больно и приятно. В конце массажа она поцеловала меня в ушко. Мы засмеялись. Настала очередь Иры. На ней были красивые кружевные трусики, и мне стало стыдно за свои старые линялые трусы. Я массировала спину, а муж — ноги. Хотя Ира была полновата, тело ее было очень упруго. Кожа гладкая и ровная, без изъянов. Когда я массировала ее ладони, она на короткое мгновение сжала мои пальцы. Я наклонилась и поцеловала ее в губы, ее губы ответили на мой поцелуй. Я легла рядом и стала ее целовать. Я не помню, чтобы я так страстно целовалась еще с кем-нибудь. Наши руки стали скользить по нашим телам и дошли до самых интимных мест. Там было горячо и влажно. Мы стали двигаться в такт, не переставая целоваться. Бедный муж пытался присоединиться к нам, но Ира отодвинула его рукой. Ему оставалось только смотреть. У меня все сжалось, застучало и отпустило. Мое напряженное тело обмякло. Ира повернулась к мужу и стала целовать его. Я смотрела со стороны, как мой собственный муж занимается сексом с другой женщиной. Ира кричала и зачем-то била его в грудь. Муж не останавливался, видимо, это ему уже было привычно. Я вспомнила, как месяца два назад увидела на его заднице пять глубоких царапин, происхождение которых он не смог мне объяснить, сказал, что даже и не заметил, когда поцарапался. Когда они закончили, я спросила об этих царапинах. Ира с мужем заговорщицки улыбнулись, и Ира сказала:
— Ой, лучше я не буду говорить тебе, что там между нами было. Там было тако-о-ое.
Они оба засмеялись. Мы вышли из спальни в зал и сели в кресла. Ира отдала мне свою шаль накинуть на голые плечи и сама надела легкий халатик, муж просто натянул свой свитер. Возникла неловкая пауза. Я смотрела на Иру и с интересом ждала, что будет дальше. Лицо Иры стало серьезным, и она неожиданно спросила меня:
— Лиля, ты любишь своего мужа?
— Да, люблю, а почему ты спрашиваешь?
— А за что ты любишь своего мужа? — проигнорировала Ира мой вопрос.
Она меня спрашивала так, как будто она мой психотерапевт и хочет поставить мне диагноз. Мне стало зябко, я потеплее закуталась в платок.
— Ну… он умный, хороший отец, — растерянно проговорила я, совершенно не готовая к такому повороту событий.
— А я его люблю потому, что люблю. Просто так. Ни за что.
Блин, вот, оказывается, какой был правильный ответ. Я осталась в дурах. Муж пренебрежительно ухмыльнулся:
— Потому что умный!
Откуда у него это злая ирония? За что он так со мной? Он на ее стороне, смотрит на нее типа: «вот видишь, как все запущено, видишь, с кем я живу.» Ира посмотрела на меня строго:
— Я не хочу разрушать вашу семью, я хочу просто любить. Твой муж рассказывал мне много о тебе, и я вижу, что ты его не любишь и не уважаешь. За что ты не любишь и не уважаешь своего мужа? Это ты позвала меня в свою жизнь. Зачем ты меня позвала?
Ее слова повергли меня в шок. Я не сразу смогла опомниться, но потом справедливо, как мне кажется, возмутилась:
— С чего ты решила, что я своего мужа не люблю и не уважаю? Я прожила с ним семнадцать лет, ращу с ним детей. Что ты вообще знаешь обо мне? Почему ты судишь меня по его словам? Да, у меня много обид накопилось за эти годы. Он ходит без меня на танцы, развлекается один, оставляя на меня детей. Он вообще не принимает участия в их воспитании. Я одна бьюсь с сыном, он очень упрямый мальчик, стал зависим от игр, не делает уроки. Сколько раз я говорила об этом. А что сделал отец? Ничего. Он занят только собой любимым. Ищет любви и внимания со стороны женщин. И теперь вы сговорились обвинять меня, что это из-за меня, из-за того, что я ему этого не даю.
— Я занимаюсь детьми, — возразил муж. — Это ты всех контролируешь, дети приходят ко мне за материнским теплом. Я вместо тебя для них мама.
— Это функция отца — наставлять их и мотивировать на достижения. А мать должна только кормить и любить своих детей, — заговорила Ира на своем профессиональном языке.
— Да я бы с удовольствием это делала, если бы их отец был отцом, а не самовлюбленным танцором. Он только и может меня обвинять. Я никогда не забуду, как сразу после первых родов я сильно заболела. Я не могла одеяло на себя натянуть без боли. А мне приходилось брать ребёнка из кроватки, кормить ее, пеленать, всю ночь ходила с ней на руках, дочь плакала, не могла спать. Я жалела мужа, хотела, чтобы он высыпался перед работой. Я помню, как попросила его хоть раз побаюкать дочь. Его хватило на пять минут. Потом он взбесился и стал ее трясти от злости.
— Знаешь, все твои обиды никуда не делись, они накопились в твоем сердце, делая его черным и больным. Твой муж устал от тебя, а я просто его люблю и дарю ему радость и ничего не требую взамен, он мне ничего не должен. Ты говоришь, что любишь его, но что ты знаешь о настоящей любви? В настоящей взрослой любви партнеры растут оба. Твой муж ушел далеко вперед, а ты осталась на месте.
Мне нечего было ответить на ее суровые слова. Наверно, я не люблю мужа, и это моя самая большая вина перед ним. Я посмотрела на мужа: он тоже серьезно и холодно смотрел на меня. Если нет любви, то зачем мне его держать? Значит, надо отойти в сторону, отпустить, отдать его новой любви? Вон как смотрит он на нее, так он на меня никогда не смотрел. Все кончено. Для меня все кончено.
— Что теперь будет со мной? Как мне теперь жить без мужа? — растерянно произнесла я.
— Дорогая, ты потеряла себя. Займись собой. Я думаю, нам всем пора отдохнуть, уже два часа ночи, — сказала Ира. — Я приготовила вам постель в комнате сына.
— Нет, — сказала я. — Вы ложитесь вместе, я лягу одна. Мне о многом надо подумать.
— Ты уверена? — Ира удивилась.
— Да, я хочу побыть одна.
Я надеялась, что хотя бы сон прервет мои тяжелые мысли, а наутро все будет выглядеть не так катастрофично. Муж с Ирой ушли в спальню, пожелав мне спокойной ночи.
Полная луна, как яркий софит, освещала комнату. Прозрачный тюль висел кулисами с двух сторон от окна и нисколько не спасал меня от света луны. Как тут заснуть? Я стала рассматривать комнату. Видно было, что в ней давно не было ремонта: на стенах висели старые вылинявшие обои, на полу лежал протертый палас, полированная мебель была еще с советских времен, стоял старый телевизор, а в углу я заметила две невесть откуда взявшиеся театральные алебарды. Видимо, эта комната использовалась как склад ненужных вещей, которые и выкинуть жалко, и использовать уже нельзя. Я закрыла глаза и попыталась заснуть.
Но тут я услышала сладострастные стоны, характерный скрип кровати, женские вскрики. Блять, у меня тут жизнь рушится, а они там трахаются! Они даже дверь не закрыли. Попыталась закрыть свою дверь, но ее заклинило. Двери в этой комнате изначально закрывались как в купе, но теперь они были сломаны. Зачем мой муж меня сюда привез? Он обещал провести нас всех «по тонкому мостику, через все преграды и опасности, чтобы мы смогли жить счастливо одной семьей». Одной семьей?! Серьезно?! Теперь мой законный муж трахается в комнате с открытыми дверями, а я лежу тут в чужой кровати, на чужом белье, в чужой квартире, в чужом городе. Как я могла поверить ему? Не надо было мне приезжать. Что я хотела здесь получить сама, зачем ехала? Не за тем же, чтобы сейчас слушать, как они там занимаются сексом. Сука, ну надо же так стонать!
Я вскочила и со всей силы дернула дверь, она с трудом поддалась и закрыла половину дверного проема. В соседней комнате засмеялись, и женский голос попросил закрыть дверь. Дверь в их комнате закрылась. Звуки стали глуше. Я же сама предложила им уединиться, оставить их в покое. Я же сама решила, что я плохая жена, что не люблю и не уважаю мужа. Вернее, я согласилась со словами Иры. Я всегда со всеми соглашаюсь. Как часто мама меня подсаживала на чувство вины, чтобы я выполнила ее просьбу. Придурок, как он не понимает, что так делать нельзя, это бесчеловечно по отношению к жене, с которой прожил семнадцать лет! Как мне теперь с этим жить?
Мне хотелось выть от ярости, разбить окно, и пусть морозный воздух ворвется в эту безнадежную комнату, откуда женщина не может найти выхода, ей нет выхода из комнаты, ей нельзя переступать порог, она не имеет права мешать двум влюбленным, ведь она верит в любовь! Сколько прочитанных книг, стихов, сколько спето романсов и просмотрено фильмов, сколько услышано сказок про любовь. Почему ей можно все, а мне ничего? Почему в нее влюбляются, а на меня никто и не смотрит? Это же я мечтала с детства влюбиться и пронести чувство через всю жизнь, несмотря на неидеальность своего возлюбленного. Это же я страдала со всеми героями романов. Это же я фантазировала, читая книгу, засыпая, просматривая фильм. Жизнь несправедлива ко мне! Куда бы выкинуть этот никому теперь не нужный груз искусства? Как все оказалось некрасиво. Совсем не как в кино. Вот на тебе, ты хотела пострадать. Вот тебе любовный треугольник. Только он какой-то кривой получился. Вершина треугольника с каждой минутой вырастала вверх, вытягиваясь в сверкающий клинок вендетты.
При лунном свете поблескивал потухшим экраном старый телевизор. И тебя сюда свалили, чтобы не мешал хозяйке очаровывать чужих мужчин. Вдвоем мы тут с тобой. Простоишь ты тут еще пару лет, отключенный от всего яркого живого мира, и отвезут тебя на помойку. А у меня для тебя есть конец гораздо интереснее.
Две алебарды при свете луны переливались серебром, привлекая мой взгляд. Подошла и взяла одну: тяжелое толстое древко, наконечник в причудливых узорах, тупой. Подняла алебарду на плечо. Сейчас будет очень громко. Никогда не била посуду, была покладистой и послушной девочкой, чтобы мама не ругала. Я посмотрела в серый экран телевизора, увидела свое темное неясное отражение, и, кажется, оно мне злорадно улыбнулось. Давай!
Алебарда мощно вошла в телевизор, тот сразу крякнул и раскололся. Но вытащить алебарду я не смогла, крепко застряла. Взяла вторую. Следующей целью стал старый шкаф. Крепкий шкаф не хотел сдаваться. Не смогла воткнуть в него алебарду. А-а-а-а-а, вот тебе скотина за все, получай, сволочь! Доверься мне, значит, закрой глаза, значит, проведу по тонкому мостику. Дебил, урод, танцор хренов! Любви ему захотелось. Я, значит, хилая сосенка, недоразвитая. Значит, сексом со мной можно заниматься, а любить при этом другую и еще мне прямо об этом говорить?! Эта Ира мне будет уроки давать из жалости. Сразу, значит, меня не будете выкидывать на помойку, подержите возле себя годик-другой. Ну спасибо, любимый. Тварь, выродок, нарцисс проклятый! Вот еще дверь со стеклом. На, получай. Алебарда полетела, но в это время дверь неожиданно поехала в сторону, и алебарда нашла себе другую цель — голый живот моего мужа, на котором спали когда-то наши маленькие дети. Кровь, кровь, кровь. Много крови. Море крови. Вижу большой искривленный рот Иры, она что-то кричит, но я уже не слышу. Мир медленно погружается во тьму-у-у-у-у…
Есть ли жизнь после смерти? Если нет, то почему я слышу чьи-то голоса?
— Кажется, она просыпается.
— Лиля, ты слышишь меня? Как ты себя чувствуешь?
— Где я?
— Мы в Тольятти у Иры. Ночью мы проснулись от твоего крика. Мы так испугались, мы думали, ты умираешь или сошла с ума, или то и другое вместе. Ты бредила во сне.
Передо мной сидел живой и невредимый муж, солнце вовсю светило в окно. Неужели это был просто сон? Кто дал мне шанс начать все с начала? Кто подарил мне вторую жизнь? Господи боже всевышний, всемилостивый, всеблагой, иже еси на небеси, если ты там где-то есть, благодарю тебя, как бы тебя ни называли люди.
— Ты плачешь или смеешься, не пойму? Лиля, с тобой все в порядке? Может, все-таки врача вызвать? — беспокоился муж.
— Не надо, все хорошо. Ира, откуда у тебя эти две алебарды?
— Это не алебарды, это эспонтоны. У меня сын занимается реконструкциями боев, ходил до армии в исторический клуб.
Ира открыла шкаф и показала мне старинную, вышитую золотом форму.
— Передай своему сыну, что я его люблю.
— Чего? Что с ней? Что она несет?
— Понятия не имею.
Я посмотрела на них, на этих двух таких далеких и уже чужих мне людей, потом встала и подошла к окну. Зимнее солнце было щедрым совсем не по-питерски. Пора ехать домой. И тут я вспомнила четвертую фразу моего женатого возлюбленного: мы еще живы, и поэтому все возможно.

