Январь 2021
Лаки
Литературный конкурс Гильдии словесников: Учителя
Литературный конкурс среди школьников: 2-6 классы
Литературный конкурс среди школьников: 7-8 классы
Литературный конкурс среди школьников: 9-11 классы
Медвежья лапа
Письмо богу
Слово произнесено
Стихотворения конкурса «Вижу текст»
Архип
Босоножки
В аду
Вечеринка с карликами
Вскользь
Глаз Давида
Девочки
Диалоги о рыбалке
Догхантер
Дорога Ады
Еще поживем
Желтая лошадка
Желтый пляж уходит в море
Запыленный чердак
Иголка
Казя-базя
Как вас зовут?
Китайские методы управления энтропией
Красная тесьма
Красное платье
Лидка
Махровая пуля
Перекресток
Подарок
Помогло
Понедельник
Портфель
Почему он так дышит?
Птица
Самопал
Солнышко
Успел
Хранительница
Эффект дикобраза
Василий-картонка
Дождливая неделя
Как мы с Колей играли в пиратов
Камнерез на колесиках
Крыска
Маковое поле
Мыши, Кристи и суицид
Побег
Приключения осьминога Паула
САНЁК
Сказки о тех, кто вылупляется из скорлупы
Скучно
Стены между нами
Стихи о кошках
Стихи о собаках
Чем могут быть интересны летающие шарики
Яблоко из Ведьминого сада

12 книг о писательстве
Иногда писатели на вопрос «Как написать книгу?» отвечают: «Садись и пиши!». Но если бы написать роман или сценарий для сериала было так просто, все бы уже стали писателями. Начинающим авторам может помешать неуверенность в своих силах, поверхностное знание индустрии или просто непонимание, как подступиться к книге. Дело тут не только в самом тексте.
Наши друзья и партнеры — издательство «Альпина Паблишер» — собрали 12 книг, в которых профессионалы делятся советами и практиками: как преодолеть блоки, кем вдохновляться, как работать на структурой и персонажами и как потом продать получившийся шедевр. Целая библиотека учебников для писателей и сценаристов. Для наших подписчиков действует промокод CWS15 на скидку 15%.
Начать писать
Классическое пособие Юргена Вольфа рассказывает об искусстве повествования и о том, как организовать свое время и довести произведение до конца. Вольф объясняет, как бороться с самыми частыми страхами, вроде боязни отказа, помогает найти свою нишу и начать писать. Ещё в книге он пишет о том, как справляться с критикой, бороться с отвлекающими факторами и продавать свое произведение. Иными словами это полное практическое руководство начинающего писателя.
Журналист Егор Апполонов написал, наверное, самый подробный гид по писательскому мастерству. В первой части книги вам предстоит пройти путь писателя: от создания романа до его издания. С чего начать работу, как преодолеть писательский блок, где брать идеи, темы, убедительных персонажей и как найти свой стиль. Вы узнаете о подводных камнях самиздата и особенностях работы с издательствами. Вторая часть книги — диалоги о ремесле с известными писателями, в которых они делятся своими советами и секретами мастерства.
Рассказать историю
Роберт Макки История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только
Писательство — умение рассказывать истории. Макки предлагает отказаться от обычных сюжетов и создать сильную драматическую структуру. Выбрать героя, найти событие, нарушающее порядок вещей, перейти к преодолению препятствий, довести дело до кризиса, показать, как герой решается на единственно верный шаг, а затем побеждает или проигрывает. Вы научитесь строить такие истории везде: от презентации до великого романа.
К. М. Уэйланд. Архитектура сюжета: Как создать запоминающуюся историю
Эта книга о структуре повествования — конструкции, на котором держится весь сюжет и все произведение. Такая конструкция помогает подступится к писательству, создать убедительные сюжеты и объемные характеры. Когда у вас есть структура, писать по ней проще простого.
Дэвид Говард, Эдвард Мабли, Фрэнк Даниэль Как работают над сценарием в Южной Калифорнии
Это учебник по предмету «Кинодраматургия» в Школе кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, лучшей киношколе США. Книга посвящена двум основным: как определить, что история интересная, и как изложить ее интересно.
Все это применимо не только к кинофильмам, но и к сериалам, документальному кино, новостным сюжетам, спортивным трансляциям, ток-шоу и даже к концертам. Иными словами, хорошая история — основа любого текста.
Проработать персонажей
Кристофер Воглер. Путешествие писателя: Мифологические структуры в литературе и кино
В основе любой увлекательной истории лежит путешествие героя: внутреннее или внешнее. Кристофер Воглер написал учебник, который объясняет, зачем такое путешествие нужно и как его построить, чтобы читатель буквально телом чувствовал всё, что происходит в истории. Чтобы у него сжимало живот и перехватывало дыхание. В Голливуде книга стала классическим учебником по сценарному мастерству, у Воглера точно есть чему поучиться.
Роберт Макки. Диалог: Искусство слова для писателей, сценаристов и драматургов
Диалоги и речь героев — самое трудное в писательстве. Достаточно немного не угадать, и читатели почувствуют халтуру. Кажется, что научиться писать речь невозможно: это либо дано, либо нет. Роберт Макки рассказывает о диалогах вообще всё: на чем выстраивать структуру, как подбирать речь под персонажа и делать её живой. Ваши герои заговорят так, что каждый читатель им поверит.
Арка персонажа или героя — изменения, которые происходят в его жизни, и приводят его к цели. Например, трансформация Гарри Поттера от забитого мальчика, который не верит, что он избранный, до героя, который спасает целый мир. Если персонаж на протяжении истории не развивается, он не интересен. Если бы Поттер так и остался мальчиком под лестницей, он не смог бы победить Волдеморта. Умение выстроить арку персонажа — ключевой навык автора любого литературного произведения. О том, как это сделать и рассказывает Уэйланд в своей книге.
Кристофер Воглер, Дэвид Маккенн Memo: Секреты создания структуры и персонажей в сценарии
Кристофер Воглер и Дэвид Маккенн проанализировали более 40 000 сценариев самых разных жанров. Memo – один из множества описанных в книге методов анализа и работы над структурой повествования и персонажами. В книге разбираются подходы от характеров Теофраста и морфологии волшебной сказки русского филолога Владимира Проппа до авторских методик самих Воглера и Маккенна. К каждой главе авторы добавили практическое задание для тренировки, чтобы вы смогли отточить навык прямо по ходу чтения.
Лайош Эгри. Искусство Драматургии: Творческая интерпретация человеческих мотивов
Драматург и преподаватель Лайош Эгри уверен — необязательно быть гением, чтобы написать увлекательную пьесу для театральной постановки. Прежде всего, нужно найти идею — замысел, на котором будет строиться произведение. Лайош рассказывает, какую роль в действительности играют персонажи и почему они начинают «писать свой собственный сценарий», где черпать вдохновение и стоит ли писателю всецело полагаться на интуицию.
Вдохновиться опытом гениев
Ричард Коэн. Писать как Толстой: Техники, приемы и уловки великих писателей
Ричард Коэн — редактор и издатель. Для этой книги он собрал советы и секреты мастерства самых разных писателей. Лев Толстой, Марсель Пруст, Иэн Макьюэн, Джулиан Барнс и другие авторы станут вашими учителями. В книге Коэн рассказывает о том, как создавать сюжет, образы персонажей и диалоги; объясняет, кого стоит выбрать на роль рассказчика и почему для романа так важны ритм и ирония; учит, как редактировать собственные произведения. И все это с позиций гениев.
Продать произведение
Анна Гудкова Питчинг: Как представить и продать свою идею
Представьте, что вы написали киносценарий и попали в один лифт с Дэвидом Линчем. Вам нужно продать ему сценарий за две минуты, что будете говорить? В этой ситуации пригодится знание питчинга. Питчинг — презентация вашего проекта потенциальным инвесторам. Книга Анны Гудковой объясняет, как его освоить. Она научит разговаривать с большим миром и быть честным с самим собой, поможет отточить навыки soft skills, сделать первый шаг к работе мечты и не бояться идти навстречу новым возможностям. И, конечно, после прочтения вы сможете продать сценарий Линчу в лифте.

Алексей Олейников: «Проза — это работа, которая происходит в тебе постоянно»
Алексей Олейников — писатель, журналист, учитель, главный редактор журнала детской и подростковой литературы «Переплёт». Он автор полутора десятков книг, в том числе недавно вышедшего графического путеводителя по «Евгению Онегину». Весной Алексей проведет в Creative Writing School две новые мастерские для юных авторов — «Фэнтези: как вырастить мир» и «Осознанное чтение для подростков». Выпускающий редактор электронного журнала «Пашня» Юлия Виноградова и детский писатель Дарья Сафонова поговорили с Алексеем Олейниковым о школьной программе, пишущих подростках, фэнтэзи и комиксах.
Вы учились в МАИ, потом его оставили и пошли в Литературный институт. Как вы оцениваете свою учебу?
Все очень индивидуально. Мне лично моя «недоучеба» в МАИ сильно помогала, потому что я с тех пор не боюсь естественно-научных дисциплин, мне близки физика и математика, и я, когда преподаю, нередко использую метафоры не из гуманитарной области. Мне вообще кажется, что нет лишних знаний. Учил ли ты латынь или всю жизнь занимался исследованием беспозвоночных — так или иначе это отражается на тебе, на том, как ты думаешь, как воспринимаешь мир, на языке, которым ты пользуешься.
А литературное образование? Нужно ли вообще писателю его получать?
Давайте я так отвечу: а черт его знает. Писатель, в отличие от, допустим, учителя, инженера или программиста, — профессия не массовая. Что и как пишет человек, всегда уникально, это всегда продукт его внутренней жизни, его внутреннего мира. То есть любой писатель создает сам себя. Вряд ли Литинститут или другая учеба испортят хорошего писателя, а помочь ему могут. А вот если человек не писатель, у него нет этого призвания, то можно внушить ему ложные надежды. Хотя с другой стороны, кто сейчас вообще следит за жизнью писателей? Поэзия и писательство наконец-то стали частым делом, поэтому никто ни от кого ничего не требует.
Вы начинали как взрослый автор. Как в вашей жизни появилась детская литература?
Еще до поступления в Литинститут я писал мистические, фэнтезийные рассказы. Не сказать, чтобы они были взрослые. Я, наверное, всегда внутренне тяготел к подростковой литературе, даже не к детской. Как-то радио «Серебряный дождь» проводило конкурс короткого рассказа. Понятно, что я там ничего не выиграл, но конкурс оказался стартовой точкой — я решил написать рассказ, и он оказался детским. Появился герой, появился целый мир, основанный на моем детстве в Ставропольском крае. Из этого рассказа вырос сборник «Велькино детство», который лег в основу моего диплома в Литинституте. Потом эта книжка вышла в издательской программе Москвы и получила премию «Заветная мечта» в номинации «литературный дебют». С тех пор все и поехало.
Расширяйте свой стилистический диапазон, который позволит говорить разными языками
Радостно слышать такую историю, потому что мы в CWS проводим много литературных конкурсов и очень надеемся, что люди, которые в них не выигрывают, все же получают новый опыт, толчок для своего творчества. А как писателю, который пишет для детей или подростков, понять, что им будет интересно?
В мире семь миллиардов человек, то, что вы напишете, обязательно будет кому-то интересно. Мы, конечно, можем попробовать зайти в целевые фокус-группы, но все это мне кажется играми маркетологов. Мне кажется, способ один — если ты хочешь писать для подростков, надо просто чаще общаться с подростками. Надо наблюдать, регулярно слышать, как они разговаривают, чем интересуются, как двигаются, на чем катаются и так далее. Ты должен знать свою аудиторию. Подростки четко чувствуют фальшь, малейший сбой интонации, всякого рода подделку, но, как и все люди, любят хорошие истории. Если вы делаете хорошую историю с крепко собранным сюжетом, то любой человек включится. Пишите так, чтобы самим было интересно. Читайте максимально разные тексты. Это универсальный совет для всех — расширять свой стилистический диапазон, который позволит говорить разными языками, вставать на разные позиции и выстраивать сюжет тоже по-разному.
В конце января у вас начинается курс писательского мастерства для подростков «Фэнтези: как вырастить мир». Имеет ли смысл учить подростков писательскому мастерству?
Конечно, тем более, когда у подростка есть такой запрос. Я вижу детей, которые приходят, потому что им интересно, у них есть желание, но нет языка. Иногда у подростка есть формы, но они чужие, списанные из прочитанных ранее текстов. Один приходит за тем, что ему хочется научиться доводить истории до конца, потому что он начинает и бросает. Другой вязнет в описаниях и никак не может выстроить сюжет. Третий хочет писать фэнтези, но не знает, как. У четвертого не получаются короткие истории. Пятый приходит за философским объяснением, что происходит у него внутри. И все они могут собраться у меня на семинаре. Сказать, что у меня есть один рецепт на всех — большое лукавство. Поэт может выстрелить в девятнадцать лет, а писатель зреет долго, как сыр. Проза требует писанины, начитывания, обдумывания, споров, ошибок — это противная работа, которая в тебе происходит постоянно. В этом смысле хороший семинар дает сильный импульс для роста.
Насколько востребованы фантастика и фэнтези у детей?
У детей, которые читают, этот жанр традиционно востребован и из-за общей фантастичности сюжета, и в силу легкости вхождения в мир. Современные дети много играют и смотрят сериалы, аниме, где существуют те или иные фантастические допущения, поэтому они легко включаются в эти игры, им привычен этот язык. Мир условного Шекли им ближе, чем мир Бунина или Тургенева. Я, когда читал с детьми «Тарас Бульба», так и объяснял: представьте, что это фэнтези. И когда мы меняем оптику, выясняется, что ничего, можно и почитать. Я помню, что когда читал Крапивина в детстве, испытывал невероятную тоску по другим возможностям существования, по тому, что еще не случилось. Сейчас дети не так романтично настроены, но все равно их сознание гораздо более подвижное. Поэтому и фантастика, и фэнтези им, конечно, близки.
На что стоит обратить внимание автору, который хочет написать фантастический текст? Где стержень у этого жанра?
Это сюжет. Начать лучше с сюжетных рассказов, а потом уже можно подниматься к вершинам жанра. Неважно, что ты сочиняешь, нужно, чтобы это читалось интересно. Ты можешь брать двумя вещами: либо языком, либо сюжетом. Сюжетом брать легче, потому что язык долго нарабатывается, его надо начитывать, выписывать. А сюжет тянет за собой всю необходимую структуру мира и язык, он тебе скажет, когда можно ускорять темп, когда не задерживаться на описаниях, притормозить читателя, заставить его пожить в пространстве, которое ты создаешь.

В комиксе, графическом романе те же правила действуют?
Нет, в комиксе вообще все по-другому.
— Расскажите! У вас есть опыт создания графической новеллы в стихах «Соня из 7 буэээ».
Стихотворный комикс — особенный жанр, где первоочередным был стихотворный длинный нарратив, на который мы нарастили визуальную составляющую. А в классическом комиксе важнее всего сюжет, лихо закрученная история. Часто, когда комиксы рисуют сами художники, начинает хромать сценарная часть, сама история рассыпается, хотя нарисовано все может быть прекрасно. В комиксе ты, как писатель, говоришь не только словами, но и визуальным языком. Нужно найти художника, который понимает тебя, и выступать с ним соавтором, нужно, как режиссеру, выстраивать кадры, понимать, как та или иная сцена может быть отображена.
Недавно у вас вышло продолжение «Сони».
Да, Соня повзрослела, она девятиклассница, почти уже взрослый человек со сформировавшимся взглядом на мир, немножко лирическим, немножко саркастическим. Это история про человека, который уже прошел бетономешалку буллинга. Ее сильно беспокоит ОГЭ, появляется намек на первую любовь, здесь есть и очень мощный пацифистский заряд. Это другой человек и другая история — и по тональности, и по настроению, и по подаче.
Есть ли место комиксу в современной школьной программе?
Да, я периодически использую комикс, в том году брал «Я слон» Лены Ужиновой и Владимира Рудака. Это очень хороший комикс, стендап от лица инвалида. Я еще использовал комикс как методический прием: допустим, читали мы «Беовульфа», и я потом предлагал взять любую сцену и представить ее в виде комикса.
Надо отдать учителям право составлять программу по литературе
Сегодня у учителя в школе есть достаточно свободы на такие эксперименты?
Ты закрываешь дверь и волен говорить о чем угодно. Проблема в том, что у учителей нет сил, ресурсов и готовности узнавать что-то новое, потому что они завалены работой, адовым количеством нагрузки. В целом, никаких новых, инновационных и головокружительных подходов в преподавании литературы нет. Каждый учитель решает эту проблему по-своему, в меру своих сил ищет своих единомышленников, как, допустим, Гильдия словесников. Литература не входит в перечень обязательных предметов, как математика или русский, и в этом случае есть свобода. Мне сложно говорить однозначно об учителях государственных школ, потому что я работаю в частной, и там свободы намного больше. И я, конечно, не могу осуждать своих коллег, которые не готовы выходить за пределы учебного плана и обсуждать Дашевскую вместо «Мцыри», хотя и Дашевская, и Лермонтов прекрасные авторы.
Насколько вы сами включаете современный детлит в свою программу преподавания?
В некоторых классах включаю, в некоторых нет. Скорее, речь идет о том, что мне интереснее брать авторов, которые могут зацепить конкретно этот класс, конкретно этих ребят. Я часто использую тексты, не входящие в школьную программу: Шекли, Брэдбери, сборники «Волчка», в которых в том числе были и Ася Кравченко, и Нина Дашевская, и Маша Ботева, и Женя Басова. При вдумчивом чтении нет проблемы, какой текст ты берешь — двухтысячелетней давности или наших современников. И то и другое с хорошей аудиторией, с хорошим классом легко разбирается.
А как классику сделать понятнее и ближе подросткам?
Мы выходим на глобальный вопрос — что в целом делать со школьной классикой? Я считаю, ее надо сильно разгружать, пересматривать весь курс школьной литературы сильно в сторону модернизации. А по большому счету надо отдать учителям право составлять программу по литературе. Чтобы у нас не было единого плана, а каждый учитель сам или в общении с детьми, родителями, администрацией составлял план чтения. Я всячески призываю к тому, чтобы ломать единое образовательное пространство. Проблема в том, что чем дальше мы движемся, тем более преподавание литературы XIX-XX веков превращается в преподавание истории культуры, быта и повседневной жизни. Я не понимаю, почему мы так сильно зациклены на XIX веке, хотя современная Россия — прямой наследник века двадцатого, советской литературы. А мы двадцатый век начинаем читать только в 11 классе.

Ваш «Графический путеводитель по Евгению Онегину» — это издание для подростков, которые не хотят читать «Евгения Онегина»? Или для учителей, которые хотят увлечь подростков?
Изначально это была идея художницы Наташи Яскиной. Мы понимали, есть текст и некоторый мир вокруг него. Заставляешь учеников читать Бродского, Набокова, и это совершенно неподъемная глыба, ледник, который лежит посреди девятого класса, и дети к нему подходят, робко трогают своими обледенелыми лапками и в ужасе убегают. Попытки издать иллюстративный комментарий к Онегину были достаточно классическими: академическое издание, на полях что-нибудь красивое нарисовано. Ни один подросток этот кирпич в руки не возьмет. Учителя тоже не будут пользоваться, у них и так сумка, полная тяжеленных тетрадей.
Наша книга обращена к старшим подросткам, потому что если вы не одолеете сам роман в исходном виде, то хотя бы попробуете понять, что здесь происходит, и чуть-чуть больше узнаете о той жизни. Белинский говорит, что Евгений Онегин — энциклопедия русской жизни, но проблема в том, что эту русскую жизнь мы уже не знаем. Мы далеки от Онегина настолько, насколько марсиане далеки от нас.
Работа и начиналась с того, что мы выписывали то, что непонятно. Непонятно, что долгами жил его отец, непонятно, что значит: «Надев широкий боливар,/Онегин едет на бульвар», почему Онегин сначала отказал Татьяне, а потом ее преследовал, непонятно, почему он убивает Ленского. Потом Наташа рисовала комиксовую часть, а я делал нон-фикшн развороты. Мы включали то, что что хорошо бы рассказать коротко, внятно, графически разжевать и передать краткое содержание эпохи.
— Планируются ли путеводители по другим писателям из школьной программы?
— Изначально, когда мы задумывали серию, у меня был перечень авторов и текстов, за которые я бы хотел взяться — и за «Пиковую даму», и за «Медного всадника», и за «Горе от ума», и за «Мертвые души». «Преступление и наказание» и «Война и мир» — тоже очевидные кандидаты, но это уже коллективная работа, одному не потянуть.
— Где родителям, которые хотят помочь своим детям найти хорошую литературу, самим искать информацию? На чьи обзоры имеет смысл ориентироваться?
— Есть LiveLib, сообщество, где публикуют довольно здравые обзоры. Как ни странно, на сайте BabyBlog бывают внятные подборки — увлеченные мамы собирают разного рода книжки. Иногда там бывают разборки в стиле «давайте скинем Чуковского с парохода современности, а то там у него ужастики», но это общая травма родительских сообществ. Как ни странно, неплохие обзоры встречаются на сайте Лабиринта.
Из профессиональных ресурсов в первую очередь посоветую ПапМамБук: там есть подборки по возрастам, и сами подростки пишут рецензии. В Facebook есть группа журнала «Переплет» о детской литературе, который я делаю сейчас. Есть ежегодный каталог «Сто лучших детских книг», который делает центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара вместе с издательством «Самокат». Раньше в РГДБ выходил ежеквартальный каталог по лучшим новинкам детских книг.
Есть блогеры: Дмитрий Гасин, Валерия Мартьянова, Ольга Лишина. Есть лекции и всякого рода рекомендации от критика Ксении Молдавской. Можно пойти на сайт федерального конкурса по детской литературе «Книгуру», там выкладываются рукописи, можно почитать, посмотреть. Можно смотреть шорт-листы премий имени Крапивина и «Новая детская книга» (там как раз много литературы фэнтези, мистики, фантастики).
Наконец, такие обозреватели как Лиза Биргер, Наталья Ломыкина, Наталья Кочеткова периодически касаются детской литературы, в «Афише daily», «Esquire», «Снобе», Коммерсанте иногда бывают тематические публикации.
Не так много источников, как хотелось бы, но если целенаправленно следить за темой, вполне можно разобраться.

Пять писательских упражнений от известных авторов
Пианисты упражняются в гаммах, чтобы практиковать ритм и чувство времени. Художники могут делать сотни набросков человеческой руки, чтобы научиться изображать ее реалистично. Танцоры могут бесчисленное количество раз практиковать танец, чтобы их движения и техника были безупречны.
Как и другие люди искусства, писатели могут оттачивать свое мастерство при помощи специальных упражнений. Писательница Николь Бьянки для проекта Medium собрала эффективные упражнения от известных, которые помогут вам отточить ваши писательские навыки. А мы их перевели.
1. Упражнение от Клайва Стейплза Льюиса: как создавать живые описания
В 1956 году всемирно знаменитый автор фэнтези Клайв Стейплз Льюис ответил на письмо от юного поклонника и поделился с ним пятью правилами хорошего письма.
Четвертое правило из его письма может послужить отличным писательским упражнением:
Не используй прилагательные, которые просто говорят нам, как нам относиться к описываемой тобой вещи. Я имею в виду, что вместо того, что описывать вещь как «ужасную», опиши ее так, чтобы мы действительно ужаснулись. Не говори, что что-то было «прелестным»: заставь нас сказать «прелестно», когда мы прочтем твое описание. Все эти слова (как «страшный», «чудесный», «омерзительный», «восхитительный») просто как будто говорят читателю: «Пожалуйста, сделай эту работу за меня».
Вот как можно превратить это в конкретное упражнение. Возьмите последнюю редакцию вашего произведения или черновик, над которым вы работаете прямо сейчас. Выберите место, где вы описываете что-то исключительно такими прилагательными, как «чудесный» или «ужасный». Попытайтесь заменить их более живыми описаниями.
Кроме того, посмотрите, нет ли в вашем тексте мест, где вы описываете что-то при помощи прилагательного, которое уже подразумевается самим существительным: например, «белый снег». Очевидно, мы все знаем, что снег белый, так что прилагательное здесь излишне.
Можно ли описать снег каким-то более живым способом? Возможно, стоит воспользоваться метафорой или сравнением, которые заставят читателя взглянуть на снег будто в первый раз? А возможно, снег уже и вовсе не белый, а коричневый и грязный.
2. Упражнение от Эрнеста Хемингуэя, которое поможет вам отточить свои наблюдательные навыки
В 1930-е годы 22-летний молодой автор по имени Арнольд Самуэльсон отправился во Флориду в надежде получить совет от писателя, который был для него идолом: Эрнеста Хемингуя.
В конце концов, Хемингуэй пригласил Самуэльсона на рыбалку и поделился секретами писательского мастерства прямо в море.
Хемингуэй попросил его выбрать какую-нибудь наблюдательную позицию и пересказать в коротком тексте все, что он видит. Самуэльсон описывал рыбалку, а вы можете выбрать любое событие, которое происходит, пока вы работаете, или закупаетесь в магазине, или обедаете в ресторане, или играете со своими детьми.
Представьте, что вы художник, который путешествует со своим альбомом, чтобы зарисовывать в него все, что он видит. Обращайте пристальное внимание на все, что происходит вокруг, и на все эмоции, которые вы испытываете.
Вот что сказал сам Хемингуэй:
Смотри на то, что происходит сегодня. Если речь идет о рыбалке, то смотри, что конкретно делает каждый человек здесь. Если ты ловишь кайф от того, что рыба прыгает, попытайся понять и запомнить, какой именно момент дает тебе эти эмоции. Было ли это движение лески от воды или то, как она превратилась в скрипичную струну, или падение рыбы и брызг воды.
Запомни, каким именно был шум и что именно говорили люди. Выясни, что именно подарило тебе эти эмоции, какое действие тебя так возбудило.
Затем опиши это так, чтобы читатель видел и чувствовал все то же самое, что и ты. Это и есть опыт «всех пяти пальцев».
Это упражнение научит вас избегать любых неясностей и неопределенностей в вашем письме. Не говорите нам, что ловить рыбу — это здорово. Больше конкретики. Покажите нам, почему это здорово.
3. Упражнение от Деймона Найта: как создать захватывающие сеттинг и настроение
Неважно, пишете ли вы большой роман или работаете над рассказом, который хотите включить в книгу нон-фикшн, в публичную речь или на коммерческую страницу. Самое главное — это создать правильное настроение.
Оно не только сделает ваш текст более приятным для чтения, но и поможет вашим читателям получить эмоциональный контакт с вашими словами.
Обычно когда мы пишем, то пытаемся пробудить какие-то конкретные эмоции в аудитории: например, страх, или печаль, или счастье, или трепет. Создавая какое-то особое настроение через текст, мы как бы даем своим читателям понять, что именно они должны сейчас испытывать. Это настроение также помогает им погрузиться внутрь истории — так же, как вы сами не можете отлипнуть от экрана в самой напряженной сцене фильма.
Известный автор научной фантастики, обладатель многих наград Деймон Найт наполнил свою книгу «Создавая короткую прозу» (англ. Creating Short Fiction) многими полезными писательскими упражнениями.
Вот как он предлагает практиковать сильные сцены и настроение в одном из них:
Представьте себе героя, который сидит или стоит один в комнате, в которой вы находитесь сейчас. Посмотрите на эту комнату его глазами; напишите страницу или около того, в которой вы просто описываете комнату, не упоминая самого героя и никак не обращаясь к нему, но держа в голове, что ему только что сообщили по телефону, что его повысили в должности. (Представьте, что этот человек живет здесь, если эта комната — часть дома или квартиры; если нет, то представьте, что его работа имеет какое-то отношение к этой комнате.) Как это эмоциональное состояние окрасит его восприятие? Помните, что вам нельзя никак упоминать самого героя, даже через местоимение (например, «Я посмотрел на мебель»). Опишите только то, что он видит.
Теперь опишите ту же комнату, увиденную человеком, который только что получил звонок от серийного маньяка: «Я иду к тебе, чтобы убить». Следуйте тем же правилам, что и в первом случае.
Это великолепное упражнение поможет вам помнить о том, что нужно всегда связывать ваши описания с личной историей или эмоциями вашего героя. Не включайте в ваш текст описания ради описаний. Используйте их для того, чтобы задать определенное настроение.
4. Упражнение от Тони Моррисон: как выйти из вашей зоны комфорта и развить эмпатию
В интервью журналу «Nea Arts Magazine» нобелевский лауреат Тони Моррисон поделилась упражнением, который она давала своим студентам в Принстоне.
Когда я преподавала Creative Writing в Принстоне, то узнала, что [моим студентам] всю жизнь говорили писать о том, что они знают. Я всегда начинала свой курс со слов: «Не обращайте на это никакого внимания. Во-первых, потому что на самом деле вы не знаете ничего, во-вторых, потому что я не хочу слышать о вашей «настоящей любви», о ваших маме и папе и ваших друзьях. Подумайте о ком-то, кого вы не знаете. Что насчет мексиканской официантки в Рио-Гранде, которая едва может говорить на английском?.. Представьте этого человека и затем создайте его».
Я всегда поражалась тому, насколько это эффективно. Студенты всегда выходили за пределы своей «коробки», когда им разрешалось представить что-то далеко за пределами их собственного опыта. Я думаю, это была хорошая тренировка для них. Даже если, в конце концов, они решали писать автобиографию, то, по крайней мере, они могли посмотреть на себя как бы со стороны.
Это упражнение — потрясающий способ отточить ваше умение создавать трехмерных персонажей, в независимости от того, пишете ли вы фикшн или нон-фикшн. Это также помогает развить эмпатию, умение понимать, быть чутким к чувствам других и смотреть на мир чужими глазами.
Вы можете использовать это упражнение в связке с набором вопросов по типу «опросника Пруста» . Придумайте героя, который будет совершенно не похож на вас, и представьте, как он мог бы ответить на эти вопросы.
В книге Деймона Найта есть похожие упражнения:
Напишите историю о каком-то болезненном эпизоде из вашей собственной жизни, но от лица придуманного вами человека, который полностью отличается от вас. Измените его пол, возраст, профессию или все вместе. Попробуйте адаптировать этот эпизод к характеру и жизненным обстоятельствам этого героя <…>
Подумайте о ком-то в вашем прошлом, кто вызывает у вас только ярость и ненависть. Попробуйте написать историю с его точки зрения так, чтобы этот человек вызвал симпатию <…>
Эти упражнения должны выбить вас из привычной колеи — писать о людях одного пола, или только о приятных вещах, или только о тех, кто напоминает вас. Пока вы не заставите себя делать трудные вещи, как вы будете расти как писатель?
5. Упражнение от Джека Харта: как писать точными и сильными предложениями
Давайте закончим на небольшом редакторском упражнении, которое поможет вам сделать ваше письмо более точным, а ваши предложения — более легкими.
В своей великолепной книге «Создание истории» (англ. Storycraft), собравшей множество наград, Джек Харт делится одним редакторском советом:
Любое слово, которое не движет историю вперед, только замедляет ее. Это уже достаточный резон для того, что избегать слов-паразитов (англ. expletives): не только ругательства, но целый класс «пустых» слов. Большинство таких паразитов просто заполняют синтаксическую конструкцию. Самые частые — это «там были», «там был», «это был» и так далее.
Возьмем предложение вроде «На взлетной полосе было два самолета». Для чего здесь этот глагол, «было»? Ни для чего. Он просто позволяет превратить фразу «два самолета на взлетной полосе» в целое предложение.
Конечно, такие грамматические слова-паразиты не нарушают никаких языковых правил, и каждое из них не занимает много места. Но все вместе они нагромождаются друг на друга и замедляют ваше повествование.
Почему бы не ввести глагол, который сообщит вашему письму настоящую образность? Например, «два самолета выруливали на взлетную полосу», или «два самолета стояли без дела на взлетной полосе», или хотя бы просто «два самолета стояли на взлетной полосе»?..
Вот как можно превратить это в упражнение. Возьмите один из ваших недавних черновиков и устройте охоту на грамматические слова-паразиты, которые вы можете безболезненно исключить из вашего текста.
Харт отмечает, что даже слова вроде «начал» могут быть не нужны для описания какого-то действия. К примеру, вместо «Он начал ходить по комнате» можно написать просто «Он ходил по комнате». Вы всегда можете найти множество таких «пустых» слов во фразах со связующими предлогами вроде «в», «для», «к», «с» и так далее.
Вывод
Рэй Брэдбери как-то сказал:
Я знаю, что вы слышали это тысячи раз. Но это правда — тяжелый труд вознаграждается. Если вы хотите быть хорошим писателем, вам нужно практиковаться, практиковаться и еще раз практиковаться.
Эти пять упражнений — отличный способ «прокачать» ваши писательские навыки. Через такую практику вы сможете поднять ваше письмо на следующий уровень, более эффективно говорить со своими читателями и вдохновлять их.

Сторителлинг. Как написать отличную историю
В издательстве «Лайвбук» вышла книга писательницы Кэролайн Лоуренс «Сторителлинг. Как написать отличную историю». Этот учебник подойдет авторам всех возрастов, но особенно он будет интересен подросткам: он написан в легкой форме и наполнен примерами из из всевозможных историй — от «Гарри Поттера» и «Звездных войн», до «Алисы в Стране чудес» и античной мифологии. В учебнике около сотни приемов, которые используют профессиональные писатели для создания захватывающих историй. Мы представляем три короткие главки о персонажах, путешествиях и правополушарном письме.
Помощники и наставники
Существует немногочисленная категория историй, где герой совсем один противостоит, скажем, стихии. В качестве примера можно привести повесть американского писателя Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Иногда та же схема встречается и в кино: фильм «Не угаснет надежда» рассказывает о моряке, чья яхта потерпела крушение в море.
В большинстве же историй у главного героя есть друзья и помощники или хотя бы один помощник. У Шерлока Холмса есть верный друг и соратник доктор Ватсон. У Шрека — Осел. У Бэтмена — Робин.
Работая над своим книжным циклом «Римские тайны», я придумала, что у Флавии будет трое друзей: девочка и двое мальчиков. И у каждого будут сильные стороны и недостатки.
Эта идея пришла мне в голову, когда я перебирала свои любимые фильмы и вдруг сообразила, что во многих из них у героя есть три главных спутника или помощника.
Вспомни «Удивительного волшебника страны Оз», «Звездные войны», пиксаровский мультик «Вверх», «Властелина Колец» или «Гарри Поттера». Практически во всех приведенных примерах у героя трое или около того помощников.
ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК
У Дороти есть четвероногий друг Тото, но из троих персонажей, встреченных на дороге из желтого кирпича, самая крепкая дружба у нее возникает со Страшилой. Главный друг и помощник старичка Карла Фредриксена из мультика «Вверх» — девятилетний скаут Рассел. У Люка Скайуокера есть робот R2-D2, ничуть не менее преданный, чем верный пес. У Фродо есть Сэм. У Гарри Поттера — Рон Уизли. А в моих «Римских тайнах» роль такого друга играет Нубия.
Я называю этот тип персонажей «верный помощник», потому что они всем сердцем преданы главному герою. Обычно их способности удачно дополняют умения и навыки главного героя, поэтому из них получается отличная команда. Верный помощник обычно искренне заботится о герое, поэтому часто старается повлиять на его поведение. Во многих книгах и фильмах верный помощник спасает герою жизнь или возвращает его с того света. Есть истории, где верный помощник даже готов пожертвовать жизнью ради героя.
ТОТ, КТО ВСЕХ СМЕШИТ
В историях, полных трудностей и опасностей, порой просто необходимо посмеяться, чтобы сбросить напряжение. Такую возможность обеспечивает один из моих любимых типов персонажей — «тот, кто всех смешит». В «Звездных войнах» комическую нотку привносит робот C-3PO. Интересно, намеренно ли сценаристы сделали его немного похожим на Жестяного Дровосека? Среди персонажей мультфильма «Вверх» есть очень забавный пес Даг. В моих «Римских тайнах» эту роль выполняет мальчик Ионафан, сосед Флавии. Иногда комические персонажи выступают в паре, как Пин и Мерри из «Властелина Колец». А бывает, что комический персонаж и верный помощник — одно и то же лицо, как, например, Рон Уизли. Создавая свою историю, ты волен смешивать и сочетать роли.
ДИКАРЬ
Очень часто герою на пути к цели и по мере решения проблем встречается персонаж, который поначалу воспринимается как противник, но потом оказывается союзником. Вспомним хотя бы первое появление Трусливого Льва, когда он выскочил из кустов и зарычал. Сперва Дороти и ее друзья перепугались, но после обнаружили, что он обладает мягким характером, привыкли к нему и полюбили. Или возьмем встречу Робин Гуда и Крошки Джона на узеньком мосту через речку. Сначала они повздорили и затеяли драку, но постепенно стали закадычными друзьями. В таких персонажах сильно животное начало, поэтому я назвала их «дикарями». В «Звездных войнах» в роли «дикаря» — Чубакка, он, кстати, во многом напоминает Трусливого Льва. В мультфильме «Вверх» огромной птице по имени Кевин поначалу удается напугать нас, а потом мы узнаем, что она спешит домой к своим птенцам! В моем цикле «Римские тайны» в качестве «дикаря» выступает немой нищий мальчик по имени Люпус.
Смотря фильмы и перечитывая свои любимые мифы Древней Греции, я выделила еще один распространенный тип персонажей.
НАСТАВНИК
Наставник — это очень часто мудрый волшебник, который возникает в самом начале истории и объявляет герою: «Тебе предстоит пройти испытание и получить награду». Герой сомневается в своих силах, а наставник его подбадривает. «У тебя все получится! — говорит он. — Я всему научу тебя и буду во всем помогать». Наставник почти всегда вручает герою некий ценный предмет, часто наделенный магическими свойствами, который призван помогать в трудных ситуациях. Этот предмет называется «талисман».
Во многих историях в качестве наставника действительно выступает старый мудрый волшебник в длинных одеждах и с бородой.
Однако это необязательно. В мифе о Тесее наставницей героя становится его мать Эфра. Она рассказывает Тесею, что, как только тот обретет такую силу, что сможет поднять огромный камень, он должен будет отправиться в путь, на поиски удачи. Когда Тесею исполняется шестнадцать, ему наконец удается поднять камень, под которым он обнаруживает меч своего отца. Это и есть его талисман.
В книге «Удивительный волшебник страны Оз» роль наставницы играет Добрая Волшебница Севера, она велит Дороти следовать по дороге из желтого кирпича и дарит ей талисман — серебряные башмачки. В первой книге Рика Риордана о Перси Джексоне Хирон дает Перси ручку, которая превращается в меч. В «Звездных войнах» Оби-Ван Кеноби вручает Люку световой меч, некогда принадлежавший его отцу. А во «Властелине Колец» Гэндальф передает Фродо Кольцо Всевластия — пожалуй, самый известный талисман в современной литературе.
Поскольку наставник нужен герою главным образом для обучения, рано или поздно наступает момент «выпускных экзаменов», после которых герой продолжает путь в одиночку и должен продемонстрировать, чему научился. Вот почему наставник часто погибает или исчезает примерно через три четверти повествования. В отдельных случаях он снова появляется ближе к финалу, чтобы еще разок напоследок помочь герою или поздравить его с выполнением задания.
Некоторые наставники на поверку оказываются ненадежными (их еще можно назвать «антинаставниками»), а иногда наставник даже превращается во врага, противопоставляя свои цели и желания целям героя.
АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ
Эти пять разновидностей персонажей — главный герой, верный помощник, тот, кто всех смешит, дикарь и наставник — встречаются в тысячах книг и фильмов. И хотя некоторые термины для их обозначения я придумала сама (скажем, «тот, кто всех смешит» или «дикарь»), тем не менее абсолютно все писатели знают об их существовании, даже если привыкли именовать их иначе. Мы называем их «архетипами», что означает «древний тип», потому что все они уходят корнями глубоко в мифологию.
Эти архетипические персонажи и поныне выполняют свои функции с таким же успехом, как во времена пещерных людей, рассказывавших друг другу байки у костра.
И древнее происхождение архетипов вовсе не означает, что нельзя их «освежить» и осовременить.

ПУТЕШЕСТВИЕ
Многие истории включают в себя путешествие. Чтобы одолеть врага и достичь цели, герой должен отправиться в дорогу. Обычно перед этим его напутствует наставник, а по дороге к нему присоединяются помощники. Согласно схеме Джона Труби, это главное путешествие обычно приходится на середину повествования, то есть этап под названием «План действий». Само путешествие, в свою очередь, включает в себя несколько этапов: в частности, начинается все с того, что герой должен перешагнуть порог.
Лучшие путешествия переносят героя из привычного мира в мир приключений: так Фродо перешагивает через порог своей норы, а Люк Скайуокер покидает свою маленькую пустынную планету и устремляется к звездам.
Кстати, помнишь Ахиллеса, героя с уязвимым местом на пятке? Помимо всего прочего, он выступал на стороне греков в Троянской войне. Но и у троянцев тоже были свои герои. Одного из них звали Эней. Как и Ахилл, он родился от союза смертного и богини. Матерью Энея была богиня любви Афродита. Эней — один из моих любимых героев, совершивших судьбоносное путешествие.
ПРОБЛЕМА ЭНЕЯ
Греки долгих десять лет осаждали город Троя и победить смогли лишь благодаря хитрости. Они притворились, будто уплыли, оставив на берегу огромного деревянного коня в дар богам. Троянцы притащили коня в город, внутрь хорошо защищенных городских стен (то есть переступили порог!) и решили отпраздновать победу. Но в ту же ночь в туловище коня открылась секретная дверца и оттуда выскочили греческие воины. Они распахнули городские ворота и впустили своих товарищей. А потом подожгли Трою и принялись истреблять ее жителей.
Если верить версии мифа, изложенной древнеримским поэтом Вергилием, Эней хотел остаться в городе и сражаться с греками, но тут ему явилась мать, Афродита, и выступила в качестве наставницы. Она велела ему немедленно бежать вместе со всем семейством. И герой отправился в путь, прихватив сына, старика-отца и статуэтки богов — хранителей домашнего очага в качестве талисмана. Он перешагивает порог, когда выходит за городские ворота, оставив за спиной горящую Трою, и устремляется под сень волшебного леса.
Заручившись помощью других спасшихся из Трои, Эней рубит особые деревья и строит из их древесины корабли. Повторно герои пересекают порог, когда выходят на этих кораблях в море и отправляются на поиски нового пристанища, чтобы основать там новую Трою.
ПУТЕШЕСТВИЕ ЭНЕЯ В ЗАГРОБНЫЙ МИР
В древнегреческом эпосе и мифах герой, выполняя поставленную задачу, порой может предпринять не одно, а несколько путешествий. Часто среди них — путешествие в подземный мир мертвых, царство Аида.
Последний подвиг Геракла — привести из царства Аида трехголового пса Цербера. Другой герой, музыкант по имени Орфей, спускается в Аид, чтобы спасти свою жену Эвридику.
Энею тоже приходится совершить путешествие в загробный мир. Его наставницей на время этого путешествия становится пророчица сивилла, а талисманом — золотая ветка омелы. Роль символического «порога» часто играют реки, вот и Энею приходится пересечь Стикс — реку, отделяющую мир живых от мира мертвых. Попутно он должен миновать стража-привратника — того самого трехголового пса.
ПРОБЛЕМА ПАДДИНГТОНА
Главный героя фильма «Приключения Паддингтона» (2014) медвежонок Паддингтон во многом напоминает Энея. Он лишился дома и большей части семьи и теперь должен отправиться в путь, чтобы найти новый дом. Его наставницей становится тетушка Люси, а талисманом — шляпа дяди Пастузо. Шляпа не только придает медвежонку уверенности в себе, но также напоминает ему о прошлом и помогает достичь поставленной цели. (Кроме того, в ней, на всякий пожарный, спрятан сэндвич с мармеладом!)
Как и многие герои, Паддингтон должен перешагнуть порог в одиночку. Он прячется в спасательной шлюпке на большом грузовом судне и отправляется в Лондон, за десять тысяч километров от родины. Но одним «порогом» создатели фильма не ограничились: поскольку это забавный и полный приключений этап, Паддингтону приходится преодолевать его раз пять или шесть.
Прибыв в Лондон, медвежонок встречает семью Браунов и хочет поселиться у них. Помнишь сцену, когда Паддингтон вылезает из такси и поднимается на крыльцо дома Браунов? Нам показывают, как его мокрые лапы ступают на порог в буквальном смысле этого слова — на деревянную планку под дверью. А все потому, что цель Паддингтона — жить в доме Браунов.
Позже, в магазине мистера Грубера, Паддингтон смотрит фильм о своей родине Перу и, подобно Алисе в Зазеркалье, волшебным образом переносится в пространство фильма и воспоминания о детстве и доме.
ПУТЕШЕСТВИЕ ПАДДИНГТОНА В ПОДЗЕМНЫЙ МИР
Медвежонок Паддингтон тоже совершает своего рода путешествие в подземный мир — когда в один прекрасный момент оказывается у входа на эскалатор лондонского метро. Поначалу он боится движущейся лестницы и никак не решается на нее ступить, но вдруг замечает табличку с надписью «Держите собак на руках». Далее происходит забавная сцена, связанная с тем, что он неправильно понимает смысл предупреждения. Табличка заменяет ему наставника, вдохновляя его, а маленькая милая собачка становится талисманом. Она внушает ему уверенность в себе. Итак, как видишь, история героя древнегреческих мифов, насчитывающая более двух тысячелетий, и история говорящего мишки из Перу строятся по одной и той же схеме. И обе — пример прекрасного сторителлинга.
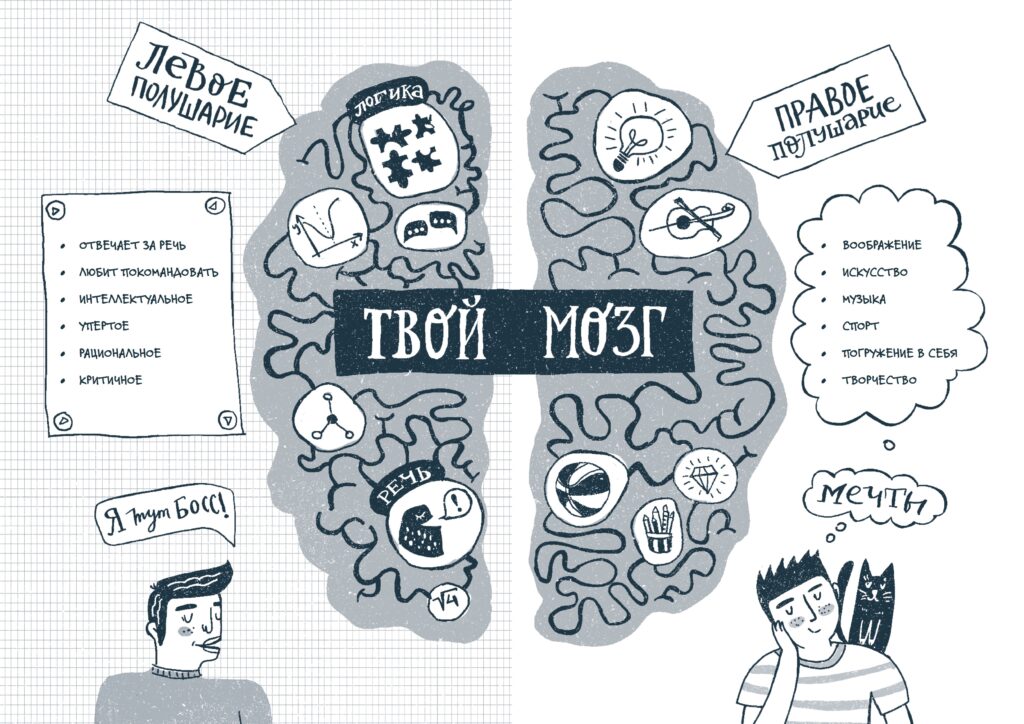
ПРАВОПОЛУШАРНОЕ ПИСЬМО
Одной из книг, изменивших мою жизнь навсегда, стало пособие «Художник внутри вас». Автор книги, американская преподавательница Бетти Эдвардс, пишет, что когда ты рисуешь то, что ВИДИШЬ, а не то, что ЗНАЕШЬ, ты успокаиваешься и больше молчишь — тебе трудно поддерживать разговор, потому что ты переключаешься с логического левого на творческое правое полушарие мозга.
Мне кажется, именно здесь кроется причина того, почему писателям бывает так трудно усадить себя за стол и приступить к работе над текстом. Казалось бы, левому полушарию это должно нравиться! Ведь писательство связано со словами, а левое полушарие любит слова. Однако писатель использует эти самые слова, чтобы создавать живые картинки, наполненные красками, движениями и эмоциями. То есть левое полушарие должно уступить лидирующую роль правому… и оно всегда этому противится.
Ты должен постоянно уговаривать свое логичное, критически настроенное и обладающее вербальным типом мышления левое полушарие, убеждать его не волноваться. «Будь милым со своей второй половинкой! Я не предаю и по-прежнему люблю тебя. Ты мне нужно, я не могу без тебя. Но вы оба достигаете наилучших результатов, когда работаете вместе!»
Один плюс один обычно в сумме дает два. Но когда ты заставляешь левое полушарие работать в команде с правым, получается стотыщмильонов!
Я привыкла давать уроки, и одним из навыков, которым я обучала, были специальные техники запоминания. Во многих книгах я встречала полезный совет: чтобы как следует запомнить длинный список имен или дат, лучше всего соотнести их с забавными, красочными, живыми образами.
Удачный способ запоминания списков — использовать цифровую систему мнемоники, где каждый предмет из списка соотносится с какой-нибудь цифрой, напоминающей его по форме.
Замечал ли ты когда-нибудь, что цифру 1 можно изобразить в виде направленной вверх стрелы?
Закрой глаза и попытайся представить себе эту стрелу. Вообрази, как протягиваешь руку и прикасаешься к ее древку. Из чего оно: из дерева или металла? Можно выбрать. Все происходит по воле твоего мозга. Представь, как твои пальцы скользят по гладкому древку, на ощупь похожему на карандаш. А теперь вообрази, что ты гладишь оперение. Какого цвета перья? Представь, как ты ведешь рукой обратно, вдоль древка к наконечнику. Ух ты, какой острый! Затем представь, как кто-то берет эту стрелу, лук, натягивает тетиву и целится в тебя! В таком случае у тебя возникнет проблема.
Применяя эту технику, ты можешь запомнить все семь составляющих схемы Труби.
1= стрела = (кто-то целится из лука) = Проблема
2 = лебедь = (вообрази хрустального лебедя) = Цель
3 = попка младенца = (если перевернуть цифру набок) = Противник
4 = парус яхты = План (часто подразумевает путешествие)
5 = пять пальцев = (сожми их в кулак и изобрази удар) = Схватка
6 = хобот = (у слонов отличная память) = Знание
7 = обрыв = Новый уровень (часто открытая развязка)
У человека, занятого литературным творчеством, регулярно возникает необходимость использовать сразу оба полушария. Вот почему на своих писательских курсах я предлагаю студентам упражнения на запоминание вроде приведенного выше: оно наглядно показывает, как много умеет наш мозг, когда мы заставляем логичное левое и творческое правое полушарие работать вместе.

Лаки
Атмосфера праздника ощущалась повсюду. В страшных фигурках, что встречались на каждом дворе, в ряженых детях, что стайками облетали окрестности, даже в воздухе будто чувствовался тонкий сладкий аромат фонарей-тыкв.
— Ты представляешь, целый год прошел, — с легкой улыбкой проговорила Кора и прижала поближе к себе коробку. — Как ты думаешь, ей понравится щенок? — мечтательно спросила женщина, даже не глядя на своего мужа.
Брови Дэвида нахмурились еще больше, а сам мужчина продолжал крутить в руках незажженную сигарету.
— С чего ты вообще взяла, что она что-то смыслит в щенках и что они ей нужны? Ей всего один год, Кора! — раздраженно ответил Дэвид и в очередной раз прокрутил в руках ментоловый фильтр. — Весь этот год она не выходила на улицу! Она просто не может ничего знать про собак!
Женщина приподняла подбородок, сжала губы и с прищуром посмотрела на Дэвида:
— Поехали быстрее! Нельзя так надолго оставлять нашу малышку.
Мужчина сжал руку в кулак и замахнулся над крышей авто, но остановился. Еще чего, портить машину из-за такой ерунды.
«А щенок-то поскуливает, — отметил Дэвид, заводя мотор. — Держись, парень. Скоро все закончится».
Весь день он делал не то, что следовало бы. Даже не покурил спокойно, отчего сейчас стучал пальцами по рулю. Двигаться ради безопасности приходилось медленно.
В приспущенное окно долетали призывы выбрать сладость или гадость, веселый детский смех, и мужчина только больше убеждался, что выводы он сделал правильные. Чем ближе был их дом, тем крепче становилась уверенность Дэвида в собственном решении.
Дэвид задержался, чтобы поставить машину в гараж. Кора, продолжая сюсюкаться с коробкой, вошла в дом.
— Мы вернулись! — радостно объявила женщина. Малышка тут же бросила свои дела и подползла ближе.
Кора сняла крышку с подарка и присела на корточки. Из-за картонки высунулся черный нос, а за ним и черно-рыжая мордочка. Пес дернул носом.
— Приятного аппетита, — ласково проговорила Кора и погладила серую колкую шерсть своей малышки. От нее отделился отросток графитного цвета и лениво, изучая каждый сантиметр новой игрушки, потек в коробку. Щенок начал отчаянно лаять, заглушая глухое урчание.
— Приятного аппетита, — все еще поглаживая свою малышку, повторила женщина.
Дверь распахнулась, раздался выстрел, а за ним еще два. Тварь пыталась сбежать, спрятаться за Кору. Пуля задела ногу, женщина закричала, что он убьет их малышку, но Дэвид не останавливался. Тварь издала пронзительный писк и упала бесформенной кучей на пол. Даже иголки шерсти слились в одну жижу.
Дэвид подхватил коробку и вышел из дома под плач матери, потерявшей свое дитя.
— Все, Лаки, начинаем новую жизнь.

Литературный конкурс Гильдии словесников: Учителя
Creative Writing School и Гильдия словесников провели Литературный конкурс среди школьников и учителей в рамках одной из секций ММСО.Пушкин. Представляем лонг-лист премии в номинации Учителя.
Бахарева Елена
То, что дает мне силы…
Что дает мне силы? На ум приходят цветаевские строки:
Нет и нет уму
Моему покоя.
И в моем дому
Завелось такое.
Помолись, дружок,
за бессонный дом,
За окно с огнем!
Окно с огнем дает мне силы. Моя семья, мой дом…
Мне три года, мы с папой катаемся на надувной лодке по уфимскому пруду… И мне не страшно, я чувствую волну, чувствую папу рядом и маму, которая стоит на берегу и машет нам…
Мне пять лет. Раннее летнее утро. Я просыпаюсь от поцелуя папы. Он весь пропах речкой, рыбой, костром. «Леночка, я тебе принес аленький цветочек!» — говорит папа и дарит мне красную лилию, что растет в пойме у реки. Я обнимаю его, прижимаясь к его небритой щеке…
Мне десять лет, новогодние праздники. Мы ждем маму из роддома, она должна привезти нам с братом еще одну сестренку. Мы спорим, кто первый возьмет ее на руки, кто будет с ней играть, с кем она будет спать…
Мне шестнадцать лет, 7 ноября, каникулы. Младшей сестры все еще нет дома, я иду за ней на речку. Там деревенские мальчишки устроили карусель. Катя лежит на льду… Я хватаю ее на руки, бегу по снегу и молю: «Только живи!» А она, закатывая глаза, несет какую-то околесицу. Сильное сотрясение мозга…
Мне двадцать лет. Весенний майский день, районный центр. Брата забирают в армию. Все плачут. Мама не может остановиться. Я ругаю ее, напуская на себя серьезный вид, а сама тоже боюсь расплакаться, ведь расстаемся с Серегой на два года…
Мне двадцать четыре года. Я страшно кричу в роддоме, мне не стыдно. Мне больно! И тут мой крик прерывается плачем моего долгожданного сына! Слезы, слезы, слезы… Знаете вы, какое это счастье, когда тебе на грудь кладут маленький сморщенный комочек? Слезы, слезы, слезы…
Мне двадцать семь лет, сыну три года. Майский теплый вечер. Веет ароматом распустившейся яблони. Мы идем домой по яблоневой аллее. Я хватаю ветку и трясу ее. На нас с сыном сыплется майский снег. Я читаю ему Есенина: «Сыплет черемуха снегом…» Видели бы вы глаза моего мальчика!
Мне тридцать лет, сыну — шесть. У нас похороны. От атипичной пневмонии умерла дочь моей двоюродной сестры. Прихожу домой, а у сына температура сорок… Куда девалась моя упертость, смелость… Руки дрожат, не могу сообразить, что делать. В больнице срываюсь на крик: «Никуда не поеду, буду спать у вас на лавочке, только сына спасите!»
Мне сорок лет. Сентябрь. Папины глаза и его голос: «Только на тебя, дочка, надеюсь, ты старшая, только на тебя…» Сгорает быстро, рак… И плакать не плачется, надо держаться, я — старшая…
Мне сорок два, сыну — восемнадцать. Провожаю в армию. Сейчас подойдет автобус, и уедет моя кровиночка. Все бы ничего, да в ВДВ берут, а он высоты боится с детства…
Мне сорок пять лет. Четвертое января, вечер. Телефонный звонок разрезает тишину. Боюсь брать, не люблю таких звонков. На другом конце приговор — брат разбился насмерть. Едем с мужем, на трассе лежит Серега. Метель, мороз. «Ему же холодно, укройте его», — шепчу я. Мозг не хочет понимать и принимать данное… А где-то в глубине сознания — мысли о том, как я об этом скажу маме, она лежит в больнице. Как скажу… Но я же сильная, я — старшая…
Мне сорок восемь. Август, пандемия. Операция. Наркоз не берет, я не сплю, читаю доктору и медсёстрам цветаевские строки: «Вот опять окно…» Желаю им здоровья и дома с окном, в котором не спят…
Я после операции. Врачу не нравятся мои анализы. Думала, уйду домой на следующий день, приходится ждать неделю. Телефон разрывается. Звонят сын, мама, муж, сестра, брат, племянница, друзья… Не могу ответить, что я им скажу? Они догадались… Плачу ночью в подушку, они плачут тоже, плачут и молятся. Молятся за меня все…
Анализы приходят хорошие. Телефон разрывается: теперь я спешу сообщить радостную весть всей моей семье. Семье, что дает мне силы жить!
Забусова Наталья
Бег
Свежий воздух попадает в легкие. Он проникает в горло и растекается внутри, заполняя те промежутки, которые заставляют сердце биться с бешеной скоростью. Грудь вздымается, и он уже в бронхах. Острое покалывание под рёбрами, значит, расстояние преодолено и воздух достиг своей конечной точки. Дышу все чаще и пытаюсь унять ноющую боль. Господи, дай ещё немного сил. Нос уже не может нормально функционировать, руки окоченели, а ноги предательски подкашиваются. Я не сдамся, не сегодня, не в эту минуту. Ты так долго и упорно шла к этому.
А вокруг толпы лиц. Но разобрать в этой суматохе их нельзя, отделить каждого и заглянуть каждому в глаза невозможно. Одно сплошное лицо, которое как будто ждёт, что ты сдашься, не сможешь и остановишься. Этот мир всегда был жестоким, общество постоянно будет ожидать твоего провала, потому что так легче. Удача слишком сложная штука, которую не так легко поймать, поэтому твоё поражение для всех остальных — это счастье. Нет. Не допущу, не отступлю, слышите. Сразу вспоминается легенда с лягушками. Главное, заглушить шум, лишь я и дорога, вот что важно.
Повернула. Тропинка была ненадежной, потому что недавно был дождь, а изготовитель подошвы не учёл факта того, что дорога может быть скользкой. Не пугает. Успеваю захватить красоты природы, которые окружали меня по пути. Душа просит остановки, хочет запечатлеть это в памяти, потому что день сегодня и правда потрясающе тёплый. Лучи, пробивающиеся сквозь листву, касаются кожи. Больше всего страдает лицо. Солнце играючи утомляет его, расслабляя каждую напряженную от усталости мышцу, но я игнорирую просьбу организма. «Мы полюбуемся этим, когда дело будет сделано, обещаю», — проговариваю про себя мысли. Солнце понимающе скрылось за непрерывными деревьями. Спасибо!
А взгляд устремлён вдаль. Впереди никого, а шанса оглянуться назад нет. Так странно и одновременно смешно: «нельзя оглядываться назад». Как будто я психолог и даю сама же себе советы. Могла бы я им следовать и в другом месте, а то, анализируя мою жизнь, я такой себе следователь своим советам. Вспоминаю моменты, которые могла изменить, не время, но это позволяет не реагировать на боль, которая и так поразила 40 процентов моего тела.
Вспоминаю дом, родителей. «Ты сильная, помни!» — говорила мне мама, когда я училась заново ходить. Та страшная авария перевернула мою жизнь с ног на голову. Постоянные тренировки атрофированных ног, плавание, массаж, который не помогал на протяжении семи месяцев. Врач думал, что я не смогу ходить, но мы не сдавались. Я терпела эту ежедневную боль не потому, что мне хотелось ходить, а для своих родителей. Я видела на их лице боль и отчаяние, они понимали, что возможно, все их старания безнадежны. Была ли в этом их вина? Нет. В той аварии не было виноватых, просто так распорядился случай. Но я знаю, что они чувствуют вину и по сей день. Мама, я сильная, видишь, я смогла ходить, даже бежать марафон.
Тем временем я уже близка к финишу. Вижу, как за спиной преодолен огромный путь и соперников не видно. Слышу свой номер, диктор говорит, что я опережаю на 1.3 минуты всех, кто рискнул бороться в этой «гонке». Говорит об аварии, аплодисменты людей. Разве сейчас я могу подвести тех, кто верит в меня? Надеюсь, что те люди, которые ожидали моего проигрыша, изменили свое мнение.
Вижу ленту. Ноги уже совсем не слушаются. Дыхания не хватает, мой предел пройден. Я спотыкаюсь. «Ах» раздался со всех краев. Не могу встать. Хватаюсь последними силами за землю. Слезы хлынули из глаз, уши заложило, видимо, гравитация решила, что с меня хватит. Слышу, что участники догоняют и уже близко. Встаю, ноги трясутся. Я подвернула ногу. Это конец.
Сквозь слезы вижу, как какой-то мужчина прорывается сквозь толпу наблюдателей. «Папа!» — Крик сам вырывается из груди. Голоса нет, но он все понял. Жестами он поддерживает меня, я чувствую его энергию. Пробую добежать. «Осталось немного, ты сильная, не слушай никого, иди на мой голос!» — Пытаясь заглушить толпу, папа старается помочь мне. Сила и вера — вот что подняло меня. Я слышу и бегу, как могу.
Когда я упала на ленту, было уже не важно, победила я или проиграла. Я доказала всему миру, что лишь мы вправе решать, как повернется наша судьба. Доказала!
Малыхина Анна
Лирическая миниатюра «Хочу с тобой…»
Хочу с тобой увидеть море, горы, дно океана, всходы перца табаско и ароматнейшей шамбалы.
Хочу не ложиться спать до утра и спать весь день после этого.
Уехать с ночёвкой в бор, поставить палатку, забыть взять плед, кутаться в плечи, пить кипяток, заваривать кофе.
Плакать.
Смеяться.
Слушать музыку, даже петь по утрам.
Жарить мясо. На костре, углях, в мангале, в духовке, в жаровне и сковородке.
Хочу знать больше и больше о тебе.
Забыть всё, что знать не хочется.
Увидеть Байкал.
Дождаться ещё одного Нового года.
Смотреть страшный фильм.
Зажигать ароматические свечи и лить масла в аромалампу.
Морщиться от иланг-иланга и менять его на лимон.
Резать тоненько имбирь и заваривать его в термосе.
Кофе! Тонкий помол и ни в коем случае не кипяток…
Без сахара? Да, немного…
Спорить из-за открытых окон и форточек.
Из-за включенной вытяжки. Из-за выключенной вытяжки.
Перетягивать одеяло и забирать подушку, не такую горячую, как у меня.
Перебираться на твою сторону кровати, радуясь такому завоеванию.
Пить чай из собранных в начале лета цветов.
Увидеть белуху.
Спорить из-за позднего ужина, пряча вкусняшки до утра.
Читать книги, пересказывая самое интересное.
Плакать.
Смущаться, читая очередное письмо.
Учиться печь лаваш.
Готовить бальзамический уксус и колдовать над аджикой.
Класть специи везде-везде, порой перебарщивая с ними.
Чихать, открыв пакет со смесью перцев.
Пытаться увернуться от твоих рук.
Искать твои объятия и губы.
Ждать гостей в гости и ждать их ухода, чтобы быть вдвоём.
Бежать.
От тебя?
Бежать!
К тебе?
Забыть.
Вернуться.
Покормить кошек.
Ждать лета.
Гулять вечерами около дома.
Уезжать вместе с детьми по выходным в Преображенский парк.
Завести дискусов и разводить анциструсов.
Есть мороженое, фисташковое и ванильное.
Увидеть Венецию и Грузию. Не Абхазию.
И не Адлер, нет.
Спуститься в пещеру Ящик Пандоры.
Вернуться оттуда живыми.
Научить тебя плавать долго и с радостью.
Утонуть, спастись, обрадоваться этому и ценить жизнь дальше.
Выспаться.
Понять Ставрогина и простить Анну и Эмму.
Купить живого скорпиона и попытаться создать ему приемлемые условия в условиях городской квартиры в Сибири.
Лить нефильтрованное тёмное пиво на каменку в бане.
Запарить берёзовый веник, добавив в воду пихтовое масло.
Брызгать ледяной водой в лицо…
Хочу стать ведьмой, читающей с листа и по упавшим ресничкам.
Заново выучить теоремы.
Оспорить зачем-то аксиомы.
Кушать рахат-лукум, пачкаясь и облизывая пальцы.
Угощать тебя зефиром.
Доказывать, что он нисколечко-то не хуже запечённой баранины.
Проиграть спор и радоваться проигрышу.
Купить сачок для ловли бабочек, порхающих в животе.
Увидеть их рисунок на крылышках.
Надеть твою футболку, потому что так теплее.
Простоять ночь в ожидании возможности поднести цветы той, что помогает не цветов ради, а из любви к людям.
Шептать имена детей перед иконой Богоматери.
Есть груши и хурму.
Искать смысл жизни.
И жить, ощущая тебя на кончиках пальцев.
Построить дом.
Накрыть там стол.
Уехать за грибами.
Вымазаться, вымокнуть.
Найти белый гриб и радоваться этому.
С удивлением узнать, что опята не входят в багажник.
Сушить их, нанизав на ниточки.
Вкусно, ароматно…
Бояться отъезда.
Отпускать.
Ждать.
Дуться.
Забыться.
Стричь ногти.
Строчить смс.
Выбегать на улицу, забирая пакеты с молоком и зефиром.
Кофе…
Сто восемьдесят по трассе, зажмурившись и тихо улыбаясь.
В гору!
Замирает сердце, закладывает уши.
Твоих слов не слышу, но сам звук этих слов дарит обещание счастья.
Можно бежать.
Но не убежать от себя.
И от нас.
Именины Анны
Конец декабря 2019 года, морозное утро воскресенья. Редкий день, когда мне, закрывающему четверть и полугодие учителю, можно не ехать в школу, и я с радостью готова устремиться туда, где всегда ждут — в дом мамы. Дочь собирает гостинцы для бабушки и прабабушки, муж готовит машину к поездке, а я, убирая посуду со стола после завтрака, нечаянно бросаю мимолётный взгляд на настенный календарь.
— Ну вот, снова заработались и заучились: на календаре всё ещё начало недели. Какое сегодня число-то, Катя? — спрашиваю дочь, понимая уже и сама, что именно услышу.
— Двадцать второе декабря, мама. Скоро твой день рождения, между прочим. «Про него хоть не забудь из-за школьных ёлок», — говорит Катюшка и меняет на календаре отметку.
Двадцать второе декабря! Вот ведь что с нами порой творит занятость. Я едва не забыла про один из самых важных дней в жизни своей бабушки Анны. Чудо, что есть время и возможность, и мы едем.
— Саша, Катя, едем же скорее. Сегодня у бабушки Анны именины. Надо за тортом заехать.
До девяноста одного года бабушка жила в своём доме далеко отсюда, в Башкирии, в красивейших местах Приуралья, где проходит граница Европы и Азии. Дети её после окончания школы разъехались во все стороны. Навещали, конечно, но после смерти дедушки в 1995 году бабушка Анна осталась одна. Сама справлялась со всеми делами, держала хозяйство, косила сено, пряла шерсть и вязала невероятной красоты шерстяные вещи.
Пока бабушка практически не ослепла, она стойко отвергала все разговоры о переезде. Но настал момент, когда нельзя стало откладывать, и в доме моих родителей приготовили отдельную комнату для долгожданной гостьи. Вскоре после приезда у бабушки был день рождения, 93 года, и вся наша большая семья придумывала, как лучше порадовать бабушку. Было решено заказать торт с надписью. Когда в кондитерской узнали, для кого будут готовить, они нам пообещали бесплатный торт на столетний юбилей.
Но в жизни самой бабушки Анны бесплатного ничего не было. Помню наш с ней разговор после того, как прочла ей рассказ «Индия» Виктора Астафьева.
— Ты вот, Аня, про девчонку эту, Сашу-то, больно трогательно рассказываешь, что в стужу-то по грудь через сугробы шла, когда ей связь, повреждённую фашистским снарядом, надо было восстановить. Жалко ведь её, сердечную. В войну столько их, молоденьких, погибло и из моих подруг да знакомых… Меня-то почему не забрали на фронт? Ох, не забрали, а ведь я писала прошение в районный военкомат, хотела уйти хоть санитаркой. И ведь могла бы, образование ветеринарного врача у меня было. На санинструктора вмиг бы переучилась, но не пустили меня. Директор колхоза знал, что я одна из баб и девчонок умела управляться с важной техникой — трактором, а без него бы мы тогда пропали. Деревня и ближайшие усадьбы державшихся особняком единоличников очень далеко от Уфы и от железной дороги стояли, всех мужчин трудоспособного возраста призвали на фронт, кто-то ушёл добровольцем. А кормить оставшихся детей и стариков надлежало нам, таким вот девчонкам. Да…
— Про сугробы-то я тебе, Анечка, расскажу. Пришлось нам с Аннушкой-соседкой десятого марта в первую весну войны в районный центр спешно, в ночь, идти. Трактор сломался, а действующая МТС только там до войны была. Вот и брели мы, надеясь отыскать необходимые запчасти. На Урале зимы, ты знаешь, снежные, порой выше окон заметает, и тогда намело хорошо. К снегу и морозу, ночному лесу мы с раннего детства привычные, шли спокойно. Восемнадцать километров и расстоянием стыдно назвать. Одна мысль стучала в висках — скорее вернуться и отремонтировать трактор. Но на обратном пути нас вдруг неожиданно жарко солнце стало в спину пригревать. И сугробы припекать солнышко начало, и превратились те сугробы в смесь снега с грязью и льдом.
Так мы и шли, продираясь по грудь в этой ледяной шуршащей каше. Сначала даже отвлекать друг друга разговорами пытались, девичьи мечты свои осторожно рассказывали. Женихов мы, слава Богу, до войны не нажили, поэтому никого сердечного не провожали и не ждали. Братьев же всех до единого на фронт проводили, как та твоя Саша-то из рассказа земляка вашего, Астафьева. Да…
— Соловья баснями не прокормишь, и невозможно долго обманывать себя разговорами. Анна моя один раз, оступившись, чуть с головой не ушла в это болото снежное. Вытянула я её, откуда только силы тогда взялись. Когда промокшими насквозь и продрогшими до костей мы наконец-то смогли выбраться на пригорок, то первым делом проверили небольшую, но такую ценную ношу, спрятанную у меня за пазухой. Развернув тряпицу, рассмотрели запчасть. Названия не помню, Анечка, а вот как она лежит передо мной — сейчас даже вижу. В смазке, блестит. Целая! Осталось только донести и установить. Но нет сил у нас с Аннушкой. Замёрзли и стали чужими ноги. Постояв какое-то время, Аннушка закричала: «Нюра, у меня горячая вода по ногам бежит. Откуда тут горячая вода?» Собравшись с силами, я наклонилась к её ногам, подняла полы тулупа и увидела струйки тёмной крови, сочившейся по изрезанным ледяной шугой ногам. Чуть погодя и мои ноги, Анечка, загорели-запылали. И заглядывать не пришлось, чтобы понять, что там струится горячая кровь, и там разодраны острым льдом хлопчатобумажные чулки. Обнялись мы, две Анны, да повели друг друга к деревне. Благо, её уж с пригорка-то и видно стало.
Бабушка затихла, посмотрев не то что мимо меня, а словно сквозь годы переживая ту ночь и тот день. Мне же хотелось узнать, как закончилась история.
— Бабушка, — осторожно позвала я, — расскажи, как вы тогда домой дошли, не заболели ли и трактор-то смогли отремонтировать?
— А что бабам сделается, внученька? До дома уж почти без сил пришли. Одежду просушили, раны промыли. Сестра меня шалью маминой укутала, да я и пошла трактор починять. Скоро посевная, а она не спросит, у кого что болит.
Вздохнув, бабушка посмотрела прямо на меня и спросила:
— А что ж ты, такая обычно внимательная, не спрашиваешь, почему я так точно дату запомнила, 10 марта?
— И правда, бабушка, почему?
— Почему, почему… Мы когда с Анной на пригорке-то стояли, кровь унимали, она мне и сказала, что ангел-хранитель нас от смерти уберёг, одними ногами изрезанными да простудой отделались. Именины наши одиннадцатого марта. День мученицы Анны Благовещенской. Ты вот, Анечка, теперь понимаешь, почему не день рождения мне так дорог, а именины?
Теперь я понимала, да…
…Время в пути летит незаметно, если ты пассажир комфортабельного автомобиля. Подъезжая к пекарне, я знала, что, помимо торта, подарю бабушке икону Святой Анны Благовещенской. Преображенский собор совсем рядом, надо лишь выбрать и купить нужную икону.
Но оказалось, что подарок в тот день ждал и меня. Не успели мы приехать к маме и бабушке и отдать свои гостинцы, как бабушка позвала меня в свою комнату и, поцеловав, вручила икону Анны Пророчицы. Это святая, чьи именины приходятся в аккурат на 22 декабря. Я плачу, сев рядом с бабушкой, слов нет совсем.
— Что ты, милая, успокойся. Почитай мне лучше, не плачь. Давай опять твоего Астафьева, что ли. Только про войну не надо. Сегодня лучше про Левонтия с Васеней его непутёвой, да Санькой с Витькой. Помнишь, как ты совсем маленькая читала да удивлялась, откуда это Астафьев всё про наших соседей знает, только имена другие пишет. Расскажи, как они песню про обезьянку пели.
Этим летом бабушке Анне исполнилось 99 лет. Труженик тыла, вдова ветерана Великой Отечественной войны.
Навалихина Ольга
Зеркала и стекла
Однажды Ты сказал: «Как жаль, что люди не могут посмотреть на свои поступки так же, как на свое отражение в зеркале».
Я, вероятно, промолчу, лишь подумаю, что в зеркале мы не видим себя настоящего. Зеркала так часто нас обманывают. Или мы сами себя обманываем, выдавая желаемое за действительное. Сколько раз в примерочной мы порхаем от ощущения, что это то самое платье?.. А потом? Всегда ли эмоции от второй примерки бывают такими же радужными?
Вспоминается ли вам то заветное зеркало, в котором один подросток с заметным шрамом увидел своих погибших родителей? Но то зеркало было спрятано, чтобы защитить от иллюзий, спасти психику.
Или вам ближе зеркало, что скрывает Королевство, которым правит глупец, а среди его ближайших подчиненных — хищники, пресмыкающиеся и земноводные? Хотелось бы вам, чтобы доброта и ласка играли второстепенные роли и служили подлости и алчности? Или лишали свободы дружбу?
Я не буду писать про иллюзии и аллегории Зазеркалья Льюиса Кэррола. Совсем не моя история. Вся целиком, кроме котенка…
Но везде реальное, и то, что по другую сторону зеркального стекла, скорее противопоставляется, чем отождествляется. Так можно ли им верить? Этим зеркалам — иллюзионистам и лжецам?
Да что они о себе возомнили, эти стекляшки, покрытые тончайшим слоем металла? Почему порой позволяют себе вершить судьбы, впиваясь острыми осколками в глаза и сердца? Да так, что не выплакать…
Почему так много внимания уделяют им пишущие, рифмующие и поющие?
Зеркала врут нам каждый день. День за днем…
Мы смотрим в них и не замечаем изменений, происходящих в нас и вокруг нас. Мы словно с завязанными глазами: упускаем из виду, что «после тридцати время ускоряется вдвое» (откуда Ты знаешь об этом, мальчишка?). Мы и сами учимся обманывать, гримируя первые морщинки. Мы говорим себе, что они не от возраста, а всего лишь от частых улыбок. Мы подводим задорные стрелки, наносим цвет и блеск и нравимся себе!
А потом в один миг замечаем, что твоя девочка уже почти одного с тобой роста: «И когда успела дочка подрасти?..» Удивляемся, ужасаемся? Нет, мы всегда знали, что зеркала нам врут.
Просто по этим правилам мы играем с самого детства.
Родинка у меня на левом виске! Но зеркало упрямо твердит мертвым стеклянным шепотом: «Справа, справа…»
Удивительно, что самыми честными оказываются… кривые зеркала! От них мы не ждем правды, им мы не верим априори. Так просто, правда? Кому придет в голову рассматривать себя в сфере зеркальной елочной игрушки? Рассматривать, конечно, можно, забавы ради. И знать, что мы точно не такие!
Великий классик поведал нам лишь об одном зеркале, которое искренне отвечало на вопросы о красоте и молодости. И что прибавила ли эта правда счастья кому-либо? Нет, царицу чуть с ума не свела, царевне чуть не стоила жизни (а девочка разве виновата?!). Впрочем, и зеркало там тоже плохо кончило: сложно сохранить целостность и хладнокровие, когда тебя кидают под лавку.
И нет, я не хочу, чтобы люди смотрели на свои поступки, как на отражение в зеркале. Хочу, чтобы мы осознавали их истинную ценность, осознавали раньше, чем совершали их, не дожидаясь последствий. Это даже не вопрос красоты внешней, здесь речь идет о благородстве и человечности.
Когда-то, возможно, мы продолжим с Тобой этот разговор. Я прочитаю то, что пишу сейчас, а потом подкину провоцирующий тезис. Скажу, что стекла, бесцветные и окрашенные, в любом случае лучше, честнее и правильнее. Я знаю, я надеюсь, что Ты будешь со мной спорить. Ты скажешь, что светофильтры отсекают большую часть видимого спектра. Ты вспомнишь о линзах и фокусных расстояниях (в физике 10-11 класса, кажется, есть раздел об оптике). Как хороши физические ассоциации в качестве доводов! Я буду слушать и парировать. Пусть даже в конце Ты сможешь быть достаточно убедительным, чтоб выйти из спора победителем, чтобы доказать, что я не права. Аргументируй, не соглашайся, высказывай мысли вслух. Мне так нравится твой взгляд на мир!
А пока записываем определение в тетрадь: «Энантиомеры — пара стереоизомеров, представляющих собой зеркальные отражения друг друга, не совмещаемые в пространстве»…
И завтра мы начинаем подготовку к новогодию: проводим реакцию «серебряного зеркала», покрываем металлом прозрачные стеклянные шарики…
Цалон Ксения Александровна
В зеркалах
Как часто мы видим себя настоящих, когда смотрим в зеркало? Окидывая беглым взглядом себя с утра, бегущего на работу, или разглядывая внимательно перед важной встречей, мы можем отметить внешнюю привлекательность, усталость, особенно подходящую блузку или прическу, иногда можем обратить внимание на что-то тревожное, мелькнувшее во взгляде… Но когда хочется встретиться с собой истинным, со своей памятью и душой, покрытое металлом стекло бессильно.
I
Живые, широко раскрытые, сосредоточенно смотрящие в упор глаза.
— Твоя? — Улыбающийся, почти смеющийся голос задает вопрос.
— Моя! — с гордостью и вызовом отвечаю я.
— А эта твоя? — повторяется вопрос.
Ответа нет. Верхняя губа нервно подергивается, обида и растерянность грозят вылиться горьким потоком.
— Не помню…
— Ну, тогда это моя буква. — Мама с деловитым видом берет карточку с буквой «Щ» и кладет рядом с собой.
— Твоя? — На этот раз вопрос задаю я, не веря в уже случившуюся жизненную несправедливость.
— Ты же не угадала, значит, моя.
Объяснение возымело действие. Выражение лица принимает сосредоточенные и осмысленные черты.
Как далеко от меня сейчас эта маленькая трехлетняя девочка, получившая один из первых жизненных уроков. И когда порой подкатывает к горлу комок обиды, сжимается от напряжения все тело и норовят хлынуть чистые, по-детски горючие слезы от неслучившегося или упущенного, вспоминаются слова: не угадала — значит, не твоя. И намного проще становится отпускать всё то, что не угадала, не твоё…
II
Вспоминается яркий, как вспышка фотоаппарата, солнечный день: растянувшееся гладкое и ослепляющее небо, отражающееся в зеркальной поверхности озера. На берегу сидит девушка-подросток, еще несколько угловатыми движениями собирающая в горстку разноцветные камешки.
— Мась, ну мы купаться-то пойдем?
Я неспешно отрываюсь от исключительно сложного процесса отбора подходящих по цвету и форме гладко вышлифованных водой атрибутов будущего домашнего украшения, поворачиваю голову и вижу нетерпеливо-требовательные глаза, голубые и зовущие к себе. Мы погружаемся под воду, и держась за руки, плывём по дну. Темно и прохладно, словно попадаешь в какое-то внеземное пространство, время ненадолго замирает, и ты можешь чувствовать только самое главное: крепко сжимающую руку ладонь и биение собственного сердца.
И действительно, что может быть важнее в семнадцать-то лет?
III
Надолго остался в памяти и этот серый ноябрьский день. Конец рабочего дня, стопки тетрадей на столе, желтый раздражающий свет ламп в классе и темнота за окном. Неожиданно в кабинет заходит семиклассница.
— Вы прочитали моё сочинение?
— Прочитала.
«Ах да, совсем забыла о нём, а стоило бы обсудить», — проносится в голове.
— Кристина, я как раз хотела с тобой поговорить. Кажется, я знаю, о ком ты писала. Одного не могу понять: неужели ничего человеческого ты не видишь в том, о ком пишешь?
Горящие карие глаза с вызовом, не допускающим и тени сомнения, поднимаются:
— Нет.
— По-твоему, серьезное и принципиальное отношение к работе учителя превращает его в бездушного робота, так?
— Так.
— А зачем ты тогда об этом пишешь, не все ли равно должно быть тому, кто ставит хорошие оценки лишь за правильно объясненные орфограммы?
— Я хочу, чтобы вы знали.
После напряженной паузы разговор продолжился. Были в нём и сожаление, и горечь обиды, и слёзы, и честные ответы на не самые приятные вопросы.
С этой ученицей мы так и не стали друзьями, сложно нам было друг друга понять. Но благодаря ей впервые я увидела себя и такой: «роботом» с нерушимыми принципами, неготовой что-то понять про сложную девочку-подростка. Понравилось ли мне то, что я увидела? Однако это было правдой, отраженной в зеркале другого человеческого мира, не близкого и не очень понятного мне.
***
Я стараюсь не забывать про это своё отражение, чтобы как можно меньше появлялось в моей жизни таких вот неразгаданных и непонятых душ. И про маленькую трехлетнюю девочку, с азартом учившую буквы, и про семнадцатилетнюю романтичную девушку, способную уплыть далеко-далеко от будничной реальности мира, тоже помню.
И много еще в нашей жизни таких зеркал, в каждом из которых мы оставляем частичку себя в обмен на неповторимое отражение, иногда и излишне выпуклое, но все-таки наше собственное, навсегда попадающее в копилку памяти души.
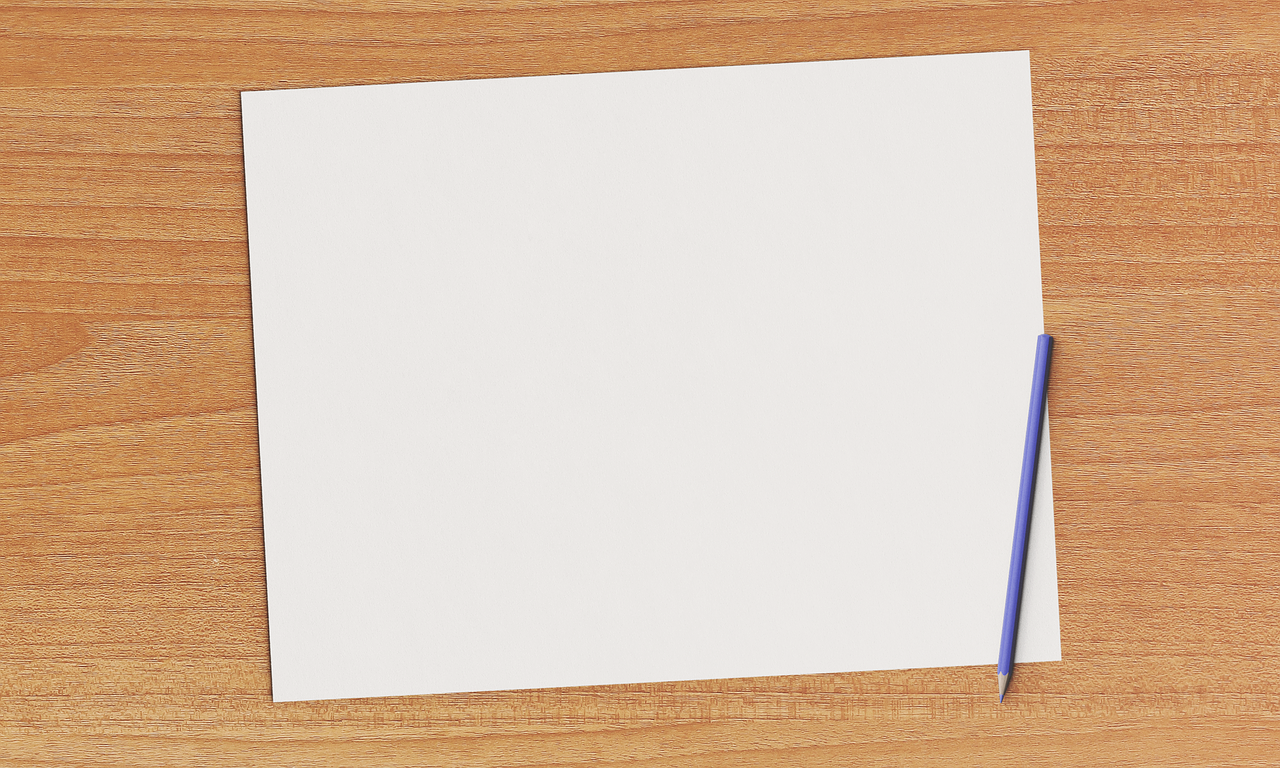
Литературный конкурс среди школьников: 2-6 классы
Creative Writing School и Гильдия словесников провели Литературный конкурс среди школьников и учителей в рамках одной из секций ММСО.Пушкин. Представляем лонг-лист премии в номинации 2-6 классы.
Антошинцев Анатолий
Кошка и Зум
Мягкой, крадущейся походкой кошки вышли в Зум, почесали лапкой за ушком, умыли мордочки и решили остаться… В этот момент мир изменился!
Теперь для каждого пользователя Зума или Дискорда считается приличным держать кошку. Кошки — лучшие домашние животные, очень мягкие, милые и пушистые. А еще очень тихие! Они всегда помогут хозяину проживать жизнь онлайн приносящей счастье шерсткой, любящими глазами, мокрым носиком и живущим собственной жизнью хвостом.
Как настоящий компьютерщик, я держу дома кошку, вернее, кота. Благодаря Зуму не только моя среда обитания, но и его, кошачья, стала больше и шире. Вы не поверите, но мой кот Умка дружит в Зуме с двумя крысами, Фросей и Кирой. Знакомство началось так…
Коронавирус прогнал мою лучшую подругу в Финляндию, поэтому мы с ней можем дружить только в Зуме. У Вики пока еще нет кота, зато есть крысы! Однажды, когда мы болтали, я держал на руках своего сытого кота. Умка не мог усидеть на месте и решил сесть на клавиатуру ноутбука. На ней очень тепло сидится. В этот же момент та же идея пришла в голову Кире и Фросе по ту сторону монитора в далекой Савонлинне. Увидев две любопытные морды и два толстых брюшка, Умка успел удивиться. Обычно мыши выскакивали из подвала дачного дома, истошно пищали и кидались удирать. Но эти две спокойно уставились на кота. Все это было очень странно! В этот момент нужно было быстро принимать решение: съесть или… не съесть? Одной секунды раздумий на сытое брюхо хватило на то, чтобы понять: есть не стоит из-за подозрительного отсутствия запаха. Что делать? Посмотрев на весело болтающего хозяина, Умка решил дружить и лапкой провел по монитору.
В это время по другую сторону экрана крысы тоже серьезно размышляли над тем, кто же это перед ними. Они в жизни не видели кота. Зато поняли, что этот зверь очень похож на них: милый, пушистый, хвостатый. Фрося с Киркой тоже приняли решение дружить.
Так, благодаря Умке, в Зум вышли не только кошки, но и мышки!
Глущенко Таисия
За обоями
(размышления девочки из Донецка)
Я рисую на обоях.
За обоями — стена,
За стеной идет война!
Жестокая, бессмыссленная, беспощадная война!
И кому она нужна?
Гремят взрывы, льется кровь,
Люди гибнут вновь и вновь!
А ведь им очень хочется
От страха во сне не ворочаться.
Сирия, Донбасс, Ливан,
Карабах, Афганистан!
Земля стонет от полученных ран!
Но разве важно убитым детям,
Что главнее — Библия или Коран?
Я рисую облака,
Но продолжается война!
От нее не защитит стена.
Только думаю я:
Если простым мирным людям
Война не нужна,
То кому?..
Градобоев Даниил
Под обоями
В нашем старом доме стены оклеены бумажными обоями. Светлыми, в мелкий цветочек. Мама говорит, что от светлых обоев в комнате становится светлее, а сама комната кажется больше. Наверное, это правда. Потому что в комнате и правда светло, хотя все небо во дворе заслоняют своими кронами большие старые каштаны. Еще в доме старые скрипучие полы и много мебели, деревянной и тоже старой. Мы живем тут совсем недавно, и мама еще не успела затеять большой ремонт. Она ждет лета, чтобы можно было сделать, как она говорит, «дом в настоящем скандинавском стиле». Я не знаю, что это означает, но звучит очень внушительно. От слов «скандинавский стиль» мне сразу становится морозно, как будто я и вправду оказался на северном морском ветру. Но ремонт будет еще нескоро. Пока мы только поклеили новые обои и покрасили оконные рамы в белый цвет. А сегодня я увидел, что кусочек новых обоев отошел, и под ними проглядывают старые — темно-зеленые, с каким-то крупным узором. Интересно, а тому, кто жил здесь раньше, не было темно в комнате с такими обоями? Наверное, нет. Наверное, прежний хозяин дома не любил яркий свет. Может быть, он был ученым? И яркий свет отвлекал его от мыслей о научном открытии? В самом деле, о какой науке можно думать, когда в комнате светло, за окном по веткам каштанов скачут и поют синицы и воробьи. Тут не об открытиях думать хочется, а о том, как бы поскорее отправиться во двор — гулять! А может быть, он и не видел, какого цвета обои, потому что все стены были закрыты книжными шкафами до самого потолка! Много-много книг! А чтобы можно было их читать, на столе у ученого всегда горела лампа. Не такая, какие сейчас продаются в магазинах, а старинная — с завитушками на ножке и с красивым абажуром.
Я прикасаюсь к зеленым обоям пальцем. Они неровные, там, внутри, что-то еще есть! Я достаю свой любимый перочинный ножик и аккуратно поддеваю слой обоев. Делаю надрез. И в надрезе вижу еще одни обои — нежно-голубого цвета, с выпуклыми золотыми цветами. Это их я нащупал под зелеными обоями. А какой был хозяин голубой комнаты? Наверное, это была хозяйка. Какая-нибудь девчонка. У нее в комнате были голубые обои, красивая кровать с голубым пушистым покрывалом и полка, на которой стояло много-много кукол! А еще у нее было пианино. Девочка играла пьесы, и ее слушали куклы и птицы за открытым настежь окном. И еще у нее была кошка! В такой комнате обязательно должна была жить большая белая кошка. Она не охотилась на птичек — только смотрела на них, сидя на подоконнике, и спала на пушистом покрывале под звуки пианино…
Я не успеваю надрезать голубые обои и придумать, кто был хозяином еще одной комнаты. Входит мама и видит меня с ножом в руках у стены. Спрашивает меня:
— Ты уже собрался помогать мне готовиться к ремонту? Рановато — на дворе октябрь! Мы начнем не раньше мая, так что погоди срезать обои со стен!
— Нет, мама, я просто думаю о том, кто тут жил до нас! — И я рассказываю ей все, что успел представить — и про ученого с книгами и лампой, и про девочку с кошкой. Мама слушает и не перебивает. Я спрашиваю ее:
— Мама, а что такое «скандинавский стиль»? Как он будет выглядеть?
— Ну, это окрашенные краской стены, каменные полы, мало мебели…
— А можно мы не будем делать такой стиль? Мне нравится этот старый дом. У него под обоями хранится столько историй! Он живой, этот дом, понимаешь?
— Наверное, понимаю… — отвечает мама. — Давай оставим как есть. Пусть этот дом и дальше будет живой и хранит память о своих людях…
Мы еще долго сидим рядышком. Молчим, слушаем птиц за окном и думаем о том, что дом тоже может быть живым…
Градобоев Даниил
Тот, кого я ненавижу
Тот, кого я ненавижу, относительно молод. Ему чуть за сорок. Лицо его смугло от загара, кожа загрубела от морского ветра, руки сильны и ловки — мышцы так и играют под тельняшкой.
Он смел — ходит в открытое море. Он отважен. Он хорошо обеспечен. Любит свою семью — жену и маленькую дочурку.
Кем же работает тот, кого я ненавижу? Он ловит дельфинов и косаток. Дельфины и косатки пользуются огромным спросом. В Японии их едят. Во многих странах мира, в том числе и в России, дельфины и косатки развлекают людей ловкими трюками. На представлениях с их участием всегда много людей. Взрослые приводят детишек, которые хлопают в ладоши и громко смеются от восторга.
А ведь косатки и дельфины разговаривают на своем языке. Они живут семьями. Семьи состоят из бабушек, их детей и внуков. Они способны сопереживать, коллективно охотиться и в умственных способностях не уступают приматам.
В дельфинарии взрослых животных не берут. Взрослые дельфины и косатки не танцуют под дудочку человека. И танцевать никогда не станут. Тот, кого я ненавижу, и его помощники, загоняют стаю на мелководье. Накрывают сетками и отбивают малышей-сеголеток. Бабушки и мамы бьются за детей не на жизнь, а насмерть. Часто они гибнут в неравной борьбе, а те, кто выжил, страдают всю жизнь. Семьи, потерявшие детей, нередко распадаются.
А что происходит с малышами? Их, способных за день проплывать сотни километров в открытом море, сажают в крохотную хлорированную банку. И учат прыгать через колечко. Такая жизнь очень нравится сеголеткам. Нравится настолько, что они зачастую пытаются покончить жизнь самоубийством, ударяясь о стены бассейна, или топят своих рождённых в неволе малышей, опускаясь с ними на дно резервуаров.
Что станет с тем, кого я ненавижу, если буквой закона запретить отлов косаток и дельфинов? Наверное, он будет работать водителем такси или поваром, а может быть вспомнит, что когда-то учился на электрика. Может быть, он откроет маленький магазинчик автозапчастей. Все профессии полезны и важны, поэтому в его жизни практически ничего не изменится. Вот только ненавидеть я его перестану.
Каткова Василиса
***
Вчера я в слове «рассмеши»
Зачем-то написала Ы,
А правило гласит: «Жи-ши
Всегда ты через И пиши!»
Я утром вышла за порог —
И зонтик мой совсем промок,
В пруду чернеют камыши,
Я правило учу — «жи-ши».
Учиться в школе тяжело,
Печально я смотрю в окно…
В саду играют малыши.
Ах, эти нудные «жи-ши»!
Учитель в школе очень строг
К тем, кто не выучил урок.
Сентябрь дождем умыл дворы,
В саду не стало детворы.
Как рано разгадали мы:
Весь мир — «жи-ши», а ты в нем — «ы»…
Кудрявцева Елизавета
Бежать
Шевелятся кусты. Гудит и воет холодный ветер. Гулко кричит филин. Надо бежать. Бежать вперёд. Скорее, скорее! Под ногами зловеще трещат ветки. Быстрее! Нужно успеть! Кругом темно. Только луна освещает узкую тропинку впереди. Рядом бежит ручей. Его тихий перезвон отдается в моей голове, как раскаты грома, освещённые молнией. Надо бежать.
Фиолетовая трава
Сегодня штурман звёздного корабля «Луч» доложил капитану о неизвестной планете, встретившейся на пути звездолета. Капитан — человек любознательный — приказал обследовать круглую, странную по цвету планету. Выйдя из «Луча», разведчик увидел фиолетовую поверхность. Трава, кусты, листья, даже отдельные участки почвы были странного ядовито-фиолетового цвета. Доложив об увиденном командиру, разведчик вернулся в каюту. Там он снял надоевший скафандр и с ужасом обнаружил, что его тело, волосы и даже одежда стали… фиолетовыми. Разведчика Юрия Бринского больше никто не увидел.
Экипаж звёздного судна решил, что разведчик самостоятельно отправился изучать таинственную планету.
Космонавты по очереди выходили, ступали на фиолетовую землю и… просто исчезали.
Эта планета называлась Земля. Видимо, к этому времени превратилась в загрязненное чудовище и стала ловушкой для случайных космических путешественников.
Навалихина Анастасия
ЗУМмечательный Кот
Я сижу перед компьютером, а мой кот Шуша — в кресле рядом. Занятие по зоологии позвоночных проходит дистанционно — каникулы же. Скорее, миникарантин, но ладно…
Сидим мы, значит, с Шушей в деревне, смотрим занятие в Зуме.
— Записываем определение костных рыб, — диктует Андрей Николаевич.
Мельком смотрю на Шушу. Черная морда и лапы, белая спина, белое пузо, белые носочки на лапах… Два серо-зеленых глаза, как два лезвия, пронзают тебя и уносят взгляд в жгучую темноту ночи (я сижу у окна).
Вдруг… выключаются и свет, и компьютер.
— Опять выключили! Да что же это такое?! — На самом деле свет у нас в селе Полом, у бабушки, выключали раза два или три. Это я со злости так сказала: люблю лекции по зоологии позвоночных.
Дедушка берет фонарь и отвертку, надевает перчатки и идет чинить электричество. Кот открыл глаза, расправил лапы и увязался за дедушкой.
Сижу минут пять, привыкая к тишине и темноте. Затем еще пятнадцать. Думаю о том, о чем сейчас думает мой кот. Это были невыносимо долгие двадцать минут. И тут…
— Ну я же только привыкла к темноте! — кричу и зажмуриваюсь. — Что за закон подлости!
В комнату вошел кот с осознанием хорошо выполненного дела, о чём говорила его торжествующая морда, и выдал:
— Мяу…
После чего:
— Я все починил. Дедушка немного помог с отверткой. Лапки, сама понимаешь! Идем досматривать твою рыбью лекцию.
И вот сидим мы, два будущих зоолога — я, девочка Ася, знающая тайну своего кота, и кот Шуша, довольный тем, что, кроме меня, о его секрете никто не догадывается. И никогда не догадается.
Сычугов Виктор
Муравьиная скука
Жил-был один Муравей. Он родился и вырос в обычном муравейнике среди таких же муравьев, как он. Этот Муравей был рабочим. Он трудился каждый день. И каждый день он делал одну и ту же работу.
Но однажды ему стало скучно от того, что в его жизни нет никакого разнообразия. «Так и проживу, работая, даже отдохнуть некогда», — подумал он и решил убежать из муравейника.
Ночью, когда все муравьи улеглись спать, он сбежал. Он долго шел, но ничего особенного не видел. Вот он остановился у реки: «Неужели мир неинтересный, неудивительный и некрасивый?» Вокруг него по-прежнему была высокая трава, опавшие листья, торчавшие из земли корни деревьев. Муравей не мог догадаться, что надо всего лишь поднять голову и увидеть чудесное звездное небо, усыпанное мелкими блестящими звездочками; рожок молодого месяца, шаловливо выглянувшего из-за тучки. Нет, никто не научил Муравья видеть прекрасное…
С поникшей головой побрел он обратно в муравейник. До дома Муравей добрался только к утру следующего дня, потому что заблудился. Его встретили враждебно и велели убираться, так как Муравей не работал целый день. Он остался один и понял, что единственное занятие в жизни, которое было доступно муравьям — не любоваться природой, а работать. Ведь если ты не приносишь пользу, ты становишься никому не нужен. Муравей сел на хвоинку и заплакал.
Эндельбрехт Арина
Под обоями
Однажды мы с родителями решили сделать ремонт в квартире. Начали мы с обоев. Съездили в строительный магазин и купили самые красивые. Я с радостью ждала выходных.
Наступила суббота. Мы сняли старые обои в коридоре, затем в зале… Наконец, наступила очередь моей комнаты. Папа отодвинул кровать, и перед нами предстало страшное облезлое пятно на обоях. Мама была в ужасе от увиденного. Она не понимала, откуда оно появилось. Мне пришлось признаться, что, когда я была маленькой, засыпая, я любила разглядывать, щупать и гладить рельефный рисунок на обоях. Это помогало мне успокоиться и поскорее уснуть, когда было страшно, тревожно или грустно. И делала я это так часто, что протёрлось огромное пятно. Мама крепко обняла меня. Она поняла, как часто мне хотелось, чтобы кто-то был рядом, пока я засыпаю.
Мы вместе сняли этот «грустный» кусок обоев и увидели под ним слой старых, давно выцветших бумажных обоев. Они были розовые с голубыми бабочками. Одна из них была криво нарисована чьей-то неуверенной рукой. У мамы на глазах появились слёзы. Она растрогалась. Эта бабочка жила с ней почти всё её детство. Мама когда-то мечтала завести питомца, но родители ей не разрешали, тогда ей пришло в голову нарисовать ту самую бабочку рядом с кроватью и дружить с ней. Теперь уже я крепко обняла маму. Мы аккуратно оторвали обои с маминой бабочкой, вырезали её и поместили на память в рамку.
Пришло время другого угла комнаты. В этом углу уже много лет жил антикварный шкаф. Его очень берегли и лишний раз не передвигали с места на место, даже чтобы поменять за ним обои. Теперь пришло время ему переехать на дачу. Папа осторожно отодвинул шкаф и снял полосу пыльных обоев. Из-под неё вылетел и упал на пол непонятный клочок бумаги. Мы подобрали его. На нём был начерчен план какой-то квартиры. По расположению комнат она напоминала нашу. Сверху была почти неразборчивая надпись: «Карта сокровищ». Красным крестиком была помечена родительская спальня. Нам всем стало очень интересно, есть ли это сокровище на самом деле. Мы все как маленькие рванули в спальню. И стали искать, сами не зная что. Отодвигали все шкафы и тумбочки, заглядывали под диван, но нигде ничего не было. Папа так устал, что присел отдохнуть в кресло-качалку. Пол под ним заскрипел… и вдруг одна половица с треском провалилась. Мы удивились и подошли посмотреть, что случилось. В дырке в полу что-то блестело. Это оказался небольшой золотистый сундучок. Замка на нём не было. Сундучок был очень пыльный. Мы протёрли его и открыли. Внутри лежали шоколадные монетки, старая игрушечная машинка и какая-то записка. На бумажке было написано имя: «Саша Петров». Мама воскликнула: «Саша Петров — это же мой папа!» На следующий день мы позвали в гости всю семью: бабушку, дедушку, дядю с тётей. Вручили дедушке его давно забытые сокровища. Теперь уже плакал он. А мы все дружно его обнимали.
Оказывается, обои умеют хранить секреты и воспоминания многих поколений!

Литературный конкурс среди школьников: 7-8 классы
Creative Writing School и Гильдия словесников провели Литературный конкурс среди школьников и учителей в рамках одной из секций ММСО.Пушкин. Представляем лонг-лист премии в номинации 7-8 классы.
Верес Татьяна
***
Я гуляла в лесу, было пасмурно, грустно и тихо.
Не трещали сверчки, и не пели в листве соловьи.
Распускали сережки березы, цвела облепиха,
И куда-то бежали в траве по земле муравьи.
Я смотрела под ноги, боясь раздавить насекомых,
И брела по траве непонятно, не зная куда.
И внезапно попала я в лес, мне совсем незнакомый,
На поляну с ручьём, где тихонько журчала вода.
Там стоял старый дом, темный, сумрачный и одинокий.
Не горел в окнах свет, на дверях не висели замки.
Дверь открылась легко, моё сердце забилось в тревоге,
И как сердце моё, так же гулко звучали шаги.
Дом манил своей тайной. Скрипучие старые двери
Пропустили меня. Я вошла. Дом шептал: «проходи».
Галереи портретов со стен в коридоре смотрели,
Приглашая по лестнице, тёмной и шаткой, пройти.
В окна дома скреблись и стучали деревья ветвями.
Я бродила по комнатам. Дом мне казался родным.
Я его узнавала, и шорохи, блики с тенями
Не пугали меня, я была очарована им.
Циферблаты настенных часов отражали свет лунный.
Я бродила до вечера, в комнатах стало темно.
На полу легли тени узоров решёток чугунных,
Лунный свет лился в комнату сквозь небольшое окно.
Мне пора было прочь. Я прощалась со стенами дома.
Фолиантов старинных ряды, отблеск света из мутных зеркал
Мне шептали: «Скорей возвращайся», как старой знакомой,
И раскидистый дуб долго вслед мне ветвями махал.
И с тех пор каждый день я в лесу всё ищу ту поляну,
Всё пытаюсь найти это место с журчащим ручьём,
Где под снегом зимой, и под летним дождём и туманом
Ждет меня мрачный, тёмный, забытый, таинственный дом.
Дьячкова Анжелика
Муравьиная скука
Муравьиная скука —
Это что за нелепость?
Разве может быть скука
У муравья?
Каждый день он трудился,
Да, трудился всё лето
И бежал в муравейник,
В свой дом, где семья.
Помогал, если трудно,
Он тем, кто нуждался,
И тащил в муравейник
Их груз, не спеша.
А кого растоптали —
Он тех не гнушался,
Подбирал… Муравей —
А большая душа!
Ну, а ты, человек,
Почему ты скучаешь?
Ты же не муравей,
Выше ты, чем трава.
Почему иногда
Другу не помогаешь?
Муравей для тебя —
Это лишь мелюзга.
Муравьиная скука —
Это что за нелепость?
Разве может быть скука
У муравья?
У того, кто в заботах,
Не в унынье и лени,
Скуке просто не место!
Вот так вот, друзья.
Карабанова Г.
В зеркалах
Что я вижу в зеркале? По нескольку раз в день я подхожу к этому предмету, висящему на стене в прихожей, и вглядываюсь в него. Порою просто пробегаю мимо, махая своему отражению, а оно машет мне в ответ.
Еще в своем кармашке я всегда ношу маленькое зеркальце, которое было куплено однажды на отдыхе. С тех пор оно стало моим молчаливым другом.
Часто никто из нас не может угадать, что увидит в отражении. Иногда мы улыбаемся, кокетливо поправляя прядку волос. Нам хорошо. Легко и спокойно на душе. В эти моменты на нас смотрит бесконечно счастливый человек. Его день пройдет замечательно.
А иногда, сколько б мы ни старались, у отражения печальный взгляд, нервно подрагивают губы, на ресницах блестят слезинки. Эй, отражение, улыбнись! Но нет… Тяжело вздыхая, оно поворачивается и уходит. И кажется, ничто в мире не сможет изменить той тяжести, что легла на плечи. Она давит, пригибает к земле. В такие нелегкие периоды хочется кричать, молить о помощи. В этом печальном человеке никто не хочет узнавать себя.
Случается, мы с досадой разбиваем зеркало, ведь оно показало нам совсем не то, что хотелось видеть. Зеркало разлетается на тысячи мелких кусочков, раня не только руки, но и душу.
Замечали ли вы, что, если в зеркале отражается не то, что ожидаем увидеть, каждый из нас обижается, уходит, капризно поджав губы. Человеку совсем не понять, что зеркало ни в чем не виновато. Оно стало заложником наших эмоций и настроения.
Посещая музеи и старинные усадьбы, вглядитесь в зеркала, висящие на стенах. Тяжелые рамы в позолоте, украшения из драгоценных камней. Это какая-то особенная атмосфера ушедшей эпохи. И вот уже перед нами, посетителями музея, пробегает не девчонка в джинсах и с фотоаппаратом в руках. На какую-то долю секунды в отражении замирает дама в бархатном платье с веером из страусиных перьев или пары танцуют романтический вальс под музыку виртуозного оркестра. И девчонка в джинсах невольно останавливается, делая танцевальные па, смешно морщит веснушчатый нос. Ей представляется, что и она сейчас закружит в танце, приглашенная робким юношей. Увы… Другая эпоха унесет девчонку, закружит в ритме современности. Вы замечали нечто подобное? Это волшебно и необычно.
А в старых домах, стоит только смахнуть пыль с зеркала, можно увидеть много интересного. Вот за столом сидит молодая пара, у них свадьба. Все наполнено ожиданием счастья. Впереди много нового и интересного. А вот к зеркалу топает малыш, ладошкой касаясь поверхности, он останавливается на некоторое время. Ему кажется необычной эта вещь. Можно держать в руке румяное яблоко — только одно, а в зеркале отразится другое. И вот яблок уже два. Чудеса! Вот к зеркалу подходит женщина, редкая седина в волосах ей только к лицу. Совсем недавно перед этим зеркалом она надевала фату. Она постоит, немного задумавшись, и тихонько пойдет. Женщина берет за руку внука и улыбается. Хочется думать, что она счастлива.
Никто из нас никогда не задумывается, что именно он видит в зеркалах. А в них отражается наша жизнь — яркая и насыщенная, с бурей разных эмоций и событий. Какой она будет, зависит только от нас. Улыбнитесь своему отражению в зеркале и поверьте, что все будет хорошо!
Кулагина Аврора
То, что дает мне силы
Иногда мне становится так грустно, что мир сереет в глазах. Кажется, будто бы и воздух уже не так свеж, и люди не так добры. Это миг, когда рушится остров надежды, поглощаемый тёмным океаном отчаяния, где бушует страх и злость молнией пронзает свинцовые тучи. В тот самый момент я, идущая по тонкой нити над пропастью, падаю вниз, на землю. Там, в глубокой расщелине, так душно, что нечем дышать. Кто-то лежит в песке и пыли, кто-то карабкается наверх и соскальзывает вниз, в грязь.
И именно в такие моменты важно помнить, что нужно смотреть наверх. Наверх, в небо. Где-то там, за тяжёлыми облаками, сияет она. Яркая звезда, ночной светоч, мой покровитель. Холодная и спокойная, она даёт мне силы лютой ночью, когда я ползу вверх по пологому склону скалы. А днём, тёмным, словно зимние сумерки, звезда загорается во мне. И ведёт меня. Ведёт меня наверх, к тонкой нити. Ведёт меня вперёд сквозь дикие волны и горячие пески, сквозь острые клыки скал и неверные тропы лесов. Я иду за ней, и с каждым шагом вера в себя становится сильней.
И в какой-то миг, я понимаю, что всё остаётся позади. Позади злорадные светляки, плутающие в глухих зарослях, позади жажда и колющий ногу крупный песок, позади солоноватый привкус во рту и страшные грозы. Позади ложь. Позади страх. Позади отчаяние. Шаг, и я раздвигаю рукой пелену облаков. Вот, я у самого неба. Выше, чем раньше. Меня вывела моя далёкая звезда.
Но и тут путь не кончается. Невидимая дорога убегает вверх, в неведомую даль. И я знаю, что даже упав, поднимусь ещё выше, ведь со мной моя звезда.
Морозова Мария
Фиолетовая трава
Жили на свете две десятилетние девочки. Даша и Наташа — сёстры-близнецы. Даше нравится жёлтый цвет, и она сходит с ума по детективам. Наташа любит фиолетовый, пурпурный цвета и кошек.
Летом родители отправили их на каникулы к бабушке в деревню.
Однажды после грозы близняшки вышли во двор и увидели фиолетовую траву. Сестры решили разобраться в этом.
— Вау! Фиолетовая трава. Ура-а-а! — начала прыгать от радости Наташа. — Интересно, кто это сделал? А вдруг это… Единорог!
— Я не знаю, кто это мог быть, но дело вполне достойное для близняшек-детективов, — сказала загадочным голосом Даша. — Первым делом надо найти улики. Эй, Наташа, ты что жуешь?
— Тут конфетки, — ответила сестра.
— Молодец! Вот и улика, — начала расследование Даша.
Девочки пошли по дорожке из конфет и нашли рюкзак. В нем были краски и кисточки.
— Как странно, этот рюкзак так похож на мой, — удивленно сказала Наташа.
— А краски и кисточки, кажется, мои, — предположила Даша.
— Привет, девочки! — подошла их новая подруга Оля. — Если что, извините меня, пожалуйста. Мне очень хотелось рисовать, и вот я нашла этот рюкзак. А спросить разрешения было не у кого…
— Ты рисовала? — спросила Наташа.
— Нет, — ответила Оля.
— Ясно, а я сегодня утром нарисовала кошку, — сказала Наташа.
— Стоп, здесь не хватает фиолетовой краски, — обыскивая рюкзак, хмуро добавила Даша. — А какого цвета был твой рисунок?
— Фиолетовая кошка.
— Я знаю, кто виновник цветной травы, — ответила Даша. — Наташа, ты оставила фиолетовую краску под дождем. Краска разлилась, получилась фиолетовая лужа. Потом она высохла, а краска осталась на траве. Вот и получилась такая красота.
— Вау! Близняшки-детективы раскрыли дело! — восхитилась подруга.
Сестры решили всё же почистить траву от краски, а Оля им помогла.
— Кстати, хотите покажу вам свою фиолетовую кошку?
Мягкова Олеся
Граница
— Отдай зарядку!
— Не-е-ет! — захныкала шестилетняя Настя. — У меня всего десять проце-е-ентов!
— Что за шум опять? Олеся, отстань от сестры!
— Мама. Она. Опять. Взяла. Мою. Зарядку. А свою. Не может. Найти.
Я старалась говорить спокойно и дышать глубоко, потому и вышло как у робота. Спорить с мамой про сестру чревато.
Тринадцать лет — это не так много, но моё детство капец как отличается от детства моей сестры. Вот моей сестре недавно — да, недавно, май это недавно, — исполнилось шесть лет. И у неё уже есть телефон. Ну, нормальный сенсорный телефон. Он у неё ещё с пяти лет. Она в интернете лучше меня разбирается.
У меня в её возрасте был розовый телефон с Золушкой или Ариэль. И там были кнопки, что-то на английском, и одна мелодия, которую я слушала весь день. И мне было капец как весело, ну прямо очень. Ещё если у кого-то он тоже есть, можно уйти в разные комнаты и «говорить» по нему.
Мама пошла в наступление:
— Олеся! Ты в телефоне торчишь, а дырку по шву на рукаве зашить на машинке не можешь! Я в твоем возрасте…
Бу-бу-бу… Я уже умею отключаться с ровным лицом, чтоб маму не завести окончательно и не слышать то, что и так наизусть знаю: мы в вашем возрасте вышивали крестиком, прыгали в резиночки и с сестрами-братьями сидели по полдня…
Когда мама закончила недлинную проповедь, я не удержалась зафиналить с риском нарваться на подзатыльник:
— А прабабушка в моем возрасте вообще замуж вышла!
За мной захлопнулась дверь в квартиру, потом дверь в подъезд… Хотелось, чтобы она тоже хлопнула, но доводчик лучше знает, как ей жить…
Соня без шапки и с собакой встретила меня с радостной готовностью выслушать, как всегда. И я затараторила:
— Моя сестра в шесть лет умнее меня в тринадцать! Она смотрит не какие-то мультики по «Диснею» и не орёт, как я в детстве, когда начинается мульт про императора: «Куско, Куско, вперёд!» Она смотрит программы про нашу Вселенную. Знает, сколько Вселенной лет и как она образовалась, причины, по которым может быть конец света. А я до сих пор не понимаю, как считать таблицу умножения на девять на пальцах.
— Да, это тоже повергает меня в шок, — начала подруга явно не языком шестилетки, — иду и вижу группу первоклассников, у которых навороченные телефоны, они сидят огромной компанией и играют в них. Я в первом классе носила в школу кукол, как все мои одноклассницы, и играла в них на перемене. Вот мы с тобой гуляем, а вон в беседке дети сидят, у всех есть телефоны, и они играют в них.
— У меня в детстве была палка и воображение! Нет, игрушек у меня было навалом, но зачем они мне, если есть палки и крапива?
— Моей двоюродной сестре четыре года, и она умеет печатать на клавиатуре и сама искать что-то в Гугле. Я в четыре года наряжала папу в чепчики и полотенца и хотела выйти за него замуж. А мама мне сказала, что это её муж и типа у него уже есть жена. Я тогда в шоке была и сказала, раз папа уже женат, то не за кого мне замуж выходить.
— Мне моя сестра говорит про чёрные дыры, а я сижу с видом «Аля, чего-чего?»
— Они, понимаешь ли, думают, на что жить в игре, а я в их возрасте строила с братом дом из пледа и стола.
Мое подростковое злобство стало отступать, и истории повеселели.
— Я помню одну нашу ну очень популярную игру «овцы». Мы, по-моему, её сами придумали. Суть была в том, чтобы ползать на четвереньках и есть траву. У нас был пастух Сережа, помнишь? Он нас старательно пас. Но однажды мы сбежали. В дырку в заборе на заднем дворе. Мы были детьми просто ну мегахитрыми и умными, ну и вылезли. Мы бегали по горе и блеяли. А одна девочка врезалась в дерево и предложила его есть. И пастух ломал нам ветки, а мы их ели. Короче, весело было.
— А помнишь, как я ударила какую-то девочку лопаткой по лбу, потому что она ела снег? — Соня долго смеялась и в шутку треснула меня по лбу веткой-«лопаткой». — Ещё я сломала о стенку коляску и уронила автопарк на своего брата…
— Я была в детстве очень умна и начитанна. Мне мама прочла ну очень много книг, и почти все из них я знала наизусть. Представляешь? Я, честно, сама в шоке, как я могла в пять лет столько запомнить! — Я выделила слово «столько», выпучив глаза. — А однажды папа мне говорит: «Ты не сможешь мне почитать, ведь читать-то ты не умеешь». А я взяла книгу из своей личной библиотеки и начала читать. Хотя читать я и правда не умела, мне пять лет было. Я не читала, а рассказывала прямо слово в слово с книгой. А один раз папа меня обманул. Он уезжал куда-то, и я у него попросила живого коня. Он сказал, что купит. А привёз мне игрушечного белого коня. До сих пор, кстати, у меня коня живого нет…
Тут вдруг наш запал стал сдуваться, как шарик, медленно и со свистом. Испуганный слушатель — собака Вест — очнулся и стал рваться с поводка, почуяв парк.
— Моя сестра ни разу ёлку на себя не роняла даже!
— Пока они копят деньги, я копила наклейки и пони из коробочек с конфетками. Трэш!
— Когда говоришь с ними, чувствуешь себя старой. — Соня остановилась вовсе.
— Мама, наверное, так же думает, когда меня пилит.
Мы бродили по тропинкам, шуршали сухими осенними листьями, прятались за деревьями от Веста, поели скукоженных ягод шиповника, давали прикольные имена облакам, залезли потом на статую, пришли к прудику. Прошлым летом в нем мы наловили мелких чёрных и в какой-то степени противных существ почти полную найденную тут же бутылку. Я поломала берег своими мокрыми в области коленок штанами, и мы решили уйти и пересадить эти организмы в ручей напротив. Но этого не удалось сделать, потому что они почти все передохли. И некоторых я ногой случайно раздавила. Сегодня мы вылавливали с поломанного плота из пруда пластиковый хлам, спасая жителей болотца от экологической катастрофы, выпачкались и чуть не свалились в этот лягушатник.
— Мы же с тобой ничего не сфоткали! — Глаза Сони брызнули страхом и ужасом сразу.
— Значит, мы не больные, и цифрового аутизма у нас нет, — буркнула я то ли с радостью, то ли с сожалением. — Граница старого мира и цифры по нам прошла, а не по нашим родителям. Это мы и тут, и там! Круто, вот что я думаю.
Пора было топать домой, вдруг сразу остыли мокрые ноги, застрадал голодом желудок и зазвонил телефон. Своим писклявым голосом и тоном строгой воспитательницы сестра сказала: «Оле-ся! Ты где? Ну-ка иди домой!»
— Давай шишек насобираем и твоей Насте отнесем, пусть поделки делает, — предложила Соня.
Я хотела что-то съязвить, но реально распечалилась, что по делу применить живые, пахнущие смолой и таинственной красотой шишки сестра не сможет.
Пархоменко Мария
Женька и Пончик
Начало второй четверти. Сижу дома за столом и гляжу в окно. Рядом — Женька-одноклассник. Мы с ним по заданию биологички должны сделать проект по хвойным растениям. Но по правде говоря, готовит проект Женька, а я просто создаю видимость активности. Ох уж этот Женька! Мама уже не раз говорила — дружи с ним, он отличник, его так хвалят на родительских собраниях, Женькина мама на них так и светится от счастья. Мне бы так! — мечтает моя мама. — «Мальчик такой умный, занимается программированием, шахматами». А я не хочу с ним дружить! Он такой зануда, твердит: «такие-то хвоинки…, такие-то корешки…, для кедровой сосны характерны признаки…» Говорю ему: «Давай быстрее, меня ребята на улице ждут».
Я живу на втором этаже, и мне сейчас прекрасно видно, как на нашем дворе собираются мои приятели. Они начинают строить крепость из выпавшего прошлой ночью первого снега, потом начнется игра в снежки! Телефон разрывается от эсэмэсок: «Когда выйдешь? Чего так долго?» Вот уже они начинают катать большие шары снега. Рядом, за гаражами, широкий пруд, первый мороз превратил его поверхность в огромное зеркало. Видно, как группка мальчишек увлеченно кидает на лед камни и куски кирпича, которые, подскакивая, пролетают почти до противоположного берега, и там, где лед еще не окреп, пробивают его до воды.
До ботаники ли мне теперь! Женька пытается подробно рассказать, что нового он нарыл в интернете для проекта. «Ладно, — говорю, — давай доделаем завтра. У тебя же скоро шахматы, опоздаешь! И охота тебе заниматься этими фигурками!» Женька вздыхает: «Это же целые сражения, мы там тренируемся предвидеть игру на несколько ходов вперед, приходи, попробуй только!» Отвечаю: «Выдумки это все!» Женька идет к себе домой, он живет в одном со мной подъезде; сейчас наверняка пойдет в школу на кружок. А я уже не могу думать ни о чем другом, кроме как о предстоящей баталии во дворе.
Наскоро одевшись, бегу, как метеор, во двор и включаюсь в строительство крепости. Не замечаю ни пронизывающего ветра, ни промокших насквозь варежек! Нам весело вместе, все идет отлично! Но что это? Из-за гаражей, с берега пруда раздаются крики. И это не крики игры, даже не крики возможной драки. В них что-то леденящее душу. Поэтому мы сразу все бросаем, и, повинуясь какому-то единому импульсу, бежим к пруду.
Перед нами ужасное зрелище. Один из мальчишек (я его знаю, это Сережа по кличке Пончик) барахтается метрах в десяти от берега, провалившись в полынью. Мы знаем, как здесь глубоко, столько раз здесь плавали летом! Он то погружается в воду, то выныривает, судорожно хватая воздух ртом и нелепо взмахивая руками. Он даже не успевает крикнуть и неуклонно погружается все глубже и глубже в темно-серую бездну. Его товарищи в панике мечутся по берегу и пронзительно кричат. Они не знают, что делать. Рядом ни одного взрослого — рабочий день в разгаре, а пенсионеры все греются по домам. Меня охватывает ужас и на несколько мгновений вводит в оцепенение. Но вот руки как бы сами тянутся к ближайшему дереву и неправдоподобно сильным рывком отламывают длинную ветку! Бегу с ней на берег плотины, поближе к Пончику, ноги скользят, и вот уже мой правый ботинок полон ледяной воды. А веткой не могу дотянуться до утопающего! Ору ему отчаянно: «Хватайся, быстрее!», но понимаю, что он не дотянется, да и вряд ли меня слышит. «Звоните взрослым!» — кричу стоящим рядом ребятам, сознавая, что время, скорее всего, уже упущено: еще несколько секунд, и Пончик не вынырнет. Гляжу: кто-то, распластавшись на животе, быстро ползет к утопающему, к кромке проломившегося льда. В руках у него какая-то палка, лед и его едва удерживает, и под грудью смельчака медленно растекается темная лужа. Пончик успевает нечеловеческим усилием захватить палку. Теперь он хотя бы может отдышаться. Вот подбежал наш сосед дядя Петя, он вытягивает смельчака назад за ноги, встав на льду на четвереньки, а вместе с ним и Пончика.
Смельчак оборачивается, и я вижу, что это Женька! Дядя Петя хватает Пончика, с куртки которого ручьями стекает вода, а зубы в дрожи издают мерный громкий стук, на руки и бегом несет его к дому. Все постепенно выходят из шока и понимают: «Успели!» Я беру Женьку за руку, и мы бежим домой, так хотим сбросить с себя ужас пережитого вместе с мокрой одеждой! Что происходит вокруг в этот момент, мы воспринимаем как в тумане. Я говорю «мы», потому что именно с этого момента началась наша с Женькой дружба.
И потом, в других ситуациях, несмотря на то, что мы друг с другом во многом разные, часто ловили себя на мысли, что наши мысли и чувства бывали очень близки.
Мы не любим вспоминать этот случай. Особенно Женька, который потом долго болел. Для чего я вам его рассказал? Сам не пойму. Наверное, потому что в таких внезапных обстоятельствах важно не потерять голову, просчитать ходы наперед. Женьке это удалось.
Яшкина София
В зеркалах
Если посмотреть в зеркало, вы увидите человека. Это самый главный человек в вашей жизни, тот, без кого ваша жизнь невозможна, а также виновник всех ваших проблем и ошибок. Кто этот человек?
Правильно, это вы сами.
Кривое зеркало покажет вам неправильную, искаженную реальность, а обычное зеркало… тоже неправильную, перевернутую в другую сторону. И как ни смотри, правильную реальность зеркало не покажет. Ни одно зеркало не может показать реальность до конца, показать то, что внутри реальности, например, мысли.
Люди издавна хотели увидеть себя со стороны (для того зеркала и придумали), люди верят зеркалам, но часто забывают, что зеркала искажают, скрывают реальность от глаз людей.
Кто-то смотрит в зеркало затем, чтобы проверить, хорошо ли он выглядит сейчас, чистое ли лицо, не мятая ли одежда, а кто-то, однажды подойдя к зеркалу, теряется, заблуждается в этом зеркальном мире, в мире иллюзий, но они забывают, что того мира — в зеркале — не существует.
Зеркало лишь искажает реальность, но не отражает ее.
Каждый, хотя бы раз, подойдя к зеркалу, видел свои недостатки, даже мелкие, вроде пасты на щеке. Но к сожалению, не каждый, подойдя к зеркалу, видел, насколько всё-таки он прекрасен, насколько прекрасен мир вокруг.
Просто чтобы это увидеть, не нужно никакое зеркало.

Литературный конкурс среди школьников: 9-11 классы
Creative Writing School и Гильдия словесников провели Литературный конкурс среди школьников и учителей в рамках одной из секций ММСО.Пушкин. Представляем лонг-лист премии в номинации 9-11 классы.
Баданина Зоя
Муравьиная скука (симфония для солнца, вишневых деревьев и…)
Если бы лучи солнца можно было потрогать, дернуть, как струны, он бы дотронулся. Было очень жарко, вся терраса словно светилась: старое дерево с чешуйками потрескавшейся краски, громадные стеклянные окна, пронизанные солнечными нитками, скрипучие половицы, отполированные мерцающими искорками. Бормотание радио, тягучее, усталое и нежное, сливалось с жужжанием мухи — она беспомощно билась в стекло и никак не могла долететь до раскрытой настежь двери.
Котьке было смертельно скучно. Он пытался нарисовать акварелью парусник, но у него не выходило так, как воображалось. Радио рассказывало про финского композитора Сибелиуса, печального и отчаянного, потерявшего дочь и написавшего «Грустный вальс». Радио рассказало, что Сибелиус однажды сжег множество-множество своих черновиков, и Котьке сделалось не только скучно, но и больно.
— …Новация Яна Сибелиуса заключается в том, что скрипка все время уступает место оркестру. Мелодия скрипки сменяется совершенно другой мелодией или музыкальным фрагментом, уходящим в оркестр, и в этот момент скрипка всего лишь аккомпанирует оркестру. Это было совершенно новой формой инструментального концерта…
Котька отбросил кисточку, уронил подбородок на разогретый солнцем стол и скосил глаз на муравья, который с потерянным видом ходил по столешнице. Наверное, ему тоже было смертельно скучно. «Муравьиная скука». Котька покатал словосочетание на языке, оно было кисло-сладким, как компот из вишен, который собиралась варить бабушка, и звучало как пение скрипки, льющейся из радио. Котька решил, что «Муравьиная скука» могла бы быть симфонией, если бы он был композитором.
Музыка нарисовалась в его голове — такая ясная, звонкая, как свет солнца на листьях вишневых деревьев, тяжелая, как духота, чуть-чуть печальная, как этот скучающий муравей, дрожащая, как раскаленный воздух, мокрая и сверкающая, как лист в акварельных разводах. Но музыку эту невозможно было поймать, закрыть в банку, написать на бумаге, потому что Котька не был композитором.
Осознание, что он не знает нотной грамоты, не умеет играть ни на чем, кроме столешницы (по ней забавно барабанить пальцами), осознание, что ему никогда не выразить невыразимое, покоящееся на кончиках пальцев, спящее во взгляде муравья, вдруг захлестнуло Котьку. Его переполнил этот день с жужжанием мухи, густой зеленью, а еще историей печального Сибелиуса. Запахи, звуки и ощущения дня, слишком жаркого и яркого, до боли сочного и душисто-душного, заставляли сердце заходиться стуком. Нужно было выпустить это внезапно обрушившееся обилие впечатлений, но способа не было, выхода не было, умения сплетать музыку не было…
И тогда Котька разрыдался, и вместе с его слезами нарисовалась в раскаленном воздухе фантомная симфония. Симфония муравьиной скуки.
Рыдающего Котьку обнаружила бабушка. Она вернулась из сада, с ней была корзина вишен и каких-то цветов, которые пахли сладко и удушающе, так по-летнему и смертельно. Котьке пришлось соврать, что он плачет из-за неудавшегося акварельного парусника, потому что ни одному человеку на свете не получилось бы объяснить истинную причину. Как выразить словами рану на сердце, которая кровоточит беспомощностью? Как в слова облечь это разрывающее чувство понимания, но неумения запечатлеть?
Котька плакал с каким-то болезненным чувством освобождения, потому что всхлипы звучали как дрожание солнечных струн, а мир сквозь пелену слез был совершеннее и красивее, такой дрожащий, сверкающий и цветной.
И муравей, шевеля усиками, подполз совсем близко к мокрому Котькиному лицу и посмотрел с пониманием. Наверное, ему уже не было скучно, а было так же трагично и хорошо.
Балутина Маргарита
У Антона родился третий брат
Едкий запах лекарств и спирта пропитал за долгие годы стены больницы. Беготня. Писк приборов. Шум воды. Всё это стало привычным для тускло-жёлтых коридоров. Они видели и слёзы, и смех, и смерть, и рождение. Начало и конец так тесно связаны друг с другом.
Босые ноги ступают бесшумно по вымытому до скрипа кафелю, заворачивают и подступают к стеклянной стене. За преградой рядком стоят кроватки-барокамеры, а внутри — увитые трубками маленькие тельца. Хрупкие, беззащитные, слабые.
Несколько шагов, и молодая фигура тенью стоит у «кроватки». На бирке знакомая фамилия. Красноватая кожа неестественно облегает тело. Морщинки усеивают почти каждый сантиметрик, не избегая ручек и ножек, безвольно раскинутых в стороны. На груди белыми пятнами маячат датчики.
Тонкие пальцы тянутся к детскому лицу и замирают в миллиметре. Малыш умрёт, юноша чувствует это. Слышит шаги в коридоре. И слышит тихое, обжигающе холодное дыхание Смерти за его плечом. Она уже тянет свои костлявые ручки к нежной коже. Но пальцы юноши касаются детского лба первыми. Пальцы, а за ними и губы. Тепло, исходящее от маленького, отважно бьющегося в грудной клетке сердечка, только начавшего свой бег, отгоняет тьму. Поцелуй, невинный и лёгкий, выворачивает тень с корнем, даруя защиту и спокойствие.
Дверь скрипит, и юноша выскальзывает в коридор. Там, у самого стекла, стоит женщина. Годы запустили проблески седины в рыжие волосы, померк их огонь, на щеках впадины и тяжёлые, глубокие морщины у уголков глаз.
«Не по возрасту ты вынесла бед…» — думает юноша. Он помнит её прекрасной, яркой, пламенной, а сейчас беда забрала всё это.
— С ним всё будет хорошо. Состояние стабилизировалось, — быстро говорит медсестра, прошедшая мимо женщины и так же быстро скрывшаяся в глубине коридора.
Роженица на негнущихся ногах подходит к окну. За стеклом стали зажигаться мелкие огоньки.
— Спасибо, Антоша…
Голос хрипит и срывается на всхлип. Всё, что темным облаком роилось в душе у женщины, сейчас рухнуло вниз, разбиваясь на миллиарды осколков и превращаясь в пыль.
Юноша улыбается и гладит полупрозрачной рукой кудрявые волосы. Он не может утешить её. Но так хочется прижаться к горячему сердцу, обнять, вдохнуть любимый запах, но нельзя.
— Пожалуйста, мама…
Тихое, грустное, но такое нужное.
Босые ноги бесшумными шагами удаляются. А Антон знает, что придёт к своей семье невидимой тенью ещё не раз. Ведь он должен оберегать маму, папу и ещё трёх братьев даже после собственной смерти.
Беляченков Михаил
То, что дает мне силы
Осенний день. В парке Полякова горит Вечный огонь в память о тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Подхожу ближе. Язычки пламени колеблются на ветру.
— О чем ты думаешь, Вечный огонь?
Горячие лепестки огня ответили:
— Думаю о той далекой весне Победы, когда, забыв на миг о потерях, о голоде, сиротстве и лишениях, люди ликовали: «Победа!» В этом слове было столько радости, столько обещания счастливой жизни.
— Послушай, Вечный огонь, а помнишь ты моего прадеда?
— Конечно, помню обо всех жителях города Ступино, участниках Великой Отечественной войны, обо всех тружениках тыла, обо всех детях войны.
— Расскажи мне о нем.
— Маркин Василий Васильевич, Миша, — твой прадед. Старший сын в простой рабочей семье, он выучился на токаря. Был настоящим примером для троих младших братьев. В 1937 году Василия призвали в армию, на флотской службе он стал машинистом-турбинистом на миноносце «Гремящий». В 1939 году корабль направился на военную базу северного флота в поселке Полярный. Василий Васильевич за добросовестную службу получил звание старшины I статьи. В 1941 году должен был демобилизоваться, но планы перечеркнула война.
Советское Заполярье и Баренцево море стали театром страшных военных действий.
Создав на территории Норвегии свои базы и аэродромы, фашисты всеми средствами пытались отрезать морские пути снабжения СССР, блокировать порт Мурманск.
— Как выглядел эсминец, на котором служил прадед?
— «Гремящий» — один из эсминцев проекта 7. Это самые массовые советские надводные корабли постройки 30-х годов, с которых ведут свою родословную несколько поколений больших ракетных кораблей и даже крейсеров. Они по праву занимают видное место в нашей военно-морской истории.
Во время войны фашисты трижды хвастливо заявляли, что «Гремящий» потоплен. Но он снова выходил на боевые задания, сопровождал конвои, отражал воздушные атаки противника, маневрируя, уходил от вражеских атак, возвращался в порт после сильнейших штормов. После одного из них у эсминца возникли проблемы с первым и третьим паровыми котлами, но при слаженной работе экипажа корабля все неполадки были устранены.
— В нашей семье бережно хранятся дедушкины награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Советского Заполярья».
Вечный огонь, ты помнишь, как мой прадед вернулся с войны?
— В победном 1945 году Василию Васильевичу не удается попасть домой: он по заданию командования, как специалист по двигателям, выезжает в командировки на заводы-поставщики. Лишь в 1946 году он приезжает в Ступино, куда уже переехала его семья — дочь и жена. Радости родных не было предела! Василий вернулся с войны, вернулся победителем.
— А как складывалась его мирная жизнь?
— В послевоенные годы у Василия родились еще три дочери. Он вернулся к мирной профессии токаря. Устроился на СМК токарем 42 цеха, а потом, уже в 23 цехе, получил высокую квалификацию — 6 разряд. На заводе Василий Васильевич работал до 1975 года. Он был общительным, гостеприимным, добрым человеком, очень любил играть в шахматы и был ярым футбольным болельщиком.
— Наверное, я похож на прадеда: у меня так много друзей, люблю путешествия, особенно на байдарках или горными тропами. Правда, футбольный болельщик из меня так себе, да и шахматист я посредственный. Но наверное, силу и выносливость я унаследовал именно от деда Василия.
Язычки вечного огня сияют теплой вечной улыбкой. Должно быть, именно такая ясная улыбка была у моего прадеда Маркина Василия Васильевича. Его фотографию я несу в «Бессмертном полку», несу с гордостью, так как я правнук воина, победившего фашизм. Вечный огонь, пусть твой свет напоминает нам о тех, кто выстоял и победил, кто останется в нашей памяти символом мужества и жизни, мирной и счастливой.
Так что дает мне силы преодолевать непростые маршруты? Пример моего прадеда, крупицы его истории, что бережно хранятся в нашем доме.
Захарина Елизавета
Отражение жизни
И снова вечер. И снова у меня нет дела, каким бы я могла себя занять. Сидя на диване, я смотрю в окно и в очередной раз провожаю уже остывающее солнце, накрывающееся синей небесной пеленой. Ничего необычного. Вдруг мне послышалось, будто что-то упало. Я оглянулась и увидела перед собой комод, в котором хранятся мои вещи. Я приподнялась и крайне удивилась: буквально из ниоткуда там очутилось моё детское зеркальце. «Может быть, выпало?» Я подошла к забытому мною предмету и взяла его в руки. Розовая гладь зеркала ясно выделялась на фоне комнаты, наполовину погрузившейся во тьму. Я поднесла зеркальце ближе к глазам, и они сами по себе округлились: на меня смотрела и широко улыбалась девочка гораздо моложе меня. «И зачем я наклеила фотографию на зеркало?» — спросила я себя с усмешкой и потянулась отклеивать картинку. Но, проведя пальцем по стеклу, фотобумаги я так и не обнаружила. Вытянула руку, держащую зеркало, и прикоснулась пальцами свободной руки к щеке. Девочка в отражении повторила то же движение за мной. Всё ещё не отойдя от шока, я смотрела в зеркало, пытаясь понять происходящее. Я повернула зеркальце и на его обратной стороне заметила небольшой кусочек бумаги. Подойдя к окну, я прочитала: «Все воспоминания и тёплые моменты хранятся здесь. В зеркалах». Я развернула зеркальце к себе и, возможно, мне померещилось от удивления, что детское лицо в отражении мне подмигнуло. «В зеркалах…» — пронеслось эхо у меня в голове.
Прошло около двух недель с того непонятного происшествия. Розовое небольшое зеркальце стояло по центру комода и украшало мою комнату. И когда мне вновь становилось грустно и одиноко, я обращалась к маленькой девочке, вселившей частичку тепла в предмет, хранящий воспоминания.
Курушина Варвара
Тайна одного дома
Эту историю мне рассказал один человек, с которым я познакомился много лет назад, а именно 13 ноября 1953 года.
Мне тогда было двадцать шесть, я только что окончил медицинский университет и, преисполненный мечтами о блестящей карьере врача, собирался ехать в свой небольшой городок, чтобы забрать вещи, попрощаться и уже навсегда покинуть семейный дом.
Последний нужный мне поезд отходил ровно в 14, и я, в силу своей нерасторопности, опаздывал на него.
Я со всех ног побежал по платформе и запрыгнул в последний вагон.
Вытерев со лба капельки пота, я отдышался и пошел искать свободное купе. Но это стоило мне огромных усилий: в первом купе сидела пожилая пара, во втором играли шумные дети, в третьем храпел мужчина. И только в конце вагона я нашел пустое купе.
Сначала я не заметил его. Молодой человек сидел у окна и смотрел на мелькающие пятна осенней листвы. Заметив меня, он кивнул и снова уставился в окно. Я сел напротив, открыл газету и углубился в чтение. Но вскоре мне надоели колонки о всевозможных продажах, и я перевел взгляд на своего соседа.
Пожалуй, именно внешний вид этого человека и подтолкнул меня к разговору. Передо мной сидел мужчина лет тридцати, с темными волнистыми волосами, темными, почти черными глазами и длинным тонким носом, смахивающим на клюв какой-то птицы. Он был одет в светло-бежевое пальто и такого же цвета шляпу. Его головной убор был перетянут белой лентой с тонким серым пером. Выглядел молодой человек, мягко говоря, диковинно. Но больше всего мое внимание привлекла брошь на его пальто. Я уверен, в лучших ювелирных магазинах нельзя было найти такое украшение.
Мраморная птица, будто застывшая в полете, переливалась. А глаза! Глаза птицы было ярко-черные, точно такие же, как у моего соседа.
— У вас очень красивая брошь, — сказал я.
Мужчина перевел взгляд сначала на меня, потом на свое пальто, и снова взглянул мне в глаза.
— Спасибо.
Хочу вам признаться, друзья, я ужасно любопытен и совсем не понимаю, что и когда нужно говорить. Вот и сейчас у меня на языке вертелись слова, которые обычно не говорят незнакомым людям. Но что с меня взять?
— Знаете, вы по своему внешнему виду очень похожи на птицу, — сказал я, указывая на мраморную брошь.
Мужчина, похоже, понял, что я просто так не отстану.
— Да, думаю, вы правы. Понимаете, это украшение делалось специально для меня.
— А где работают такие великолепные мастера?
— Я вижу, вы человек любопытный, — сказал мой собеседник.
Я застыл. Не ожидал такой прямолинейности. Но в глазах странного соседа нельзя было уловить и тени злобы.
— Да… Извините. Надеюсь, я не позволил себе лишнего.
— Нет, нет. Все хорошо. Вы не первый человек, кто смотрит на меня с любопытством… — Мужчина сделал паузу. — Но вы первый, кто осмелился сказать мне в лицо. И я ценю это.
Почувствовав некоторое облегчение, я расправил плечи и уже как-то по-дружески смотрел на своего собеседника. Разговор продолжался.
— Вы путешествуете по делам?
— Еду в те места, где прошло мое детство…
— В ваш дом, к семье?
Молодой человек помолчал, глубоко вздохнув, и сказал:
— В приют.
— Извините меня, я не знал.
— Конечно, не знали. Ведь у меня не было родителей, и приют был мне домом. Родным домом.
— Вы не знаете родителей? Вам не сказали, кто они?
Мужчина посмотрел мне в глаза.
— Я же сказал, у меня их не было.
Я непонимающе посмотрел на собеседника.
— Понимаете, я врач и с твердой уверенностью могу сказать, что люди просто так не возникают из ниоткуда. У каждого человека есть мать, которая выносила и родила его.
Мой собеседник широко улыбнулся.
— Вы правы.Но у меня нет матери.
Я уже совсем ничего не понимал. Похоже, что этот мужчина просто смеётся надо мной. Но нет, посмотрев в его глаза, я увидел честность.
— Извините меня, конечно, но если вас, кхм, не родила женщина, то как, по-вашему, вы появились на свет?
Молодой человек оглядел меня с ног до головы и сказал:
— Я вижу, вам можно доверять. Вы не из болтунов, хоть и кажетесь таким.
Я благодарно кивнул.
— Да, я жил в приюте. В самом обычном, ничем не примечательном приюте. У меня были как злые, так и добрые воспитатели. Друзей я не заводил. Все просто, правда? Вы спрашивали меня про брошь, и я ответил вам, что эту брошь сделали специально для меня. Мне сделали её в этом приюте. Понимаете, я ведь не всегда был человеком, — осторожно сказал он.
Мои брови медленно поднялись.
— Что?..
— Да-да, вы правильно меня услышали, — сказал мой собеседник, достал из внутреннего кармана маленькую фотокарточку и протянул мне.
Я взял фотографию и с ужасом посмотрел на неё. На черно-белом снимке была сова, похоже, сипуха. В нижнем углу было написано черными чернилами: «Tytо». Я перевел взгляд на мужчину, тот коротко кивнул.
— Это я.
— Вы?
Мысли смешались в моей голове, и я даже не пытался разобраться в них. Передо мной сидел человек, который показал мне свое фото.
— Вы… сипуха?
— Да. Я сказал вам, что приют и воспитатели были обычными. Но не его жители. Все дети, до того как стали человеческими детьми, были птицами. У нас есть большой фотоальбом, где собраны снимки всех людей, живших в этом приюте. И как я думаю, вы уже поняли, снимки их птичьего облика. У вас, наверное, возникает вопрос: а как я стал человеком? Я и сам не знаю. Помню лишь, как однажды проснулся в кровати, у меня были руки, ноги, я умел говорить. Но я никогда не задавался вопросом, кто меня сделал таким, почему я стал таким. Вы также спрашивали, куда и зачем я еду. Так вот, я еду в тот самый дом, чтобы узнать его тайну. Узнать, как сова стала человеком.
Сейчас мне почти сорок лет. Я врач-хирург в крупной больнице. У меня жена и двое прекрасных детей. Я, как и любой родитель, рассказываю им сказки перед сном. Но я никогда не рассказывал историю, которую мне поведал один человек много лет назад. Не рассказывал им тайну одного дома.
Николаева Мария
Сквозь мечту
…Во-вторых, мне становилось все интереснее. Каждый день, засыпая, я смотрела на потрескавшуюся по краям дыру в стене, но, просыпаясь, не находила ее на том же месте. Я не следила за этим, но знала, что она перемещается вдоль стен. Она была небольшой, едва ли больше ладони. Десять сантиметров штукатурки, иногда высыпающейся сквозь кожу обоев. Белые корки штукатурки на теле коммунальной квартиры.
За месяц жизни здесь я узнала много о здешних богах и их правилах. Выведывала я все это мучительно и долго, потому что открыто мне никто ни о чем говорить не собирался. Да и было бы наивно ожидать, чтобы кто-то на блюдечке принес мне, чужачке, все негласные правила и законы такого странного и молчаливого места.
Я знала, что, если не обращать внимания на дыру, ее обитатели не тронут меня, потому что больше, чем кто-либо, ценят покой. Сосед сказал мне, что поэтому они и селятся к беднякам и студентам — то есть к тем, у кого времени нет на шум и копошение, к тем, кто вечно работает и с непрекращающейся мигренью ценит тишину, как и они.
В-третьих, этим утром все было не так, как раньше. Я определенно видела, что дыра стала больше. Может, сонная бессознательность ещё не покинула мою голову, а может, они звали меня к себе, но я отчётливо почувствовала в себе смелость подойти и посмотреть поближе.
Часть меня, которая все ещё не смирилась с происходящим, которая ещё имела смелость называть себя здравомыслием, была твердо уверена: там лишь песок штукатурки и холодный бетон стены. Но что-то тянуло меня ближе. Я будто хотела убедиться, что ошибаюсь, что что-то там происходит, не зря ведь дыра стала больше.
Бледно-зелёные обои по краям пузырились и отклеивались, будто пузырившаяся от ожога кожа, а из-под них торчала потрескавшаяся штукатурка. Преодолев остатки страха, я положил руку на нее, стараясь делать это мягко и аккуратно. Дом зашипел. Я услышала шкворчание сковородки со стороны кухни, жёсткий шум воды, разбивающейся о жёлтую ванну, и ворчание Зинаиды Самуиловны, спешащей на кухню, задевая всё на своем пути.
Я чуть было не отшатнулась, но вдруг поняла, что реакция Дома была не предупреждением — она была приглашением. «Струсишь?» — послышалось мне среди шумов коридора.
Я уверенно надавила рукой, и она по локоть провалилась вглубь. Жёсткий слой засохших обоев и штукатурки слегка царапал, но за ним было мягко.
Под обоями была трава. Мягкая, свежая, ещё не обсохшая от росы. Ее запах пробивался в нос, просачиваясь сквозь стену, заполнял лёгкие летней теплотой. Под обоями были полевые цветы. Особенно много ромашек. Их запах я бы никогда не спутала ни с чем другим. Мне захотелось ромашкового чаю.
Я едва заметным усилием протянула руку вглубь, широко открывая глаза, будто мое тело больше не принадлежало мне, будто на мгновение сквозь меня прошло что-то неестественно сильное и светлое, заставив мышцы гореть, а волосы — подняться, словно на меня подул сильный ветер. Я действительно чувствовала теплый бриз из-под обоев. Дом откликнулся на мое слабое движение, и меня всю затянуло внутрь.
Под обоями был мох, были корни деревьев, опавшие иголки елей, сухая лесная земля, грибные ножки, муравьи, шишки, маленькие росточки, тонкие палочки и ручейки. Под обоями была жизнь. Поднимающийся из земли полунимб корней упавшего дерева, клюква, болотные кочки, водяные, лесные озера и их обитательницы — русалки.
Под обоями было широкое поле, уходящее за горизонт, несущее на себе стога сена, будто родинки на загорелой коже. Там паслись коровы и овцы, там пастух свистел в свой рожок, там лаяли собаки и ползали улитки. Там степные грызуны забирались в свои норки, и свежий ветер шевелил колосья.
Там было и море. Там был и сам океан. Пятки проваливались в мягкий песок, и когда прибегала новая волна, ранки на ногах начинало щипать. Мои шорты были подвернуты выше колен, а расстегнутая рубашка легонько хлопала по спине, развеваясь на теплом ветру. Лучики солнца пробивались из-за редких облаков на кристально-голубом небе, и я чувствовала, что сам Аполлон целует мое лицо.
Под обоями была свобода. Был маленький дом с черепичной крышей, был сад с прудом, полным карпов, там был золотой ретривер, деревянный пол и широкие окна, сквозь которые каждое утро пробивались первые лучи солнца и падали на мои щеки.
Там я избавилась от своей болезненной бледности. Там я не была бы такой тощей, а мои руки не тряслись бы на холоде. Там не было бы холодно.
Я поежилась. Мысль о холоде заставила меня его почувствовать. Я ощутила на своих плечах одеяло и укуталась в него, стараясь спрятаться, но дышать стало сложно. Мягкий летний ветер куда-то пропал, как пропал и сам воздух.
Я могла дышать, лишь открыв рот, из-за чего мне пришлось с трудом открыть глаза. Было холодно и темно. Я вслепую нащупала на тумбочке капли и забрызгала их в нос, болезненно хлюпая. Передо мной была моя маленькая комната с окном, из которого лился угнетающе-желтый свет фонаря.
Я так устала. Мне ужасно хотелось сбежать туда, где я была только что, и я не знала, привиделось ли мне это или я действительно была где-то, кроме комнаты. Выходила ли я из нее когда-нибудь в своей жизни? Или я и появилась тут в самом начале, и в самом конце останусь здесь же? Ощущение тепла песком уходило сквозь пальцы.
Я посмотрела на стену с тоской. Дыра снова была не на своем месте и снова стала немного больше.
«А что если?..»
Я подошла на подкашивающихся ногах, не отрывая взгляд от дыры.
У меня было несколько причин пытаться. Во-первых, я снова хотела почувствовать себя чем-то большим, чем обедневшая жительница засаленной комнаты в коммунальной квартире…
Прядко Полина
«Я рожден, и это все, что необходимо, чтобы быть счастливым!»
— У вас будет девочка. — Доктор отвернулся от экрана и с улыбкой посмотрел на двух светящихся от радости людей. Женщина, лежащая на кушетке, крепко сжимала руку мужа, который, в свою очередь, с любовью поглаживал её небольшой круглый животик. «Спасибо, доктор! Большое спасибо!» — Женщина надела обратно свою плотную хлопковую широкую рубашку и вместе с мужем покинула кабинет. На улице стоял ноябрь. С момента, как эта семья узнала счастливую новость о будущем пополнении, прошло уже два месяца. На улице было морозно и уже выпал первый снег. Мужчина держал женщину под руку и напряженно наблюдал за каждым её движением, как будто она в любую секунду могла поскользнуться на ровной и посыпанной специальным средством дороге. Они подошли к своему припаркованному «Фольксвагену», и женщина осталась ждать снаружи, пока её муж прогревал машину изнутри. Вдыхая свежий утренний воздух, женщина думала о том, как радикально изменится её жизнь после появления на свет маленькой девочки, и о том, что работу вскоре придётся прекратить. Шёл всего второй месяц беременности, однако женщине казалось, что момент родов наступит уже через пару дней. Через несколько минут муж вышел из машины и открыл дверцу, чтобы его жена, не дай бог, не совершала резких движений. В этой семье всегда было так — непонятно, кто волновался больше, жена или муж. Надо сказать, что оба родителя очень долго шли к мысли о том, что без ребёнка их жизнь не будет иметь смысла. Мать будущей девочки приехала в Москву из отдалённого города, всегда мечтая о карьере, которая позволит ей ни в чём себе не отказывать, а отец, пусть и коренной москвич, всегда был амбициозен и прошёл достаточно тернистый путь к высокой позиции в крупной фирме. Однако для его жены, которая всегда и всего добивалась сама, оставить работу значило оставить где-то частичку себя. Через матовую призму многочисленных сомнений они приняли окончательное и бесповоротное решение, которое должно было разделить их жизни на до и после. Машина тронулась. Мужчина сидел за рулём, то и дело бросая взгляд на жену, которая рассматривала пробегающие мимо деревья. Конечно, она ловила на себе его беспокойный взгляд, но каждый раз решительной мимолётной улыбкой давала ему понять, что с ней всё хорошо. Машина катилась плавно и медленно. Муж старательно объезжал все возможные ямы и притормаживал сильнее обычного на поворотах, а перед лежачими полицейскими так вообще двигался еле-еле. Жена привыкла к его вождению и уже не возмущалась тому, что благодаря ему чувствовала себя не человеком, а какой-то хрустальной вазой из редкого китайского фарфора в единственном экземпляре. Через час семья уже была около небольшого многоэтажного здания в благополучном районе Москвы. Как всегда терпеливо женщина дождалась, пока её муж откроет перед ней дверь, и, опершись на своевременно протянутую ей руку, вышла наружу. Квартира, в которую они поднялись, была наполнена таким теплом и нежностью, что любой человек, хоть когда-то входивший в неё, сразу мог сказать, что в ней живут действительно любящие друг друга люди. На полу, рядом с обеденным столом, уже располагался детский манежик, а в соседней комнате, рядом с аккуратно заправленной кроватью, уже поджидала будущего малыша детская светло-голубая колыбель. В ящиках комода ровными стопочками были уложены всевозможные детские вещи, начиная от ползунков и заканчивая забавными летними шапочками. В отсеке прикроватной тумбочки, где ранее женщина хранила свои украшения, теперь лежали соски и пустые бутылочки для молока. Казалось, что они подготовились настолько основательно, что в их квартире можно было устраивать настоящий детский сад — вещей хватило бы на всех. Мужчина проследил, чтобы жена дошла до кровати и, укрыв её теплым пледом, отошёл на кухню сделать чай. Когда он вернулся, женщина уже мирно спала, поэтому ему оставалось только выключить свет и отправиться на диван читать книгу о правильном воспитании ребёнка.
С того момента незаметно пронеслось полгода, наполненные волнениями, заботами, вечерними вылазками за вкусной едой и тянущей болью в пояснице. Проходили УЗИ, в которых врачи сообщали семье о том, что их малышка растёт и развивается, и что скоро они станут счастливыми обладателями милого маленького и кричащего по ночам существа. Наконец наступил июль. На улице плавила крыши домов жара, а ветерок и не думал помогать тучам закрыть солнце хоть на несколько минут. В один из душных вечеров женщина поняла, что началось. Муж находился дома, и спокойно, без какой-либо паники, уже через десять минут вёз свою жену в родильный дом. Это была пятница, и пробок особо не было, поэтому они добрались быстро и беспроблемно. Жену забрали в палату, и, спустя долгие роды, уже в ночь пятницы акушерки принесли ей кричащую сморщенную малышку. Счастью обоих родителей не было предела, особенно после слов дежурного врача о том, что она совершенно здорова и жизнеспособна. Муж и жена, а теперь уже отец и мать, не могли насмотреться на своего ребёнка и с нетерпением ждали выписки, которая должна была состояться уже в понедельник. И вот в тот самый понедельник мать и малышка проходили последний осмотр у основного врача. Радостные и полные жизненной энергии родители совсем не ожидали услышать то, что им сказали в тот злополучный понедельник. Врач сказал, что у их малышки есть проблема, а именно — шумы в сердце. У матери случилась самая настоящая истерика, которых раньше у неё никогда не было. Отец ходил пасмурнее тучи, пытаясь одновременно не дать своей жене впасть в депрессию и выяснить, как можно было обнаружить такое только в день выписки. Врачи разводили руками, ведь всем известно — люди имеют свойство ошибаться, однако от осознания этого факта несчастным родителям было совсем не легче. На следующий день кардиолог, специально вызванный основным врачом для подтверждения его догадки, поставил неутешительный диагноз — дефект межжелудочковой перегородки, а говоря более простым языком — дырка в сердце. Более того, эта перегородка была настолько крошечной, что, можно сказать, её и не было вовсе, из-за чего, как им впоследствии объяснили, артериальная и венозная кровь смешивались, и ребёнок мог очень скоро умереть. Единственным выходом оставалась операция на открытом сердце, при мысли о которой у матери ребёнка всё внутри сжималось и слёзы лились сами по себе. Неужели она что-то сделала не так, неужели по её вине у её малышки такое сердце? Все эти вопросы могли часами кружить в её голове по ночам, не давая ни заснуть, ни проснуться. Семью перевели в специализированную больницу, где после двухнедельных исследований девочке подобрали лекарство и отпустили домой со строгим наказом — набрать вес малышке. Кроме того, родителей сразу подготовили к возможности не одной, а двух операций, потому что хирурги опасались не успеть сделать всё за 80 минут, а держать ребёнка под ней дольше означало поставить его умственное развитие под угрозу. Единственным, что поддерживало семью в это непростое время, оставались заверения врачей о «накатанности» таких операций, и что в 90% случаев операция проходила успешно и без осложнений. И вот, спустя столько времени, родители с малышкой на руках переступили порог своей квартиры. И пусть в колыбели теперь находился такой долгожданный ребёнок, а бутылочки были заполнены молоком, муж с женой не могли отделаться от чувства всепоглощающего страха. Они боялись, что колыбель может опустеть.
Шел пятый месяц жизни девочки, и, наконец, после десятков различных по маркам пюрешек, смесей и материнского молока, после сотен раз, когда малышка отказывалась есть и выплёвывала всё обратно, после тысяч показанных ей за едой мультиков нужный вес был набран. Операцию провели в конце декабря. Восемьдесят минут ожидания. Восемьдесят минут отчаянья. Восемьдесят минут надежды. Восемьдесят минут паники. Восемьдесят минут. Всё было не напрасно. Врачи полностью закончили за восемьдесят минут. Малышка перенесла операцию на открытом сердце и выжила. Её сердце, пусть и со специальной заплаткой, отчётливо билось, и уже через два года эта заплатка стала неотъемлемой частью её сердца.
И сейчас я смотрю на фотографию этой малышки с заплаткой и провожу рукой по своей груди. Это белая послеоперационная полоска останется вечным рубцом на моем теле. Но не на душе. И она всегда будет давать мне силы. Да, у меня есть некоторые физические особенности: я не могу бегать марафоны и усиленно тренироваться, а шрам не сотрет ни один пластический хирург, однако несмотря на все трудности, пережитые моими родителями в борьбе за мою жизнь, они всегда говорили мне, что моё рождение — это самый незабываемый момент в их жизни. Теперь же, в мои почти семнадцать лет, я с уверенностью могу сказать — я жива, а значит — я счастлива.
Распутина Светлана
То, что дает мне силы
Однажды семя упало в землю… Так зародился я.
Меня питал дождь и ласкало солнце, я рос. И когда пришло время, ко мне пришёл человек.
В тот день, когда пришёл человек, я был слаб и зависел от всего, что окружало меня, но я дал ему дар. Я отдал человеку всё, что было у меня. Я отдал ему себя.
Мой гость благодарно принял и собрал мои дары — множество моих воплощений. Он аккуратно высушил мои сердца — листья — и положил меня в нежный глиняный сосуд.
Мне казалось, что теперь я стал ещё более слабым, но тогда человек обжёг меня горячей водой, закрыл сосуд крышкой и оставил одного.
Спустя время человек вернулся и выпустил меня вместе с водой в другой сосуд. Но я был уже не я. Я переродился и стал другим. Тем, кто я есть сейчас.
Моё горячее дыхание обжигало человеку кончики пальцев, а аромат, которым я теперь обладаю, щекотал ему нос. Но человеку это нравилось, и он был счастлив.
Человек пил меня и становился сильнее и спокойнее.
Так началась моя история.
Я видел бесчисленные множества сосудов и грел бесконечные множества сердец.
Человек сказал, что во мне таится нежное пламя. И эти слова даровали мне тело и силы.
Я поднимаюсь облачками пара над вашими стаканами лишь одним взмахом своих крыльев. Цвет моего тела меняется в зависимости от места, в котором были собраны мои дары. При должном подходе я согрею. Но будь аккуратен, человек, ибо моя мощь может даровать боль.
Я способен залечить раны, но я также могу и сгубить твою душу.
А сейчас проходи, присаживайся, путник. И если ты будешь вежлив, я дарую тебе чувство бодрости и покоя в своём царстве. Если ты будешь добр и почтителен, я позволю забрать тебе свой дар с собой.
Родионова Полина
У Антона родился третий брат
— Мам, да успокойся ты, ничего такого не случилось.
— Ничего? НИЧЕГО? Антон, у тебя опять родился брат! Сколько можно?!
— Мам, ну это всего лишь третий…
— Третий? А потом четвертый, а потом пятый?
Сонный программист Антон обреченно вздохнул и почесал в бороде.
Мать металась по кухне, рычала и выла, периодически хватаясь за голову. Антон сидел и думал, как у нее еще волосы на голове остались. Полвторого ночи. Когда она успокоится?
— Ты мне всю жизнь загубил! Я тебя в этом доме видеть не хочу! Ты понял? Убирайся! Убирайся к своей стриптизерше!
Антон медитативно кивал. В голове у него играла песня из «Шрека».
— И наклейки свои сраные забирай с собой! Весь дом говном облеплен!
«Говном» мать называла все, что связано с программированием. В данном случае имелись в виду наклейки из серии «Кот и Код», на которых изображались коты в разных костюмчиках за компьютерами. Антону очень нравились эти коты, поэтому один кот висел на кухне, рядом с иконой Николая Чудотворца, еще один — на двери в туалет, а несколько других Антон стратегически разместил у мамы в спальне, потому что решил, что ей понравятся рыжие коты — она ведь сама рыжая.
— Подними зад со стула и иди собираться! И этих братьев своих забирай, они мне нафиг не сдались!
— Да, мам. — Антон задумчиво встал и пошел грустно отклеивать котов.
Через час сонный Антон, коты, ноутбук и трое храпящих детей оказались в такси.
— Алё, Маш. Мы к тебе едем. Да, она выгнала. Не знаю, придется возврат оформлять. Я не могу Маш, я не справлюсь. У меня еще двое кроме него. У тебя остался чек? Поищи, да. Здесь направо. Я не тебе, Маш. Да, мы скоро будем.
Маша встретила их в красивом черном халате. Она вернулась со смены полчаса назад и еще не успела смыть макияж. Утро они встретили на балконе. Очень хотелось спать, но сначала нужно было обсудить важные вещи.
— Антон, скажи честно, зачем они тебе? Еще и в таком количестве. Разоришься однажды.
Солнце встало над городом и сразу же поселилось в рыжих волосах Антона.
Машины белые волосы оно лишь слегка погладило.
— Я всегда братьев хотел. Понимаешь? — Антон печально посмотрел в синие радужки ее усталых глаз.
— Да, но третий… Не слишком?
— Погорячился, да. — Антон пожал плечами. — Надо вернуть, пока не привязался к нему.
— Я чек нашла, — тихо сказала Маша, протягивая мятый белый чек.
— Хорошо. Иди спать, я пока оформлю возврат.
Антон обнял ее и погладил по белым волосам. Маша слабо улыбнулась и пошла спать.
«Причина возврата:___». Варианты: «Не понравился», «Не нужен», «Надоел», «Дефектный». У Антона что-то дернулось внутри. Он встал из-за стола, дрожащей рукой налил себе холодный кофе, три минуты его пил, открыл холодильник, посмотрел, закрыл холодильник, сел, подтянул к себе колени, уткнулся бородой в колени, заплакал. Чуть-чуть. Залпом выпил еще одну чашку кофе и убитым взглядом изучал пиксели на экране. Взял мышку, выключил, включил, выключил, включил.
«Не нужен». Enter.

Медвежья лапа
Булочка была странной формы, крем неряшливо выпирал из присыпанного пудрой теста. Но оказалась очень вкусной.
— Хотите еще? — Хозяйка кондитерской убрала пустую чашку, смахнула крошки. — Ваша мама часто их покупала, хоть они и не дешевые. — Она смотрела с сочувствием и, как показалось Саше, с презрением. — Шутила, что из-за них в Об переехала, в Париже таких не пекут. Говорила, ест, чтобы зверю досадить. Это такое русское выражение?
Саша поднял глаза:
— Как они называются?
— «Медвежья лапа».
«Скырлы, скырлы, скырлы, — забасил вдруг в голове бабкин голос. — Скрипи, нога, скрипи, липовая…»
Каждый вечер бабка зажигала пару свечек в закапанных воском банках, приговаривала: порченое семя, знай своих врагов, тебе с ними жить… Потом читала сказки. Кажется, нарочно выбирала самые страшные. Как эта, про медведя на липовой ноге. Саша потом боялся есть пирожки — а ну как она их из медвежьей лапы накрутила, и тот за своей ногой на костыле явится? Ночами не спал: казалось, в кухне кто-то ходит, дышит, скрипит. А потом все прекратилось. Когда мама уехала.
Скырлы, скырлы… Он всегда верил, что мама устроится и его заберет. Зубрил французский, рассматривал фотки в альбоме: Эйфелева башня, парк Тюильри, дворец Инвалидов.
Ездил раза три. Первый раз мама еще была с Жан-Марком. Носатые Жан-марковы сыновья ржали, когда мама на своем акающем французском просила, жеманно улыбаясь: «Пуре-тю ме данне дю пан, мон амур». Эйфелеву башню он тогда не увидел: сходили в кегельбан на углу, а потом ели пом фрит в закусочной. Картошка была сухая и жирная одновременно.
Саша расплатился и вышел под дождь, криво улыбаясь: съел-таки медвежью ногу… Перешел Сену, углубился в вымершие улочки: воскресенье, ноябрь, Бар-сюр-Об. Население 5345 человек. Теперь 5344.
Трехэтажный полинялый дом, социальное жилье. Сварливые ступеньки: скырлы… Вчера одышливая тетка из соцслужбы вручила ключ и объяснила, словно дебильному ребенку: квартиру освободить к шестому. Прах мадам Пино — в крематории на улице Деспре.
Он так и не понял, от чего она умерла. Какой-то синдром Такоцубо. Посмотрел в «Википедии»: расширение верхушки желудочка при постоянном воздействии боли или страха.
Отпер дверь, квартирка дохнула чужим, затхлым. Кот Лукас — полуслепой, с бельмом во весь глаз — спрыгнул с кресла, стал молча тереться о ногу, оставляя на джинсах светлые ворсины.
Ночью лежал под тяжелым сырым одеялом. Жалюзи резали уличный свет на тонкие полосы. Почему она его не забрала? Надеялась опять выйти замуж? Стыдилась нищей жизни? Или хотела от чего-то защитить?
Внизу клацнула дверь. Наверное, соседи вернулись, голосистая арабская семья… Но на лестнице было тихо.
Вдруг прямо за дверью скрипнуло. Гнусаво взвыл Лукас. Саша замер, прислушался. Шурх-скрип. Шурх-скрип. Сел, стал шарить ногами по полу, тупо глядя, как опускается дверная ручка.
Дверь открылась, пахнуло сыростью и псиной. Саша понял: он уже здесь. Глухо бухнула о паркет деревяшка. Зверь с шумом втянул воздух, принюхиваясь, и двинулся вперед. И тогда Саша закричал.
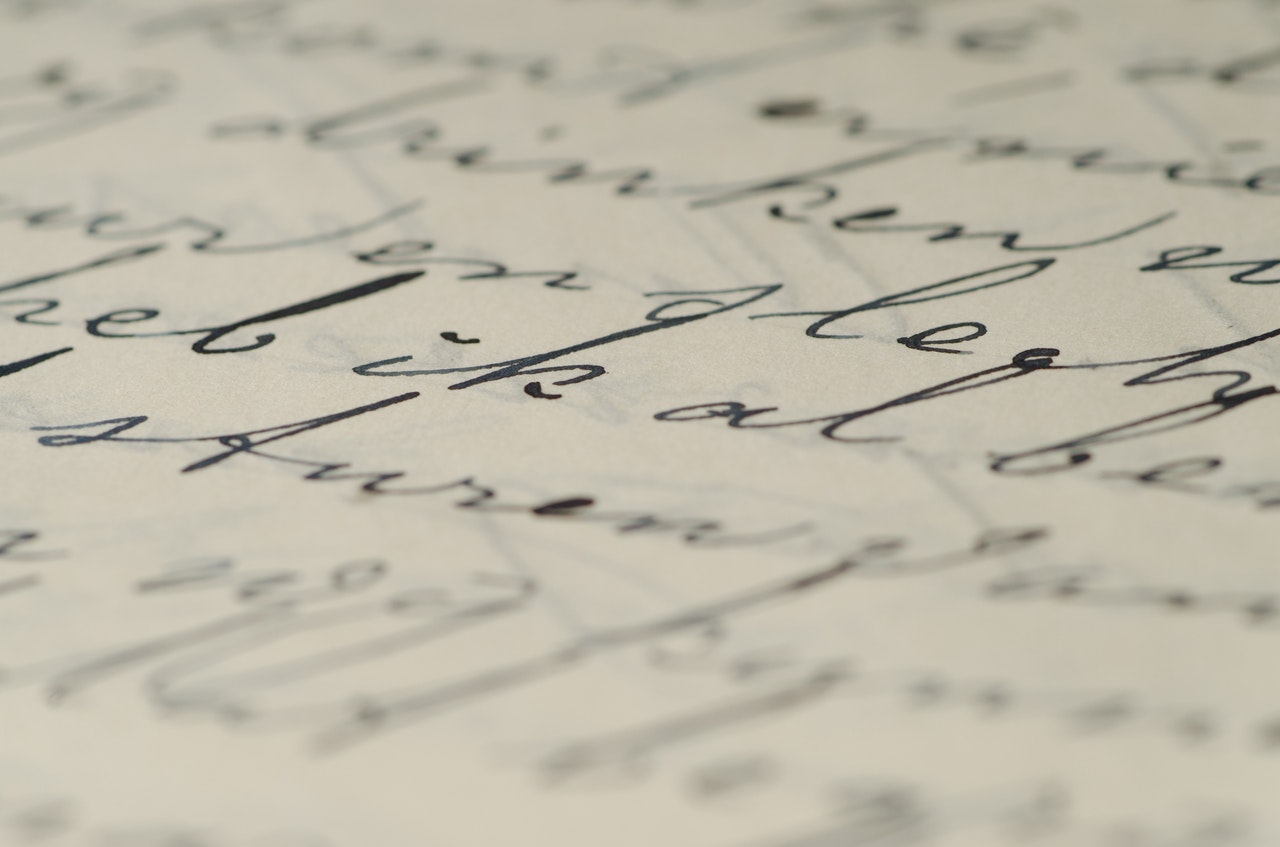
Письмо богу
— Будем говорить откровенно, — сказал доктор, — болезнь ваша неизлечима и осталось вам не так уж долго. Я могу назначить вам химиотерапию, от которой вас будет тошнить и выпадут все волосы, но это лишь продлит ненадолго ваши мучения. Мой вам совет — не нужна вам никакая химиотерапия. Будь я вашим врачом в России, я бы вам этого не сказал.
— И что, действительно ничего нельзя сделать? — Марков не узнал своего голоса.
— Я вам дам направление к психологу. Вы сможете обсудить с ним все проблемы. Извините, но меня ждут другие больные.
Маркова подташнивало. О намеченном походе в Русский Магазин за селедкой и салом нечего было и думать. На улице сновали взад-вперед девушки в облегающих брюках и юбках, сквозь которые отчетливо проступала линия трусов. Ноготки их ножек в босоножках были выкрашены лаком разного цвета: у одной — желтые, у другой — зеленые…
— Они тут будут бегать взад-вперед, живые, а я… Ну почему я? И за что?
Он изо всех сил попытался представить себе, как все это будет без него. Девчонки так же будут сидеть в автобусах, закинув ногу за ногу, в Русском Магазине так же будут продавать все пятьдесят сортов колбасы и селедку «Матиас», только его самого не будет… Как же так? Эта простая мысль не укладывалась в голове…
И тогда Марков решил написать письмо.
Уважаемый Бог! Я всю жизнь вкалывал по полторы смены, чтобы поднять детей, а дети сейчас в Израиле вкалывают по две смены, чтоб за квартиру заплатить. Сын говорит, что у них на заводе только русские и работают, израильтяне по 12 часов в день работать не приучены. Про меня дети уже не вспоминают. Материально им помочь я не могу, а советы мои им не нужны. Что я видел в жизни? Придешь домой вечером после работы — ноги гудят, перед телевизором посидишь, покушаешь и спать. И вот здесь теперь вроде кажется — живи в свое удовольствие, когда нет хамсина. А в Русском Магазине — и вареники, и колбаса всякая, только денег нету. Я первое время оглядывался — а ну подойдет кто-нибудь и скажет: «Ваш пропуск, гражданин?!»
Что мне в жизни осталось? Жена меня давно бросила, дети не звонят. В прошлый раз лекторша очень интересно говорила про разнообразное питание, но где взять на это деньги, так она этого не сказала. Я уже не говорю про икру, но больше ста грамм колбасы я себе позволить не могу, ну там еще грибы маринованные, капуста квашеная. Я пробовал сам делать, выходит гораздо дешевле, но как в Русском Магазине не получается. Женщины на меня уже внимания никакого не обращают. Так вот теперь еще это. Ну кому будет легче, если… А?
Марков вложил в конверт копию удостоверения личности, написал на конверте «Господу Богу». Потом подумал и дописал на иврите: «Адонай элокейну адонай эхад». Марков ходил в пенсионерскую ешиву — там платили сто шекелей в месяц и приносили на занятия печенье и колу. Приклеил марку и опустил письмо в почтовый ящик местной почты «для писем в Иерусалим».
***
Звонок телефона звучал нахально и без перерыва.
— Вы писали на имя Господа? — строго спросил женский голос. — Не кладите трубку.
— Алло! — Голос в трубке отдавал колоколом.
Так, наверное, читал первосвященник в Храме. В трубке звучало какое-то эхо, повторявшее каждую фразу:
— Мы с товарищами прочли ваше письмо. Нам непонятно, чего же вы, собственно, просите.
— Как чего? Жить?
— Зачем?
— Как это зачем?
— Ну, понимаете, люди к нам обращаются с конкретными просьбами — одному нужно три месяца, чтобы роман дописать, другому — полгода на завершение открытия, третий просит неделю, чтобы слетать в Баку — дать по морде лучшему другу, что стучал на него в КГБ. А вам для чего?
— Да, Господи, выйдешь утром, пока не жарко, птички это самое, у девчонок бретельки от лифчика выглядывают из-под футболок, в лавке сметана 30-процентная без очереди…
— Значит, просто так? Этого многие хотят. — В трубке задумчиво промолчали. — Ну, хорошо. В порядке исключения. Мы тут с товарищами посовещались и решили отменить ваш диагноз.
— Спасибо, товарищ Бог! А мне… Я что должен делать? Если вы рассчитываете на добровольные пожертвования, так у меня вместе с социальной надбавкой… Сами знаете.
— Знаем, знаем, как же.
— Может, в ешиву круглосуточную записаться?
— А ничего не надо. Живите.
— Господи, если уже все равно жить, так может, сразу жить хорошо, а? Вы можете как-то договориться в нацстраховании насчет увеличения пособия? А то в магазин зайдешь, так слюна течет, а купить ничего не можешь.
— Э, нет, куда мне с ними тягаться? Ну ладно, меня другие клиенты ждут. Если что, пишите. Адрес вы знаете. Только не заказным.
В трубке послышались гудки.
Сразу же после разговора у Маркова созрел План. Он положил в кулек ложку, поехал в Русский Магазин, купил за 28 шекелей баночку красной икры и сожрал ее, не отходя от кассы. Так он отметил свое второе рождение.
***
— Это поразительно. — Врач был в шоке. — Неоперабельная опухоль в последней стадии исчезла! Скажите, что вы принимали?
— Да ничего, разве, пива иногда выпьешь. Но конечно, не каждый день. С моей пенсией…
— Это просто поразительно! Я напишу статью в медицинский журнал.
А теперь мы оставим Маркова и перенесемся в другую семью, где разговаривают муж и жена.
— Ох и доиграешься ты, Сашка, с этими письмами. С таким трудом тебя на почту пропихнули. Кто тебе дал право открывать чужие письма, звонить незнакомым людям, представляться то Снегурочкой, то президентом Израиля, то вообще господом Богом?
— А кто узнает? Ну кто? Письма-то не заказные. Кто проверит? А, может, я человеку жизнь спас.
— Тебе-то кто спасибо за это скажет? Кто хоть шекель даст? Лучше бы в ночную охрану пошел. Худо-бедно, еще полторы тысячи приносил бы.
— А спать когда?
— Спать? А за квартиру за тебя Герцль платить будет?
Но Саша не слушал. Он распечатывал очередное письмо. На конверте аккуратным детским почерком было выведено:
Israel, Jerоsоlimo, santa Madonna.

Слово произнесено
Не знаю, как всё повернулось бы, знай я заранее. Вряд ли я изменила бы что-то. До одури влюбилась — тут уж пиши пропало.
Помню, он прошептал: «У меня странная семейка. Но ты не бойся. Они за своих — горой. Всё отдадут. Всё…»
Я вышла за него не раздумывая. Предложила повременить со свадьбой, пока не кончится траур. Но Рон был настойчив: мы расписались в тот же день, как не стало деда. Дико было мешать семейное горе с нашим — таким личным и безграничным — счастьем. Наверное, так ему будет легче пережить потерю, — нашла я для себя объяснение странной спешки.
***
Мы часто собирались всей семьёй. Я расставляла девять старинных тарелок, любила их держать в руках. Подружилась и с его мамой, и сестрой, и даже неразговорчивой Матой — женой брата.
Поэтому и не подумала скрывать новость. Ворвалась запыхавшаяся, румяная, переполненная счастьем.
— Ты вся светишься! — улыбнулась его мама. — Есть повод?
— У нас будет ребёнок! — выпалила. И — провалилась в тишину комнаты.
Они смотрели так, будто я кого-то убила. Рон побледнел. Мата скривилась. Заира, сестра, сплюнула и выбежала. Кто-то смахнул вилку, и звон от её падения застрял в барабанных перепонках.
— Вот и правильно. — Трескучий голос бабушки. — Давно пора. Я готова. Да.
И Рон хватает меня за руку, тащит вон. За домом, между дровяным сараем и почерневшей от дождей стеной дома, шагает, не обращая внимания на ливень. Капли смешно срываются с его носа. Могу сконцентрироваться только на них.
— Не успел сказать! Не думал, что так скоро случится. Прости! — Глаза в глаза. — Понимаешь, нас всегда в семье должно быть девять. Не знаю, проклятие это или что. Но проверено многими поколениями.
Я вжималась в старые брёвна, отказывалась верить. А он всё говорил и говорил:
— Я смог жениться только потому, что неожиданно умер дед. Поэтому я так спешил. Смерть — единственная дверь в нашу семью. Мы бережём своих. У Заиры три аборта, Мату тоже недавно уговорили. Боимся за бабушку, хотим продлить её дни. А ты… Ты… Так вдруг сказала. Обратного пути нет. Слово произнесено — слово изменило реальность.
Он наконец остановился. Навис надо мной.
— Рон… Ты меня ненавидишь?
— Я? Я счастлив! — Робкая улыбка.
***
Это происходит день в день. Мой живот наполняется жизнью. Сила старой Кои уходит. Мои роды её убьют.
Брат Рона, Эрт, поехал в экспедицию. Всегда мечтал об опасностях. А теперь чувствует себя, словно купил самую дорогую страховку. Не он задействован в этом древнем и странном процессе. Так что можно ловить остроту жизни и быть недосягаемым для смерти.
Но.
Я проснулась на рассвете. Окно залил туман, и только месяц просунул сквозь него тонкие рожки. Мне снилось зеркало. Малыш отражался в нём в полный рост. А потом протянул ручонку. Взял за пухлые пальчики своё отражение. Второй шагнул к нам в комнату.
Старая Кои проводит теперь со мной много времени. Учит странному. Каким-то заговорам. Приметам. Сказала: сон, пришедший в начале тумана, всегда вещий.
Телефон Эрта вне зоны действия сети. Я не удивлена. Слово произнесено, его силу не остановить. И я не знаю, как сказать мужу, как признаться семье. Сегодня врач подтвердил: будет двойня.

Стихотворения конкурса «Вижу текст»
В рамках поэтического конкурса «Вижу текст» мы просили участников выбрать одну из фотографий и написать стихотворение по мотивам так, чтобы она могла служить прямой или ассоциативной иллюстрацией.
Дробышева Ангелина
(фотография девушки в комнате)
Мышь говорит девочке:
«Ты здесь уже десятая.
Дай мне варёной фасоли.
Ночью тебя убьют».
Луч говорит девочке:
«Зря ты такая красивая.
Плакать сегодня глупо.
Лучше меня обними».
Пол говорит девочке:
«Рано со мной обнимаешься.
Как подойдут ботинки,
Стану тебя целовать».
Ночь говорит девочке:
«Здравствуй и до свидания.
Что ж ты такая чумазая?
Впрочем, дело твоё».
Исайчева Полина
(фотография мужчины в разрушенном здании)
Я как старый бумажный пакет,
Намокнув, теряю дно.
Не больно — непоправимо.
Когда в тебе просто ничего нет —
Это одно.
Хуже, когда всё влетает и улетает мимо.
Я, сквозной и бессмысленный,
Озираюсь вокруг,
Ищу кого-нибудь на подмогу.
Вместо этого
Обнаруживаю как бы вдруг,
Что нас таких много.
Голубева Любовь
(фотография слоновьего глаза)
жизнь моя остывшей кажется мне
хотя есть у меня дети и муж
тут наверное всё дело в слоне
и его согревающей друж-
бе его безусловной любви
и конечно же гипо- его
не -потамности а -аллергенности
не могу ни котят ни щенков завести
сразу бурно растут эозинофилы в крови
у семейства всего моего
ну и что что все деньги уйдут на кормёж-
ку и мал для него наш дом
ну и что что на ручки его не возьмёшь
но минздрав заявляет о том
что слоны признаны отличным средством профилактики осенней депрессии ОКР и мании величия
Борисова Ольга
(фотография мужчины в разрушенном здании)
Проходи, не задерживайся. Что ты на сей раз принёс?
Что за вязкая гадость? Зачем ты её притащил?
Поищи нам ловушки для страха — на них вырос спрос,
От твоих побрякушек дозиметр больно трещит.
Сядь, поведай мне, сталкер, ну стоит ли зона того?
Рисковать своей шкурой ради запросов чужих?
Или вам, ни гроша не теряющим, всё как одно:
Что мёртв, что жив?
Неужели ты веришь, что из обломков культур
Вся мозаика сложится, будто бы в стиле совмод?
И, жирея с объедков, хватит нести ерунду —
За кордоном никто не ждёт.
Ни свыше послания, ни вожделенный шар.
Ты тот, кто живёт, таская с развалин хабар.
Чемберлен Мария
(фотография мужчины в разрушенном здании)
Я хотела бы быть охранником
Стройки заброшенной
Обходить шагами широкими
Периметр скошенный
Заваленный снегом фундамент
осматривать хмуро
Кормить собаку и только ее
считать единственным другом
И шаги мои словно мысли
Были б просты и понятны
20х30 — вверенный жизни квадрат
Заваленный снегом, пустой, неприглядный
Климова Элина
(фотография слоновьего глаза)
«Нет! Не слон»
Человек бежит,
Будто шагает, —
Слон шагает,
Будто стоит.
Человек бежит
По шершавому полу
В шлёпанцах:
Ноги цепляются,
Путаются,
Выскакивают.
Человек останавливается,
Поправляет
И снова бежит.
Слон шагает
По жёсткому полу
Не в мокасинах,
Не в уггах
И не во въетнамках.
Уж тем более
Не в шлёпанцах
На один палец —
Босиком.
Ему бы стоять,
Подпирать небо,
Но он шагает,
Чтобы шагать.
А держать небо
И шагать —
Натрёт спину,
По иронии
Сместится атлант.
Потом не до подпираний —
Потом вправляй.
Стёртые подошвы:
Вперемешку мозоли
С натоптышами
На огромных пятках.
Человек бежит,
Но будто шагает —
Слон шагает,
Но будто стоит.
Слон литой,
Тяжёлый.
Складки кожи
Стоят.
Глаза тоже
Стоят.
И зрачки в них
Стоят.
Человек бежит,
Мчится —
Лопнул шлёпанец.
По шершавому полу
Больно ступать,
Если тонкая кожа.
Человек останавливается,
Поправляет
И снова бежит.
Бежит,
Будто хромая,
Будто хромает,
Будто прихрамывает.

Архип
Глава русской крестьянской семьи, по крестьянским представлениям, имел право выбранить и выговорить за леность, хозяйственные упущения или нравственные проступки.
Громыко М.М. «О воззрениях русского народа»
Архип сидел за кухонным столом и ковырял вилкой остывшие слипшиеся пельмени. Алёна пристроилась в углу на крохотном диванчике и читала книгу, уткнувшись подбородком в колени. Из комнаты доносилась однообразная усыпляющая мелодия. Каждые пять минут электронное пиликанье прерывалось звуками, имитирующими шелест листвы на ветру, журчание ручейка, бегущего по камням, и даже стук сердца.
— Это всё, что ты можешь мне предложить? — сердито буркнул Архип.
Алёна отложила книгу, подошла к холодильнику и открыла дверцу.
— Но у нас больше ничего нет, — растерянно ответила она.
— Не могла в магазин сходить? Я же утром оставлял тебе деньги.
— Просто сейчас книжная ярмарка, — начала робко Алёна
— И что?
— И я кое-что купила, — ответила Алёна и притихла, наблюдая за реакцией Архипа, но тут же спохватилась, как будто что-то вспомнила. — Ой, для Анютки тоже купила, такую чудесную, про Карлсона.
— Шестимесячному ребенку? Про Карлсона? Ты в своём уме?
— Архипка, ну не сердись, она же всего раз в году бывает, там же по ценам издательства.
— По ценам издательства, — процедил Архип, — нам скоро колбасу бумажную по ценам издательства покупать придётся.
Алёна вернулась на диванчик и снова уткнулась в книгу. В этот момент из комнаты послышался детский плач.
— Алёна, — окликнул Архип, — ты не слышишь?
— Может, ты подойдешь, я сегодня так устала.
— А я целый день отдыхал, по-твоему?
Алёна пропустила его замечание мимо ушей и проворчала в ответ:
— Я сейчас, дочитаю только до конца странички.
Архип бросил вилку и вышел из кухни, хлопнув дверью. Он подошел к детской кроватке, наклонился и положил ладонь Анютке на животик. Она мгновенно успокоилась и принялась с любопытством рассматривать папино лицо. Потом задрала кверху согнутые в коленках ножки, ухватила одну из них обеими руками и переключила внимание на свои крохотные пальчики. Архип постоял немного, глядя на Анютку, потом лег на диван, нащупал под собой пульт от телевизора и несколько раз настойчиво ткнул большим пальцем в красную кнопку. Телевизор не включался.
— Что с пультом? — заорал он через всю квартиру.
— Ой, Архипка, я из него батарейки вытащила для карусельки.
— Для какой, на хрен, карусельки? Я же просил не трогать батарейки из пульта.
Архип вскочил с дивана, взял со стола маникюрные ножницы и принялся выковыривать крышечку из основания детской прикроватной карусели. Крышечка не поддавалась.
В комнату вошла Алёна с книгой в руках.
— Почему ты так со мной разговариваешь? Что-то случилось на работе?
— На работе, — огрызнулся Архип, — и на работе тоже. В ближайший месяц денег не будет.
— Как не будет? — опешила Алёна. — У нас же ни копейки не осталось, а нам за квартиру платить. Хозяйка уже несколько раз напоминала.
— Вот так — не будет!
— Ты разговаривал сегодня с Сергеем?
— Да разговаривал я, разговаривал! Он сказал, денег нет, и всё. Хочешь, говорит, товаром рассчитаюсь.
— А ты?
— А что я? Это же не магазин, а лавка старьевщика какая-то. «Семейные реликвии»! Да кому, на хрен, сдались эти реликвии. Все только поглазеть заходят, побродят немного и выходят ни с чем.
— Архип, ну всё же это лучше, чем ничего, — не отставала Алёна.
— О чём ты говоришь!? Ведерный самовар лучше, чем ничего? Или сервиз чайный на шесть персон со сколами и стёртой позолотой? Таких маньяков ещё поискать надо, которые за этот хлам деньги заплатят.
Алёна посмотрела на Архипа, собираясь что-то сказать, но потом повернулась и вышла из комнаты, тихонько прикрыв за собой дверь. Архип продолжал отчаянно ковырять детскую карусельку. Наконец крышечка поддалась и с треском вылетела из пазов. Архип выковырял батарейки, засунул их в пульт и завалился на диван.
— Почувствуй нашу любовь, — загремел телевизор рекламой канала, под звуки которого Архип обычно засыпал и просыпался.
Резкий звук испугал Анютку, и она начала поскуливать в своей кроватке.
— Алёна, — заорал Архип, не вставая с дивана. — Успокой ребёнка.
Алёна не приходила, а Анютка набирала обороты, соревнуясь в силе голоса с Павлом Волей.
— Ты оглохла? — закричал он еще громче. — Ребёнок плачет.
В конце концов Архип не выдержал, взял плачущую Анютку под мышки и на вытянутых руках понёс её на кухню.
Алёна стояла в тёмной кухне и всматривалась в темноту за окном.
— Ты не слышишь, что ли?
Он подошёл сбоку к Алёне и толкнул её плечом.
— Эй, ты чего, Алёна, ребёнок плачет.
Алёна никак не реагировала. Архип растерянно переводил взгляд с орущей дочки на жену.
— Ну, ты чего, слышишь, что с тобой?
— А ты как думаешь? Мы еле-еле эту квартиру нашли. Нас же выгонят отсюда, если мы не заплатим на этой неделе, — наконец отозвалась Алёна. — У меня же памперсы… они как лекарства по бланкам строгой отчётности, один на сутки. Я каждый день только и думаю, на прогулку его перевести или на ночь оставить. — Алёна немного помолчала и добавила очень тихо: — Нам с Анюткой, наверное, будет лучше вернуться к маме…
— К маме? Да вали ты к своей маме, хоть к Папе Римскому! — выпалил Архип в ответ и заиграл желваками, набирая в лёгкие побольше воздуха и напрягая мышцы шеи, словно оперный певец на распеве. — Не может она! А я могу? Я могу с утра до ночи в подвале без окон сидеть? Или ты думаешь, много желающих взять на работу чувака с синим паспортом?
Анютка вздрогнула, мгновенно успокоилась и уставилась на Архипа с таким искренним удивлением, будто только сейчас заметила, кто её держит на руках. Она широко зевнула, икнула и принялась вертеть головкой, поворачивая её то в сторону папы, то в сторону мамы. Они оба теперь замерли и всматривались в заоконную темноту. Окна их нового дома выходили на лесопарк, а линию уличных фонарей ещё не подключили к подстанции. Темнота внутри сливалась с темнотой снаружи.
Архип аккуратно положил уже окончательно успокоившуюся Анютку себе на грудь и вышел, оставив Алёну одну стоять на кухне. Когда Алёна вернулась в комнату, Анютка мирно сопела в своей кроватке. Архипа нигде не было. На телефонные звонки он не отвечал. Первый раз за два года их совместной жизни Алёне пришлось ложиться спать без него.
Алёна проснулась посреди ночи от надрывного детского крика. Пронзительный звук заполнил всё пространство небольшой комнаты. Он эхом отражался от стен и прицельно бил прямо ей в голову, которая и без того раскалывалась. Алёна перевернулась на живот, засунула голову под подушку и поплотнее прижала края подушки к ушам обеими руками. Анютка продолжала кричать. Наконец Алёна не выдержала, откинула одеяло, спустила ноги на пол, села, потёрла глаза и принялась вглядываться в темноту в поисках мягкого синего огонька детской карусельки. Огонька не было. Она на секунду зажмурилась, открыла глаза снова, но ничего не изменилось. Тьма кромешная. Сквозь полусонное сознание к Алёне прорвались обрывки воспоминаний — Архип вытащил батарейки. Пока Алёна приходила в себя, Анютка перестала вопить во всю мощь своих маленьких лёгких и только изредка всхлипывала. Тогда Алёна забралась с головой под одеяло и свернулась в позу эмбриона, поджав колени к подбородку, но продолжала прислушиваться. И вдруг со стороны детской кроватки до неё стали доноситься очень странные прерывистые хрипы.
Алёна вскочила с кровати, сделала два широких шага и наткнулась ногой на что-то твёрдое и волосатое. От неожиданности она вскрикнула, отскочила в сторону и снесла локтем стопку книг с прикроватной тумбочки. Одна из книг больно стукнула её по лодыжке. Тем временем прерывистые хрипы сменились самым настоящим храпом. В кромешной темноте было невозможно определить источник этих звуков. Алена снова ринулась в сторону детской кроватки. Волосатое лежало на том же месте. В нос ударил запах нафталина. Она как можно выше занесла босую ногу над непонятным предметом. Её ступня проскользнула по твердой поверхности, сплошь покрытой жесткой щетиной, и коснулась пола. Рывком она подтянула вторую ногу. Еще один рывок, и Алёна с разбега больно ударилась животом о бортик детской кроватки. Пошарив дрожащей рукой по стене над кроваткой, она щелкнула выключателем. Анютка лежала в ворохе мокрых пеленок и щурилась от яркого света. Её промокшая насквозь подушка была сплошь усеяна мелкими творожистыми зернышками. Алёна схватила Анютку на руки, прижала её к груди и оглянулась.
Прямо посреди комнаты, устремив морду в потолок, лежало чучело оленьей головы. На одном из отростков ветвистых рогов болтался ценник: ООО «Семейные реликвии», 50 000 руб. Архип лежал там же, на полу. Он сладко спал, периодически всхрапывая. Вместо подушки он обеими руками обнимал щетинистую оленью грудь. Крепкий запах перегара свидетельствовал о том, что торг выдался нелёгким.
Алёна не могла сдвинуться с места. Она часто дышала, крепко прижимала к груди Анютку обеими руками, гладила ее по спинке, по пушистой головке и повторяла, как мантру:
— Всё хорошо, моя маленькая, всё хорошо. Мама здесь.
Потом она освободила одну руку, потянулась к детской карусельке и легонько толкнула её по часовой стрелке. Разноцветные медвежата закачались в такт тихой незамысловатой мелодии.

Босоножки
Это был первый приезд Кати в родной поселок за два года. После похорон матери она не появлялась в нашем тлеющем от лени захолустье. В Америке исследовала какие-то длиннословные вопросы каких-то прав человека. В Германии проводила международные конференции то ли для мужененавистниц, то ли для гринписа — наши разное талдычат. Ей совсем не хотелось возвращаться в дом, где зеркала все еще были завешаны. Но нужно было перхоть оградки засмолить.
Её привез автобус-астматик, что соединял нас в неделю раз с крикливой столицей. Вышла из салона на каблучках, в бирюзовой юбке со шлейфом. Магазины, скомканные возле площади, как насесты в курятнике, сразу же заморгали. Она отвернулась, когда дождавшиеся родители начали липко целовать своих детей-первокурсников. Выхватила в толкучке свой чемоданчик и легким циркульным шагом направилась к пустующей квартире.
Первые дни звонкая чечетка ее зеленых босоножек слышна была только возле «Багульника». Там она выщупывала среди заблудших апельсинов те, что покрепче. Любила шершавые яйца домашних кур с нежными пёрышками там и сям. И выпивала полбанки душисто-полынного молока прямо у прилавка. Через неделю бывший одноклассник, обрадовавшись, что есть кому рассказать рассольные истории его похождений, пригласил на день рождения.
Праздновали, как обычно, летом, на речке, у федералки. Растолкали обугленный, кисло-тугой мусор предыдущих попоек и завели свое костровище. Среди гостей молчал Алеша. Жилистый, с карамельным лицом и скромным взглядом, он походил на мрачного ослика. Поддерживал костер, посмеивался шуткам в свой адрес и следил, чтобы никто из бойких не начал драться. Его молчаливость показалась ей мудростью. Она казалась ему ведущей Муз-ТВ.
После гулкого дождя, который раньше времени прикрыл вечеринку, Катя выискивала твердые островки по дороге домой. Земля жвачно целовала ее ноги и грозилась увести туфельки в мягкий плен. Вдруг чьи-то руки обвили ее талию, и следующие дни Леша и Катя не расставались.
Последнее время Катю вертело в центрифуге одиночества. Катя думала, что, разбежавшись, продумав траекторию, она сможет выпорхнуть, но её только глубже засасывало. И вот когда Леша не по плану, без её усилий, сам обвил ее терпким, теплым одеялом своего тела, холодная стиральная железка вроде затрещала.
Как-то они возвращались с речки. Разомлевшие, в струйках воды с волос, до одури зацелованные, шли, сбивая одуванчики. Их окликнул местный жених-рецидивист, задира Колян.
— Ого, какие красивые. И смелые, а?
— Коля, здорово!
— Катюха, ты давно приехала?
— Привет, Коля. Нет, только две недели назад. Как у тебя дела?
— Да все зашибись. Никто не козёл! Ахахахаха.
Саднящий прищур его глаз заставил Катю второй рукой ухватиться за локоть Леши.
— О, такого я еще не слышала!
— Да, никто не дурак, никто не козёл! — Леша без смеха повторил присказку и убрал Катину руку с локтя.
— А ты, Попович, грёбаный счастливчик… На развод-то уже подал?
Слова вздёрнули Катю крючком за позвоночник. Желудок ушел к спине, улыбка вздрогнула, но не сдалась. Алеша едва взглянул на нее и почему-то облегченно ответил:
— Нет еще.
Катя силилась вздохнуть. Она пыталась выпрямиться, приструнить руки. У нее не получалось. Но она не выпускала дубовые глаза юмориста из виду. Тот ухмыльнулся и попросил дать сигарету. Леша послушно полез в карман и отдал едва начатую пачку. Затем ляпнул что-то про оставленные канистры бензина, и они зашагали в сторону квартиры.
Поселок всегда был похож на блюдце — любая упавшая ресничка обгладывалась растолстевшими продавщицами и камазистами. Или на лист бумаги — он громко помнил и тихо забывал. Здесь летом солнце слепило глаза. А осенью дождь превращал площади в громадный ливневый таз.
Сейчас сухая жара тошнила. Пират, хромавший за ними с самой речки, полоскал траву слюной. Воздух над придорожным тысячелистником жужжал. Хотелось вернуться к реке, с криком вбежать в ободряющую воду, юркнуть к самому дну и, пока есть силы, не всплывать в эту злую кухню.
Шли они долго, и пот от солнца вилял вдоль позвоночника. Катины босоножки попеременно застревали в колючем песке. А её взгляд отуплённо елозил по спине Леши.
— Давай сначала переоденемся в сухое!
— Ты её любишь?
— Тебе-то это зачем?
— Я думала, мы едем! Я же уже билеты заказала. Я же хотела…
Она яростно стягивала прилипший купальник, лямка отпружинила по груди, и Катя, зажмурившись, сложилась в кресло. Леша сел на край кровати и терпеливо ждал.
Мякиш пыли под тумбочкой гулял вслед за порханием сквозняка.
— Зачем я тебе, Катя?
— …
— Тебе со мной было хорошо?
— Да.
— Это главное. Сейчас уедешь, и будет еще…
— Так ты давно все решил?
Голос-гиена выдавал с потрохами. Катя едва взглянула на Лешу, но поняла, что не может остановить накатывающую дамбу слез. Она уложила мокрое лицо на колени, уставилась в пол. Голени начали покрываться гусиной кожей, ступни, все еще покрытые песком, стыли на бетонном полу.
— Как же можно без любви? Как вы тут все живете? Вас не любили, и вы не умеете…
— Главное, что нам с тобой было хорошо. Мне — очень! …Тебе надо остановиться и отдышаться.
— Хах, с дыхалкой у меня получше некоторых!
— Ты меня поняла…
— Что со мной не так?! Господи… Мама, почему мне так не везет?
— Успокойся, слышишь. Один месяц, и ты меня забудешь! Ну Катенька…
— Я люблю тебя! Я хочу вместе и счастливо жить в Берлине! Леша…
Она пыталась его поцеловать, но он отвел губы и ласково прижал её к груди. Через полчаса Катя успокоилась. Она вдруг одернулась от его горячих ребер. Встала, собрала сосульки волос в хвост и обернулась к Леше: «Пожарь картошки, а?» Потом они спали.
Через неделю, сбросив босоножки в прихожей своей съемной берлинской квартиры, Катя захлебнула аэрофлотовский йогурт и быстро облачилась в найки. Скорей в Тиргартен! Солнце жмурится между платанами. Белки гадают на росе. И ты бежишь, мысли пьянеют от влажного воздуха, новая надежда твердеет с каждым шагом.
А на циферблате далекого поселка всё оставалось по-прежнему. Ни подъемов, ни спусков, ни цвета, ни страсти — менялись лишь цифры и имена. Только Пират всё помнил, сторожил прибытие столичного автобуса и любил купаться с влюбленными на речке.

В аду
Пройдя земную жизнь до половины, великий поэт и итальянец Данте Алигьери очутился в городе-герое N, на ул. Силикатчиков, д. 25 в СИЗО № 3 по N-ской области.
Это произошло довольно неожиданно: спустившись в самые глубины ада и узрев трехголового Люцифера, вмёрзшего во льды, Данте, несмотря на предостережения Вергилия и призывы уважать личное пространство темного князя, подошёл слишком близко и ступил на лед. Лёд захрустел, затрещал, Данте зажмурился и окончательно попрощался с жизнью. Но не упал — слегка провалился, разве что по лодыжки.
Открыв глаза, Данте не увидел перед собой привычной адской обстановки. Впереди возвышалась кирпичная стена с зелёными проплешинами и кокошником колючей проволоки. К стене жались испуганные грешники в куцых телогрейках, а над их головами летали и курлыкали тупые жирные голуби. Данте посмотрел под ноги — они вязли и коченели в серой снежной каше, смешанной с землёй. В каше плавали две прошлогодние травинки.
Вдруг пред Данте выросло нечто огромное, трехголовое, трясущее шестью багровыми щеками. Оно рявкнуло: «Стоять!» — распалось на три равномерные болотно-зеленые части и окружило Данте.
«Ну, здорово, — сказал один из них, а другие играючи заломили за спину руки. — Из какого блока? Фамилия? Имя?»
Если бы Данте понимал язык окруживших его бойцов, он бы смог им сообщить, что он, Данте Алигьери с местом регистрации в городе Флоренции, совершенно случайно оказался на территории СИЗО № 3, и попросил бы связаться с близкими родственниками или на худой конец с Вергилием. Но Данте был вынужден молчать.
— Нерусский, — авторитетно заявил первый.
— Антох, а он вообще наш? — засомневался здоровяк, заломивший Данте руку с левой стороны. — Эти вон вроде его не узнают. И че он в халате?
— Ну конечно, наш, откуда ему ещё взяться, все охраняется, день неприемный. Надо пойти узнать, что это за хрен и куда его вернуть. — Тут Антоха запнулся и задумчиво почесал затылок под фуражкой. — В наше дежурство, блин, перед мартовскими, если начальство сейчас пойти опрашивать, а потом еще Павлу Семеновичу сообщат…
Продолжая чесать затылок, Антоха поболтал ногой в заиндевевшей луже, наблюдая, как на плаще Данте проявляются грязевые подтеки.
— Мужики, вы как хотите, а я домой. А то меня Дашка убьет.
— Антох, а мне отчет по табельному еще писать.
— Блин, а я?.. — Но напарники Антохи уже пятились, не оставляя ему путей отступления от ответственности.
— Ты сходи к Алле Санне, у нее все тут по номерам, как-нибудь разберетесь.
Антоха поволок Данте в сторону бесформенного здания, обросшего, как древесными грибами, кирпичными и деревянными пристройками, по узловатым коридорам, сквозь загадочные двери с табличками «Посторонним не входить», сквозь решетки, пункты досмотра и металлоискатели, и всю дорогу Данте оглушали бесконечный лязг отпирающихся и запирающихся железных замков, визг сигнализаций, ритмичная ругань Антохи и топот его армейский ботинок.
У одной неровно выкрашенной двери Антоха остановился, постучал и сразу вошел.
— Алла Санна, можно?
Из-за спины Антохи глазам Данте открывался кабинет со стенами цвета сырого куриного мяса и профиль женщины с внушительной грудью, безоговорочно переходящей в живот. Женщина печатала размашисто, высоко поднимая пальцы и выжимая на клавиатуре forte.
— Алла Санна, это… ну… надо определить…
Алла Санна безучастно оглядела Данте и Антоху из-под склеившихся ресниц.
— Мне некогда.
— Но у вас когда минутка появится, вы посмотрите, а то я, это, мне сейчас 120 км до дома, жене цветы еще покупать, дочке что-то, конфеты там…
— Никаких минуток. — Но когда Алла Санна повернулась снова, чтобы испепелить взглядом Антоху, тот уже исчез за дверью, оставив после себя облачко аромата старых жигулей. Посреди кабинета остался сиротливо стоять Данте. Его грустный и растерянный вид напомнил Алле Санне о ее муже — хилом, кадыкастом мужичке, который ждал ее дома, мучаясь жаждой в темнице своего зашитого организма.
Алла Санна вжала красным ногтем четыре кнопки телефона.
— Челкин? — рявкнула она. — Я сейчас к тебе конвоирую одного. Разберись. — Не выслушав ответа, Алла Санна бросила трубку. — Ну, смотри, — прошипела она Данте, — доиграешься, дойдет все это до Павла Семеновича!
Старший лейтенант Челкин тоже не был рад Данте. Посматривая для порядка в бумаги, он задумчиво ковырял пальцем поролоновую нору под правой ляжкой.
«Почему я? Почему я должен с этим разбираться? Потому что меня жена выгнала и мне некому бежать цветы на 8 Марта покупать? Ох, ты ж…»
Он принял суровый вид и по-чекистски устрашающе глянул на Данте.
«Ладно, соберись. Что тут у нас? Мужик, лет сорок, какого хрена он в халате? Шапка какая-то, лыжная, что ли? Ветки на башке. Из ТЮЗа сбежал?» — Озвучивать свои догадки Челкин не стал:
— Так, улыбочки отставить. Не в цирке. Это СИЗО. Исполнительная власть! Быстро ответил: из какого блока? Номер дела? Статья? Фамилия?
Данте и рад был бы сказать, но сказать ему было нечего.
«Ах ты, ну молчи, ладно. Так. Вон у тебя какой нос. Может, ты грузин?» Но в списке «пресеченных» не было ни одной грузинской фамилии.
«Да чтоб тебя! — мысленно выругался старший лейтенант Челкин — Расстановка, конечно, хуже не придумаешь — на охраняемом объекте бац — и мужик с носом, не разговаривает, откуда взялся неясно, никто его не узнает. Вдруг он маньяк или насильник? Или бомж? Может, его разговорить? Хотя вот я его разговорю, а журналисты пронюхают и напишут. Вон Серегу так прополоскали, теперь охранник в гастрономе. А всего лишь дубинкой по пяткам пару раз чурке какому-то. У этого ещё нос поломан — скажет потом, что я сломал. Зыркает так. Живот от тебя крутит! А что я скажу, если узнает Павел Семёнович? Да, Павел Семёнович, у нас тут неучтённый уголовник. Может, и не уголовник. Я вообще не знаю, кто это. Нет, а может, это серьёзный человек? Может, он за взятку? Или вор в законе? Господи, мне тогда Павел Семёнович оторвёт башку».
От этих мыслей душа старшего лейтенанта Челкина съёживалась в тлеющий окурочек. Он, конечно, мог бы для начала разобраться: пройтись по блокам, опросить конвой, задержанных, камеры наблюдения посмотреть. Он мог бы многое, старший лейтенант Челкин. Но почему вообще он? У него сегодня последний день смены, впереди четыре выходных. Почему он должен позориться перед Павлом Семеновичем или таскаться за всеми хвостом, чтобы узнать, откуда в СИЗО мужик в халате?
Челкин откинулся на потертую спинку стула и закрыл глаза. Данте, ежась от холода, беспокойно наблюдал за решалой своей судьбы. Поддувал в окно сырой мартовский ветер, взъерошивая и грозясь унести пожухлые листы уголовных дел. Тикали настенные часы. Рабочий день старшего лейтенанта Челкина заканчивался через три часа. Что может за три часа сделать простой смертный? Да ничего. От этой нехитрой мысли по его телу разлилось приятное тепло.
— Эй, Никитос!
В дверь, пожевывая, протиснулся конвойный Никитос.
— Отведи его куда-нибудь, где пустые нары есть. После праздников Чумаченко разберётся.
Никитос потащил Данте по двору к кособоким баракам. Вдруг началась какая-то суета: забегали, натягивая шапки, конвойные, вывалились из здания несколько старших по званию с серьёзными помятыми лицами. С завыванием начали отъезжать ворота, из-за которых показалась сначала одна, а потом и вторая пучеглазая фара бронированного УАЗика.
— Привезли… — пробормотал Никитос. — А ну, быстрее пошёл! Затормозим — меня сейчас приплетут.
Он с силой рванул Данте за руку, от неожиданности тот потерял равновесие и упал в серый снег.
Очнувшись, Данте увидел перед собой взволнованное лицо Вергилия и ощутил под ногами все-таки довольно надёжный, твёрдый и чистый лёд адского дна. Косматая красноглазая голова Люцифера над ним жевала то ли Иуду, то ли Брута.
«Слава богу, что это все хотя бы не дошло до Павла Семеновича», — подумал Данте. Но записать не решился.

Вечеринка с карликами
«Видала я карликов и побольше! Ты, что ли, Явен? Давай на сцену: ребята ждут». — Пока тетя Надя водила шваброй, я не поднимал ног. При росте 130 см так и сидел на стуле куклой. Вглядывался в зеркало в гримерке: как я тут очутился? Кроме ботинок (я носил взрослый, 39-й), все в прежней жизни казалось незначительным. Меня не замечали, а заметив — боялись встретиться со мной взглядом.
Я родился первого апреля, и каждый год в этот день мама зарубками на двери в кухню обозначала мой рост — а от отца особенно сильно несло водкой. Царапинки на косяке жались друг к другу, и я после куска торта с розочкой прятался в шкафу. Но и там меня догоняли крики «ублюдок», «лилипута родила», удары отцовских тапок по полу в кухне, гулкий шлеп и «не надо, Паша» — мамин плач. Полоска света падала на мои ладони: ими не то, что маму уберечь, уши-то толком не закрыть. После вспышки отец метался по квартире, дымил сигаретой, гвоздил дверьми (кухонной особо доставалось), уходил, пропадал. А мама, прикрывая багровую щеку, выпускала меня из шкафа, сгребала в охапку, укачивала.
Кажется, классе в шестом отец вовсе ушел от нас.
В школе учителя отводили глаза профессионально, педагогично. Цеплялись взглядом за мою не по возрасту (и не по фигуре) огромную голову и тут же звали на лобное место моего соседа по парте, иногда — соседку. Мало-помалу садиться близ моей головы всем расхотелось, и меня задвинули в дальний угол, под монстеру в кадке. Там я был вроде декорации: гном под деревом.
От физкультуры меня освободили педсоветом, а на «труды» — определили к девочкам. Мы много шили, и стежки у меня были ровные, но никто не подходил взглянуть. За дребезжащей швейной машинкой меня не видно — и слава богу.
После школы, когда одноклассники разлетелись по институтам, мама пристроила меня в будку ремонта обуви у метро. Работа — самое то. Моя взрослая голова торчала в окошке: все остальное скрывалось в тени, пряталось за ящиком с подметками, растворялось во тьме и парах гуталина. Впрочем, клиенты не принюхивались. И на меня не смотрели. Протянут в окно ботинок: «Вот каблук что-то… Нужны срочно, это любимые, вы понимаете».
Иногда за «любимыми» не возвращались. Одна пара поселилась в будке еще до меня. Эти сапоги видели мир с высоты 30 см. Когда не было клиентов, я воображал всякое. Например, как сапоги обсуждают общую знакомую — хозяйку.
— Она косолапила так, что я боком по асфальту чиркал.
— Косолапила! На меня ей было вообще плевать. Увидит пару мужских ботинок, плюнет мне на нос и давай о твою спину меня тереть. Помнишь? А потом тащит нас, как проклятых, мимо этих ботинок, еще эдак ступню выворачивает, чтоб мы по струнке. Сколько раз думал: шею себе сверну!
Эту пару я протирал мягкой тряпкой. Даже прощался с ними по вечерам.
Сапожные байки я заносил в пухлый дневник, что завел после ухода отца. Там уживались и мысли, и слезы, и шутки про карликов. Шутки, что мне говорили всерьез: «Халва? Да, есть: там, на верхней полке». Или «Ну что вы, обижать маленьких, я выше этого». Те, что посовестливее, спохватывались и: «Хм, извините», — куда-то в сторону.
В то лето сапоги часто спорили, а маму положили в больницу с диабетом. Она ничего не просила, но еда там была клейкая, зеленоватая, лекарства не сбивали сахар. Как назло, мне платили с выручки, а клиенты в будку заглядывали все реже. Обувь стала лучше или люди решили меньше двигаться — не знаю. Только будку закрыли, меня — уволили.
Я шел домой днем, под обстрелом придушенных смешков. Сердце колотилось, отдышался уже в подъезде: герани над почтовыми ящиками, лавка, бесплатные газеты кучей. На развороте объявление «Вечеринки с карликами: приглашаем актеров ростом до 130 см. Оплата почасовая». На фото — малый в рыцарском одеянии. Испуганный, как зверь в зоопарке. Меня замутило от мысли выставлять себя напоказ, но страх и стыд отступали перед запахом больницы и инсулиновыми синяками на маминых руках.
На «вечеринку» меня взяли: женщина с карандашом за ухом принесла камзол цвета тины, приложила ко мне. Говорит: «Надо сегодня вот в этом посидеть часа полтора, у меня актер заболел. Сиди на троне — улыбайся, у них там девичник, пофоткаются с тобой, напьются, уедут в караоке. Нормально отсидишь — возьму в штат. У нас карликов не хватает: приходят мужики — просто мелкие, сразу видно. А этим, на праздниках, подавай настоящего гнома. Ой, ты не обиделся?»
За двадцать лет я разучился обижаться.
В пустое кафе девицы явились навеселе. Бесконечные каблуки, платья в облипку, грудь навыкате. Они прижимались к моей щеке и щелкали телефонами, надувая на камеру губы. Меня душил аромат перезрелых яблок, но отодвинуть девушку, да еще короткопалой шершавой рукой, я не мог.
Пока меня слепили вспышки, две девицы сцепились в углу. Держа друг друга за волосы, верещали про парня, который вроде встречался с обеими. Смотреть на драку с трона, где я восседал чучелом, было невыносимо. Шепчу: «Не надо, пожалуйста», — но куда мне против девичьего визга? Будто снова очутился в шкафу, шерсть пальто щекочет ухо, тянет лавандой от моли. Хлопает кухонная дверь, пьяный голос, зная, что я слышу, ревет «ли-ли-пут». Будто я и правда дрянь, декорация, вещь, которую можно не забирать из ремонта.
Сам не знаю, как влез на трон с ногами и подпрыгнул с криком: «Посмотрите на меня!» Те, что дрались, остыли. Невеста еще водой в них плеснула. Десять пар глаз застряли на мне. Вспомнилась умора про двух карликов, скачущих вдоль барной стойки. Один подпрыгивал и требовал пива, а второй, с другой стороны «баррикады», вопил в прыжке: «Какого вам? Темного? Светлого?» Я сыграл ее в лицах.
Хохот.
Пока прыгал, свет освещал все мое тело. Лицо шло горячими пятнами, но в шкаф я вернуться не мог. Не сейчас. Впервые в жизни люди смеялись над тем, что я говорил и что делал. А не над ошибкой природы в штанах вдвое короче положенного.
Вскоре подруги засобирались в караоке. Те, что дрались, оправляли друг другу платья.
Тогда я и решил стать стендапером. И больше никогда не влезать ни в шкаф, ни в камзол. Баек в дневнике — на сотню девичников с драками. Выговориться, еще раз поймать свое отражение в чужих глазах. Ведь я и в зеркало-то со школы не смотрелся.
Ходил на открытые микрофоны. Когда не брали — выступал в забегаловке, где меня ставили на барный стул. Я рассказывал про жизнь с высоты 130 см. Это как перегородка вашего балкона: вам по пояс, мне — по шею. Вид другой, но глаза у меня такие же.
Мне не платили, но перепадали чаевые: маме на лекарства и еду хватало. Я пока не говорил ей, что будка закрылась, и ее сын теперь Явен, стендапер, переписавший карлика Веню. Человек, от которого уже не отводят взгляд.
Через год после «вечеринки с карликами» позвали в ТВ-шоу. Прослушали, попрыскали смехом, выделили гримерку с зеркалом в четырнадцать желтых лампочек. В их свете я и разглядывал себя, когда тетя Надя сделала пируэт шваброй, скрипнула дверью на прощанье. Достал носовой платок, вытер лоб, руки. В луче софита микрофон протер первым делом. Знаете, сцена уравнивает: даже большие стендаперы держат микрофон потными руками.

Вскользь
— Привет.
К тому времени я успел щелкнуть чайником и кипятка себе в чашку плеснуть. Словом, и думать не думал, что в крохотной, обжитой мышами и забытой Богом мансарде есть хоть кто-то, кроме меня.
— Привет, — сказала она.
И дурацкая белая чашка выскочила из рук, ударилась об пол, раскололась на две ровные части. Я чертыхнулся, горячее потекло к ногам, носки промокли. Но мне было не до этого, я уже повернулся к окну. К ней, то есть.
Она сидела на подоконнике — колени к подбородку, веточки рук у щиколоток, а светлые до прозрачности глаза блестели в полутьме. Этот немного рассеянный взгляд скользил по мне, но никак не мог остановиться. Будто меня на самом деле и не было. Не стояло тут, не дышало. Будто она смотрела сквозь.
— Привет, — повторила еще раз. — Ты чашку разбил?
Я кивнул.
— Это к счастью, — тихонько выдохнула она и отвернулась.
Вот так просто. Ни испуга тебе, ни смущения. Только взметнулись волосы, легкие, как тополиный пух. Помню, решил, что она — сумасшедшая родственница. Батя так легко всучил мне ключи от старой мансарды, что стоило заподозрить подвох. И пока в моей квартире обживалась громогласная немецкая пара — кровь с молоком, Fan-ID и предвкушение победы, я перебрался на чердак.
К появлению незваных гостей ни я, ни мансарда готовы не были. Она поросла паутиной, присыпалась пылью, заплесневела по углам. Я, собственно, тоже. Но гостью это не волновало. Она продолжала смотреть в окно, за ним сгущались сумерки, пахло горячим асфальтом, липой и немного грозой. Мне же оставалось только стянуть носки и отправиться на поиски новых. Воровато, будто это не она, а я завалился без спросу. Пока искал, запнулся, и впечатался мизинцем в ножку стула.
— Твою же мать!
Она даже не шелохнулась. Но за окном зашелестели крылья и закурлыкало многоголосое, недовольное. Я глазам не поверил. На уличном подоконнике толпились голуби. Сизые, серые, с белыми пятнами, пыльные, выпачканные в грязи, упитанные и тощие, искалеченные и совсем еще целые.
— Красивые, правда? — спросила она.
Улыбка ее изменила. Ямочки округлили щеки, заблестели глаза, рассеянность сменилась приязнью. Но посмотрела она строго.
— Я — Сеня, а ты?
Ну кто так сейчас знакомится?
— Дима.
— Ди-ма, — протянула она, помолчала, прислушиваясь. — Хорошо.
И высыпала на подоконник пригоршню пшена. Голуби застучали когтями по жести, закурлыкали, заспешили. Сеня смотрела на них, чуть наклонив голову. Про меня она снова забыла. Я еще немного потоптался рядом и пошел искать новую кружку.
…Странное было времечко. Целый день я таскался по центру. Привозил и увозил, подбрасывал, тащил, доставлял и транспортировал. С Никольской на Никольскую. Из центра в центр. По душным пробкам, спальным районам, пригороду и городу. Когда последний болельщик выкатывался из салона, ночь уже стрекотала цикадами в предвкушении рассвета. Я давил на газ и мчался к дому. А там шесть пролетов без лифта и лесенка, такая низкая, что приходилось наклоняться.
Чем ближе я был, тем быстрее стучало сердце. Та-та-та. Та-та-та. Сеня. Сенечка. Милая девочка — хрупкие косточки, кто ты? Откуда? Ни слова об этом, ни звука.
И как прогнать ее, если сидит себе тихонько, сыплет с чердачного окна пшено? Ладони в мучной пыли. Вопросы роились в голове, сталкивались, порождали новые. Кто ты? Кто родители? Сколько лет? Где живешь? Должны же быть ответы, простые и логичные. Год, город, адрес, индекс. А у нее только имя — Сеня. Ксения? Арсения? Есения? Надо было спросить. Но ни о чем не спрашивал. Чуял, что нет в ней простых ответов. Все вполоборота, шепотом, вскользь.
О чем вообще мы говорили? О небе, кажется.
— Если оно высокое, то жить хочется, когда тучи – тревожно.
О людях еще.
— Они только думают, что важные, а на деле, пустые.
О голубях ее.
— Посмотри, Дим, неприкаянные какие, красивые…
И ведь я смотрел! На голубей этих. Удивлялся, мол, ночь же, спать должны. Смотрел на них, на нее не смотрел. А потом не выдержал.
Помню, голуби тут же взлетели. Зашуршали перьями, застучали когтями и перестали существовать. Все перестало. Только Сеня. Сенечка. Ссадина на правом локте зажившая, белый шрамик над бровью, запах свежей простыни, вкус липового меда, разведенного в молоке. Она оттолкнула меня, вытерла губы — резко, зло.
— Не смей, — сказала. — Не смей так.
Я зачастил, как из пулемета, мол, скоро съезжать, у меня квартира своя, не в центре, но ничего, жить можно, с балконом! Будет где голубей кормить. Там ведь тоже голуби. Сеня. Ты не бойся, мне ничего от тебя не надо. Это я по глупости. Не буду так больше. Поехали со мной. Ну что ты тут, в пыли этой? Поехали! Сеня! Послушай меня. Сенечка…
Но ее уже не было. Пустой взгляд скользнул по мне равнодушно, без узнавания. Пропали ямочки, погасли прозрачные глаза. Она перекинула ноги через окошко, отвернулась.
Я долго звал ее. Умолял, уговаривал. Надо было, наверное, обнять. Не фарфоровая же, живая. Чай без сахара пьет, а вот лимон, да, лимон можно. Любит вчерашние булочки с сыром. Шевелит пальцами ног, когда замерзла. Щекотки боится. На ощупь — теплая. Надо было обнять. Дурак. Испугался. Ушел в свой угол и тут же уснул. Обычно она приходила. Дремала беззвучно, почти не дыша. Я просыпался и смотрел, как раннее солнце подсвечивает мягкий пушок на ее щеке. Не в этот раз.
Я с трудом разлепил глаза, оторвал голову от подушки. Было вязко и душно. Ломило шею. Сеня сидела ко мне спиной — все позвонки в пересчет. За ночь она истончилась, стала почти прозрачной. Нездешней. И уж точно не моей.
— Сеня, — позвал я.
Из пересохшего горла вырвался только хрип. Она услышала. Посмотрела на меня печально. С легкой такой грустинкой. У меня даже в сердце кольнуло — простила! Но тут Сеня оттолкнулась от подоконника и взлетела.
Нет, я понимаю, конечно, что упала. Все-таки шесть пролетов, лесенка на чердак. Но я ведь вскочил, побежал к окну, посмотрел вниз. Тела не было. Тонкокостного ее, прозрачного почти. Ничего не было. Только мокрый асфальт и кусты черемухи.
Зато над крышами в бесконечной сини просыпающегося дня летели они — сизые, серые, с белыми пятнами, пыльные, выпачканные в грязи, упитанные и тощие, искалеченные и еще совсем целые. Голуби.
Сенины голуби.
Сеня.

Глаз Давида
«Идея бренда — порадуй своих близких». — Аня заканчивала бриф для агентства. Марку ингредиентов для выпечки придумал ещё Сан Саныч пятнадцать лет назад, когда был бренд-менеджером, как Аня сейчас. Какое счастье, когда у тебя такой наставник…
— Как дела, Ань? — Звучный голос отвлек её от размышлений.
— А, Алексей Сергеич, привет!
Ещё два месяца назад Алексей Сергеич был просто Лёхой. Но после назначения коммерческим директором он серьёзно взялся за свой имидж. Сегодня он был в костюме и галстуке — вечером было запланировано собрание с акционерами.
— У меня к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
— Да ну! Слушаю, давай.
— Не здесь. Ты на обед пойдёшь?
— В полпервого, как всегда.
— Отлично. Встретимся в кафетерии.
Он попытался похлопать Аню по плечу, но она отстранилась, и Лёхина запонка задела вазу на столе. Аня поморщилась от резкого звука.
— Цветы? У тебя день рождения?
— Вчера был.
— А, поздравляю. Ну, до встречи.
Какое у него может быть предложение для неё, интересно? А впрочем, ладно. Аня со вздохом облегчения вернулась к работе. Однако сконцентрироваться сегодня, видимо, было не суждено.
— Анька, с прошедшим! — Игорь из рекламного отдела, румяный и круглый, с разбегу схватил её в охапку. Ане показалось, что от него пахнет плюшками.
— Вот, это тебе. — Рука в разноцветных пушистых фенечках протянула какую-то бумагу.
— Сертификат в школу рисования? Игорёк, ты серьезно? Я ведь не художник, от слова «совсем».
— Ерунда. Занятия, правда, уже начались, но ты способная, догонишь.
— Кудряшов! Ты когда макет сдашь? Сегодня дедлайн! — Катя, начальница рекламного, высунулась из-за перегородки.
— Бегу! — Игорёк изобразил испуг и нарочито бодро покатился к своему столу, продолжая на ходу сыпать шуточками: «Казимир, выставка через пять минут! — Щас всё будет!»
В кафетерии Лёха степенно приземлился за Анин столик.
— Сегодня на совещании с акционерами я представлю нового директора департамента маркетинга.
— А Сан Саныч? — Аня чуть не поперхнулась.
— Ему на пенсию уже пора. Нужен кто-то помоложе, с энергией, харизмой… И способный к диалогу, а не чтоб упрямился все время.
— Вообще-то, это называется принципиальностью…
— Кому нужны его принципы… Поезд Сан Саныча уже ушёл. Это и собственники понимают. Ты мне вот что скажи. Ты готова занять эту должность?
— Я? Вместо Сан Саныча? Да я работаю всего третий год!
— Ну и что? Будешь дружить с нужными людьми — все получится! Короче, совещание сегодня после работы, в девятнадцать ноль-ноль. Я тебя представлю. Будь готова! Всё, мне пора. — Лёха направился к выходу.
До конца рабочего дня Аня прокручивала в голове услышанное. Конечно, занять такую должность в ее возрасте было просто фантастикой. Но Сан Саныч… Аня бросила взгляд в сторону кабинета своего начальника. Как будто что-то почувствовав, он посмотрел прямо на неё из-за толстых стекол очков, и Ане стало неловко. С другой стороны, если решение уже принято… Глупо будет отказываться. А что Сан Саныч? Хороший человек — это не профессия, вспомнилась ей фраза из старого фильма.
Работа не клеилась, и Аня с трудом досидела до пяти вечера. Сотрудники понемногу начали расходиться, а ей нужно было скоротать еще два часа до начала совещания. Голоса коллег начали сливаться в монотонный неразборчивый гул, все вокруг будто бы скрылось за тягучей дымкой… Чтобы вырваться из морока, Ане захотелось совершить что-то дурацкое и нелогичное. А, вот же, Игорёхин подарок! Ну да, эта школа совсем рядом, схожу, а что? В любое время ведь можно уйти. Аня задорно тряхнула головой и стала собирать сумку.
Она быстро нашла нужный адрес: второй этаж соседнего здания. Дверь в школу рисования была открыта. Из-за неё доносился стук передвигаемых мольбертов и негромкие голоса. Пахло старым деревом и ещё чем-то знакомым, Аня вспомнила, как родители делали ремонт на даче, когда она была совсем маленькой. Она медленно подошла к двери.
— Ну что же вы, заходите, не бойтесь! — помахала ей розовощекая девушка на ресепшене. У нас все сначала не решаются, а потом такие картины пишут! Вот, смотрите, я нарисовала. — Она гордо продемонстрировала портрет упитанного молодого человека в цилиндре. — Это мой муж, мы в Болдино ездили. Меня Люба зовут. Проходите в студию.
Аня закрепила на мольберте бумагу кнопками, которые всё норовили выскользнуть и закатиться под соседний стул, взяла карандаши и ластик. Бумага на ощупь казалась рельефной и шероховатой, а если смотреть на свет, то на поверхности были видны едва заметные ворсинки и прожилки. Аня подумала, что бумага может впитать любые мысли и чувства. Если, конечно, суметь их передать.
Учителя звали Артём Иванович. Он поставил на стол перед учениками фрагмент гипсовой скульптуры — сегодня будем рисовать человеческий глаз. Чтобы правильно его изобразить, нужно знать устройство глаза, поэтому сначала мы рисуем шар.
Аня провела линию карандашом, стерла. Провела новую, стерла опять.
— Смелее, — подбодрил её Артём Иванович, — двойку вам не поставят.
Аня не заметила, в какой момент перестала волноваться о том, что у нее не получится. Она с удовольствием водила карандашом по бумаге и думала о том, как прекрасно и сложно устроен человек. Учитель тем временем рассказывал о том, что гипсовый фрагмент на столе — копия части знаменитого шедевра Микеланджело. Оказывается, «Давид» признан эталоном красоты и гармонии, и элементы скульптуры служат учебным пособием для начинающих художников всего мира.
Аня улыбнулась, услышав слово «художник» в свой адрес. На душе было спокойно и легко, хотелось продолжать рисовать и ни о чем не думать. На мгновение возникло какое-то беспокойство, словно вспомнилось о чем-то неприятном, но Аня отогнала эту мысль и засмеялась тихим счастливым смехом.
Занятие закончилось в восемь. Аня неохотно свернула свою работу и положила её на стеллаж. Ничего, можно будет закончить в следующий раз.
На улице было уже темно, и луна показалась Ане чьим-то весёлым глазом, подмигивающим сквозь плывущие облака. Аня подмигнула в ответ, поправила ремешок сумки и зашагала к метро.

Девочки
Когда Катюня Уткина пошла в школу, бабушка Маша начала готовить ей особенный полдник — подогретый кефир со смятым в кашицу бананом. По телевизору в одной религиозно-психотической передаче рассказали, что именно это блюдо необходимо растущему организму младшего школьника. Есть его было решительно невозможно, но Катюня бабушку очень любила и со стойкостью, свойственной редкому первокласснику, расправлялась с теплой кислятиной. Спасение пришло неожиданно. На уроке пения Анфиса Георгиевна объявила, что в музыкальной школе неподалеку открылся класс домры, и Катюня, ранее не выражавшая никаких склонностей к музицированию, сообразила, что у неё есть возможность хотя бы на три дня в неделю избавиться от ненавистного «кефирчика». Бабушка удивилась, но сопротивляться не стала — Катюня была послушной и рассудительной, да и учиться в музыкалке ей, как круглой сироте, было почти бесплатно. Уроки игры на экзотическом инструменте проходили после уроков общеобразовательных — Катюня обедала в школьной столовой, неслась в музыкалку, благополучно минуя полдник, и возвращалась домой к ужину.
Варюша Зеленцова испытывала похожие чувства к томатному соку. Густым, солоноватым, кирпично-красным пойлом детсадовцев потчевали три раза в неделю, и Варюша с болью и отвагой поглощала его, применяя разные по эффективности методики. В первые разы она одним махом опрастывала граненый стакан, и чуткие воспитатели, видя, как сильно ребенку нравится напиток, по доброте душевной подливали ей ещё порцию — «пей-пей, Варечка!». Следующим способом стало дождаться момента, когда остальные дети свой сок допьют, и попытаться улизнуть, не сделав ни глоточка, но такое ни разу не удалось, и Варюша была вынуждена давиться томатной мерзостью под мрачным взглядом нянечки. Наконец девочка нашла решение: выяснила у коллег по группе, кто из них наиболее пристрастен к отвратительной жидкости, и, подсаживаясь в столовой к очередному любителю сока, аккуратно переливала ему в стакан пахучие капли. Варя была быстра и тиха, никто ничего не замечал.
Катюня выучилась на рекламщика, Варюша — на социолога. В университете они и познакомились. Катюня поступила на бюджетное место как отличница и льготница, Варя штурмовала факультет три года подряд, и наконец у неё получилось — в тот год абитуриентами были дети пика демографической зимы, и конкурс уменьшился.
Первого сентября жужжащую ораву первокурсников — весь разношерстный поток гуманитарного факультета, на котором учились девочки, — загнали в огромную аудиторию на страннейшую лекцию по физкультуре. Всю пару Варя крутилась волчком, жадно разглядывая Катю: тициановые волосы, теплые зелено-карие глаза, слегка увеличенные острые клыки. На перемене нашла предлог, чтобы спросить имя, и получив ответ, заявила: «Нет, не Катя. Катяра!». Новокрещеная Катяра опешила, осмотрела юркую собеседницу, её оленьи глаза, рот сердечком, мальчишечью стрижку, остановилась на нежно-розовых, маленьких, полукруглых, оттопыренных ушах и прищурилась: «Как скажешь, Вареник!» Новые имена прилипли накрепко, как и девочки друг к другу.
На пятом курсе, во время преддипломной практики, тихо умерла бабушка Маша. Катя тяжело переживала утрату и попросила Вареника переехать к ней, хотя бы на время. В первую ночь Варя проснулась от всхлипываний подруги, та ревела и бормотала «Бабуля, налей кефирчику… бабуля, я хочу бананчик…» Растревоженная, Варя помчалась в магазин за желаемыми Катей продуктами, разбудила её по возвращении и попыталась угостить. Катяра разрыдалась ещё сильнее, потом расхохоталась до колик, снова зашлась в слезах и наконец всё объяснила уже ничего не понимающему Варенику. Та в ответ поделилась историей про томатный сок. Катя таинственно сказала «Подожди», и удалилась на кухню. Вернулась с огромной банкой, наполненной багряной влагой, и протянула Варе знакомый граненый стакан. Через неопределенное время, облитые кефиром и томатным соком, перемазанные бананом, зареванные и счастливые, девочки нашли себя в ванной, аккуратно помогающими друг другу отмыться. На следующий день Варя перевезла свои скромные пожитки в квартиру Катяры.
Никто из Катиной родни не нуждался в объяснениях, почему их фигуристая красавица живет со странной жадноглазой девушкой — никого уже не было в живых. Никто не искал в спешке подходящего жениха, хорошего мальчика, и никто не просил сладких щекастых внуков. С Вариными близкими было сложнее. Единственный ребенок в семье, поздний, тяжело и душно любимый — Варя с детства была закрытой и упорной, запрещала наряжать себя в юбочки и платьица и крутить локоны, всё отрочество проносилась бессловесно мимо кухни и гостиной растрепанным черным галчонком сразу в свою комнату, запиралась на шпингалет, и никто не знал, о чем там думает, что строчит в дневничке и любит ли усталых родителей хоть капельку. От помощи с поступлением в университет решительно отказалась, втемяшился ей этот социологический. Ведь можно было и в медицинский, и на юридический… А на пятом курсе скомкала свои джинсы и дурацкую шапку в рюкзачок, перевязала книжки тесемкой и укатила на хлипком мопеде из четырехкомнатной, с высокими потолками, в жуткие эти трущобы-хрущобы, и живет там с какой-то девочкой-сироткой, странные они, ей-богу. Нет, ну что-то надо делать с ними, куда же уже.
Катина кошачья любовь обволакивала иглокожего Вареника. Таяла-таяла под влажным туманным взглядом, оттаивала, роняла колючки. Катя очень хотела познакомиться с Вариными родителями, и подружиться, и налюбоваться на людей, которые родили и воспитали её любимую. Варя сдалась, позвонила, и весенним воскресеньем, через год после той томатно-кефирной ночи, девушки приехали к Зеленцовым на обед, на который родители приготовили бомбу в обличье статного, розовощёкого, ясноглазого, улыбчивого Егора, через 33 колена племянника, приехал вот из Новосибирска, где закончил инженерный, а сейчас сидит и ест с таким аппетитом, что у Кати дрожат круглые коленки, а Варя смотрит на родителей сталью и не понимает, что здесь делает этот торжествующий крестьянин и как они не видят, какая она у меня золотая-медовая-карамельная, вся из солнца…
Почему так душно, Варечка? Утекла твоя Катяра сквозь пальцы, уплыла за сочно-молочным инженером. Оставила только рыжую шерсть повсюду и миску с кормом недоеденным, кошачья душа. Упорхнула блестящей стрекозой — муравей ей нужен работящий, доченька, а не ты, мотылек-лепесток. Ты же рада, что снова дома, в своей комнате, смотри, какое солнце игривое. Просыпайся, скоро Фёдор Геннадьевич придёт, посмотрит тебя, ванны пропишет с пустырником и душ циркулярный. Скоро лето, в Израиль поедем. На Мертвое море. Вылечим твои царапины.

Диалоги о рыбалке
Причина Диминого визита в этот врачебный кабинет висела сейчас на стене прямо перед ним. Точнее, не сама причина, а её фотография: пятикилограммовая опухоль, которую местный доктор вытащил из головы такого же бедолаги, как и Дима. Об этом кричали из каждого утюга, и даже Дима, которому предыдущий врач запретил слушать радио больше часа в день и тем более смотреть телевизор, был в курсе.
Но Маша схватилась за этот шанс зубами и почти в этих же зубах притащила мужа на приём.
Дима с подозрением наблюдал, как вокруг него с непроницаемыми лицами суетятся медсёстры в белых халатах. Маше всё-таки удалось поймать его на живца, обещая возможность часок посмотреть телевизор, и затащить на приём к светилу. Небольшой шрам на лице чесался в свете яркой лампы, но Дмитрий сжал зубы и не шевелился — заканчивался осмотр.
Свет в кабинете слепил Диму, привыкшего за несколько лет к полутёмной квартире. Его, как глубоководного морского чёрта, раздражали яркие лампы, свежий запах лаванды, которым надушили, кажется, всю дорогую клинику. Ему был привычнее лёгкий запах хлорки, которой раз в неделю дезинфицировала полы Маша.
Да и многие медсёстры, которые брали у него анализы, готовили документы и сопровождали на МРТ, выглядели как топ-модели. В отличие от Маши, улыбка которой уже не скрывала усталые морщинки на лице. И это тоже раздражало.
— Они скоро закончат? — спросил Дима у Маши, стараясь не смотреть на подол задравшегося халатика у ближайшей медсестры. — У меня через час «Диалоги».
Он показал на простые электронные часы на руке — единственный экран, на который ему можно было иногда смотреть.
Маша присела рядом с мужем и посмотрела ему в глаза. На её лице застыла нежная, немного потускневшая улыбка.
— Дим, твоя рыбалка подождёт ещё немного. Посмотри… — Она обвела рукой кабинет. — Здесь работают лучшие. Я потратила последнее, что у нас было, и попала на приём. Позволь им закончить свою работу.
Дима заворчал, но членораздельно претензии не высказал. Единственное, что Маша смогла уловить: «Достали эти врачи».
— Дим! Если бы не они, ты бы уже… — Она не закончила. Всем было понятно, что она хотела сказать.
Дмитрий горько хмыкнул, сгорбил спину и исподлобья посмотрел на жену:
— Мне даже нельзя посмотреть, как рыбу ловят. Какая здесь жизнь…
…Перед его глазами проплыл образ лодки, в которой он ногами упирался в борт и боролся с девятикилограммовой щукой, что засела за кочкой и ни в какую не хотела оттуда вылезать. Тогда он чуть не сломал спиннинг, но вытащил чудище на свет…
Его мысли прервал вошедший в кабинет врач — светило науки и человек, чьи руки держали ту самую пятикилограммовую опухоль на фотографии.
Он попросил выйти всех сотрудников, сел за свой стол напротив Димы и Маши, после чего несколько минут проглядывал отчёты. Маша смотрела на него с надеждой, Дима — с безразличием. Он таких светил насмотрелся и даже пять килограммов чужих мозгов его не впечатлили.
Доктор хлопнул руками по столу, заставив супругов вздрогнуть, после чего с улыбкой сказал:
— У меня для вас две новости — хорошая и плохая. — Увидев, как побледнела Маша, он быстро добавил: — Спокойно! Всё в порядке! Опухоли у… — Он заглянул в документы. — У Дмитрия нет. Точнее, это не злокачественная опухоль.
Маша подалась вперёд:
— Как это — нет? А все предыдущие врачи? Исследования?
Доктор откинулся на стуле и, прищурив глаза, ответил:
— Про коллег или хорошо, или никак. Но по нашим результатам у Дмитрия доброкачественная опухоль. Её можно удалить относительно легко.
— Господи, Дим, ты слышал? — Маша аж вскочила со стула. — А какая плохая новость?
Доктор стал серьёзным.
— Оперировать нужно немедленно. Опухоль сама по себе не опасна, но её размер… — Он покачал головой. — Она давит на жизненно важные центры и, если не поспешить, Дмитрий может умереть. Это будет… обидно.
Маша сжала кулаки и прямо посмотрела на доктора.
— Сколько?
Доктор подвинул отчёты и взял отдельный бланк, показал Маше цены. Женщина изучила его и радостно засмеялась.
***
Машино счастье длилось недолго.
Доктор описал операцию. Рассказал, что одна из причин роста опухоли — неправильный режим.
— К сожалению, мой, хм, коллега, подсказавший вам снизить нагрузку на зрительную составляющую, немного, хм, ошибся. Фактически вы лишили себя тренировки, активного кровотока, и опухоль этим воспользовалась.
— Получается, что последние три года я мог смотреть телевизор и мне было бы не хуже, а наоборот — лучше?
— Утверждать не берусь, но то, что глаза и этот участок мозга можно было использовать активнее — верно.
Дима посмотрел на жену взглядом, который она не поняла. В нём смешивались ярость, обида и в то же время радость и превосходство. Словно ему подарили удочку для средиземноморской рыбалки, а затем отправили купаться в ванну.
После доктор рассказал про риски остановки сердца, возможную слепоту. Уверил, что риск низкий, но он обязан предупредить.
— Получается, что сейчас я могу делать что угодно, а после операции рискую ослепнуть? — спросил Дима.
— Повторюсь: риск небольшой. При этом риск смерти, причём в ближайшие месяцы — в несколько раз выше. Особенно при больших физических нагрузках
Дима откинулся на стуле, потрогал шрамик на лице. Перед его внутренним взором мелькнула картинка из детства: осколок чашки, кровь, кривое отражение на металлических поверхностях крана в ванной. Крики мамы: «Что же ты такой кривой? Почему ты всегда делаешь всё не так?»
Он всю жизнь делает что-то не так. То встанет не там, то поможет невовремя. Это ж надо было так заболеть, будучи совсем молодым. А потом послушаться и сделать так, как просят другие: закрыться в тёмной комнате, отключить телевизор, продать удочки, чтобы оплатить очередную порцию лекарств. Он всегда делал всё не так, но не стал ни на йоту счастливее, когда пытался сделать так, как просили другие.
Шрамик под пальцами пульсировал, чесался, и Дима не выдержал.
***
Маша кричала сорок две минуты. Блеклый экран наручных часов позволил чётко отследить. Когда же входная дверь захлопнулась, отсекая Диму от воплей и слёз, мужчина расслабился.
Доктор покачал головой, когда узнал решение Димы. Маша бросилась уверять, что переубедит мужа, но врач не поверил — он уже видел таких пациентов. Поэтому он вежливо пожелал удачи и вышел из кабинета.
Кричать Маша начала тогда, когда они вошли в квартиру. Всю дорогу домой она говорила тихо, пыталась улыбаться. Но Дима молчал, улыбался в ответ и поглядывал в окошко такси. На автобусной остановке он увидел рыбака в резиновых сапогах, с большим рюкзаком и завёрнутой в тряпичный чехол удочкой. Рыбак с улыбкой курил сигарету и поглядывал на восток, туда, где находилось большое озеро.
Дима счёл это хорошим знаком.
Через сорок две минуты Маша ушла. На полу остались осколки разбитой вазы, несколько курток и свитеров из шкафа. Дима подождал ещё десять минут, убедился, что жена не возвращается и сделал то, о чём мечтал последние три года: воткнул вилку в розетку, включил телевизор и набрал по памяти заветные цифры на пульте.
Канал о рыбалке.
Телевизор несколько мгновений крутил загрузку, мигал настройками, а затем вывел надпись на чёрном фоне: «Канал отсутствует или закодирован».
Дима выронил пульт на пол и откинулся на спинку кресла. Маша обещала подключить каналы, но после визита.
А на радио «Диалоги о рыбалке» кончились пятнадцать минут назад.

Догхантер
Темнело. Солнце ушло за лес, и, стоя у порога, он с тоской проводил дымку от его лучей, медленно растворившуюся в гаснущем небе, в заострившихся верхушках елей на горизонте. Со стороны леса тянуло холодом и, чего он раньше никогда не замечал, сыростью и гнилью.
Пес стал беспокоиться. Он то жался к его ногам, то отбегал, пытался поймать его взгляд, прискуливал и отрывисто гавкал, когда хозяин отводил глаза. Пес звал его уйти, спрятаться, вместе на этот раз. Обычно он, почуяв появление гостя, убегал с другими собаками и не возвращался до утра. Но теперь, видно, и ему было ясно, что хозяина нельзя оставить одного. И он все убеждал и настаивал, царапая лапой его ботинок и дергая зубами за штанину.
Хозяин уселся на ступеньку, погладил пса, еще погладил. Пес схватил его за рукав и потянул, он вовсе не собирался прощаться.
— Ну что ты, в самом деле, — сказал хозяин псу. — Не первый же раз он приходит. И ничего, пережили. Как придет, так и уйдет, чего панику-то разводить. А ты беги давай. Он не любит собак, сам знаешь. Давай, давай, беги уже… утром придешь.
Он говорил псу убежать, а сам все гладил его и гладил и так и не заметил, что почти не дает ему шевельнуться, не то что убежать.
— Ну да, ну да, — говорил он, — он на меня обиделся… злопамятный, паразит. Но я ж его знаю как облупленного. Что он может сделать? Смех один… А порох, ну, это так, для подстраховки. Говорят, они боятся выстрелов. А по сути-то, можно обойтись… придется обойтись…
Вчера ночью он истратил последние крошки пороха и был безмерно счастлив, что его хватило до утра. Сегодня он ходил на свалку, потому что предыдущую банку нашел именно на свалке, правда, в другом городе, но чем черт не шутит. Перерыл все, что можно, но, конечно, другой банки с порохом никто для него там не положил. Купить тоже не купишь, в этаком-то захолустье.
С бывшим товарищем он распрощался осенью прошлого года. К некоторому смятению он тогда понял, что особенной радости, ожидаемого торжества и удовлетворения это ему не доставило. Чувства, что все наконец завершилось, он тоже не ощутил. И немало струсил и даже пожалел о сделанном, когда спустя год, одной осенней ночью гость пришел в первый раз.
Стоило ли вообще сводить счеты, стал он задумываться, напуганный каждым следующим появлением гостя. И до бешенства жалел, что поддался, что перестал думать, что воспользовался случаем… а такие случаи бывают раз в жизни и то не у всех. Но вспоминал Серого и переставал жалеть.
Серый, Серый… Был ли на свете пес добрее и простодушнее. Ни до, ни после он таких не знал. Серый не понимал, что такое зло, доверял каждому и даже мысли не допускал, что кто-то может ему навредить. Через то и погиб.
Злобу на товарища и его трижды проклятый джип усугубляло еще одно. Серый умер с мыслью, что хозяин его убил. Он тоже был в этом джипе, рядом с водителем, и пес вышел навстречу не кому-нибудь, а ему. Хозяин, любимый хозяин, — должно быть, думал он, и улыбался, и винтил хвостом, а тут — ревущее железо, и ужас, и удар, и смерть.
Он сам только и успел крикнуть товарищу: Осторожно! Да ведь тот видел пса и даже не подумал свернуть, затормозить, посигналить, наконец. Вот твари проклятые, так и лезут под колеса. Это твой вроде? Ну так утащи его на помойку, чтоб не валялся тут.
Ну как, как после этого он мог не воспользоваться случаем! Ливень за ливнем, и деревня, где они вдвоем промышляли в начале ноября, поползла к реке. Жителей спешно эвакуировали, а они — два мародера — пошли по брошенным домам и набрали много ценного. В одном из домов товарищ провалился в подвал и сломал обе ноги. Дожди все шли, деревня все ползла…
Может, он и не оставил бы его. Но, больной и беспомощный, тот все же умудрился обидеть маленькую черную дворняжку, брошенную людьми в деревне.
И скольких бы еще обидел, скольких бы еще убил. Разве понял бы он, что убить одного доброго пса в миллион раз хуже, чем одну скотину среди людей.
Пес заскулил и вывел его из задумчивости. Он посмотрел на пса, посмотрел на почерневшее небо.
Он и теперь этого не поймет. Черт с ним, пусть приходит.
Он ушел в дом и дверь захлопнул. Снова открыл, впустил пса.
Свет не зажигался. Он вхолостую пощелкал кнопкой вверх, вниз и опять. Нет, ну вовремя! Если есть возможность подложить свинью, они ее никогда не упустят! Нет, ну что, что делать? Чем их отгоняют, незваных гостей? Порох, порох, как его не хватает. Гость хоть в дом не лез. А что еще? Может, молитву прочитать? Чтоб я знал хоть одну молитву. Как там… Отче наш… да… да включат они этот свет когда-нибудь! Ну, включайся же, ну! Черт!
Он нашарил в темноте холодильник, куда складывал всякое барахло, потому что уже сдал двигатель в металлолом. На нем должны быть спички. Пес забился под стол, и его не было ни видно, ни слышно. Спички, спички, да где же, черт вас возьми!.. В окне, куда он смотрел не отрываясь, что-то мелькнуло, он вздрогнул, и с холодильника все посыпалось на пол. Он кинулся к выключателю, но тот только щелкал и щелкал, все громче и громче.
Пес сдавленно заскулил, а в дом пополз уже знакомый дух реки.
— Отче наш, — торопясь забормотал он. — Господи, ну как же там дальше!
Я запер дверь, запер! А гость вошел. Заскребли по полу когти, пес взорвался бешеным лаем, полным ненависти и ужаса, а затем взвыл, потому что ничего не мог сделать.
— Я запер дверь! — почти с теми же, что у пса, интонациями крикнул он гостю. — Тебе тут нечего делать! Пошел к черту отсюда!
— Вместе пойдем, — сказал гость. — Хозяин говорит, что устал ждать.
Гость шагнул вперед, и, попятившись, он наткнулся на стол и сдвинул его. Пес метнулся из-под стола и забился под шкаф. Гость шагнул ближе.
— Не знаю никакого хозяина! Убирайся!.. Сколько можно уже!
— Я ни при чем. Хозяин послал меня. А скажи, зачем ты меня утопил?
— Какой хозяин? — с трудом выдавил он. Гость подошел вплотную, и дыхание сперло.
— Помнишь деда, у которого мы выманили икону и загнали скупщикам? — сказал гость. — Он поднял меня со дна и сказал, что отомстит нам обоим. Но ты-то за что меня утопил?
Он попытался набрать воздуха, дышать становилось все труднее. Гость стоял буквально над душой и ждал ответа.
— За Серого… за Серого!.. И за тех, кого ты не успел убить. И если бы ты не утонул… я бы тебя все равно угробил бы… хоть одной сволочью стало меньше… что, скажешь, не так?..
— А, — сказал гость. — Я узнал что хотел. И ты знай, что сегодня еще одной сволочью станет меньше.
Дня через три соседи заметили, что в доме подозрительно тихо. На стук никто не ответил, дверь оказалась заперта изнутри. Вызвали полицейских и взломали дверь.
Их встретил гадостный речной дух – когда она цветет да еще там на берегу где-нибудь дохлая рыба. Хотели проветрить – окна не открывались. Хозяина в доме не нашли. Зато вытащили из-под шкафа страшно перепуганного пса. Пес скулил и плакал, и пока его успокаивали, поняли – серый он не от того, что всю пыль под шкафом собрал. Бедный пес поседел.

Дорога Ады
Митя устал смертельно. Тряска поезда — одного, другого, третьего. Ехал стоя, лёжа, сидя и на весу. Запах угля и махорки, блевотины и залежалых, запревших тел, мяукающий плач младенца, пронзительный холод — как же всё это было далеко от прежних путешествий в Крым. Впрочем, чего же он ждал — осёкся Митя. В декабре 1920 года.
Сумерки за окном становились белёсыми, молочными. Свет лился словно из приоткрытого подвального окна — размытый, смазанный, сливочный. Митя увидел над степью толстое пуховое одеяло, которое неспешно встряхивают, выбивая пух и перья. И в этой вьюге было столько домашнего, петербургского — серые абрисы людей, скученных у редких костров вдоль железнодорожных путей. Вдруг в окне мелькала лошадиная морда, большая и добрая.
Что-то сытое, правильное, складное, предопределённое и уютное. Настоящие синие метели, из которых возвращаешься в тепло, раскрасневшийся и притихший. Потом греешь руки о чашку, в которой кружат чаинки, чёрные братья снежинок.
Вихрь укачивал Митю. Разомлевший от полудрёмы и совсем уже не замечавший тесноты и полумрака вагона, он вспомнил, как тётя Ада, Аделаида Казимировна, водила его, десятилетнего, на фокинского «Золотаго пѣтушка» в Мариинку. Митя обпился в буфете лимонаду, от которого страшно хотелось в туалет весь второй акт. Но терпел. Ада-Адочка, обожаемая пышногрудая хохотунья, морок и праздник, поэтесса и певунья.
Собственно, к ней Митя и направлялся — в Судак, по пути самовольно поменяв маршрут, дабы заехать в Феодосию, где уже несколько лет как существовал Феодосийский литературно-артистический кружок, организованный неким Самариным-Волжским. Адочка много рассказывала о нём. Писала, что кружок этот расположен на Итальянской улице, где есть чудесное кафе-кабаре «Чашка чая», где непременно бывали все заезжие артисты, коими Крым в ту пору был забит.
Особенно Ада настаивала, чтоб Митя послушал Вертинского и Изу Кремер. А также чтения поэтов — Волошина, Эренбурга, Вересаева, Цветаеву. Фамилии эти Митя запомнил лишь потому, что перечитал письмо раз двадцать, с тайным ликованием представляя эти рождественские каникулы.
Но не знал Митя того, что кружок тот давно закрыт, да и не до литературы и артистов в Феодосии, которую с лета трясло. А узнал в поезде Митя другое. Что эвакуация морем из Феодосии сорвалась, и город был полон солдат и офицеров. Кто был поумнее, успел отплыть из Керчи, а большая часть осталась в Феодосии, куда вскоре вошли красноармейцы.
Впрочем, смена настроения уже на подъезде не осталась незамеченной. Беспрестанная ротация попутчиков и сам их вид лучше газет говорили о происходящем снаружи. Будто ложка дёгтя, старательно замешиваемого твёрдой рукой в засахаренное крыжовенное варенье.
Вначале капля — а потом уже и всё смердит и отвращает. Вооружённые люди вынимали из вагона то одного, то другого на каждой станции, проверяли документы, рылись в вещах и тюках. Да и сами пассажиры утратили привычные признаки и очертания — и не различить было ни возраст, ни сословие, ни пол. Встревоженная, приглушенная, придавленная масса перемещаемых тел.
Митя присмотрелся к своему отражению, синие предрассветные сумерки служили амальгамой, и он выхватил пару чужих глаз в отражении, отстранённых и пустых. Вагон дёрнулся. И встал.
Приехали.
Из состава выпадали, словно яйца из курицы, — грязные, измученные, бледные и хрупкие. Никто никого не ждал и не встречал. Повсюду ходили военные, почему-то звучала эстонская речь.
Полнотелые снежные хлопья вдруг сменились злой крупкой, хлеставшей по зубам и глазам. Одновременно под ногами, как назло, образовалась непролазная вязкая манная каша, похожая в свете фонарей на тошноту. Всё сделалось чужим и холодным.
Митя совершенно отряхнулся от рассеянного полусна и огляделся. Природа уже окончательно окоченела — как будто даже слышен хрустальный звон стеклянного воздуха. Трава на оголённых газонах легла состриженными русыми волосами. Митя обогнул здание вокзала и очутился перед обледеневшей пустынной площадью. Она схватилась в плотную слюду, исчерченную белыми штрихами. Вся эта гладь напомнила ему подёрнутый катарактой глаз, вперившийся в бесцветное небо, — нет, даже не бесцветное, а цвета сбежавшего молока, прикипевшего к стенкам кастрюли.
Вороньё деловито терзало кого-то в тени, разламывая плиту могильной тишины хриплыми криками: «Дай! Моё!» Жизни нет, только смерть — подумал Митя.
И потерял сознание. От удара камнем по голове.
Очнулся Митя много часов спустя, в тёмной комнате, сквозь оконные щели ветер выписывал сатанинский вальс, из соседней комнаты доносились мужские голоса. Один ироничный, въедливый, как холодное шило. Второй — бархатистый, словно бордовая портьера, отороченная золотом.
— Вы, Максимилиан Александрович, заигрались. Зачем вы лезете в это? И кстати, чем вы там занимаетесь, на даче Стамболи? В какие вы игры играете с чрезвычайкой?
Раздался звук наполняемого бокала.
— Я вам скажу больше, бесценный мой Арнольд Маркович. Они мне выдали плащ-невидимку! Это документ. Охранное свидетельство отдела народного образования Феодосийского военревкома!
— Что-то вы, отец родной, уже утратили дар речи. Звучит как пулемётная очередь. Вы же мастер слова!
— Военно-революционный комитет. Собственно, эта бумаженция и позволила мне сейчас вытащить племянника Ады Герцык. И не его одного. Она писала мне, что он направился сюда, — но когда он тут объявится, предугадать было совершенно невозможно.
— И что ж теперь? Усыновите мальчика? Он, кстати, нелеп, как настоящий поэт. Всё, как вы любите.
— Увы, je ne suis pas un consolateur. Не утешитель я. Придётся его отправить в Симферополь. Здесь ему оставаться крайне опасно. Да и вам, дорогой мой Арнольд Маркович, настоятельно рекомендую делать ноги. В ближайшие месяцы, судя по тому, что я слышал из приватных бесед, здешняя земля на метр пропитается кровью. И всё, что я могу — по мере сил выцарапывать близких и друзей, вычёркивая их из списков. Это «они» мне ещё позволяют. Трачу, так сказать, тридцать серебреников на дело. Впрочем, иногда я и сам чую свинцовое дыхание в затылок.
Митя поворочался и, сдерживая стон, попытался оторвать голову от подушки. Тщетно. Он прикрыл глаза, слушая, как воет метель, одичалая и сиротливая.
А в соседней комнате под треск дров в камине «бархатный» начал читать стихи:
Мы заблудились в этом свете.
Мы в подземельях тёмных. Мы
Один к другому, точно дети,
Прижались робко в безднах тьмы.
По мёртвым рекам всплески вёсел;
Орфей родную тень зовёт.
И кто-то нас друг к другу бросил,
И кто-то снова оторвёт…
Бессильна скорбь. Беззвучны крики.
Рука горит ещё в руке.
И влажный камень вдалеке
Лепечет имя Эвридики.
Иллюстрация: открытка с видом Феодосии, около 1905 года

Еще поживем
Баба Нюра шла по селу Топольному. Черные ее галоши оставляли на глинистой земле семенящую дорожку — след к следу, будто ребенок балуется. В семьдесят три какой уж шаг от бедра? Тело жесткое, непослушное. Шаркаешь понемногу, и то ладно. Горячий июль делал воздух густым от запаха скошенной травы и преющего навоза. А ведь это еще раннее утро. В полдень так и вовсе от жары помереть можно. Птицы это понимали и голосили так, словно другого шанса и вовсе не будет, а в последний раз как не петь?
Баба Нюра оглянулась на Злату. Корова ковыляла за ней на тонких своих, иссохших ногах. Глаза ее к старости стали слезиться, что придавало рыжей морде совсем уж страдальческое выражение. Идет и плачет. Двадцать два — это по человеческим меркам почти семьдесят. Ни капли молока за последние годы. Сосед ее, дядя Митя, сначала хохмил по этому поводу, потом жалел бабку молоком да сметаной, а в последние дни так и вовсе злился: «Помрешь, старая, сливок не напившись. Козу могла бы взять, да еще и на похороны останется. Совсем дурная стала! Скотину жалеешь, а тебя кто?» Митя сам, как та корова — ни пользы, ни задора. Всех схоронил: и братьев, и жену-красавицу, и детей малых. Может, он и знает как надо, но не по-христиански это, не по правде.
Корова плелась по бесконечной улице. Медленно шла, нехотя, как будто все понимала. Утирала слезы и сама баба Нюра, дергала за веревку, да только кто кого вел? Непонятно.
Проковыляли мимо церкви: маковка, сени, престол. Не церковь — одно название. Кто старых икон нанес, кто из журнала вырезал. Все сгодилось. Отец Геннадий молодой, голова курчавая, едва сединой тронута, но говорит хорошо, умно. Слушаешь его, и душа светом умывается. Все мы, говорит, живем в потоке добра и зла. Каждый сам выбирает, чего в его жизни больше будет.
Дошли до дома культуры. Когда построили его, Нюра пела под гармонь про синий платочек. Сосед Митька пялился на нее, рот открыв, свистел двумя пальцами на весь «культурник», отчего был бит Иваном Алексеевичем, и не раз. Сорок лет с Ваней прожили, а он все Мите через забор кулак тряс, а то и вовсе посреди локтя руку переламывал. Ишь, страсти какие!
Баба Нюра сама себе рассмеялась, слезу утерла, сухими губами своими пошамкала. Надо было водичку взять, доктор Малышева всегда говорит с водичкой ходить: и тем, кто с давлением, и сердечникам, и с почками. Но в чем носить-то ее? С бутылкой в руках не много работы сделаешь.
Еще через двадцать минут язык к нёбу окончательно прилип, а до колонки два километра крюк. Да и бог с ним. Времени не счесть. Сколько есть — теперь все себе. Дети в городе, внуки в столице. В стеклышки своими пальцами бьют, глаз не отрывая, каждый в своем пузыре прячется — не достучаться. Нюра им то жука принесет, то ромашек, то пирогов из печи достанет, все не впрок. Другие они. Смеются, жми, говорят, бабка, на иконки. Тьфу, святотатство.
У колонки посидела на камешке. Сама попила, Злату напоила. Она хоть и скотина, а тоже человек. Родилась, как подарок на Восьмое марта. Все совхозные с пастбища обратно бежали, успевай только ловить, а эта домой шла. Встанет у забора и мычит жалобно и протяжно. В хлеву вечно мордой тычется в передник, ищет краюху. Знает, что Нюра гостинцев принесет. Кому, как не ей?
«Баба Нюр? — У забора, подбоченившись, стояла сдобная женщина в белом платке. — Никак, решилась? Ну, слава богу. Уже две недели туда-сюда топчешься. Пора уже отпустить бедолагу. Сама падет — ни копейки не выручишь». Старуха губы только поджала в ответ, но настырная баба не отставала: «Говорят, к тебе дядя Митя сватается?»
Тут уж Нюра не выдержала: «Христос с тобой, Нина, мне уже на погост пора, какая там свадьба?»
Та в ответ голову закинула, хохочет: «А то, смотри, мужик хороший, рукастый, да и ты бабка крепкая, будете вместе век доживать. Может, ты еще лет двадцать протянешь, а то и до ста проживешь. Еще на серебряной свадьбе спляшем! Вот внуки удивятся. На шоу тебя, к Малахову отправим». И, хлопнув калиткой, не дала и слова поперек вставить, заорала дурным голосом на весь двор: «Слышь, Николай, бабу Нюру за дядю Митю сватаю, шафером пойдешь?»
Откуда-то из сарая раздались приглушенные голоса и хохот. Нюра и слушать не стала. К вечеру сплетня обрастет узорами, того и гляди, сваты с гармонью и в самом деле во двор завалятся. Срамота. А вон выставишь — скажут, отвергла последнюю любовь. Сам Митя, поди, про то ни слухом, ни духом, но кто его знает? Может, он сдурел на старости лет.
За этими размышлениями Нюра дошла до комбината. Огромный, из стекла и металла, он казался хрустальным дворцом. Будто вырос тут по волшебству прямо из жирной деревенской земли. Окна его сверкали, отражая горы, быструю речку и пожилую женщину с коровой. Лицо ее было красным, волосы выбились из-под платка. Нюра тут же перевязала его на городской манер, заправила пряди, а потом вдруг приподняла подол длинной юбки до самых колен.
Комбинат показал ей ноги: белые, сильные, без единой венки и проклятых черных пятен, которые щедрыми пригоршнями рассыпало солнце по ее рукам, груди и шее. Такие ноги и у молодых-то поискать!
Посмотрела на это баба Нюра, развернулась, да и пошла со своей буренкой прочь. Но как-то по-другому пошла. Плечи расправила, нос задрала, идет и подбородком по небу чиркает. А на душе у нее хорошо стало, радостно.
Не успела она и пяти дворов миновать, как в спину ей раздался мужской крик: «Стой, старая! Нюрка, вернись, не дури, кому сказал! Я твою скотину через неделю и принимать не буду. Слышишь?» Мужчина в робе и кожаном фартуке сплюнул под ноги: «Не бабка, черт в юбке, хоть выкрадывай у нее эту клячу».
Баба Нюра даже оборачиваться не стала, рукой махнула и крикнула: «Поживем еще, Никитич!» Да так крикнула, что вспорхнули в небо какие-то пичуги с куста, закурлыкали индюки, всполошилась свинья у забора. В один миг все пришло в движение, и стало ясно, что и в самом деле еще поживем.
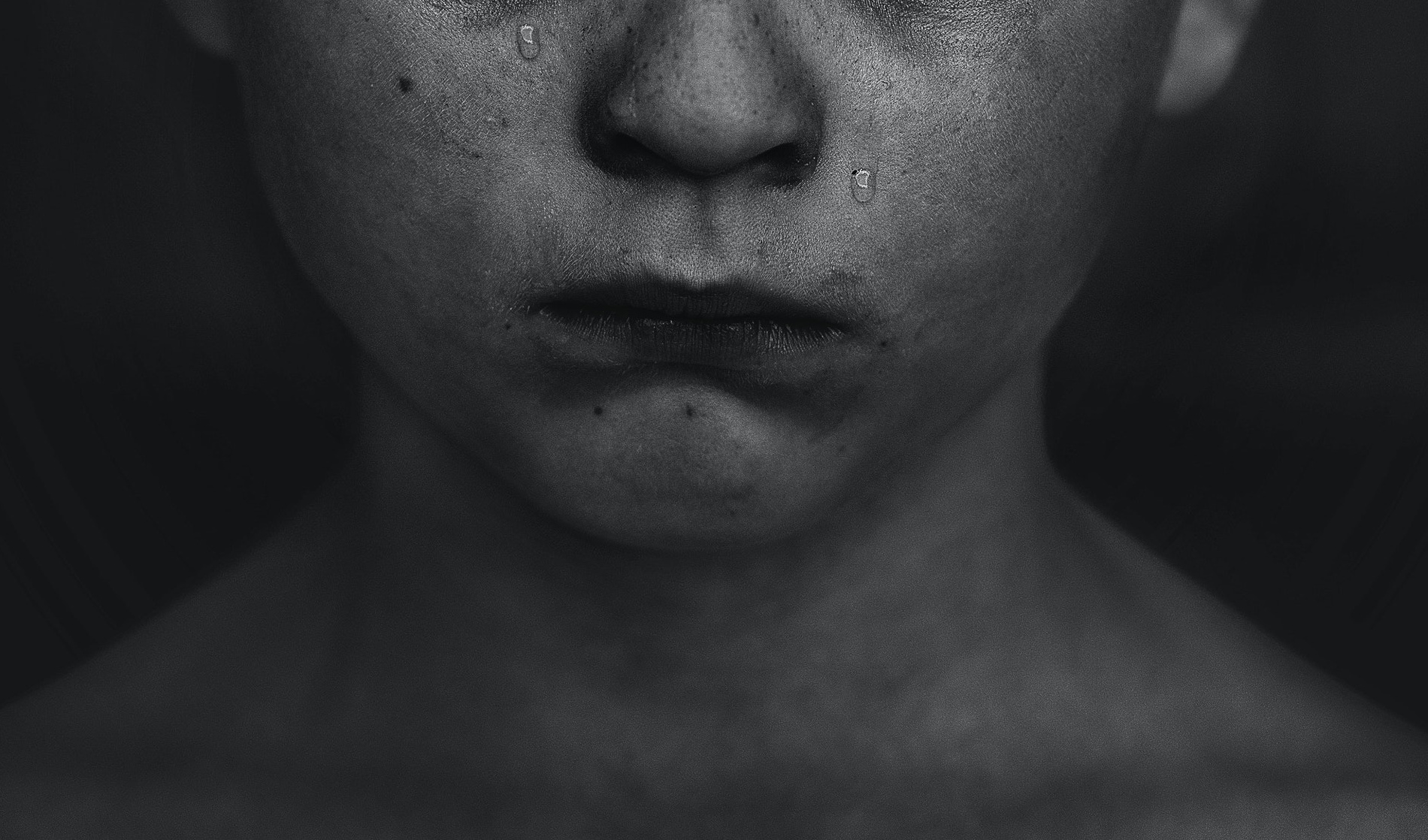
Желтая лошадка
Он сразу догадался, кто она. Сначала хотел дать ей имя, но потом решил, что ей нравится быть просто желтой лошадкой. На том и порешили.
*
Она любила красные кружочки морковки из супа, соленые орешки и сахарное печенье. Но больше всего — одуванчиковую пыльцу. Так наедалась, что вся мордочка покрывалась золотистыми пылинками.
—Тиша,— громко звала с крыльца мама.
— Иду,— отзывался он, и лошадка тут же пряталась.
Лошадка была его секретом. Таким чудесным, настоящим, летним секретом.
*
Еще лошадка любила, когда они все вместе садились вокруг стола, и мама вносила суповницу. На белую горку сметаны в тарелке лился оранжево-красный ручеек борща, и все громко решали очень важный вопрос: куда пойти перед ужином. Лошадка потихоньку высовывалась из кармана и прислушивалась. Ей-то, конечно, хотелось на горку. Но если мама говорила о роще или папа предлагал собрать малины к чаю, лошадка всегда соглашалась даже быстрее Тиши.
А вообще-то им везде было хорошо.
*
Шел дождь, впервые шел с того дня, как ему нашлась лошадка, и он испугался, вдруг она огорчится? Ну она же такая желтая, солнечная, от дождика она наверняка загрустит.
Но лошадка не грустила. Может потому что из-за дождя похолодало, и они обедали на кухне, и папа разжег в старой-престарой и самой настоящей печке огонь.
Тиша и печка стреляли, из пистолетика и дровами. На тарелках и прозрачных привезенных из Москвы чашках в догонялки играли пятнышки-огоньки. Снаружи шуршал, вздыхал вымокший ветерок, по новогоднему пахло горьковатой еловой смолой и по-летнему — спелой брусникой, а лошадка выставила мордочку и улыбалась.
*
— Давай играть так, будто ты пришла прошлым летом? — предложил он ей. — Не этим, а прошлым? Хорошо? И будто ты все помнишь, но я тебе все равно все расскажу.
И они начали играть.
Будто она действительно ходила с ними на прогулки и учила его бегать. И обедала на террасе. Будто она была с ними всем тем длинным-предлинным прошлым летом.
Летом, когда они были все вместе. Когда папа приезжал на все выходные и целый июль. Когда сидели за круглым столом, для которого мама так долго искала зимой по магазинам скатерть с подсолнечниками.
Ведь если бы он нашел лошадку тогда… ей бы у них совсем понравилось.
*
Но зато он все рассказал ей о том лете, в которое она не успела попасть.
И лошадка слушала.
Пруд был тогда гораздо больше, а у мостика росла смешная березка, одна ветка у нее торчала, совсем как хвостик у Г. В темной роще, где даже по утрам вечерело, они собирали для самовара шишки с растопыренными, колючими чешуйками, чтобы из трубы шел пароходный дым, густой и молочный.
И папа не хмурился и не глядел в сторону, а мама не говорила так весело, и громко, и быстро, и не шла всегда сбоку, а между ним и папой.
Лошадка слушала и верила. И они вместе ждали, когда все снова будет, как тогда.
— Знаешь, есть такая штуковина… нетипичная какая-то, — объяснял он ей. — Это когда градусник нормальный, и горло не болит, а ты все равно болеешь. Так у Сашки из садика было. Нужно пить витамины. Много-много. И ты не бойся. Папа с мамой тоже поправятся.
Лошадка кивала. И утыкалась мордочкой в пушистый кружок одуванчика.
*
Кружочки стали шариками, побелели и рассыпались. А лето все не наставало.
Не настало оно, и когда лепестками жасмина засыпало дорожку. И когда стало снова рано темнеть.
Он не спрашивал, когда мама начнет варить яблочное варенье.
*
Он нарисовал прошлое лето. Пруд, и рощу, и березку, и дым из самовара. Потом обвел стенами-черточками. И пририсовал дверь.
*
Лошадка научила его прятаться. Когда папа с мамой начинали ТОТ разговор, нужно было очень быстро убежать, чтобы не успеть ничего расслышать.
Он доставал «Волшебника Изумрудного города», укладывался на ковер, и они вместе шли к Гудвину в гости. Только он всегда перелистывал, зажмурившись, картинку с бурлящей речкой, молнией и обломками плота. На следующей странице снова было солнечно, уютно и тепло.
И тогда опять не страшно, что снизу долетают черные (чернее тех, в саду, из которых он когда-то хотел смастерить шляпу мушкетера) перья голосов:
— Ничего не было. Сколько раз тебе повторять? Ни-че-го.
— Думаешь, я ничего не вижу, не понимаю?
— Да чего ты наконец от меня хочешь?
Голоса быстро затихали. Потому что «Замолчи, только не при ребенке».
А он зажимал уши ладонями, и они шли дальше по желтым кирпичам.
*
Что-то темное с голодным чавканьем вползало в дом. Оно уже отъело прошлогодний пруд. И березку. И печку, когда по крышам мокро топает дождик. И мамин борщ на веранде. И скатерть.
Вчера мама уложила ее в громадную клетчатую сумку. А перед этим держала в руках долго-предолго. Просто держала.
Он думал, мама ее сейчас распакует. Он думал, мама ее сейчас развернет и постелет.
— Мам! Мам, мы же ее так и не… — Он замолчал.
Скатерть легла на дно сумки.
Подсолнечники были веселые, ярко-желтые. Лошадке бы они понравились.
*
«Так и не…» — он уже знал, что эти слова обжигают горошинками перца. Но ему очень нужно их сказать.
— Пап… — Он сильнее дернул за рукав. — Пап!
— Так что ты хотел почитать? — Папа, не отрываясь, листал «Сказки». Каждую страницу хватал сверху за уголок, перевертывал шумно.
— Пап, а мы завтра правда уедем?
— Ты же знаешь. У меня работа. Тебе в садик. Все заканчивается, лето тоже. Ничего не поделаешь. — Папа разогнул книжку, слишком сильно разогнул и ладонью еще провел посередине. — Вот, нашел. — Откашлялся. — Жил-был мальчик-с-пальчик. Звали его так, потому что он был очень маленького роста, не больше дюйма.
— Мы так и не сходили к дальнему озеру… — тихо сказал он.
Папа не расслышал.
— И вот однажды пошли братья в лес гулять и мальчика-с-пальчика с собой взяли. Идут они, идут и видят…
— И змея так и не запустили, — прошептал он. — И так и не…
Под подушкой грустила желтая лошадка.
Папа читал.
*
Завтра папа отвезет их с мамой обратно в город.
Прошлым летом они уезжали втроем.
*
Завтра оказалось очень ранним, почти ночным. Так для чего-то было нужно.
— Давай, давай быстрее. В машине доспишь.
Когда он совсем проснулся, уже было светло. И совсем далеко от дачи. И от лета. Насовсем далеко.
Значит, он обманул лошадку. Он обещал ей, что все будет по-другому. Но ничего так и не стало, как тогда.
Это все они. Потому что они так решили. Взять и уйти в разные стороны.
Поэтому папы не было все лето. Не было вчера, когда мальчик-с-пальчик убегал от ведьмы. Нет и сейчас, когда они уезжают обратно в город. На зиму. Насовсем.
Ну и пусть. И пусть будет зима. Пусть будет холодно и бело.
Лошадке все равно понравится в картонной коробочке. И он прорежет в стенках окошки, оклеит шоколадной золотой фольгой. Вставит стеклышки. Разноцветные. Солнечные.
«Тебе понравится, обещаю. Слышишь? Ты же тут?»
*
Егорыч испуганно охнул и ускорил шаг. В кабине съехавшего на обочину автомобиля во весь голос рыдал мальчик лет шести. Вцепившийся в руль, мужчина, откинувшись на спинку кресла, похоже, приходил в себя. На заднем сиденье женщина пыталась удержать бившегося в истерике мальца.
— Я ее потерял!! Я ее потерял!!
— Больше никогда так не делай, ты нас до смерти испугал!
— Вернемся!! — кричал мальчик. — Вернемся, и я ее найду!
— Куда вернемся?! Тиша, мы на сорок километров отъехали. Понимаешь? Мы уже почти дома. Да и хозяева нас уже не ждут.
— Я ее найду! Я ее очень быстро найду, совсем быстро! Мне только минуточку надо!
Мужчина за рулем поднял голову, поймав вопросительный взгляд, махнул рукой, мол, все в порядке.
Ну, в порядке так в порядке. Разберутся.
И Егорыч неспешно зашагал к повороту, а за спиной все не умолкал детский плач.
*
— Честное слово, я ее совсем сразу найду!
— Ну, давай так. Я обещаю, что куплю тебе такую же лошадку, раз она тебе так нужна. Хочешь, вот прямо завтра вместе пойдем и выберем. Прямо завтра. Точь-в-точь такую же.
Она осеклась. Сын пару секунд смотрел на нее, точно не понимая, не разбирая слов. А потом уткнулся лицом ей в колени и зашелся: «Не хочууууу… я эту хочууууу». От воющей интонации стало зябко. Не каприз, нет. Так не плачут. Так оплакивают.
Впереди коротко выдохнул Илья. Пробормотал что-то. Сейчас, вот сейчас взорвется. «Хватит идиотничать», «совсем с ума сошел», «так, закончил фокусы, ясно?» — все, что только что хотела сказать сама.
Тиша умолк, только судорожно всхлипывал.
Когда он снова заговорил, она едва смогла разобрать:
— Она же… она же не знает, что я ее… потерял… она же подумает… что… что я нарочно…
Она хотела пообещать, что они вернутся, он найдет лошадку, все будет хорошо. Обнимала, успокаивая, Тишу и неотрывно смотрела в зеркало заднего вида, дожидаясь взгляда Ильи. Дождалась.
И поняла — для мужа тоже все громче и громче звучит «нарочно». И все безутешнее — плач затихшего сына.
И еще. Если он сейчас не вернется — за лошадкой — дело будет не в сорока километрах.
Повернулся в замке зажигания ключ. Включились дворники.
*
В доме загудел пылесос, хозяйка деловито сновала из комнаты в комнату, «Народное радио» сообщило точное время.
В саду за скамейкой под пожухшим подорожником лежит веревочка с растрепавшимися, точно грива, волокнами.
Веревочка, в которой, наверное, уже никто и никогда не узнает желтую лошадку.
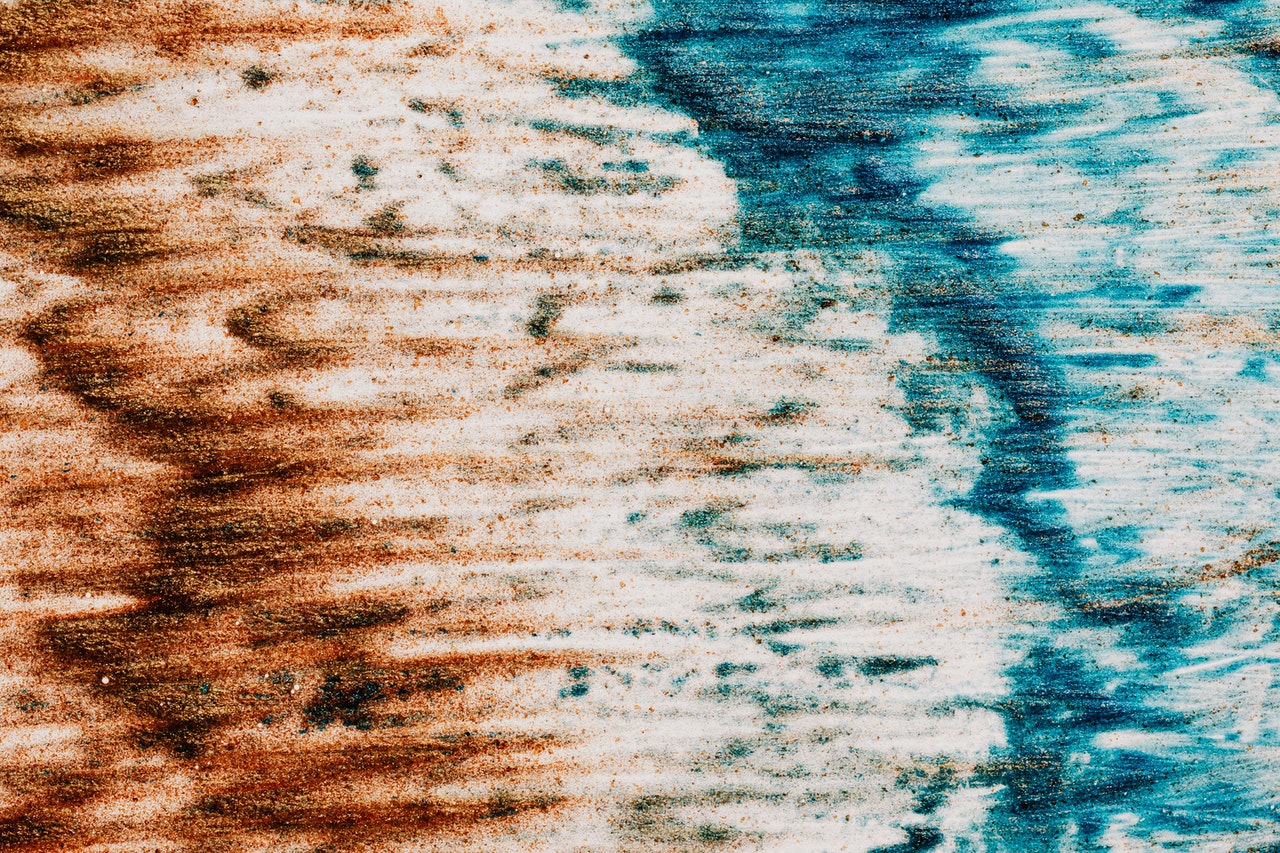
Желтый пляж уходит в море
На что пойдет человек ради любви? Книжный на всё, настоящий более ограничен. Вадик, стоя без одежды под моросящим дождём, полагал себя книжным человеком.
Перед ним жила привокзальная площадь, автобусы увозили последних отдыхающих от моря, сумерки стягивались к фонарям. На маленький город наползал ноябрь. Вадик выдохнул, расстелил узорчатую — другой дома не нашёл — простыню и положил на нее ровно семьдесят два предмета. Предметы были разные: гелевая ручка с изумрудными чернилами и нож для масла, перо павлина и хлыст, маникюрные ножницы и модный мамин газовый шарф, кассета с вытащенной наполовину лентой и швейная игла, кубики льда (подтаявшие) и пистолет с одним патроном, непарный носок и живая роза, собачий строгий ошейник и бутерброд с докторской колбасой. Вадик поднял плакат с программой своего выступления, спрятался за ним ниже пояса (трусы он, поколебавшись, все-таки надел) и, задержав дыхание, замер. Началось.
Согласно надписи на плакатике, сегодня, пятого ноября тысяча девятьсот девяносто седьмого года, он намеревался стоять напротив вокзала, начиная с семнадцати ноль-ноль, ровно шесть с половиной часов, и любой человек мог взять любой предмет с простыни и делать с ним, Вадиком Данилко, этим предметом всё что угодно. Погладить или ударить. Накормить или уколоть. Вообще всё. Этот номер назывался «Ритм два ноль» и был не первым художественным экспериментом в родном городе, поэтому Вадик был готов ко всему.
Первые зрители вероломно ничего не заметили: пролетели не глядя, брызгая из-под ботинок, опаздывая к автобусу. Второй поток оказался щедрее, автобус выгрузил местных, отработавших в соседней станице, те закурили и по синусоидам устремились к узорчатой простыне и автору. Стояли. Дымили. Вадик надеялся, что читали. Наконец один нагнулся, поднимая что-то.
Ну теперь по-настоящему началось.
Вадик искренне считал себя готовым ко всему. К привычным унижениям, обидам, даже оскорблениям, к любой моральной боли и некоторой физической. Готов он был и к простуде назавтра. И даже недопуску к выпускным экзаменам по весне. Не готов оказался Вадик только к одному. Что всё его выступление, вся маленькая жизнь, которую он рассчитывал вместить в эти шесть с половиной часов, окажется короче школьной перемены.
— Вадик! С курицы пену сними! И выключай модем, а то не дозвониться! — Вечность назад, сегодняшним утром, мама хлопнула дверью в коридоре.
Утренний Вадик в тот момент воображал себя отмывающим на зрителя гору костей. Со вздохом разорвал соединение, прошёл на кухню. Там он подобрался к плите, скосил взгляд на кипящую тушку и представил на еë месте свой мозг. Пожалел, что не может устроить этого взаправду. По крайней мере, не в этом месяце. Чтоб не забыть, забежал в свою комнату, из-под школьного дневника вытащил нотариально заверенную бумагу, вписал строчку: «Мозг мой завещаю положить в кастрюлю с водой и кипятить неделю на главной площади». Подумал, зачеркнул «неделю», написал «три дня». Хватит с них.
Пену с курицы он, конечно, снимать не стал. Разве не воплощает пена сия шелуху, что мы вбираем с информационным шумом, разве не показательно будет оставить как есть?
Он занес маркер над кипящей тушкой и дорисовал на куриной грудке пару извилин. А затем утренний Вадик прошел мимо выкипающей курицы прямиком в настоящее — дымившее, ворчавшее, оно пошатывалось и руками вертело выбранный с простыни предмет. А затем всё действительно началось, разрушив Вадиковы наивные представления об иллюзиях повседневности.
— Что же вы, Матвей Семеныч, таланты прячете, — хохотнула телефонная трубка. — Племянник-то ваш вончё. Квартиру, говорят, сжёг. Может, мы его — того? Пропишем куда следует?
— Не он это был. Утечка газа. Проработаем.
— Ну как не он? А на вокзале? Наколядовал, говорят, целую простыню. Комиссионку, что ли, вынес?
— Не он.
— Ну как не он? Ещё, говорят, в карты проигрался, стоял совсем голенький.
— Не он.
— Ну как не он? Разобрали, говорят, его колядки, так он реветь! В армию такого надо, а я говориииила!..
— Всё, уймись, бешеная. — Матвей хлопнул ладонью по столу, совсем как вчера по затылку своего никчемного племяха, и повесил трубку.
Вадик зашуршал гостевыми тапочками в коридоре. Матвей в глоток допил кофе, нахмурил лицо и встретил взглядом племянника.
— Ты, что ли, все понял?
Вадик кивнул одними глазами.
— Ты свое этсамое прекращай.
Вадик снова кивнул в той же манере.
— Топай. — Дядя покачал головой, хмыкнул, гмыкнул, указал на дверь, и Вадик через одиннадцать лестничных полётов выпрыгнул в сырое ноябрьское утро.
From: Vadim Danilko
To: Anton Bagrov
Re: ритм сердца
Dear Antony,
Наверное, ты уже слышал, ритм два ноль закончился полным провалом. Вышедший из-под контроля бульон ассоциаций и то привлёк больше внимания обывателя. Впрочем, об этом ты слышал уж наверняка, причём из первых рук, твоя мама здорово помогла дяде тушить занавески. Хорошо, мать вернётся только завтра… но не суть. Суть в том, что очередная попытка осветить обывателю путь в глубины его сознания и прощупать границы моральных устоев провалилась. Не я показал обывателю, как мало он знает о себе. Обыватель показал _мне_, как мало _я_ знаю о нем. Сказать, как я был обескуражен, ничего не сказать. Они разобрали всё! Даже жеваную кассету! Даже простыню! Я остался стоять один, под проливным дождём, с плакатом, как болван! Никто даже не отметил мою обнаженность! Это было чудовищно, с каждым предметом они словно растаскивали меня самого, мою суть и самость, моё желание жить и творить… я унёс домой только дядин пистолет, но, знаешь, не смог снять его с предохранителя. Вчерашний день отнял даже шанс на членовредительство (но как же много я получил взамен)!
Я знаю, ты напишешь, бросай все и приезжай ко мне, в Неверлендз. Вся боль и радость этого мира не вместит моей любви. Но я снова отвечу нет, и вот почему.
Сегодняшним утром я шёл по центру города и в утренней свободе улицы от машин наблюдал временный приоритет человечности. Смотрел, как дворники убирают остатки вчерашнего вечера, и видел ритуал уничтожения следов провинциальных вакханок. Заметил последних бздыхов, плетущихся к автобусам, и это был марш-парад прощальной печали. Даже собаки нюхали деревья не просто так, они вдыхали смыслы! Весь наш маленький город, весь наш маленький мир переполнился смыслами: каждый житель нашего городка стал художником! Каждый, без исключения, кого отмечал мой взгляд, становился проводником идей и смыслов, немым акционистом! Ты понимаешь? Я был творцом, созидающим через созерцание!
Именно поэтому я, к сожалению, опять не поеду к вам с Настей в этом году. Ещё один год мою любовь и меня будут разделять тысячи километров, ещё год я буду жить далеко от своего сердца, ещё год я не увижу, хотя бы издали, мою божественную Марину Абрамович. Но сейчас я нужен себе здесь.
Держи пять
Твой друг
Vadik

Запыленный чердак
Семейство Хомяковых разрослось. Летнюю дачу решено перестраивать в загородный дом.
Чёрт дёрнул Кристофелину, дородную бабищу тридцати пяти лет, будущую мать четверых детей, убеждённую домохозяйку, полезть на чердак.
Чуть только деревянная лестница приподняла крышку в глянцевом розовом потолке, краска сухо чавкнула. Свет понёсся докладывать о гостье.
— Ну, ладно.
Заскрипели ступени, грохнула откинутая крышка, пыль бросилась встречать нос. Расцеловались. Кристофелина, чихая, закорячилась на чердак. Уселась, свесив ноги.
Темнота пахла дубовыми вениками, паутина сплетничала с волосами, Кристофелина крутила головой. Хоть и маленький чердак, в половину человеческого роста и не больше полутора метров в три стороны от люка, но света с террасы не хватало.
Времени до возвращения детей с мужем и родителями осталось около часа. Придут, накупавшись, и начнётся:
— Мама!
— Мама!
— Мама!
— Криста! Фу! Воспитанные люди не лазят на чердак!
— Кристинка, нашла что-нибудь?
— Так, кто взял мои тапки?
— Мама насла клад! — Антошка, хоть и младший, но заводила.
— Я возьму лопату. — Мирослав, средний.
— Мы на чердак, дебил. — Старшая, Катя.
— Немедленно мыть руки. Воспитанные люди моют руки перед едой!
— Так, я что, босый должен ходить?!
— Папа, пойдём с нами на челдак, вдлуг там пилаты.
— А я тебе яблоки в машине припрятал. Сладкие. Дети пока не нашли.
Потом — обед, сборы, отъезд, сентябрь, школа. Нет. Надо успеть раньше. Фонарь Кристофелина предусмотрела.
Рулон снятого старого линолеума. Банные веники. Ещё дедушка вязал. Напряжёметр в тёмно-сером металлическом ящике и пустой тёмно-серый металлический ящик от напряжёметра. Папины. Чемодан с окованными углами. Издалека серый, а на самом деле — смесь маленьких чёрно-белых квадратиков. Кристофелина подняла и отпустила защёлки: «Пув».
Жара. Девчушка загорает в саду, рядом — чемодан. Пальчики-соломинки щёлкают замками.
— Пув.
Пустыня, люди в пробковых шлемах, ящики, палатки.
— Пув.
Каменные ступени, сырость. Зажжены факелы, стен не видно.
— Пув.
Гвалт, пестрота, тюрбаны, паланкины. Пальцы в кармане сжимают бриллиант.
— Пув.
— Криста, я выброшу его когда-нибудь! Немедленно обедать. Воспитанные люди едят вовремя!
Темнота чердака прильнула к спине, окладистый веник поцеловал в щёку. Кристофелина снова подняла защёлки:
— Ну, ладно.
Фонарь осветил жёлтые спины рулонов бумаги.
Что за радость сидеть в пыли? Криста скинула чемодан. Свёртки рассыпались по полу. Снова скрип ступенек, уселась поудобнее, и вот: первый натюрморт.
Чайник еле влезает в половину ватманского листа, ни для чего больше места не остаётся.
— Кристи, ты пишешь портрет чайника.
Какой-то средневековый мальчик в морковной маске — неудачная попытка сделать кожу посмуглее.
Джунгли. Пальмы с розовыми листьями, кое-где — с фиолетовыми, встречаются и жёлтые, и зелёные. Кисточка замерла в нерешительности.
— Оригинальное цветовое решение.
Катерина Михайловна наклоняется, она всегда наклоняется, если объясняет что-то. Тёмные волосы струятся. И запах. Ещё чуть-чуть, и он станет терпким, но чуть-чуть не добавляется, и запах остаётся мягким, умиротворяющим. Волосы Кристофелины — светлые, ломкие, — торчат в разные стороны. Из них получаются две тощенькие косички. А Катерина Михайловна ровно подстригает густые, блестящие волосы по пояс. Такие бывают только у королев.
Высунуть язык, приложить линейку, прислушаться, не идёт ли Катерина Михайловна, быстро провести уверенную жирную линию, спрятать линейку, оглядеться, повторить.
— Кристи, ты чертишь корабль?
— Это чтобы он точно доплыл.
— А ты цветом создай такое настроение, чтобы даже сомнений не возникло, что доплывёт.
И Кристофелина создаёт. Разноцветные паруса, похожие на бабушкино лоскутное покрывало, только не сшитые из кусочков, а вытканные целиком. Не бывает? Ну и что? Звонок, работу на сушку. А на следующем занятии на обороте, в центре листа выводит: «Написала Кристофеллина Самохина, 9 лет. Ученица Катерины Михайловны».
Культурный обмен с заграницей, конкурс среди художественных школ. Решено отправлять триптих «Жаркие страны». Две картины: «Джунгли» и «Корабль» готовы, Кристофеллина принимается за третью — «Портрет ягуара».
Упрямая кошка не даётся. Катерина Михайловна шуршит работами в подсобке, ребята заходят по очереди и долго обсуждают, что отправить на конкурс. Ластик исправно ссыпается на колени, забирая неверные линии и микроскопические слои бумаги. Идёт третий лист борьбы с ягуаром. Ребро ладони испачкано в карандаше. Кристи не обращает внимания на тёмные полосы.
— Такую черноту акварелью не перекрыть.
Работы оформляются в паспарту. За границу едет диптих. Да так и не возвращается, говорят, его купили.
Ягуар презрительно вылизывается.
— Да ну его.
Цвета океанского заката послушно ложатся на ватман. Волны блестящим шёлком выходят из-под кисти. Небо и вылезшее за край листа солнце о чём-то молчат, зато бормочет океан. Разноцветное пятнышко паруса еле заметно в волнах, ползёт упрямо по диагонали.
В конце весны уезжает и Катерина Михайловна:
— Не думай о карандаше, работай цветом.
Но цвет-то Кристофелину и подводит, из имени исчезает вторая «эль», тянутся годы унылых драпировок, зелёных бутылок, гипсовых форм, размышлений о светотени и полутени, какой цвет положить, чтобы вышло похоже. Натюрморт с остовом зеркала и букетом сухих цветов.
— Кончай раскрашивать, Самохина. У нас другая постановка.
Крынка, за ней — тарелка, тёмно-синяя драпировка и жёлтое восковое яблоко. Мазок, ещё один. Потекло, ну и фиг. Цвет вроде тот. Да какая разница. Из каких цветов состоит крынка, если рядом с ней драпировка и яблоко? Наплевать. Уродство какое-то, и в носу щиплет.
— Ну, наконец-то! Научилась рисовать, Самохина. Слава богу, дошло!
За окном озорной март. Кому охота сидеть в духоте? Лист на сушку, краски в сумку, мольберт к стене. В класс Кристофелина возвращается один раз. Забрать работы.
Вот он, последний натюрморт на пожелтевшей бумаге: крынка, тарелка, яблоко, драпировка. Не дописан, потёки кое-где, кое-что надо поправить. Но в целом:
— Смогла бы поступить.
В дом влетел ураган, дверь вцепилась петлями в стену. Удержалась.
— Мама!
— Мама!
— Мама!
— Криста! Фу! Ты лазила на чердак?! А с виду воспитанный человек!
— Ну, ладно, — шепотом.
Сколько можно вычерчивать идеальные линии?
— Это что, обои?
— Мои детские рисунки. Мы едем на море!
— Когда?
— Сейчас.
— Криста! Школа! Воспитанные люди…
— Прогуляют школу и детский сад.
Шестирукий вихрь с визгом уронил Кристофеллину на пол.

Иголка
— Пачку «Дукадос» и газету.
— Да, сеньор, сейчас посчитаю.
— Это будет три пятьдесят, Мария. Вот пять, сдача полтора.
— Конечно, сеньор, вот ваша газета. Прекрасный день сегодня?
— Обычный.
Он отошёл от киоска, привычно подавляя раздражение. Милая девочка, но уже полтора года он покупает с утра один и тот же набор: сигареты и местную газету, а она никак не запомнит ни цену, ни сдачу. Господи, ведь даже считает на калькуляторе.
Он присел на лавку под огромным лавром. Всё было привычно, на своих местах.
Маленькая площадь наполнена утренними синими тенями. Проехал велосипедист, прижимая к себе долголапого щенка, с любопытством глядящего по сторонам. Официантка протирает столики в кафе «Ла Таска». Двое старичков, каждое утро приходящих сюда поглазеть на школьниц, сидят на своей излюбленной скамейке и просидят до раскалённого, канарского полдня. Шумит океан. Успокойся, всё хорошо, не колет.
Вдалеке показалась, радостно замахала руками Джанет из офиса. Значит, сегодня студенты приехали раньше. Трое. Высокий белобрысый мужик идёт расслабленной походкой, мягко перетекая с ноги на ногу, этот наверняка не доставит проблем. За ним парочка, он — очкастый, сутулый, из тех, что рано лысеют, при этом сохраняя лицо сморщенного мальчишки. Она — пухленькая, невысокая, бодро подпрыгивает рядом как любимый, уже потрёпанный, яркий мячик рядом с меланхоличным псом. Наверняка будет щебетать, фотографировать каждую минуту, ну а потом её укачает и она промолчит целый день.
Когда группа подошла, он аккуратно сложил газету, протянул руку сперва Блондину, потом Очкастому, которые оказались Стэном и Дунканом соответственно. Женщина назвалась Розой, пахло от неё местным кремом для загара, тёплым потом и почему-то немного ёлками. Она радостно сделала общее фото. Неделя началась.
В субботу ветра не было. Студенты осматривали яхту. Он методично рассказывал о верёвках, о кранцах, об огнях белых и красных, о лебёдках, о парусах. Внизу в каютах стояла свирепая жара, открытые люки не помогали. Пока он переходил от двигателя к огнетушителю, от газа к сковородкам, от рации к туманному горну, Роза явно скучала, лицо её стало совсем малиновым, она рассеянно глядела по сторонам, всё теребя позвякивающие на полной руке разномастные браслеты. Точно так же, уплывая глазами, его слушала первая жена Магда. Однако, когда дело дошло до развода, оказалось, что сосредотачиваться она все же умеет. Не успев опомниться, он оказался без денег и дома с видом на мягкие волны холма Артурс Сит. Тогда он впервые почувствовал это — укол в сердце, будто невидимая игла тонко и холодно дотронулась, предупредила, быстрее забудь, мимо, мимо.
В воскресенье ветра не было. Наконец вышли из марины, тренировались ставить парус. Крутили ручки лебедок, тянули сухие, шершавые шкоты. Пот стекал по лицам, расплывались тёмные круги на футболках, на коротких Розиных шортах, открывавших ноги выше, чем мог бы одобрить даже самый нестрогий отец. Она, смешно переваливаясь, бегала по борту, держа в руках кранец, очень быстро научилась вязать морские узлы, приносила Дункану то кепку, то очки, то перчатки.
Понедельник, вторник, среда. Ветра не было. Они упорно проходили программу обучения: швартовка, постановка паруса, огни, маяки, правила расхождения судов. На стоянках готовили обед, простые макароны с парой банок тунца, салат из твёрдых зеленоватых помидоров с пахучим местным сыром, прохладная мальвазия в пластмассовых бокалах.
Штиль. Высокое солнце. Он удивлялся, как при полном отсутствии качки Роза умудрялась набивать синяки на руках, ногах, плечах, один раз даже на шее. Она легко смеялась, сетуя на неловкость, потом уходила на нос лодки, сидела там в наушниках и огромной соломенной шляпе.
Стэн всю морскую науку знал превосходно, скорее всего, раньше работал наёмным матросом. Было ясно, что он явился сюда получать формальные «корочки». Быстро и сноровисто выполнял поручения, вечером исчезал в обманчиво тихих рыбацких городках.
Во время очередного перехода, когда весь океан, казалось, накрыли блестящей тканью, под которой, как мускулы, напрягались и опускались бугры волн, Стэн неожиданно прыгнул в воду прямо с борта. Никто даже не успел испугаться, как стало ясно — морская черепаха зацепилась ластом за полиэтиленовый пакет. Они все вместе вытащили усталого зверя на откидной борт, и Роза, напряженно орудуя маникюрными ножницами, разрезала туго натянутый пластик.
В четверг им наконец удалось поймать вечерний бриз, заставить работать паруса. Это было облегчением, волшебным моментом. Вот несколько тряпок, несколько веревок, затяни их — и лодка поедет, помчится, кренясь на один борт, разрезая волны, разрезая печаль, делая то, для чего создана. Роза и Дункан сидели рядом, она улыбалась, хотела поправить растрепанные волосы, но Дункан удержал её руку в своей. Она резко обернулась, щурясь сквозь облако диких, тёмных прядей.
В праздничном настроении вернулись в порт, долго сидели в прибрежной таверне с дорогой и невкусной едой. Все напились и даже он, чья алкогольная стойкость не раз удивляла барменов, чувствовал себя приятно захмелевшим, с тем особенным током крови во всём теле, который распускает узлы, разжимает тиски, размывает песочные бастионы. Вернувшись на лодку, ворочался в душной каюте, всё казалось, что что-то не додумано, не завершено. Наконец, он на ощупь натянул жесткие от соли шорты, нашарил сигареты и поднялся в кокпит. Там на скамейке, едва различимая в темноте, сидела Роза.
Она не произнесла ни слова, всё для и для молчание, в спокойном ожидании того, чего, он внезапно понял, ему хотелось с первого дня.
Несмотря на ночную прохладу, от неё шло ровное тепло, как в родном, приветливом доме, и еловый запах странных, так неуместных здесь духов, говорил о Рождестве, семье, где любят друг друга и никто никогда не предаст, и свет окон будет светить тебе на любом берегу. Он качнулся к ней, вперед, и вдруг, как в стену, уперся в воспоминание — она в очередной раз ударила ногу о борт. Каким жалким, суетливым жестом дотронулся до её колена Дункан, как торопливо, чтоб никто не видел, поцеловал наливающийся розовым рубец.
Лицо Дункана в тот момент было похоже на лицо, которое он мельком увидел в зеркале, когда его вторая жена Лорен жестяным голосом сообщила о разводе. Да, она, разумеется, забирает квартиру, с ребенком вы можете видеться на каникулах. В конце концов, она же не твоя дочь. Ты что, плачешь? Господи, я тебя умоляю, да тебе же всё равно! Ты даже не отложил эту сраную газету!
Игла в его сердце снова шевельнулась, тронулась, уколола.
Он отстранился.
— Спокойной ночи, Роза.
— Спокойной ночи, Дэвид.
С утра разламывала, грызла висок мигрень. Лодка была пуста. Он вспомнил, что вчера разрешил студентам взять машину и провести день на берегу. Прокатиться по макушке острова. Купить разноцветные побрякушки в колонии немецких хиппи. Вернуться. Вернуться сюда. Ещё ничего не потеряно.
Настал вечер, их все не было. Он вышел на площадь, угловой бар оказался открыт, внутри сидел Дункан.
— Садитесь, старина, Роза унеслась за покупками, всё у неё в последний момент.
Он опустился рядом и дал знак бармену налить виски.
Дункан набрался невероятно быстро, стал неприятен. Почти ложась на стойку, он сквозь растущие в углах рта пузырьки слюней рассказывал, как ему повезло с женой.
— Поблядушки просто облепляли меня, пока я не встретил Розу, она прелесть, вы не поверите, позволяет мне такое, а ведь раньше так дорого обходились всякие… ну вы понимаете… иногда мне нужно быть жестким… у нас есть специальные… штуки, а она весьма забавно пищит когда я…
— Удачные браки редкость, вам повезло.
Сказал он и поднял глаза. Роза стояла позади, он увидел отразившиеся в барном зеркале её разбившуюся улыбку, яростный, чёрный взгляд. Шатко стукнули каблуки, дверь на улицу медленно закрылась.
Когда они вывалились из бара, на площади было темно и пусто, сухо шуршали листья на мостовой. И хотя его щеки почти онемели от выпитого, он почувствовал левой стороной лица наконец поднимающийся ветер.
В марине, как всегда, скрипели верёвки, мелодично звучали высокие мачты, слепил мёртвым светом открытый зев парома, оттуда выезжали маленькие машинки, казалось, совсем без водителей. Дункан немедленно улёгся в кокпите и захрапел, а он дошёл до края понтона, ровно неся тяжелую голову.
В тени огромного катамарана, пришвартованного у торца, была едва заметна копошащаяся пара. Бугор спины Стэна закрывал партнершу. Взвизгнул порыв северного ветра. Запах ёлки на долю секунды стал сильнее всех остальных и тут же исчез.
Они улетали ранним рейсом. Прогрохотал чемодан, что-то неразборчиво пробормотал Дункан, качнулся борт, шаги затихли.
Утром, выйдя на площадь, он порылся в карманах и набрал три пятьдесят без сдачи, было просто немыслимо смотреть в тупое, наивное лицо продавщицы. Жесткий свет заливал убогие скамейки, старые, такие старые деревья. Сильно кололо сердце. Северный ветер разгонял волну.

Казя-базя
На залив удавалось вырваться только по субботам. Он и раньше-то с трудом всё успевал, когда еще Наталья Бусинку из сада забирала. А теперь и вовсе: шеф, посуда, отчеты, котлеты, дедлайны — всё неслось наперекосяк. Но субботнее утро существовало только для них, для Павлика и Буськи, «папины пешочки», как она с тревогой спрашивала: «пойдем на пешочки?», их маленький мирок.
Один раз всего и пропустили. В обед заскочил домой за диском, а там сборы, сумки, Наталья всё самое дорогое из шкафов достает, укладывает, фотографии так и остались на столе. Такси вызвала, кофе в чашке остывает. На воротничке крошки. Он всё тянулся к воротничку, стряхнуть. А она всё отводила и отводила его руку нетерпеливо: «Ну не начинай, Павлик, ладно? Вот только давай без этого». А он снова руку тянул. Некрасиво же — крошки на воротничке. Его жена всегда была такая красивая, наряжаться любила, любила, чтобы все было с иголочки, такая она у него была, Наталья. Сказала — давно уже роман, свидания, цветы, солидный человек, достаток, жизнь. «Ведь там жизнь», — сказала. Обещала решить вопросы с дочерью. Так и сказала «решить вопросы». И уехала. Только чашка осталась на столе и блюдце с крошками.
Весна была, а уже зима. А толку-то — плюс пять весь декабрь. Настя праздника ждет, а какие праздники в слякоть? Ни снежка, ни морозца, снулое всё. Батареи дома воют волками. Одно спасение — залив. Вот уже два дня Бусинка с надеждой смотрит на градусник, где тонкая красная змейка, наконец, дрогнула и робко втянула голову в плечи, уползла под ноль. А к субботе, пока все спали, стужа дыхнула в окно с такой силой, что нижние деления потонули в льдистых разводах, обещая яркое солнце днем и ясные звезды в ночи.
Так что упаковывались на совесть. К привычной утренней суете с кашами, потягушами, добавилась напряженная перекличка в прихожей:
— Настя, носки. Вторые носки, Настя. Где рейтузы? Не эти. А на батарее? И варежки со снежинкой! Ну Буся, ну казя-базя.
На их языке это могло означать что угодно. И «всё, приплыли», и «дай пять», и «кончай капризничать», и «давай повозимся», но в данном случае это значило «шевелись, опаздываем».
Наконец, добрались. Павлик на плоский камень у воды усаживается, Буська носится по склону, заводя игру в прутики, шишки, сучки. Солнце лупит изо всех сил, но тщетно. Воздух студеный, зримо дрожит от холода. Затаил дыхание лес, угасают терпкие запахи прелой листвы. Снега нет с прошлого года, и траву бьет озноб, она встает дыбом, как волосы на руке, если в форточку курить. Парит над водой невесомая, любимая их скала, сейчас блескучая от инея и чужая, словно больничная стена, покрытая битым кафелем. Чуть вдали от берега уже нарастает на глади залива тонкая короста льда, пока еще прозрачная настолько, что видно, как волна мерно оглаживает свой панцирь изнутри.
Камень, на котором Павлик сидел, был по самые ноздри утоплен в воду, трудно дышал, отплевывался, когда волна особенно докучала, гнал ее от себя. А она всё лезла со своими мокрыми поцелуями. Горизонт был совсем рядом, стерся в белесом мареве. Не понять: вода, небо ли, ни земли, ничего. Кажется, протяни руку — и вот он, другой берег, но сколько ни смотри — нет там берега, одна пустота. Где-то там, за пустотой, жила теперь его Наталья. Павлик воровато сунул руку в воду. Вода была холодная, как кипяток. Заломило кисть, отнялись пальцы. Запястье ритмично заполыхало, жар побежал выше, добрался до ребер, ударил под дых. Мир цепенел, и только вода медленно вздрагивала в такт биению его сердца.
— Не сиди на холодном, детей не будет! — радостно огласила Буська справедливые глупости воспитательницы из садика, Галиныванны. Она была совсем близко, оказывается. Собирала камешки. Цвета благородные, неброские — темная терракота, мокрый асфальт, песчаный пляж — сейчас где-то там, у них, в Скандинавии, природные цвета — это модно. Хюгге, приглушенное счастье, добротный покой, не напоказ, без излишеств. Бросала недалеко в залив — хлюп, хлюп. А ему казалось — пульс в воде вздрагивает.
Он протянул ей другую, живую руку.
— Папа, ты любишь природу? — тут же спросила Буська, пристраиваясь в его ладони. Окончательно вынырнув, он медленно произнес:
— Люблю.
— Нам в саду говорят, что природу надо любить и беречь.
— Я буду беречь, — пообещал он, забирая в щепоть все ее быстрые горячие пальчики. Поднял на руки, встряхнул. Поцеловал щеки, полные детской розовой жизни. Поцеловал так бережно, словно боялся, что порежет своими колючими губами, и вся эта веселая розовая жизнь улетучится. Старался не дышать на нее, ведь накануне, по пятницам, он позволял себе три банки «Балтики» в компании с разбитным Власовым, который знал, всё знал с самого начала, только не знал как сказать. Власов, уговорив пиво, обычно уходил на блядки и всякий раз звал с собой, но Павлик всякий раз отказывался, сидел дома, слушал, как спокойно посапывает Буся, ждал, не звякнет ли в прихожей.
Вдалеке заурчало. Красный катерок ходко шел по открытой воде, запрокинув голову, будто пел во все горло. От него разливалась к берегу шелковая волна. Она дошла до ледяной кромки, потянула за край, тряхнула, и с тонким мелодичным звоном лед пошел кружевными трещинами, распался на осколки, зашатался на зыбкой поверхности. И пока не утих звон этих крохотных колокольчиков, отец и дочь так и стояли молча, переживая миг острого нежданного счастья.
— А давай завтра Деда Мороза позовем, — внезапно предложил Павлик.
— Власова? — оживилась Настя.
— Можно и Власова, но мы и настоящего Деда Мороза позовем.
— Со Снегурочкой?
— Можно и со Снегурочкой. — Павлику неожиданно стало жарко.
— Казя-базя! — радостно взвизгнула Буська и, не дав опомниться, с размаху налетела ему в бок, обхватив руками и чуть не уронив. На их языке это могло означать что угодно, только сейчас они еще не знали, что.
Онемевшая рука наливалась теплом. Павлик отряхнул себе штаны, у Буси сапожки отер. Они зашагали к дому. По пятам за ними, трудно вздыхая и безбожно опаздывая, уже шла по небу снежная туча, как тетка с тугими сумками из продуктового, добывшая к новогоднему столу все необходимое и даже чуть больше — на праздник не повредит.

Как вас зовут?
Я сижу на больничной кровати по-турецки и разглядываю себя в зеркало. У меня светлые волосы, короткая стрижка и голубые глаза. Большой выпуклый шрам на лбу уже стал бледным, синяки под глазами исчезли. Мне вчера сказали, что у меня приятное лицо. Наверное, обычное лицо, если бы не шрам. В дверь постучали, раздалось привычное уже «кхе-кхе», и зашел мой лечащий врач Александр Иванович. Всегда узнаю его по этому покашливанию и по спокойному, бархатному голосу.
— Ну, что же, Мария Николаевна, вы практически здоровы и я вас выписываю. Конечно, необходима еще реабилитация, приезжайте на консультацию к нашему неврологу.
— Я смогу опять работать?
— Да, с вашей специальностью, — он заглянул в карту, — я не вижу противопоказаний. Привыкнете, кхе-кхе, к новому состоянию и выходите на работу. Имейте в виду, с такой аварией вы еще хорошо отделались. Все могло быть намного хуже.
— Я не знаю, как я с этим справлюсь. Я боюсь. Я даже себя не узнаю!
— Помните, о чем мы говорили. Вы можете запоминать голоса, манеру говорить. Запоминайте движения, походку, рост. Внимательнее к деталям! Одежду… хотя нет, это ненадежно. Люди с прозопагнозией живут долго. И полноценно, ну, почти полноценно. Ну же, не расстраивайтесь так, не надо плакать, вас там муж с детьми в приемной ждут.
— Вы проводите меня?
— Вы сами справитесь, все будет хорошо. До свидания. — Он одобряюще похлопал меня по плечу и вышел из палаты. И тут же его лицо исчезло, стерлось навсегда из моей причудливо работающей памяти.
Я взяла сумку со своими вещами и побрела к выходу. Неразличимые серые лица. Как будто все они надели одинаковые маски. Кто-то желает мне счастливого пути. Я улыбаюсь бестолково и застенчиво, желаю им в ответ скорейшего выздоровления. На первом этаже подхожу к приемной, выглядываю из-за стекла. Черт, там несколько детей. Вот эти двое играют в планшет, оба по возрасту как мой сын. Еще какие-то люди, мужчины и женщины. Девочка с косичками. Она?
— Женщина, вы будете проходить?
— Да, извините.
Делаю глубокий вдох, толкаю дверь, выхожу, оглядываюсь.
— Мама, мама! — Парень в красной футболке бежит мне навстречу и бросается на шею.
— Мама пришла! — Девочка с косичками обнимает меня.
Целую их, обнимаю в ответ, тормошу. Они такие знакомые, теперь я узнаю их на ощупь, по запаху их волос, по тысяче мелких черточек.
— Мама, у тебя шрам, как у Гарри Поттера!
— Да, и я теперь могу немного колдовать.
— Наколдуй мне что-то! Наколдуй playstation!
Подходит мужчина, целует меня:
— Маша, привет, выглядишь намного лучше, чем вчера.
— Все утро делала укладку и макияж.
— Ты даже улыбаешься сегодня по-другому. То есть, как раньше.
— Я просто очень рада вас видеть! Мы сейчас домой поедем?
— Да, мы все тебя уже заждались.
— А мы с бабушкой испекли тебе пирог!
Какая-то светловолосая женщина стоит рядом с нами и смотрит на меня в упор. Ненавижу, когда меня так бесцеремонно разглядывают, особенно после этой аварии. А может, у меня просто сдали нервы.
— Вам обязательно так на меня пялиться? Это просто неприлично! У меня что-то не так с лицом?
Она молчит и продолжает смотреть. У нее текут слезы. А еще у нее дрожат руки, руки старой женщины. Ну, что ж. Им придется к этому привыкнуть. Нам всем придется привыкнуть. Я теперь часто буду задавать этот вопрос.
— Извините, мы знакомы? Как вас зовут?
***
10 сентября хх г.
«Мамочка, привет! Уже месяц прошел, как я вернулась домой. У нас все отлично. На улице красота — золотая осень. Теплое солнце, голубой, звенящий, прохладный уже воздух и ковер из красно-желто-оранжевых листьев, которые пахнут чем-то пряным, как булочки с корицей. Я начала работать удаленно — занимаюсь переводами. Вот и пригодился английский, не зря я столько лет с ним в школе мучилась. Еще взяла учениц — пока только двух девочек, но мне нравится преподавать. Дети в порядке, Андрей работает целыми днями. Спасибо тебе, что помогла мне после больницы, я была в таком ужасном состоянии тогда. И прости, если можешь, за те слова… Не знаю, как закончить, люблю, твоя Маша».
5 октября хх г.
«Мамочка, привет! Ты просишь подробнее написать про детей. Была вчера на футбольном матче, Саша играл, я болела. Их команда выиграла, 3:2. Представляешь, Сашка забил 2 мяча! Знаю, что спросишь: нет, не видела, он сам рассказал. Но я болела громче всех. А Катя вчера вечером сказала, что выкрасит волосы в красный цвет, чтобы я всегда издали ее узнавала. Я расплакалась. Андрей много работает, без конца командировки. Чувствую себя хорошо. Как ты? Целую, Маша».
3 ноября хх г.
«Мамочка, привет! У нас стоят хмурые ноябрьские дни. Сегодня ходила за покупками в торговый центр и по дороге ботинками загребала опавшие листья, уже не яркие осенние, а какие-то грязно-бурые. Дул холодный пронзительный ветер. Прохожие кутались в шерстяные шарфы, поднимали воротники пальто. В последние дни меня охватывает какое-то безнадежное уныние. Как будто внутри меня поселилось серое чудище, и оно давит мне на сердце, не давая дышать, жить и радоваться. Я знаю, откуда оно появилось. Андрей стал каким-то чужим. Как будто это и не он вовсе. Это трудно объяснить, особенно когда не видишь мимику, но — другие интонации, тон другой, насмешливый, что ли, и еще. Наверное, мне показалось, но от его рубашки пахнет чужими духами. Не отправлю это письмо. Целую, Маша».
20 ноября хх г.
«Мама, привет! Рада, что у тебя все в порядке и ты здорова. Дети учатся хорошо. У меня много работы — три перевода отправила на прошлой неделе, еще два на этой. В прошлые выходные мы с Андреем ходили в гости к нашим старым друзьям. Хозяйка как-то неудачно пошутила: “Мой муж ничего не видит дальше своего носа”. А Андрей тут же подхватил: “Это еще что, Маша вообще не отличит меня от нашего восьмидесятилетнего соседа!” Повисла пауза, всем было очень неловко. Я вечером спросила:
— Андрей, зачем ты так?
— А что, мне пошутить нельзя? Мы теперь всю жизнь будем в трауре жить?
Я обиделась, а он даже не заметил. Заснул через пять минут. Это письмо опять не отправлю. Это и не письма уже, а дневник».
20 декабря хх г.
«Мамочка, привет! У нас настоящая зимняя погода, выпал снег и холодно. Город уже украсили перед Рождеством, все в разноцветных огнях, празднично и пахнет елками. Мы тоже купили живую елку и вчера украсили ее вместе с детьми. А потом включили музыку и вокруг елки с ними плясали; я совсем развеселилась, как раньше. Я ходила уже на новогодние утренники к ним в школу, мне очень понравилось. Ну, свои дети всегда умиляют. В эту субботу пойдем на корпоратив на работу к Андрею. Он меня спросил, хорошо ли я себя чувствую и точно ли хочу пойти. Но я ответила, что мы вместе ходили каждый год, и этот год я тоже пропускать не хочу. Уже купила платье. Ждем тебя на новогодние каникулы. Люблю тебя, Маша».
25 декабря хх г.
«Ужасная метель весь день и всю ночь. Были на корпоративе у Андрея. Сначала все было нормально, мы с кем-то болтали, шутили, шампанское выпили. Потом Андрей извинился, сказал, что ему надо отойти на пять минут. И исчез. Я уже со всеми знакомыми поговорила, наверное, уже час прошел, я стала его искать. Понимаешь, как мне это сложно. Вышла на балкон и увидела его. Он стоял с какой-то блондинкой в обнимку, пьяный уже, он ее целовал. Он меня сразу увидел, но сначала подумал, вдруг я его не узнаю. Я не всегда могу с такого расстояния узнать даже родных. А потом по лицу моему понял, что я его вижу. Тогда он подошел ко мне вплотную и сказал: “Ты сама хотела сюда пойти. Ты хотела узнать. Теперь ты знаешь. Смотри!” И захохотал, и она тоже смеялась, а потом он снова полез к ней целоваться. А еще этот запах духов. Тут у меня закружилось все перед глазами, и я, кажется, упала. Не помню, как я попала домой, кажется, кто-то меня посадил в такси. Дети спят, ничего не слышали. У меня путаются мысли. Ночевать он не пришел».
26 декабря хх г, утро.
«Дорогая мамочка! Мне сегодня приснился замечательный сон. Вообще, мне давно не снились лица людей, а вчера приснились вы с папой. Мы с вами вместе были в Венеции, на площади Сан Марко, знаешь, это где все выпускают голубей. Вы еще молодые и очень красивые, а я маленькая. И я ваши лица, и свое лицо в детстве вспомнила! Мы с вами втроем выпустили голубей в небо, они улетели высоко, и тут пошел снег. Представляешь, снег в Венеции! А папа говорит: “Это хорошая примета, это к долгой и счастливой жизни”. Очень тебя люблю. Целую. Маша».
27 декабря хх г. Сводка новостей.
«Вчера вечером в Юго-Западном округе Москвы под окнами дома было найдено тело женщины, 35 лет. Проводится следствие, опрошены муж и соседи погибшей. По предварительной версии, это самоубийство. У погибшей осталось двое несовершеннолетних детей».

Китайские методы управления энтропией
1 Белый коуч
Возвращался домой, решил прогуляться пешком, отпустил водителя. Отмечали получение паспорта готовности оборудования к зиме, отмечали хорошо, повод достойный, да ещё и пятница — сам не заметил, как вильнул на проезжую часть, получил удар бампером под левую коленку, развернуло в воздухе, бросило на капот, головой чуть стекло парню не выбил, дворником оторвало рукав пальто, весь правый бок в синяках, нос разбит, на капоте вмятина от моих 105 килограммов.
Выходные — отлежаться дома, в понедельник на работу. И всё же, не успей он резко затормозить, или лёд, или дождь… Трёхлетняя БМВ не подлежала бы восстановлению, как и сорокатрехлетний идиот. Местные хроники происшествий сообщили бы об ударном завершении карьеры…
Случайность, подброшенная монетка.
Белый коуч учил: из ста человек у пятидесяти монетка выпадает орлом — повезло родиться в хорошей семье. У меня — орлом! Повезло с отцом, научил жизни, да и — что скрывать — помог безбедно прожить студенческие девяностые.
Из пятидесяти счастливчиков второй раз монетка орлом у двадцати пяти: хорошие учителя. У меня хорошая школа была, физмат-уклон, технический кружок.
Но каждая новая монетка, чтобы лечь правильной стороной, требует усилий уже от тебя, всё больше и больше. Из двадцати пяти отличников и хорошистов у тринадцати орлом — в молодости не занесло, выучился, получил профессию. Меня — не занесло.
Из тринадцати выпускников — семь орлов: с работой повезло. Мне — повезло, крупнейшая электростанция в городе, молодой инженер-ремонтник.
Из семи монетка орлом у четырёх — освободилась вакансия, и вот я в филиале, самом крупном в энергокомпании, руководитель отдела ремонтов.
У двух из четырёх — представится случай. У меня — прорыв теплотрассы в январские праздники: руководители на отдыхе за границей, морозы под минус 20. Замерзает микрорайон — пятьдесят тысяч жителей. Взял управление, несколько суток не вылезал из траншеи. Справился, сменил кресло на технического директора. И вот я уже среди двоих из ста…
Для местной прессы — герой, а в мэрии напряглись: куда метит этот выскочка? Снова подброшена монетка, заряжена прокуратура — не превышал ли полномочия при ликвидации аварии? Ну да ладно, мы на кресла мэрские не претендуем — интервью давал, бу-бу-бу, сыпал профтерминами, благодарил город и область за помощь… Пресса отстала, наверху радостно выдохнули: хороший руководитель, не лидер. Иногда не нужно показывать выпавшего орла, прикинься решкой — орлов частенько отстреливают. Но там, где ведут учёт монеток, орла зачли. Один из ста.
И вот — вчера — снова подброшена монетка: один из ста или ноль из ста? На этот раз упало на ребро, и ребро ныло всю ночь…
2 Чёрный коуч
«Проблемы с алкоголем» — так сейчас это называется. Если ни одна встреча с друзьями не обходится без виски (и сверху пива, ведь они ячменные, поэтому «стыкуются»), или без водки (и снова сверху пиво, чтобы как в студенческие), или без коньяка (он заканчивается и завершается водкой). А походы с коллегами, а календарные и домашние праздники? И вот теперь этот удар!..
Чёрный коуч — с ним познакомился два года назад на корпоративном семинаре — помог бросить курить.
— Ты же теплотехник, представь свой организм как систему труб. Так вот, курево забивает шлаком, а алкоголь — промывает!
Да, читал — увлекавшийся алкоголем и никотином умирал раньше, но это списывали преимущественно на алкоголь, хотя никотин вносил куда бо́льшую лепту. Было такое — по семь раз выбегал на улицу покурить за углом. Левой рукой выхватывал пачку, большим пальцем открывал крышечку, правой указательным и большим уже вытаскивал одну, мизинцем и безымянным сжимая зажигалку, тут же в рот, позвоночник уже согнут, и зажигалка уже услужливо даёт пламя, а левая с пачкой заслоняет от ветра. Но однажды бросил — просто увидел все эти движения со стороны, отойдя от себя на один шаг. Увидел, как они прорезали в мозгу глубокую нейронную цепочку-колею, схватил за один конец этой цепи и вырвал её с корнем. Почти полная пачка, а вслед за ней и зажигалка по широкой дуге отправились в урну. И больше никогда оттуда не вылазили.
Теперь, когда никотин уже не шлакует, «промывки для труб» стало многовато. Ещё одна встреча с Чёрным коучем.
— Алкоголь — это способ увеличить энтропию, хаос и беспорядок. Сейчас я научу тебя идти против хаоса.
Массаж точек на три пальца ниже боковой части колена, с внешней стороны голени, в начале длинной малоберцовой мышцы. Не верил, что тело — это пульт с кнопками-активными точками. Одна из них (внезапно!) снижает последствия выпитого, возвращая мозг в трезвый режим.
Утром, днём вместо обеда, в перерывах в своём кабинете, запершись изнутри, становлюсь на одну ногу, развожу руки и закрываю глаза. Снова и снова. Мозжечок, ответственный за координацию, теряет зрительную опору и начинает лихорадочно опрашивать всё подряд — орган за органом, мышцу за мышцей, пытаясь противостоять гравитации и удержать тело в равновесии. Это как перезагрузка Виндоуз: активируются все системы и приложения.
Перешёл на зелёный чай и цикорий вместо кофе, ежедневную медитацию, стояние в планке. Коллеги начали переглядываться и иронично улыбаться. «Другим в твоём возрасте бес в ребро, а тебе — в голову!»
3 Сам
Когда быстро прогрессируешь, начинаешь отрываться. И не только от себя прежнего, но и от тех, кто рядом. Не идёшь с друзьями — «там же пьянка, а у меня режим», чувствуешь расстояние с коллегами, родственниками… Постепенное превращение в стерильного удачника. У него не выпадает решек, но и орлов давно не видно: монетку перестали подбрасывать. Если ты принципиально не пьёшь шампанское, то и рисковать тебе ни к чему. Спасибо тебе, Чёрный коуч!..
…И прощай. По новой привычке проснулся в 6:30 без будильника, ещё темно, смотрю в потолок — сегодня корпоратив. Вчера отказывался идти, чуть до скандала не дошло. Все руководители — со своими подчинёнными, один я…
Решено — иду. Иду на корпоратив, не могу подводить коллег.
Звук мотора — подъехал водитель. На потолке в подвесной лампочке мелькнул отблеск включенных фар, как будто… Монетка?

Красная тесьма
Деревня маялась под июньским солнцем: самый долгий день, самая короткая ночь.
Над дворами, над дорогою, щедро изрытой колдобинами, над голым пятачком перед домом деревенского головы — всюду — облаками, большими и малыми, стояла горькая рыжая пыль. И все же у колодца толпились бабы: таскали красными руками тяжелые ведра, ворочали кадки, мяли вальками мокрое, истомленное на жарких камнях белье. И полоскали, полоскали, полоскали — на солнцепеке да в студеной воде — с утра до полудня.
Река с ивушками вдоль белого каменистого берега, с теплой проточной водой была рукою подать — сразу же за околицей. Но бабам ходить туда возбранялось.
«Заразу принесешь», — ворчал дед, скреб березовой палкой пыльную землю у крыльца, а затем, сплюнув, тащился в дом. От греха подальше.
У реки отдыхали миряне: нечасто, по каким-то своим праздникам. Сенька видела их лишь издалека, да и то украдкой. Чем они отличались от тех, кого встречала она когда-то в заброшенной теперь деревенской школе или на рынке возле полустанка, куда раньше брал дед, а муж ходить запрещал, Сенька не знала. И все же в дни чужих праздников к реке не совалась — боязно.
Вот только чего бояться, когда все страшное — здесь, в родном кругу. Бабы эти, все как одна — бесформенный куль; их грубые натруженные руки, чумазые дети (всех развлечений — возиться тут же, у мокрых, сопревших материнских юбок). Пыльные дворы, иссохшая ботва на огородах, предвещавшая зимнюю нужду да неустроенность мужниного дома, в котором пришлось стать хозяйкой, едва исполнилось шестнадцать.
Трудов Сенька не боялась, приученная дедом сызмальства, стерпелась и с молчаливыми душными вечерами наедине с мужем. Но от бабских лиц, выцветших и усталых, от жалоб тихих, что перемежали пустой треп, хотелось броситься прочь. Не к реке, так к малиннику, ближе к лесу. Спрятаться там, в тени у оврага, переждать жару, чтобы вернуться к вечеру, когда уберут с глаз долой ведра и кадки, и можно будет сидеть в одиночестве на каменной приступке. Слушать и слушать, как затихает не тревоженная более колодезная вода, да смотреть на дорогу, убегающую прочь.
Но то, что позволено девице, не позволено бабе: добра будь, майся в пыли, стирай, выжимай, развешивай. А вечером давись скромным ужином в доме свекра и смиренно кивай на каждый упрек. Для того ведь тебя и брали — третьей уже женой — чтобы было кого попрекать за то, что в доме головы до сей поры не слышно внукова смеха.
«Тесьму красную под рубаху повяжи», — напутствовала свекровь перед тем, как сын ее увел новую жену в недолго пустовавший, но быстро затянувшийся паутиной дом. Шептала жарко, загнав и без того напуганную Сеньку в темный угол часовенки, и трясла большими студенистыми руками, и те казались куда убедительнее слов.
Сенька глупа не была и быстро смекнула, что беда была не в ней, а спасение, конечно, не в красной тесьме. Но сделала, как велено. И первой ночью, пока муж — чужой потный дядька, с которым раньше и словом перемолвиться не пришлось, — пыхтел над ней и вколачивал в стену резную спинку кровати, Сенька мяла пальцами простынь и уговаривала себя потерпеть. Придет время, и третья невестка станет негожа: вернется она тогда в дедов дом, и никто к ней больше не притронется.
***
Дни в супружестве тянулись тяжело и скучно. И все же минул год: осталась позади голая, суровая зима, и лето вновь стояло на самой своей верхушке.
Год этот Сеньку не пожалел: вроде жили впроголодь, а все же оплыла и расползлась, как размокший хлебный мякиш. Ходила тяжело; дышала, застуженная еще в просинец, надсадно, сквозь хрипы. Но не сдавалась. Даже нашила к лету нарядных передников да косынок, хотя в деревне долго потом косились, а кто-то даже шепнул деду: «За порченой бабой теперь не усмотришь, каждый попробовать норовит». И только свекровь отчего-то радовалась и даже напевала что-то нежное сыну, пока тот смотрел на жену пустыми подслеповатыми глазами.
«Нутро женское заиграло», — различила Сенька свекровин шепот в другой день, да только пожала плечами. Что от того нутра пользы?
Кровь исправно приходила каждую Луну, а муж еще исправнее избегал случайных даже прикосновений. И только после собраний в доме головы, вернувшись домой затемно, наваливался порой на Сеньку, тыкался не глядя куда-то меж ее бедер, чтобы быстро залить одеяло и подол рубахи липким семенем, а утром велеть: «Постирай». И тогда все в деревне видели и знали, что ночь он провел в праведных трудах над молодой женой.
Но никто не ведал, что каждую Луну Сенька пробиралась огородами на дальний край деревни, в маленький домик с вечно закрытыми ставнями. Пробиралась, кутая в передник то нехитрое, что могла унести: связку вяленой рыбы, дюжину мелких яиц или пышный, горячий еще чесночный хлеб. А домой возвращалась, стараясь не звенеть крохотными бутылочками, что получала в обмен.
Что в тех бутылочках было, Сенька не спрашивала, но в вечера собраний, пока шаги воротившегося мужа скрипели в сенях, щедро смазывала себя под рубахой теплым и вязким. И только спрятав бутылочку в зазоре меж деревянных половиц, повязывала вокруг талии красную тесьму.
Могло подвести снадобье, которое и раздобыла-то, чтобы не надеяться на авось; могла сработать истрепавшаяся за год тесьма — всякое могло бы случиться. Но смотрела теперь Сенька на переругивающихся у колодца баб и давила в груди тоскливый сучий вой.
Кровь не пришла: ни в эту седмицу, ни в ту, что минула ранее.
Да только не снадобье и не тесьма повинны в том были — черноглазый пастушок, так похожий лицом и на свекра ее, и на мужа. Проклятый мирянин, что жил за околицей у дальней овчарни. Подкараулил как-то ночью под чужими расписными ставнями, повалил в траву…
Закричать Сенька не посмела, вырваться не смогла.
Домой воротилась, когда все окна в деревне погасли. Долго мылась над кособоким ведром, напрудившим грязную лужу; долго терлась жестким полотенцем. В кровать к мужу не легла — прикорнула на лавке.
Заветная бутылочка так и осталась где-то в траве…
Наутро заявилась свекровь, принесла теплого питья и мелкой, кислой черешни. Смотрела внимательно, улыбалась лукаво. И вновь шептала горячо, и вновь трясла руками:
«Спасибо скажи, дура! Я для тебя же старалась! Через год вернули б тебя деду, как протухшую рыбу, а так, повезет — ребеночка понесешь. Не с первого раза, так со второго. И пусть мирянин: кровь-то с моим мужем одна, не бойся, не догадается никто…»
Сенька не дослушала: схватила за плечо, вытолкала в сени. А потом плакала, долго и горько, зарывшись лицом в изорванный сарафан.
Второго раза не понадобилось.

Красное платье
Свидание вслепую. Двое познакомились в Сети. Встретились в кафе, чтобы посмотреть друг на друга и пообщаться. Она — женщина-подросток, маленькая, худая, очень короткая стрижка, джинсы, рюкзачок. Работает медсестрой. Он — высокий, полный, медлительный, в дорогом костюме, юрист.
Заказали кофе и десерт. Звякнула ложечка в чашке капучино.
— Так какую женщину вы хотели бы встретить?
— С чувством юмора.
— А еще?
— Женственную…
— Длинные волосы, платья, высокие каблуки, чувствительность, умение слушать, доверять мужчине? Что-то такое? Что будете делать, когда такую встретите?
— Радоваться.
— Забыла еще — хитрость. Настоящая женщина, мне кажется, должна быть доброй, но немного хитрой. Иначе ей не выжить среди мужчин. Еще она наверно пива не пьет. Только вино. Или шампанское. Ну, может, коньяк. Дорогой.
— Если хитрая в нужную для обоих сторону, то в целом портрет довольно привлекательный. Хотите сказать, что все перечисленное вам чуждо?
— Ну да. Еще чулки и красное белье. Или платье какое-нибудь красное. Ну почему? Не так уж и чуждо. Коньяк тоже хорошо. Но нет длинных волос, и платья — редкость. Обычно — джинсы, кеды. Так гораздо удобнее. Бегаю же много. Кроме поликлиники, подрабатываю патронажной сестрой. Так что каблуки — не мое. Да, и вот не так давно при покупке пива попросили паспорт. Не поверили, что мне есть восемнадцать. Причем уже очень давно.
— Прекрасно выглядите…
— Спасибо. Женственность сейчас вообще редкое качество. Ей же нужна благополучная среда. Или это природное. Много женских гормонов. Такие женщины обаятельные и эмоциональные. У них толпы поклонников, и они не сидят в Сети. А мужчина тогда рядом с ней должен быть очень уверен в себе. Иначе она растечется, как кисель, со своей женственностью и слабостью.
— А кто говорил о слабости?
— Ну вот к нам тут приходила такая женщина, лет под сорок, высокая, крупная как бы, блонда. Я бы не хотела такой быть. Ребенка приводила в поликлинику. Бедром покачнула, все мужики в ее сторону повернулись, включая врачей. Может, та самая «женственность»?
— Прикол понятен. У всех свой размер индекса привлекательности. Но женственность — это не покачивание окороком. Это внутри. Это состояние души и характера. Это отношение и взгляд на происходящее…
— Согласна. Но внешние проявления тоже какие-то есть. А так, наверно, добрая, тихая, любящая и жертвенная. Как декабристка. И на край света поедет. Это все красиво. А жизнь такая, что приходится быть жестче.
— Фокус именно в том, чтобы не растерять эти качества, без оглядки на суровую жизнь.
— А вам такие встречались?
— Очень давно…
— Здорово. Значит, есть с чем сравнивать и к чему стремиться. Но такого идеала может ведь и не быть. Или добрая, но не тихая. Или взгляды на происходящее несоответствующие. Шутка. Действительно, сокровище ищете. Почему-то мне пришла сейчас в голову мысль, что «суровую жизнь» вы ей обеспечите. Не в материальном смысле, а в моральном. Даже не знаю, почему так вдруг подумала. Только без обид.
— Ну, не знаю…Я очень много работаю, можно сказать, пашу. Не всегда могу уделять много внимания…
— Повторяю, без обид.
— Никаких обид. Да вы, в сущности, правы. Хотя я всегда за то, чтобы не усложнять жизнь окружающих. Я вас оставлю ненадолго, нужно сделать пару звонков.
— Не вопрос…Закажу еще кофе.
— Разумеется.
Он вышел на крыльцо кафе, закурил, глубоко затягиваясь. Достал айпад и некоторое время бессмысленно смотрел в экран. «Какого черта? — подумалось ему. — Когда все это закончится?»
Не зная, на что решиться, он вернулся в кафе и, подойдя к бару, заказал 150 коньяка. Уйти сразу он не мог, оставаться — не хотелось.
Дома ждал затянувшийся на три года ремонт, сваленные в коридоре упаковки ламината, бардак на кухне, недочитанные дела, ампулы инсулина…
Поколебавшись еще немного, он вернулся к ее столику.
Она тоже копалась в своем мобильном. Глянула слегка осуждающе.
— Алкоголь?
— Коньяк согревает душу. Предлагаю перейти на «ты». Не против?
— Да нет…
— А знаешь, что? — произнес он, не до конца веря сам себе. — А давай я тебе это хреново красное платье подарю?
— Интересное предложение. Обсудим, попозже. Может быть… Пора мне, на работу надо бежать. Давай, созвонимся. Спасибо за кофе!
Хлопнула закрывшаяся дверь. Он остался сидеть, глядя на свои руки, лежащие на столе. Собственные ладони казались ему огромными, несуразными.
Пискнул сигнал сообщения.
От нее.
На фотографии 15-20-летней давности — она. Сердце сделало кульбит, не сразу вернувшись к привычному ритму. А он все смотрел на этот отблеск летнего райского утра — ее высвеченные солнцем, рассыпанные по золотым загорелым плечам волосы, сияющие глаза, и рядом свое молодое, растерянное и счастливое лицо.

Лидка
— Когда же пойдем, давай сегодня? — Руфка бежала рядом с тропинкой по снежной целине, но Лидка молча шла по тропинке. Дошли до дома. Положили книжки и тетрадки. Матери послали их купить хлеба. За ними увязалась Руфина сестра Майка:
— Зачем взяли санки?
— Надо так, не встревай! Вот варежки мокрые у нас, беги домой, положи сушить, потом нас догонишь.
Майка надулась, но пошла: младшие должны слушать старших. А девчонки свернули в противоположную от магазина сторону.
Солнца не было, но было светло от засыпавшего все снега. Они шли быстро, а санки на короткой веревке постоянно догоняли и били их по ногам, словно торопили: «Иди быстрей, иди быстрей». Миновали крайние дома и пошли в соседний поселок по хорошо накатанной дороге.
В поселке на рыночной площади увидели елки из леспромхоза. Хмурый старик хотел прогнать их. А когда узнал, что они покупатели, стал показывать елки. Денег у них хватило только на самую маленькую, но дед махнул рукой и выбрал пушистую елочку ростом чуть поменьше Руфы. Он обмотал колючие ветки веревкой, привязал деревце к санкам и перекрестил девчонок на дорогу.
Пошел мелкий колючий снег. Вдруг мимо них проехали сани, потом другие. Девчонки замахали руками:
— Дяденьки, дяденьки! Подвезите!
Но сани катили дальше. Тощий мужик на последних, груженых наполовину, придержал лошадей и сердито прикрикнул на них:
— Садитесь быстрее, дурехи!
— Спасибо! — закричали они, усаживаясь на краю. Возница дернул вожжи, и лошадь пустилась догонять обоз.
Вот удача: домой подвезут! Они по очереди держали веревку от санок. Колючий снег пошел сильнее. Ветер бросал его пригоршнями в лицо, за шиворот, обжигал красные, как лапы гусей, руки девочек. Вдруг веревка выскользнула из окоченевших пальцев, и санки остались позади, как будто елка решила вернуться обратно.
— Дяденька, дяденька, останови!
Но возница торопился. Девчонки свалились с саней в снег и пошли выручать елку. Потом вместе потащили тяжелые санки. Шагать по дороге, взрытой лошадьми и санями, было трудно, а метель превратилась в буран. Снег летел со всех сторон, залеплял глаза, стекал, растопленный горячими слезами, по щекам. Руфа молчала. Она всегда плакала молча. А Лидка хотела была закричать в голос, но снег заставил ее закрыть рот, и она выла, не разжимая губ. От этого стало немного легче. Так бабы воют по покойникам.
Она вспомнила маму. Как ходили в лес и мать собирала муравьев в большую темную бутылку, чтобы сделать мазь для растирания. Лидка стояла далеко, чтобы муравьи не покусали. Она хотела подбежать к матери, но та хмурилась, качала головой, приказывая стоять на месте.
Потом Лидка подумала, что она лошадь. Лошадь очень устала, еле идет, мотает головой. А возница торопит, зовет ее «голуба душа», просит потерпеть голосом деда, что продал им елку. Но у лошади совсем нет сил, она больше не может идти. Тогда дед сердито кричит ей: «Волки сожрут!», и лошадь идет быстрее.
Снег совсем сровнял дорогу, Лидка, сощурив глаза в щелочки, пыталась ее угадать. Должно быть уж недалеко от дома, но из-за бурана не идешь, а плывешь неизвестно куда в густой снежной круговерти.
Это было в начале лета, когда отец привел в дом маму Дашу с двумя сыновьями — ровесниками брата Володи. Из города приехала сестра Люба, мама сказала, что угостить ее нечем, и послала ребят за щавелем. Щавель рос за рекой, Лидка увязалась за ребятами. Люба намочила и надула наволочку, что дала мама для щавеля. На этом пузыре Лидка и переплыла глубокую, но не очень широкую речку. Собрали щавель, братья сплавали, высыпали его на берегу и вернулись с наволочкой за Лидкой. Переплыли, она увидела, что все уже стоят на дне, и выпустила пузырь из рук. И, прямо за спиной у старшей сестры, Лидка чуть было не стала русалкой. Она махала руками и ногами, но река была сильнее и тянула в глубину. Ее хватился Володя, крикнул Любе, она нырнула и вытащила сестренку из плотной придонной воды.
Вдруг из густой белой пелены выплыли дома с желтыми окошками. Дошли. Новый 1935 год они встречали с елкой. Эту самую первую в ее жизни елку Лидия Ивановна вспоминает до сих пор. Вспоминает всех, кто был рядом и кого уже нет.

Махровая пуля
Он проснулся от тишины — тихо-тихо танцевал по комнате воздух. Пробуждал по одной от глубокого сна большие толстые и тонкие крошечные пылинки, которые, не умывшись, не причесавшись, отрывались от тёплых сидений, полок, боков шкафа и вылетали в центр — на главную театральную сцену.
Они обнимались, собирались в хоровод, торопились скорее выучить движения танцев. И подключались — то к танго, то к мазурке…
А мальчик сидел у края кровати, держался за покрывало и пытался оттаять от долгого сна.
— Скажи, не помнишь? Вчера все было, как обычно, хорошо? — решил узнать мальчик у Утра.
Мама еще спала, и спросить больше было не у кого. Мальчик хотел понять, что случилось в тот день, потому что не помнил, но где-то в голове, в своей памяти, словно на языке, чувствовал привкус чего-то недавнего горького.
Утро молчало. Может, не услышало маленький шепот. Может, было занято…
Саша добрел до ванной, вымыл мягкой водой сонные веки, губы, щеки. Вернулся в спальню и присел на маленькую табуретку у окна. Посмотрел куда-то в большое небо и снова спросил:
— Утро, меня вчера отругали?
Мальчик положил голову на стол, на подушку из книг и учебников.
«Тк-кко-цток», — стукал маятник часов.
«Эх… — Он тер ладонями виски и лоб. — Никак не могу вспомнить, что было этого, третьего, в пятницу?»
Он беспокойно спал и, видимо, правда забыл, что было вчера.
— Са-аш! Ты уже встал? Собери там грязное белье из ванной, принеси вниз — сейчас запускать стирку буду. Потом придешь завтракать, услышал?
«А-а да шт-т… никогда нет времени прийти в себя», — проворчал он.
— Услы-ышал, — протянул мальчик в ответ.
И попытался как-то криво, но улыбнуться.
***
«Раз — полосатая майка. Брюки — два, розовое полотенце — три. Ой, это же то полотенце, с того дня… как я сам решил все вручную постирать. — Он усмехнулся. — И что тогда ко мне пришло, вдохновение? Четыре — папино, еще одно полотенце — пять… Стоп…» — Он рассуждал так вслух, перебирая вещи. Он складывал светлое на сиденье стула, а темное и разноцветное вешал на спинку: на сиденье, на спинку, на спинку, на сиденье, на спинку. Резкие яркие нитки на полотенце с рисунком петуха — такие, казалось, красивые, отозвались как чернильной пулей у него в голове. Во рту снова почувствовал он привкус жесткого и горького.
«Ни-ни…» — Он сорвался на полслога. Как после ожога до мозга вдруг через треть секунды резко доходит боль — так мальчик, малыш, Саша, он, кажется, вспомнил. «Ни-ни-ни…» Ниночка?
Она любила ходить в платьях. А он все время занимал ей место в автобусе. На одном платье, особенно милом… Так вот, на одном платье, у кармашка сверху, у нее была одна небольшая брошка с такой прелестной птицей — петушком. Для любопытных и любительских взглядов. Брошка вся из светлого дерева, расписная, с блестящим бисером.
Но малыш вдруг начал трястись. Затикал, как часы, всхлебывая. Приглатывая кислород. Он выбежал — сбежал из мутной, жаркой, дребезжащей ванной к порогу свежей комнаты.
Опустился на колени, закрыл ладонями лицо и по-настоящему заплакал.
В комнате сквозь слезы он чувствовал духоту. Но окно было открыто, а ему казалось, что начало капать и течь из разрезов в потолке. Будто струи бежали по всем мебельным плечам и телам. И вода сжимала его, его грудь.
Мальчик — как в цепких, страшных объятьях, как в конуре.
«Сашенька, милый, родной!» — сквозь стоячий водяной шум пронесся сильный поток звука.
Мальчик сильнее зарыдал.
«М-м-мам». — Малыш дрожал от какого-то внутреннего холода, не настоящего. Человек голоса тихо заступила внутрь комнаты, нажала на выключатель у стены, и душ перестал.
***
И снова было сухо, и такая же пыль, как в начале утра. Было заметно, как пылинки по-прежнему летают в воздухе.
Мама тихо спросила:
— Что случилось, мой хороший? Что случилось, Сашенька? — и согрела поцелуем его щеку.
— Я-я опять забыл, — прошептал он.
Тогда мама обняла его, закутала в свою нежность.
Они вдвоем — мальчик на коленях, в тепле, как в свертке, — вдвоем сидели так уютно, как сидят у камина.
— Если я помогу тебе вспомнить, будет легче? — и мама обняла его еще крепче. — Тебя кто-то обидел?
— Никто. — Он всхлипнул.
— Тихо-тихо, не плачь… Всё хорошо, не волнуйся… — Она ласково погладила его кудрявые пряди.
— А вчера что-то… было грустное…
Она покачала головой.
— Вчера я получил двойку? Мы с папой поссорились?
— Я не знаю… — Мама внутри себя немного успокоилась, что мальчик стал уже лучше отвечать. — Вчера ты нормально ходил в школу, а я с папой — мы на работу. Все как обычно.
— Понимаю, но… Я сегодня что-то вспомнил, когда перебирал белье — что-то, что случилось вчера.
Солнце за окном зашло за серое облако. В спальне стало темнее. Мама с Сашей не замечали, что свет поменялся, они замечали только, как их дрожащие слова прорывают тишину.
— Что, что ты вспомнил?
— Мам, скажи честно, ты тоже этого не помнишь?
Мальчик чуть отдалился от маминой теплоты.
— Честно. Прости, но…
Она выждала небольшую паузу.
— Не бойся, всё сейчас хорошо. Я думаю, тебе приснился ночью кошмар. Тебе показалось, что то, что было в страшном сне — было по-настоящему. Ты не понял, что это сон. Знаешь, поверь, такое и у меня тоже бывает. А когда что-то случается неприятное, ты ведь всегда мне или папе рассказываешь, так ведь?
Нет, не так.
***
Он проснулся ночью от небольшой мелодии — это сопели танцовщицы-пылинки и солист-воздух.
Мальчик сидел у края кровати, держался за покрывало, смотрел на пустую сцену и пытался оттаять от мыслей и короткого сна.
Рука его дотронулась до наволочки, до одной, слегка выпуклой стороны.
Мальчик слегка раздел подушку, засунул внутрь ладонь и нащупал мягкий, бумажный, потертый конверт с небольшим привкусом горечи внутри.
Все-таки он решился, и вынул конверт, и просмотрел адрес, сверил и вскрыл. Но прежде чем развернуть сложенный лист, он решил обратиться к Утру — а оно, Утро, же ночью спит! Эх. И тогда мальчик сам открыл сложенный лист и сам прогладил темно-черно-синие, такие, чуть выпуклые, слова:
《<…> утром, третьего ноября <…> новость <…> не стало <…>》
Помню, потом пошел дождь.

Перекресток
Мишка вылетел из института.
Дома Мишку, конечно же, ждал скандал — как можно, в наши-то годы и без высшего! Нет, выгнать его не выгнали, но каждый день выносить слезы матери и ругань отца, отвлекающегося ради скандала даже от полировки старой лиловой «Вольво» во дворе…
Так что предложение Романыча упало в благодатную почву.
Романыч, маленький щуплый татарин с непроизносимой фамилией, был одним из постоянных клиентов радиорынка — и Мишки. Он, узнав о неприятностях, сразу же предложил парню работу в Муниципальном учреждении дорожного обслуживания.
— Делов там немного, да и половину нашего железа ты сам знаешь — сам же и делал. Штука вся в обслуживании светофоров. Ну да денек со мной стажером походишь, посмотришь, научишься.
— А что я без высшего, ничего?
— Так не в инженеры же. Ты справишься, я тебя в деле видел. Да и от армейки тебя отмажем — у нас же муниципальная служба. По альтернативке, считай, пойдешь.
— Не знаю я, Романыч, как-то странно и сразу все…
— Не жмись ты, Мишаня, как девица на выданье. Я ж не просто так тебя зову, кого попало к нам не берут, но у тебя в руках электрика словно сама живет. Талант у тебя, парень! Дай-ка я тебе черкану адресок, ты приходи в управу завтра, паспорт только прихвати. Якши?
Управа была похожа на любые муниципальные учреждения — облупившиеся зеленые стены, скрипящие дощатые полы и затхлый воздух с запахом пыли и канцелярщины. Дородная тетка с сединой, закрашенной синькой, сперва долго морозилась, мол, нет вакансий, никого не набираем, но стоило прозвучать волшебному слову «Романыч», тут же сменила гнев на милость. Дальнейшее оформление заняло остаток дня и вымотало Мишку полностью — один только медосмотр в муниципальной поликлинике чего стоил, не говоря уже про подписи в добром десятке бумаг и журналов инструктажей. На следующий день парень вышел на работу — напарником Романыча.
В целом работа оказалась непыльной — ходи себе по перекресткам и ковыряйся в ящиках светофоров. В паре из них пришлось поменять старые релюшки, но в общем — ничего из ряда вон. Вот только к исходу третьего дня…
К исходу третьего дня Романыч ответил на телефонный звонок, после чего, не вешая трубку, достал из сумки здоровый такой пульт с переключателями и подцепился к светофору. Дважды хмыкнул, затем перекинул один тумблер, еще через секунд десять — другой, затем сразу третий. Отключился.
— Пойдем, парень, считай, месячный план сделали.
— В смысле, Романыч?
— А вон туда давай отойдем скоренько, и смотри.
Белая «пятнашка», тонированная в ноль, мчалась по «зеленой волне» под рев прямоточного глушителя. Но именно на том светофоре, где стояли Мишка и Романыч, «зеленая волна» прервалась и на перекресток выехали машины с еще секунду назад красного. «Пятнашка» под визг тормозов влепилась в передний бампер белого такси, от удара ее развернуло и вынесло на газон.
Мишка порывался вызвать автоинспекцию и бежать помогать пострадавшим, но Романыч («у нас свои обязанности, молодой, мы тоже на службе опчества! Смирно, блин! Двигай за мной») уволок его в управу.
— Смотри, Мишаня, ровно этим мы и занимаемся.
— Бьем машины?
— Так все ж не просто так, дурында. Ты школу, как и институт, профукал, или историю помнишь немного? Была такая традиция при строительстве замков людей в фундаменты? А индейцы всякие, ацтеки или как их там, сколько народа перерезали?
— Ну средневековье же, народ темный.
— Вот именно, в средневековье народ был темный. А как поумнел, то понял, что если человека просто в жертву принести, тот кончился — и всё. А если человек теряет что-то, что ему дорого — время, там, или багаж в аэропорту, или настроение в очереди…
— Или тачку?
— Во-во, или тачку. Так если кто-то что-то теряет, то и сам живет и еще нажить чего может, и все остальные приобретают потихоньку.
— Так что, получается, все эти постоянные аварии на дурацких перекрестках…
— И рамки в метро и аэропортах. И проверка багажа, и его потеря, если надо. И еще почты и больницы. И еще до фига… Думаешь, «положить жизнь на алтарь науки» — это просто такая фраза, да? Даже наука без этого не работает.
— Слушай, ну тут все равно как-то… нехорошо. Люди, может, всю жизнь деньги копили…
— Зато он жив останется. С гарантией. Проверено. И дома стоят, самолеты летают, а людей лечат.
— Блин, не знаю я. Не верится. Слушай, а если я об этом в интернете напишу? Или в газету?
— Не верится ему — а тебе кто поверит? И помнишь, как ты подписку о неразглашении давал — знаешь, что с тобой будет, если хоть что-то выплывет?
Романыч закурил, помолчал минуту.
— Ладно, Мишаня, мы с тобой так поступим. Ты сейчас иди домой, выпей пивка, помозгуй. Если завтра не придешь — считай, это была всего лишь стажировка, я Ольгу Александровну упрошу твоим бумагам ходу не давать пока. Но если придешь — спрос с тебя будет на полную, якши? А я пока отчеты заполню, у нас с эти строго.
Домой Мишка пришел в полном раздрае. Мать же опять устроила сцену — со слезами, битьем посуды и криками «Ты должен быть инженером! Мой сын не будет простым электриком!». Мишка подумал-подумал, выкурил сигарету во дворе (чем вызвал еще один сеанс истерики у матери), плюнул, собрал сумку со своими шмотками да и перетащил ее в рабочее общежитие. Больше он с родителями не общался.
А еще через месяц, сразу после того, как на одном из Мишкиных перекрестков разбилась (восстановлению не подлежит) старая лиловая «Вольво», Мишке дали пятый разряд и выдали ключи от служебной квартиры — в одном из тех новых домов, при строительстве которых в лестничный пролет упал рабочий-облицовщик. Так оно, знаете, как-то надежнее будет.
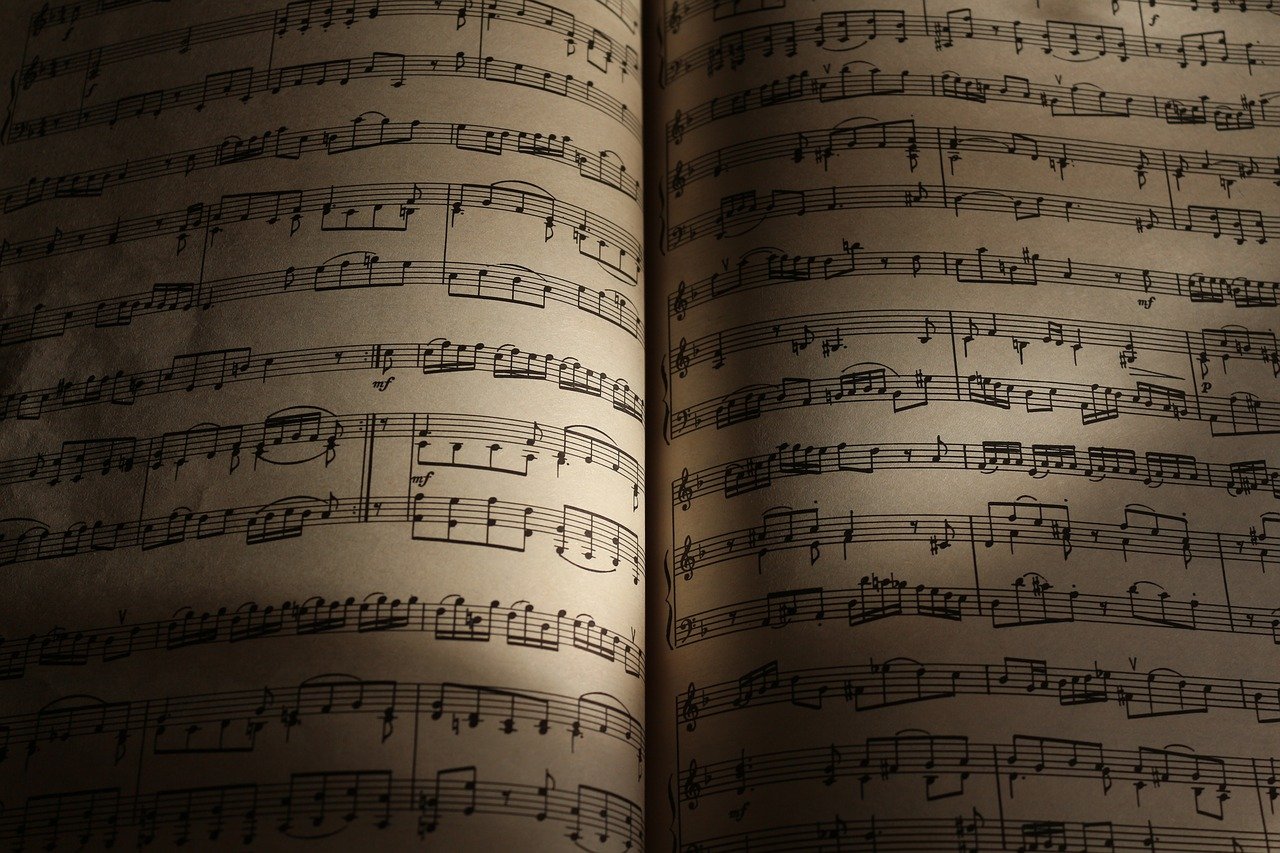
Подарок
Дождь начался в пятницу вечером, когда они под редкими фонарями, осторожно ступая по брусчатке, возвращались домой из кирхи, и лил, не переставая, до воскресенья.
Инна приехала в Выборг на пятичасовом экспрессе, отец встретил ее, и прямо с вокзала они отправились в кирху на концерт. Выступал, как обычно, маленький финский хор: трое застенчивых низкоголосых мужчин и двенадцать пожилых сопрано. Состав сам по себе не сулил ничего хорошего, а тут еще целый час барокко!
Сюда приезжали только такие вот маленькие финские хоры. Хотя в афишах значились мессы и оратории, программы были составлены из хорошо известных публике коротких фрагментов. Она ни разу не видела у хормейстеров приличной партитуры, всегда только какие-то хлипкие папочки с потрепанными листками. Ноты на некоторых листках были написаны от руки. У нее и то папка выглядела солиднее.
На бис полагался Гендель. Как можно выступать в кирхе и не спеть «Аллилуйю»?
Отцу эта самодеятельность очень нравилась. Он почувствовал вдруг свои суомские корни и теперь любил все финское. После каждого концерта отец ждал, что Инна похвалит артистов если не за талант, так хотя бы за усердие, и в этот раз она их наконец похвалила. Не только для того, чтобы сделать приятное отцу. Просто обошлось без Генделя, и за это она была милым певчим по-настоящему благодарна.
Следующие два дня провели дома, выходили только во двор погулять с собакой. В остальное время каждый занимался своими делами, ближе к ночи садились пить чай. Говорили об Антоне. О конкурсе и всей этой фантасмагории с Гран-при, о нелепом восторге, в который впал не только сам мальчик, но и они, двое взрослых дураков. После конкурса Антон носился с идеей уехать куда-нибудь поучиться, и им тогда казалось, что это возможно. Лето он потратил впустую: целый месяц перелетал из города в город, прослушивался черт знает где и черт знает у кого. Никуда не поступил. Зачем-то понесло его под конец в Амстердам, где вроде бы и прослушивания никакого не намечалось. Почти вся премия ушла на этот безумный вояж. Наивность и самонадеянность — вот все, что нужно молодому человеку для крупного проигрыша.
В воскресенье после вечерней прогулки отец сказал ей:
— Забирай-ка Ларса завтра с собой в Питер. Не могу больше, не справляюсь. Ему с вами лучше будет.
— А нам с ним? — спросила Инна. — Когда я буду собакой заниматься?
— Антон поможет.
— При чем тут Антон? Не будет же он вечно дома торчать. Сядет в оркестр какой-нибудь, может, в другой город придется уехать…
— Так ты его и отпустишь! В другой город — смешно! Вот я тебя сразу отпустил.
— Из Выборга в Питер?
Отец не слушал:
— Ты же рада, что он не поступил! А если бы и получилось у него, что с того? Еще не факт, что отпустила бы.
***
В половине восьмого утра они вышли из дома — маленькая неприметная женщина с дорожной сумкой и терракотовая собака. Спустились на набережную и двинулись в сторону вокзала. Ларс шагал тяжело, медленно, иногда оглядывался: кто там сзади? Потом вдруг лег у одной из скамеек и ни в какую не хотел подниматься.
— Давай, рыжий, вставай! Вернешься ты еще сюда. Вставай, опоздаем!
Главное, успеть на восьмичасовую электричку. В половине одиннадцатого они будут на Финляндском, а потом трамваем почти до самого дома. Долго, зато спокойно. Трамваи в это время ходят полупустые.
Когда они вышли на перрон, электричка уже стояла. Она выбрала вагон, где было поменьше людей. Ларс улегся у ее ног и затих, погрузился в беспробудную меланхолию.
Как только проехали Кирилловское, позвонил отец.
— На электричку успели?
— Успели, папа, успели.
— Ты у меня книгу забыла.
— Ничего, ноты полистаю.
— Антон не звонил тебе?
— В девять утра?! — Она засмеялась. — Папа!
Забыла книгу. Немудрено, за выходные ни разу не открыла. Биография Генделя. Как всегда, отдельная глава о «Мессии». «Дорогой Инне Валентиновне от выпускников». Лучше бы партитуру подарили.
Студенткой она несколько раз просматривала в библиотеке факсимиле одного старого издания. Редкий том. Сладко пахнущий, громадный и очень тяжелый, с желтоватой бумагой, гибким кожаным переплетом. Полный рукописный вариант. Миллионы темно-коричневых мелких ноток, неровностью формы напоминающих речной жемчуг. Иногда текст казался очень простым, настолько, что его мог бы считать с листа и ребенок. Иногда он становился путаным, невыносимо сложным. В этих нотах было столько движения — упругого, ровно пульсирующего. Вдруг начинались скачки вверх-вниз, сбивалось дыхание, и движение обрывалось. Пауза светилась пустым желтым пятном. Инне особенно нравилось, что каждый раз, когда движение запускалось вновь, рисунок партитуры необратимо менялся. Ей становилось от этого одновременно страшно и радостно.
Звонок. Снова отец.
— Как там Ларс?
— Ларс — никакой. Лежит с открытыми глазами, меня игнорирует.
— Ясно. Не надо было его сейчас увозить. Кто ж знал?.. Ничего, Антона увидит, обрадуется. Не звонил он тебе еще?
— Папа, ты серьезно? Хорошо, если он проснется к нашему приезду.
Не звонил ли Антон? В девять утра. А в девять тридцать? Папа, папа, надо чаще с внуком встречаться!
На вокзале Ларс разнервничался. Да и ей стало не по себе. Внезапно обрушившаяся на них какофония, люди, несколькими потоками, хлынувшие из электричек и слившиеся у стеклянных дверей в плотную, с трудом шевелящуюся толпу, неизбежный и опасный рывок через турникет.
Зато трамвай оправдал ожидания. Пустой, тихий, с мягким ходом. Инна приоткрыла окошки над своим сиденьем и напротив, чтобы сквозняк выдул навязчивый вагонный душок, которым все еще тянуло от них с Ларсом.
Позвонил Антон.
— Ну что, где вы там?
— Уже рядом, — ответила она, не заметив этого «вы», — а я Ларика везу…
— Да, знаю я, дед сказал. Ладно. Жду вас.
Когда подходили к дому, Инна увидела, что окно на кухне открыто. Сын стоял, облокотившись на подоконник, и разговаривал с кем-то по телефону.
Издали его можно было перепутать с дедом. Светлые волосы на солнце казались седыми. Теперь он собирал их в пучок на макушке (к счастью, дед до такого пока не додумался), но с этой нелепой прической выглядел почему-то взрослее. Антон вообще стал другим после поездки, или, вернее, остался другим. Как будто все еще сохранял напряжение и не собирался возвращаться к обычной своей жизни, смирившись с тем, что ничего в ней не изменится.
Заметив ее и Ларса, он помахал свободной рукой и сразу же прекратил разговор.
***
Инна пришла в зал минут на десять раньше, села в дальнем ряду, чтобы пролистать ноты. Рахманинов на семи страничках, Гендель — на четырех. Но сосредоточиться так и не смогла. В голове прокручивался утренний разговор.
Сидели на кухне, Антон, гладил Ларса обеими руками по рыжим бокам и повторял с дурацким счастливым смехом:
— Меня взяли, ты понимаешь?! Я поступил! Меня взяли!…
Как пьяный. Она тоже смеялась, ненадолго заразившись от него этим счастьем.
Потом она кричала, а сын оправдывался.
— Вранье! Целый месяц — одно вранье!
— Хотел, чтобы наверняка. Чтобы вы с дедом зря не дергались.
— А мы как раз дергались! Мы все это время знаешь, как дергались?
— Они мне сразу сказали, мол, вы поступили, но подтверждение — только в сентябре.
— И деду первому рассказал, да?
— Я сам не верил! До сегодняшнего утра…
— Почему деду?
— Знаешь, как он обрадовался?
— Обрадовался! А если с ним случится что-нибудь? Со мной-то ничего случиться не может, в этом ты уверен.
— Мама, это всего на два года!
— Думаешь, он просто так к нам собаку отправил? Кто мне помогать ухаживать за ним будет? Ларс?!
— И еще — каникулы… Я на Рождество приеду, это же совсем скоро…
Репетиция начиналась в четыре. Группа, как назло, явилась вовремя.
Инна подошла к сцене, посмотрела снизу на студентов, не узнавая. Поднялась по ступенькам. Что за дети? Никто не перешептывается, не переглядывается. Ясно, первый курс. На прошлой репетиции жевали слова, выпячивали губы, как верблюжата.
— Друзья мои, у нас полтора часа. Работаем только над Генделем!
Подняла руки, но они были как будто чужие. Она ничего не чувствовала. Какой, к черту, Гендель? Ладно, пускай…
Аллилуйя! Аллилуйя!
Что это, почему сопрано, как подорванные, унеслись от остальных на полтакта вперёд? И нельзя же сразу доводить до такого чудовищного фортиссимо!
Ей было всё равно, пусть орут.
Она же обрадовалась сначала. Она тоже этого хотела! Не верила, но хотела! А почему не верила? Такой талантливый! Ленивый, с придурью, но талантливый. Думала, сядет в приличный оркестр на дальний пульт — и хорошо? Не верила, значит, не хотела? Что она может ему дать? Нужно ехать, обязательно нужно ехать…
Дети пели в бешеном темпе. Где они уже? Ого!
King of Kings and Lord of Lords!
Неужели доорали до финала? Нет, ещё два раза по кругу. Ну, что за верблюжата? Ну, что это за lordoflords такой! Она же просила — четче артикуляцию!
Руки ожили, стали послушными и сразу заныли. Но боль не могла отвлечь от навязчивого голоса: «На два года, говоришь? Это тебе сейчас так кажется. Ты не вернёшься! Никто никогда не возвращается. Господи, как страшно, как же мне страшно!»
Боль растекалась от кистей к плечам и ползла дальше, подбираясь к затылку. И фортиссимо, казавшееся предельным, всё нарастало, и впору было взмолиться: «Дети, дети, зачем вы так громко?!..»
А почему бы и нет? Может, хоть они докричатся?
Аллилуйя! Аллилуйя! Алли-луй-я!
***
В прихожей рядом с ее неразобранной дорожной сумкой стоял отцовский рюкзак.
Дверь в комнату была закрыта. Антон разучивал что-то романтическое, надрывное.
Из кухни раздалось:
— Рыжий, целоваться!
Ларс выскочил ей навстречу, поднялся на задние лапы, облизал лицо, она только зажмуриться успела.
— К мальчику на подмогу? — спросила Инна, входя на кухню. — Зря, тяжелая артиллерия не понадобится.
— Ты о чем? Я за Ларсом. Погостил и хватит.
— Что значит — погостил? Зачем же было его мучить с утра?
— Ничего, зато смотри, сколько теперь радости! Тебе не до него. Антона надо собирать…
— Сам соберется. А проводить его ты не хочешь?
— Так это ж в пятницу!
— Останься, проводим вместе. Один раз не сходишь в свою кирху…
— Как же мы уместимся вчетвером?
— Как-нибудь.
— Ближе к зиме мы к тебе переедем. Да, рыжий?
Отец вышел в коридор, быстро и тихо собрался. Шикнул пару раз на Ларса. Замотал головой, когда Инна потянулась к выключателю.
Она вышла проводить их до трамвайной остановки. Ларс вился вокруг отца, то и дело тревожно поглядывая на нее. Быстро стемнело, пошел дождь.
— А почему он в Хельсинки не поехал? Не знаешь? — спросил отец. — Там бы тоже наверняка поступил. В нем же сразу корни чувствуются.
— При чем тут корни, папа?
— И к нам близко, совсем рядом.
— Вот потому и не поехал.
Когда она вернулась, Антон уже закончил играть и пил чай на кухне.
— А чего дед не зашел попрощаться?
— Не хотел отвлекать. Может, он в пятницу приедет.
— Хорошо бы. Подожди, не садись. Я привез тебе кое-что.
— Подарок?
— Можно и так сказать. Пойдем.
Они вошли в комнату. На столе в раскрытом футляре лежала скрипка, рядом с ней — большой прямоугольный сверток. Плотная бумага, аккуратные уголочки. Явно не Антон заворачивал.
Она взяла в руки сверток. Какой тяжелый! Нащупала ленточки скотча, осторожно отлепила их от бумаги.
— Думал, уже не найду.
Гибкий переплет, кожа слегка шершавая. Почему сразу не показал? Ждал, пока все решится?
— Все есть, а «Мессии» нет. Давно не переиздавали.
Она раскрыла том: желтоватые нотные листы, сладкий запах.
— Посоветовали одного букиниста, пришлось в Амстердам лететь. Ты бы видела его лавку! Сказал, что мне повезло — есть редкая партитура. Только мало кто может по ней петь.
Миллионы темно-коричневых пятнышек летели то ровно, то скачками, и их движение повторялось где-то внутри — упругое, пульсирующее, пока внезапно не оборвалось, пока не сбилось дыхание. Скачок вниз, вверх и больше никакой боли. Пауза. Пустота. Потом вместе с движением вернулась боль, но что-то изменилось необратимо, и стало так страшно, так радостно.

Помогло
«Я могу сейчас встать и уйти».
Сергей уже пятнадцать минут ерзал на одиноком, немного продавленном пуфике. Носы его ботинок, ещё веснушчатые от дождя, попеременно выскальзывали вперед, будто он ехал на велосипеде со слишком высоким седлом. «Правильно-правильно, беги от проблемы», — саркастически отвечал внутренний голос. Чей? Могу. Захочу и уйду. И навсегда эту тему закрою. «Да нет, Серёж. Чтобы её закрыть, ты как раз и пришёл».
Дверь открылась, выпустив женщину с припухшими глазами и сверкнув золотой табличкой: «Лейбман Леонид Яковлевич. Психотерапевт». Мельком взглянув на Сергея, женщина направилась к лифту, на ходу доставая из сумки чехол с зонтом.
«Минутку!» — донеслось из-за двери.
«Вот сейчас. Сейчас ещё можно. Последний шанс. Хотя, в конце концов, что я теряю»?
— Сергей? — В проеме показалось длинное лицо в желтоватых очках, опущенных на кончик тонкого крючковатого носа. — Проходите, пожалуйста!
И он прошёл. Вот уж чего Сергей не предполагал — что по собственной воле отправится к психотерапевту. И дело даже не в том, что он считал это уделом избалованных жен, которые сходят с ума от безделья или, скажем, переживающих кризис бизнесменов, — в конце концов, современное российское общество уже почти научилось отделять психотерапевтов от психиатров. Просто он привык думать, что на такие мероприятия идут люди, не справляющиеся с собственной жизнью. А его жизнь, по крайней мере, по критериям этого самого общества, складывалась вполне благополучно. С чем тут справляться?
Сережа вырос в обеспеченной, полной семье, учился без особых усилий, легко поступил на юридический, а после аспирантуры занял давно ожидавшее его место в адвокатской фирме отца. Отношения с родителями всегда были ровными, а после самостоятельной покупки квартиры (в ипотеку, конечно), Сергей вообще купался в волнах уважения семьи. Пару месяцев назад в квартире завершился ремонт, и Сергей наконец въехал туда со своей девушкой Симой. Она-то и убедила его сходить к психотерапевту, объяснив, почему это так необходимо.
Но вот он сидел на скользкой коже дивана и совершенно не понимал, что говорить.
— Итак, Сергей. Почему вы ко мне пришли? — Лейбман Леонид Яковлевич откинулся на спинку кресла и соединил кончики бескровных пальцев.
— Я как-то… не знаю.
— Вас что-то тревожит?
— Ну, не то чтобы.
— Но вы всё-таки пришли. Значит, вам нужна помощь? Расскажите.
— Вообще, меня отправила к вам моя девушка. Она считает, у меня проблемы, с которыми я должен разобраться, чтобы, э… начать новую жизнь. Мы недавно съехались.
— Ну а вы? Считаете, что проблем нет?
— Да, в общем, нет.
— Понимаете, это должно быть ваше желание — разобраться. Ваше, Сергей, и больше ничьё. Поэтому если вам нечего сказать, я не смогу ничем помочь. Так что, вас ничего не тревожит?
— Может быть… сны.
— Хорошо. Что вам снится?
Сергей смотрел на бледные, длинноватые ногти Леонида Яковлевича.
— В последнее время стало сниться, что я в суде, защищаю клиента, и когда дают слово адвокату, ничего не могу сказать, как бы пропадает голос.
— Это как-то связано с работой?
— Я вообще юрист, работаю с документами.
— Как вы думаете, что подсознание хочет вам сказать?
— Понятия не имею, честно говоря.
— Давайте обратимся к вашему детству. У вас были серьезные конфликты с родителями?
— Нет, родители всегда меня очень поддерживали. Да и сейчас.
— А друзья у вас были? Расскажите про них. А вообще знаете, прилягте. Не надо, не снимайте. Закройте глаза, сделайте семь глубоких вдохов и скажите то, что первым придет в голову.
р а з Сергей старался не шевелить ногами, чтобы не касаться д в а ботинками блестящего валика дивана. Он т р и не очень-то верил во всю эту ч е т ы р е терапию, но раз уж пришел… п я т ь Он старательно дышал, пытаясь ш е с т ь вспомнить какую-нибудь историю… с е м ь.
Ой.
— Почему-то вспомнилось, как мы собирались поцарапать машину соседа.
— Хорошо. Попробуйте провалиться в это воспоминание.
***
Господи, неужели это происходит на самом деле? Да надо было сразу сказать, что не хочу я идти с ними гулять. Вот прямо… Нет, что не могу. Что мама сказала, пока не сделаю английский, никакой улицы. Тут бы началось: «маменькин сынок»… К тому же Витек отлично знает, что английский я делаю за пятнадцать минут, сразу, как прихожу из школы… В конце концов, я и за него английский сегодня сделал… И алгебру… Черт с ней, с алгеброй, времени в обрез. Вот сейчас я найду камень, пока они все там стоят и смотрят, и стану соучастником. Если бы я знал, что придется царапать новую машину Владимира Игоревича… И что бы я сделал? А что тут сделаешь… Нос он мне, блин, откусит. Пусть дотянется сначала, сморчок. Что за пенсионерское слово «сморчок»? Что это вообще, гриб? Так, свечу, свечу фонариком, ищу камень. А как потом буду? Лидский же прямо напротив живет, к отцу заходит… Конечно, расскажет, как какие-то дворовые мерзавцы чиркнули его ауди, отец позовёт, а я… Буду в пол смотреть? Как буду смотреть? Невинно? Буду не понимать? Почему я совершенно не умею врать? Если во благо… В какое ещё благо, я сейчас поцарапаю машину Владимира Игоревича. А если нет? Ну не побьют же они меня, в самом деле. А если всё-таки? Этот вот жирный сверлит взглядом, кажется, понял, что тяну время. Нет, вот я ищу, смотри, нагибаюсь. Какое счастье, что редкие камни только здесь, на горке. Послали, как собачку. Ещё смотрит. Когда же кончится эта отвратительная школа, этот дебилоидный класс, одни кретины с тупыми рожами, второй год не поймут, что сначала действия внутри, внутри скобок надо решать! Всё, надо находить. Неужели я сейчас это сделаю? Мама говорит, всегда можно сказать «нет» без объяснения причин. Правда, с плаваньем это что-то не очень прокатило. Ненавижу, когда все голые в раздевалке. А некоторым как будто нравится. Ну всё, бубнить начали. Давай, будь что будет. Уж всяко лучше, чем если будут гнобить до конца жизни. Уроды. А если закричать?.. Нет. Ну всё. Вот, вот, я вытянул руку с камнем, смотрите! Какой скользкий. Конечно, столько сжимать в руке… Интересно, у крутых не так потеют руки? Всё. Идти к ним. Охренели — быстрее. Как собака… Быстрее?..
с горки
шаг
шаг
шаг!
та-та-та-та-та-та-та!
уже не остановиться!
ну и отлично.
правильно, расходитесь
обо что споткнуться?!
Вот колдобина
у самого багажника
плечом
Ай!!!
Уи-у-ииии-уууу-иииии-ууу!!!!!
***
— А что потом?
— Все разбежались, испугались, что сосед выскочит на свою сигнализацию.
— То есть, вы всё-таки добились цели, предотвратили… А что там было такое, про нос?
— Это у Витька такая присказка была, чуть что: «Расскажешь кому — нос откушу»! Меня это страшно раздражало, а ответить я ничего не мог. Я тогда в физическом плане был не очень…
— Ну, вот мы и подобрались к сути. Видите ли, Сергей, подсознание всегда говорит правду. Даже если мы не хотим её слышать. Вам неслучайно вспомнилась именно эта история. Возвращаясь к вашему сну. Давайте проанализируем. Теперь мне совершенно очевидно, кого вы не можете защитить как адвокат. Ну, подумайте? Себя! Это ваш незакрытый гештальт, идущий из детства. Сейчас мы с вами поработаем по-другому.
***
Леонид Яковлевич Лейбман родился в семье потомственных психиатров и с детства мечтал эту потомственность прервать. Причем, как-нибудь эффектно. Когда мальчик объявил, что собирается стать актером, родители не особенно напряглись. Пубертатная блажь у него пройдет, а учится он с первого класса, тьфу-тьфу, на отлично, так что сможет легко поступить в медицинский. Но годы шли, а Леня и не думал о карьере врача. Он мучил родственников картавыми стихами и безуспешно рвался в лирические герои на школьных постановках. Пару раз друг семьи, вращавшийся в артистических кругах, по просьбе родителей проводил с Лёней целые беседы о сложности, неблагодарности и безденежности актерской профессии. Лёнина тётя, муж которой играл в оркестре Большого, объясняла, что тембр голоса невозможно изменить, а дедушка, профессор клинической психологии, при каждой встрече первым делом сообщал, что с такими носами в актеры не берут. Всё это не производило никакого действия, и к моменту вступительных экзаменов родители поставили условие: Лёне разрешалось подать документы в ГИТИС, но если он не поступает туда с первого раза, тема закрыта, и он идет на психологический факультет МГУ — учиться в меде на психиатра сын наотрез отказался.
Родители не прогадали. После семи лет в университете с блестяще защищенной кандидатской Лёня продолжил обучение в Штатах, где знакомился с западными методами психотерапии и много общался с практикующими коллегами. В каком-то смысле он нашел применение своим сценическим амбициям, открыв для себя психодраму — метод, предлагающий разрешать жизненные конфликты пациента с помощью актерских приемов.
Вернулся в Москву Леонид с американским дипломом и решением открыть собственное дело.
Центр психотерапии «Нарибус» довольно быстро набрал популярность. Леонид пригласил на работу ещё нескольких специалистов и много практиковал сам. Пять дней в неделю по шесть часов в день он помогал своим клиентам, усердно исполняя роли холодного родителя, несправедливого начальника или эмоционально истощенной беременной жены. Публика в этом театре одного зрителя была своеобразная, зато благодарная, особенно в финансовом плане.
***
Леонид Яковлевич положил очки на стол .
— Итак. Я — это он.
— Кто — он?
— Ну, Витёк. Вставайте, Сергей.
— Я не очень понимаю.
— Давайте, выскажите всё, что вы обо мне думаете, всё, что хотелось сказать тогда.
Он тоже встал с кресла.
— Я как-то не знаю…
— Ну давай, Серег.
— Послушайте, я так не могу, всё это как-то…
— А ну давай, чмо! Что, язык проглотил?! Мамочке побежишь стучать?
Леонид Яковлевич резко подскочил к Сергею.
— Сейчас нос откушу! Уа-ха-ха-ха-ха! — Доктор Лейбман брызгал слюной в моргающие глаза пациента. Тот, судорожно взмахивая руками, силился произнести хоть что-нибудь.
— Не слышу тебя, дятел! — Психотерапевт, войдя в раж, уже тыкал Сергея в грудь.
— Сука, — неожиданно сказал Сергей.
— Что ты там икаешь, задрот несчастный!
— Да… А!..
— Я таких, как ты, давил и буду давить! — орал он ему прямо в лицо. — Давииить!
Того, что произошло дальше, Сергей не помнил. Он очнулся в метро, на полпути к дому.
Был час пик, но почему-то вокруг него зияла пустота. Сергей машинально потянулся за телефоном и открыл новости: «Столичному психотерапевту откусили половину носа. Имя злоумышленника уже установлено». На экран упала красная капля.
Сергей вытер её рукавом.
На душе у него было очень спокойно.

Понедельник
Первым включилось зрение. Что-то мельтешило перед глазами, как взбесившееся орудие гипнотизёра. В неистовом танце ароматизатор в виде ёлочки беззвучно ударялся по стеклу. Сумасшедший маятник, немое кино. Как по щелчку, заревело. В нос ударил запах топлива. Машина. С ней что-то не так. Руки сжимают огромный руль. Он торчит прямо из днища. Тело подбрасывает. Почти невозможно удержаться в кресле. Где-то должны быть педали. Ноги не слушаются. Что-то проявляется из темноты. Удар. Груда щепок летит в лобовое стекло. Он зажмуривается. Вспышкой проносится мысль — он в тракторе. Но не имеет ни малейшего понятия о том, как здесь оказался.
Последнее, что рисует память — это конец рабочего дня. Он вспоминает, как спустился на подземную парковку, как было необыкновенно тихо и как стучали каблуки его ботинок по бетонному полу, как блестел капот мерседеса в свете белых ламп и как ему бросился в глаза отпечаток чьей-то пятерни на гладкой поверхности, как он нащупал в кармане среди бумажек, карточек и монет пластиковый прямоугольник ключей, как хлопнула дверца автомобиля, как мягко повернулся ключ зажигания, как он поправил зеркало заднего вида, как на секунду в нем мелькнуло его собственное отражение, и он вздрогнул, не сразу узнав в нём себя. Руки коснулись гладкой кожаной поверхности руля, педаль газа послушно утонула под его правой ногой. Он пронёсся мимо редких припаркованных автомобилей и вынырнул на поверхность июльского вечера. Выехал на автостраду. Заходящее солнце слепило ему глаза, он опустил козырёк, но все равно приходилось щуриться. Он сосредоточил свой взгляд на осевой линии разметки, точно зная, где она прервется и ему нужно будет повернуть. Этот маршрут был ему знаком, он ездил так каждый вечер с работы домой. Но линия никак не прерывалась. Он оторвал от неё взгляд и стал смотреть по сторонам.
Сосновый лес обступил его. Потянуло ароматом хвои, мягкая подстилка зашуршала под ногами. Он замедлил шаг и глубоко вдохнул. Тело, прежде скованное напряжением, расслабилось и обмякло на жёстком скелете, как на вешалке. Он все ещё переминался с ноги на ногу, не позволяя себе расслабиться окончательно и провалиться в пьянящую дрёму, но и не в силах сделать даже шаг. От этой неопределённости тошнило, голова наливалась свинцом, сознание путалось и цеплялось за реальность из последних сил. Как будто издалека он услышал ухание кукушки и свой голос, отсчитывающий вслух — один, два… Сработало. Он досчитал до тринадцати и снова огляделся. Высокие корабельные сосны. Ничего, кроме сосен. Лишь вдалеке серой лентой разбавляла вереницу деревьев каменная стена. Обрадовавшись найденной цели, он ускорил шаг. Ритмичное мелькание коричневых стволов успокаивало, движение придавало силы. Ему вспомнилась рекламная брошюра турбазы с фотографией раскидистых веток и описанием пользы фитонцидов, выделяемых соснами. Лора пачками раскладывала такие проспекты по всему дому на самых видных местах, мечтая поехать туда вместе хотя бы на выходные, но он никак не мог найти время. И вот он здесь. А она… Кажется, она звонила днем. Она звонила ему и что-то просила… но почему он в лесу? Она говорила что-то про вечер, кажется, просила заехать по дороге за чем-то. Неужели он свернул не туда? И где он оставил автомобиль? Почему не помнит, как припарковал его?
Она звонила, да, в половине седьмого, как всегда. Она каждый день звонит в это время, чтобы напомнить про ужин, и он, проезжая мимо их любимого ресторанчика, забирает еду, которую она заказала. Перед этим он завозит бумаги г-ну Т., который требует от него письменного отчёта по работе каждый день и лично в руки. У него закрытый двор, и приходится парковаться прямо на улице, иногда по сорок минут выискивая заветное местечко. Сразу после этого он заезжает проверить, как идёт ремонт в квартире, куда он планировал переехать уже полгода назад, непременно находит изъяны — кривые откосы и перепутанные выключатели — и ругается с рабочими. К дому он подъезжает уже ближе к десяти и на том заканчивает трёхчасовую вылазку на поверхность города, спускаясь вниз на подземную парковку. Он оставляет машину рядом с соседским красным ниссаном и идёт к лестнице. С парковки он всегда поднимается по лестнице пешком, по пути приходя в себя и разминая затекшие ноги. Два этажа до уровня земли и три этажа выше. Он неторопливо перешагивает, вдавливая вес тела в ступени и медленно раскачиваясь с одной ноги на другую, с пятки на носок. Бетонные ступени отзываются глухим стуком. Правая рука скользит по гладкой поверхности поручня. Монотонность движений вводит в некое подобие транса и позволяет выключить голову. Ступень, ещё ступень. Всё выше и выше. Всё круче и круче. Ногам все сложнее находить опору, подошва соскальзывает, пальцы сводит от напряжения, и он с трудом цепляется за каменные выступы, нечеловеческим усилием продолжая свой подъем. Прошла минута, а может быть, двадцать, когда он обнаружил, что восседает на вершине каменного забора, уже перебросив одну ногу на другую сторону. Он тупо уставился на открывшуюся картину. Одинаковые летние домики, витиеватые дорожки, милые деревянные лавочки, в сумерках сквозь черноту веток проблескивает вода. Возле самого крайнего домика красным пятном разбавлял пейзаж старенький трактор. «Откуда здесь трактор? Зачем ему быть на турбазе? Неужели для него здесь есть работа? Или здесь живёт его владелец? А может быть, это сам трактор восполняет здесь запас сил — отработал весь сезон, отпахал в самом прямом смысле слова, а теперь пора и на покой. Сосновый лес — лучшее место для такого отдыха. Лора твердит об этом без умолку. Лора!.. Как я мог забыть?!»
Он дёргает коробку передач, но четвёртая не включается. Она звонила в полседьмого и что-то говорила про вечер. Рычаг не идёт. Он дёргает сильнее, но тот не поддаётся. Она сказала, что собирает вещи. Он переходит на вторую, снова на третью. Сказала, что хочет сделать перерыв и вечером уезжает. Он разгоняется — лавки летят в щепки, огромный руль не слушается. Просила не искать её, ей нужно время, ей очень тяжело. Он сносит деревянное крыльцо, врезается в лодки, на пути причал, он не умеет водить трактор! Как он здесь оказался? Что происходит?
Он выскакивает на ходу из кабины и, не оборачиваясь, несется прочь. Всё, всё, что было сегодня — дурной сон, больная фантазия, этого не было, не могло быть! Он зажмуривается до боли в глазах, ноги подкашиваются, он падает, сознание покидает его на мгновенье, но тут же возвращается с резким автомобильным гудком. Он открывает глаза и потерянным взглядом смотрит по зеркалам, сзади уже собралась пробка. Впереди в нескольких метрах от него маячил разрыв осевой линии разметки, приглашая в знакомый поворот. Он выдохнул, положил руки на руль, до упора выжал педаль газа и промчался прямо.

Портфель
Мне досталось последнее место у окна, напротив, правда, сидели чёрные усы, они меня немного насторожили, но не настолько, чтобы отказаться от возможности любоваться видом потрёпанных осенью деревень. Поначалу усы никак мне не мешали: сидели тихо, ждали отправления поезда, поглядывая то в окно, то на часы, то в газету «Метро». К усам прилагался непонятный серый костюм в дрыздочку, неумело спрятанный под пуховиком, неожиданно голубые глаза и коричневый портфель. Он-то и стал источником всех последующих событий. Стоило поезду тронуться, как из него полезли разные разности. Сначала показалась очень ароматная сосиска в тесте, пахнула на весь вагон и скрылась под усами, потом бутылочка колы с шипением и пузырями, слегка обрызгав мои ботинки, отправилась следом, потом была непонятная булочка, пирожок, очевидно, с капустой, снова глоток шипящей газировки, и, наконец-то шумно выдохнув, усы стряхнули крошки, и из волшебного портфеля показался телефон. Усы уже успели поведать невидимому собеседнику чудный рассказ о некой неприступной Людочке из бухгалтерии, не забывая подмигивать мне озорным глазом, как двери с шумом отворились, впуская новую порцию пассажиров. И тут усы радостно воскликнули: Валера! Приветственно замахали рукой, закрывая портфелем место рядом с собой.
— Ты чего это так рано, пятичасовым? Садись скорее, — и приветственно распахнули свой волшебный чемодан, извлекая две запотевшие бутылочки пива.
Высокий, худой, нескладный Валера с удовольствием принял дар, жадно отхлебнул и улыбнулся. С усатым, которого он называл Васей, выглядели они нескладно и немного карикатурно, как парочка в комедийном фильме.
Тут двери снова распахнулись, рядом со мной устроилась аппетитная брюнетка неуловимого возраста. Вася и Валера оживились. Один гусарским жестом поправил усы, второй подтянулся, провалив и без того впалую грудь.
Брюнетка улыбнулась уголком рта, заправила смоляную прядь за ухо и расстегнула куртку, из-под которой показался внушительный бюст, обтянутый алой кофточкой.
Разговоры пошли другие. Мужчины, нахохлившись, как два петуха, старались переспорить один другого:
— А я вот и говорю ему, так ведь, выходит, надо делать. Выходит, я прав, — горячился Василий.
— А я вот со следующего года новый отдел возглавлю, открывать решили, значит, — не слушая его, бубнил Валера.
Брюнетка благосклонно кивала. Дверь снова хлопнула. Кто-то затянул песню хриплым мужским голосом, брюнетка заметно оживилась, а усач переменился в лице, внезапно утих, съёжился и начал поглядывать в окно.
— Вася? Ты?
Если б не красноватый взгляд, слегка одутловатое лицо и всклокоченные волосы, то мужчину, бесцеремонно подвинувшего Валерия, пристроившись третьим на деревянной скамейке, пожалуй, можно было назвать красивым.
— Эх, верно говорят, от судьбы не уйдёшь.
— И тебе привет, Лёша.
— Ха. — Новый сосед потирал руки от удовольствия. — Есть справедливость все-таки, долг-то теперь отдавать придётся!
— Какой-такой долг? — Василий покрепче ухватился за чемодан. — Я человек честный!
— Честный! — важно кивнул Валера. — Если и возьмёт, так отдаст всегда с получки!
— Васька, а это ещё кто, никак, ты новых товарищей завёл?
— Разрешите представиться — Валерий, близкий друг, так сказать!
— И я друг, только вот позабытый. А дамы? — Он с интересом глянул в нашу сторону.
— А дамы, к сожалению, не наши, — влез Валерий и неумело подмигнул брюнетке.
— Жаль! Что ж это ты к нам и не ходишь совсем? А? Вася? Или боишься по счетам платить?
— Да некогда мне, Леша, на работе замотался, забегался. И я все равно не понимаю, о чем ты? Какие счета?
— Да и мне непонятно, какие у нашего Васи могут быть долги? — крякнул Валера
— А вот какие! Где-то полгода назад были мы в гостях у нашего друга и сослуживца Ильи. И, как часто бывает, играли в карты, а чтобы не скучно было, делали небольшие ставки. И помнится, Вася, ты проиграл мне вот этот твой портфель.
— Я? Да ты с ума сошёл? Никогда! — Усы у Василия взмыли вверх.
— Правда-правда, он с ним никогда не расстается, раритет, говорит. — Валера опять подмигнул брюнетке.
— Да знаю я, что с ним чуть ли не моется. Ему же его отец подарил, удачу он ему приносит как будто. Однако ж ты его проспорил, напился до безобразия и проигрался, так что и счастливый портфель не спас.
— Да что ты! — ахнул Валера. — Быть не может.
— Не было такого, — побледнел Василий.
— А почему ж ты, голубчик, не показываешься у Ильи?
— Говорю ж некогда, занят.
— А у меня и свидетели есть, народу-то тогда много было.
— Если я такого не помню, значит, не было.
— Напился, потому и не помнишь.
— Нет такого документа, что я тебе должен что-то.
— А он мне и не нужен. Возьму и отберу! — Лёха перегнулся через Валерия и силой дернул на себя предмет спора.
— Отстань ты. Вот привязался. — Василий вцепился в портфель и вжался в скамейку.
— Может, пирожков горячих купите? — Женщина с красным участливым лицом и огромным тюком склонилась к нам.
— С ума сошла? Тут нам не до пирожков. — Валера замахал на нее и та, тяжело вздохнув, скрылась в проходе.
Воспользовавшись временным замешательством, Лёха крепко вцепился в заветный талисман.
— А ну, пусти! — взревел Вася и с силой потянул на себя.
Ручка жалобно чмокнула и осталась у него в руке, а на грязный пол посыпалась всякая всячина: карандаши, бумажки, пара булочек в полиэтиленовом пакете, платки, расческа, непонятная баночка и пара новых носков.
— Ах ты, — бросился Василий на Леху, они схватили друг друга за грудки и закружились, топча злополучный портфель.
— Эй, парни, остыньте! — Валера отхлебнул пива и отодвинулся на край лавки.
Мужчины шумно пыхтели, колеса крутились, вагон притих, с удовольствием наблюдая за случайным развлечением.
— А ты как хотел, долги надо отдавать!
— Ты же знаешь как он мне дорог, память об отце.
— Конечно, знаю, потому и отбираю.
— Сволочь ты, Лёха.
— А ты кто? Ты-то не стесняешься чужое прикарманивать!
— Да выгнала она меня, выгнала, успокойся уже.
— Выгнала? — Лёха неуверенно глянул на него, ослабив хватку. — Давно?
— Да уж месяца два.
— А кто ж к ней тогда ходит?
— Не знаю, твоя жена, ты и разбирайся.
— Если бы! На развод подала!
— Эх, не поймёшь ее, что бабе надо. — Вася сел на скамейку, оправил куртку, его усам почти сразу вернулась прежняя уверенность.
Лёха только тяжело вздохнул. Пара свистков паровоза — и все пошло своим чередом. Вагон загалдел и занялся своими делами. Алексей задумчиво смотрел, как дождь барабанит по стеклу, Вася ощупывал свой чемодан, пытаясь приладить ручку. Валерий суетливо собирал с пола вещи, приговаривая, какую вещь испортили, с надеждой поглядывая на соседей. Брюнетка, потеряв интерес к происходящему, уткнулась в телефон.
На следующей станции поезд попыхтел немного и умчался, увозя с собой волшебный портфель, оставив мне немного холодных осенних луж.

Почему он так дышит?
Ксюша перечеркнула очередной день в календаре. Уже август, а нужно еще столько успеть, пока родители не приехали за ней. Например, сегодня рано утром она встречалась с Дианой у старого дуба, чтобы отправиться на озеро. Местные девочки рассказывали, что там живут русалки, и они умываются на рассвете.
Поспешив к завтраку, Ксюша надела свой любимый красный сарафан и желтые босоножки — ей не хотелось выглядеть хуже каких-то там русалок. Из кухни уже доносились голос бабушки, которая не то чтоб подпевала, а скорее подвывала неизвестным для Ксюши исполнителям по радио, а также запах вкусных блинов.
— Ба, а с чем блины? — Ксюша буквально вбежала на кухню и нарушила эту идеальную картину.
— Ой, ты уже встала. А зубы почистила?
— Некогда, ба. Мы с Дианой должны сейчас встретиться. Блины-то с чем? — Ксюша с ногами залезла на кухонный диван.
— Вы с Дианой? Так родители же сейчас за тобой приедут.
— Как родители? Они же через неделю обещали приехать только. — Ксюша обмакнула горячий блин в пиалу со сметаной и отправила этот кусок в рот.
— А у них на работе удалось подмениться и пораньше отпуск взяли, мама твоя вчера мне звонила. Ты не рада, что ли? Домой сегодня поедешь, там в аккурат успеете не спеша и одежду в школу купить, и тетради. — Галина Петровна, перевернув последний блин на сковородке и выключив плиту, наконец, развернулась лицом к внучке.
— Не хочу домой.
— Так, юная леди, прежде чем садиться за стол — марш чистить зубы! И волосы прибери, а то ходишь лохматая, как кикимора. Мать увидит — не узнает и не заберет тебя.
— Ну и пусть не берет. Не поеду я никуда. Еще никто не уезжает, не хочу быть первой! И русалок мы с Дианой еще не посмотрели.
— Вот-те «здрасте». Родители соскучились: два месяца дочь не видели, подменились специально, чтоб с тобой время провести в городе, в кино там сходить, по паркам погулять, а она не хочет. В городе с мамой русалок посмотришь, они по какому каналу идут? Должен же быть и у вас такой канал.
— Какой канал, бабушка? Ты вообще ничего не понимаешь! И они не понимают, вы все ничего не понимаете! — Ксюша выбежала из кухни стремительнее, чем появилась в ней.
— А доедать кто будет? — Галина Петровна уселась на место Ксюши, обмакнула недоеденный блин в сметану и откусила. — Хм, а вкусно получилось. Надо будет всегда кефир подогревать прежде, чем добавлять в тесто.
Ксюша не могла поверить, что сегодня родители ее заберут: она столько всего еще не успела сделать… а еще же русалки… Она отправилась к собачьей будке в глубине двора. «Только бы Мистер Счастливчик был на месте», — вертелось в ее голове.
Несмотря на раннее время, температура воздуха приближалась к тридцати градусам, а на небе не было ни облачка. Трава, по которой шла Ксюша, выгорела и пожелтела от недостатка влаги и палящего солнца. В этом году лето было аномально жарким. Ксюша направлялась к будке Мистера Счастливчика. На самом деле эту конуру дед сколотил для Пушистого Джо, предыдущей собаки, которая появилась у них в начале прошлого лета. Пушистый Джо был сенбернар, точь-в-точь как в кинофильме «Бетховен». Дедушка с бабушкой купили его в июне, перед приездом Ксюши. Однако, по странному стечению обстоятельств, весь июнь Ксюша ужасно болела, а когда она выздоровела, то Джо исчез. Взрослые сказали, что он убежал, но Ксюша чувствовала фальшь в этом рассказе, только не могла понять, где именно и в чем ее обманывают. Но так как из-за болезни она не успела привязаться к Джо, то и допрашивать никого не стала.
Таким же чудом в этом году появился Мистер Счастливчик. Это был уже взрослый пес без определенной породы и места жительства. Он мог неделями не появляться в своей конуре — приходил когда хотел, а уходил когда вздумается. Однако, Счастливчик обладал отличной интуицией и всегда находился во дворе, когда Ксюше было грустно. Так и сегодня он не подвел ее, а лежал за будкой, по-видимому, прячась в тени. Ксюша уселась рядом и облокотилась на него: ее не смущали колтуны по бокам длинной шерсти или засохшая грязь на лапах и животе Мистера Счастливчика. Только когда она пересказала всю свою историю и наконец перестала плакать, Ксюша обратила внимание на то, что Мистер Счастливчик не встретил ее и почти не шевелится.
— Странный ты сегодня. Тебя кто-то обидел? — Ксюша села возле его морды на колени. — Почему молчишь и не встречал меня? — Мистер Счастливчик попытался поднять голову, но она тут же вернулась на землю. Его глаза были пусты и печальны. — Что с тобой? Ты болен? — Ксюша попыталась расшевелить его, ухватив за щеки, но сил восьмилетней девочки было недостаточно. Тогда она потрогала его нос: сухой и теплый. — Счастливчик, ты хочешь пить? — В ответ пес только закрыл глаза. — Эй, эй, эй! Я принесу тебе холодную водичку и блинов со сметаной. Любишь блины? Только не расстраивайся, пожалуйста. — Ксюша обняла его за голову и прислушалась. Дыхание было редким и тяжелым. Как будто на пару мгновений Мистер Счастливчик просто забывал, как дышать, потом вспоминал, жадно заглатывал воздух и еще на пару мгновений засыпал, выпуская проглоченный воздух со свистом. — Почему ты так дышишь, Счастливчик? Открой глаза! Я сейчас, я сбегаю за взрослыми, и с тобой все будет хорошо!
Ксюша быстро, как могла, преодолела двор и забежала в кухню, где уже сидели ее родители и распивали чай с блинами.
— Вот и наша красавица, иди сюда обниму. — Мать расплылась в улыбке при виде дочери. — Да как выросла-то и загорела!
— Мама, папа, Счастливчику плохо, он странно дышит. — Ксюша металась по кухне, наливая холодной воды в стакан и собирая блины на тарелку.
— Какому Счастливчику? Да подожди ты, не уходи и объясни нормально. — Мама переняла беспокойство дочери, но понять причину тревоги не могла.
— Собака, Мистер Счастливчик. Она на заднем дворе и лежит без сил, ну пойдемте же кто-нибудь, помогите ей!
— Ксюша, я схожу с тобой, — вмешался в разговор отец, — Галина Петровна, вы завели собаку и не сказали нам? Мы же договаривались без собак после того случая.
— Бабушка и дедушка не заводили, Счастливчик сам пришел. Ну, пойдем же быстрее. — Ксюша тянула отца за шорты в сторону двери и тот, не дождавшись ответа от Галины Петровны, вышел.
Полдня Ксюша с папой бегали во двор. Они то носили туда еду, то включали шланг с водой для душа, то выключали его. К обеду, по словам Ксюши, Счастливчику стало лучше, и семья наконец собралась в город. Когда выехали из деревни на трассу, дочь уже спала на заднем сиденье.
— Света, ты думаешь, мы правильно поступаем… ну, с Мистером Счастливчиком?
— Она же ребенок.
— Ребенок, но это ненормально — ухаживать за вымышленной собакой. Может, в городе купим ей настоящую? Маленькую какую-нибудь, для квартиры.
— Миша, какая собака? У нее же аллергия. Забыл, как она болела? Ты месяц этого Джо пристроить не мог — места себе не находил. Врач сказала «никаких животных», а тут, тем более, в квартире.
— Ты, как всегда, права. Значит, без собак.

Птица
Сегодня Лизе пришлось разбить миску. У нее было секунд пятнадцать, чтобы решить, какая самая ненужная. Место, в которое надо было кидать — стену между кухонным столом и дверью, она выбрала уже давно и пользовалась им: ни плитку на полу, ни мебель не испортишь. Пока решала, всем нутром сжала, сдавила птицу, она вытянулась и ждала своего. Миска врезалась в стену с долгожданным кряком разрушения, на плитку с тупым звоном посыпались куски. Внутренний кулак ослабился, птица потрепыхалась и затихла, заплакала. Прибежал муж, утешал, помог собрать осколки. «Голова очень болит, не увидела, задела нечаянно». Хорошо есть мигрень, на нее можно валить, сколько таблеток съедено, чтобы иметь право лежать под одеялом с головой, и никто б вопросов не задавал.
Но выходя из кухни, муж обернулся и бросил на нее короткий взгляд.
Объяснить про птицу Лиза никому бы не смогла, всякому ее жизнь казалась очень удачной — второй, очень на этот раз хороший брак, общая девочка Варька, переезд в Статен-Айленд, где теперь они жили в небольшой квартире с высокими окнами, светлой икеевской мебелью, электронным пианино и картой Москвы 1896 года на стене. До набережной пять минут ходу, а там за рекой — Бей-Ридж.
Варя обычными для младенцев приемами (неостановимыми приступами крика, отитом и плохим сном) долго не давала Лизе вспомнить о себе, и это ее спасало.
Но каким-то утром к концу третьего года семейной жизни она проснулась не от Вариного звонкого голоса, а сама, после полноценной ночи, как до ребенка. Муж уже встал и собирался на работу, и Лиза поняла, что он позаботится о Варе, они позавтракают и вообще справятся без нее. Она лежала в пустоте, как больной раком, который через годы после успешной операции вдруг чувствует забытое натяжение в том самом месте и понимает про метастазы. Но внутри была не опухоль, а птица. Черная, с острым желтым клювом и красными бешеными глазами, она снова начала клевать изнутри и через шесть месяцев выклевала Лизу почти всю.
Птица существовала в ее жизни и раньше, она была потише и поменьше, и Варе удалось на несколько лет заставить ее замолчать, почти исчезнуть, и Лиза думала, что навсегда.
Лиза была человеком страстным и деятельным, но ее страстность была постоянной, а деятельность — кратковременной. Лизины силы и энтузиазм кончались за пять шагов пути, на шестом в ее душе начинал бродить ужас, что она не сможет завершить начатое, что будет дожимать его одним упорством, и результаты окажутся вымученными и жалкими, а если будет можно, то Лиза бросит все совсем. Когда Лиза бралась за новое, и любопытство и предчувствие интересного поджигало ее и приводило в действие, вылупившаяся после какой-то из сейчас уже кажущихся неважными неудач птица заводила скрипучий вой: «Не сможешь, оставь, прячься, уйди!», клекотала и билась, вводя Лизу в резонанс.
Особенно невыносимым было то, что жизнь большинства их знакомых была содержательной и насыщенной — они преподавали в университетах, открывали выставки, у них выходили книги, и их благодарили аспиранты. Один хороший знакомый полиглот написал азбуку цыганского языка. А Лиза никак не могла решить, можно ли уже выбросить пакеты с ее замороженным молоком или нет. Она хваталась за все, переводной том записок Да Винчи лежал на тумбочке у кровати, и она начинала его читать с десяти разных мест. Но в насмешку там были назидательные наставления о пользе творчества и усердного труда, сравнительное описание сосудов человека и животных, строение печени и почек, вероятно, смертельно устаревшее, и Лиза в отчаянии листала страницы, понимая, что не прибавляет к осмысленности своей жизни ничего. На описании опытов с лягушками, в которых те переставали дергаться, только когда им перебивали спинной нерв, а до этого продолжали трепыхаться без лап, головы и кожи, Лиза отложила книгу совсем: аналогия была слишком очевидной.
Лиза пыталась возобновить брошенные много лет назад аспирантские исследования по психологии глухонемых подростков, но так увязла в поиске работ, и на чтении первой же из них ей стало так неуместно жалко этих детей, на которых собирали мертвую статистику в карьерных целях, что, продержав месяц открытыми в браузере эти двадцать пять файлов, она все закрыла, даже не сохранив ссылок.
Вчера их общий друг пригласил их на свою фотовыставку в Линкольн-центре, а у Лизы четвертый день портился фарш в холодильнике, и через две недели ей должно было исполниться тридцать девять.
Чем больше дел она начинала, тем невыносимей для нее оказывалось продолжать их, она застывала в них, как в клее. Даже самые простые вещи ей теперь не удавалось закончить: так, после душа она хваталась за маникюрные щипчики, чтобы обработать ногти на ногах, но уже на третьем пальце чувствовала, как птица больно тянет что-то из позвоночника, потому что Лиза занимается всякой ерундой вместо важного. Ее пальцы начинали дрожать, острый клювик щипчиков резал мимо в живое мясо, и она бросала щипцы в сторону и бежала за пластырем, оставляя попытки на несколько дней. На то, чтобы постричь все десять пальцев, теперь уходило две недели, но выезжать из дому и тратить на эту бессмыслицу два часа было еще трудней.
Еще до этого замужества она пробовала бороться с птицей психотерапией, лекарствами и китайской гимнастикой, но это тоже были проекты с общей для всех Лизиных дел несчастливой судьбой. Рассчитывать на новый виток походов к психологам не приходилось, между ней и мужем молчаливо подразумевалось, что долгожданная совместная жизнь и ребенок сами собой избавили ее от прошлых проблем, и воспроизводить в этой семье жалость и подозрительность она не хотела ни при каких обстоятельствах.
Но сегодня она ударилась о настороженный разоблачительный взгляд мужа, как задевают на ходу босым мизинцем железную ножку стула — боль от неожиданности была непереносимой. Чувствовать начало конца в своих делах она умела замечательно и здесь сразу его распознала. Раскосый заяц, брошенный Варей в кухне на полу, молча смотрел на Лизу с ее непоправимо испорченной жизнью. Она села за компьютер и вбила первый запрос. Птица как будто почувствовала, что это делается в ее пользу, для хаоса и отступления, и сидела смирно, навалившись тяжестью где-то в районе затылка. Лиза читала, смотрела на картинки, и ее подташнивало. К двум часам она приняла решение, каменно трудное, но других не нашлось. Сегодня был день, когда Варю забрала к себе приходящая няня, и до шести вечера было время действовать.
***
Начало ноября в Нью-Йорке — переменчивая пора с редкими ясными днями, а этот был солнечный, лимонные и винно-красные головы деревьев на набережной пропускали свет, но резко и холодно прорывался ветер с реки. Она пыталась не смотреть вокруг, ей не хотелось, чтобы дома, деревья и свет отговаривали ее от задуманного.
На подъеме моста она все-таки оглянулась назад, на тесный Статен-Айлэнд. Над невысокими домами справа от моста поднималась треугольная крыша с крестом — Церковь Непорочного зачатия, она была там дважды, слушала их пение (религиозная сторона ее не слишком интересовала), поняла, что ее голос мог быть там ведущим, и даже собиралась обсудить с пастором свое участие в хоре. Конечно, птица все заклевала, ее истеричные аргументы были такими, что она не только не решилась на переговоры, но и больше там не появилась.
Лиза шла по мосту, по узкой пешеходной дорожке, отделенной от потока машин бетонным бордюром, от ртутной воды отводила глаза, глядела под ноги. Небольшое, но тяжелое и неудобное содержимое рюкзака било по позвоночнику при каждом шаге. Птица внутри шипела и дергалась. На той стороне реки уже бежала, чтобы ничего не слышать ни снаружи, ни изнутри, не думать, не решать, только двигаться механически быстро, по возможности дышать так, чтобы не делать сильней боль внутреннего разрушения. Потом спустилась по ступенькам вниз.
На нижней площадке разделась. В этом не было особенного резона, но находиться в ледяной воде в тяжелой липнущей одежде она не хотела и неосознанно выбрала способ действий, близкий к обычному купанию. Перед последним шагом расстегнула рюкзак и вытянула то, что ей было нужно.
Лиза шагнула в воду и сразу ушла с головой. Вынырнула и судорожными гребками поплыла от берега. Это было продумано заранее, чтобы не поддаться искушению тут же вернуться. Метров через десять она на секунду застыла и, уже с останавливающимся дыханием, попробовала нырнуть. На самом деле даже чуть-чуть вытолкнуть себя из воды для ныряния у нее не вышло, ее согнутое резкое движение вперед было только ударом лица в холодную резиновую поверхность, ее окатило, и она снова погрузилась в воду, казавшуюся формалином, едва не выпустив остатки задержанного в груди воздуха.
То, что происходило, вдруг оказалось таким нечеловеческим и противоестественным, что немедленно отменило угар и безумие ее жизни с птицей. Она почувствовала себя так, как будто вошла детскую, где глупый больной ребенок, воспользовавшись своей свободой, устроил пожар. Как она позволила это! Но этим ребенком тоже была Лиза, и ее нужно было спасти. Она дернулась вверх, пытаясь выгрести, не захлебнуться и разглядеть, с какой стороны берег. Уши заложило, горло рвало кашлем, она билась в холодной черноте, но двигалась назад, к спуску. На бетонной стене набережной чуть выше площадки, на которую нужно было забраться, торчало небольшое ушко арматуры. Она ухватилась за ребристую железную петлю обеими руками, закинула на площадку ногу и, готовая к любым повреждениям и любому исходу, последним страшным движением рванулась на выходящий из воды бетон. Живот тяжело шлепнул по камню, потянуло назад, Лиза елозила телом и ногами, пытаясь вылезти. Чуть не утянула за собой рюкзак, инстинктивно схватившись за него, как за опору, но сразу отпустила.
Она выбралась. Стояла на четвереньках, упершись разъезжающимися ободранными коленями, локтями и головой в неровный и скользкий камень, и пыталась унять дыхание. Не поднимаясь, потащила из рюкзака полотенце, начала себя тереть, с трудом натянула сопротивляющиеся набухшему окоченевшему телу термические штаны, носки и толстовку. Попыталась разорвать упаковку химических вкладышей для согревания обуви, но застывшие руки не годились для тонкой работы, и, бросив пакет, она взялась за кроссовки. Достала из рюкзака тяжелый металлический термос с чаем. Она ошпарила язык и нёбо, но даже обрадовалась этому: мелкая боль была доказательством жизни.
Потом она нетрезво шла через мост назад, останавливалась и прислонялась к железному ограждению для отдыха, но, почувствовав непереносимый сейчас холод металла, отталкивалась и двигалась дальше. Но она уже была одна, внутри стало пусто и заполнялось теплой кровью. Найденное утром исследование Хаттунена о влиянии шока при водной гипотермии на маниакально-депрессивные состояния критиковалось как мало доказанное и очень рискованное, но оно сработало.
Она вспомнила о церковном хоре — завтра пойду туда разговаривать, Варю возьму с собой, заодно и погуляем. И, совсем согревшись, она убыстрила шаг и запела: «Гаудеамус игитур, ювенес дум суммус!» Латинский гимн был студенческий, а не церковный, но про главное, и Лизин голос, оставив дрожь, креп и взлетал над рекой.
***
Дома Лиза начала наводить порядок, сначала одна, потом с Варей. Они играли в горбатых верблюдов, вытирая полы; в берлогу — разбирая вещи в гардеробной; в рыбку, которая всегда хотела спать, — во время купания. Выходя из детской, она еще чувствовала остаточные клубы эйфории, вдруг вспомнила: «Господи, неужели я, как человек, буду с педикюром ходить!» и повернула в ванную.
Все равно времени это заняло достаточно. Она уже взялась за последний палец, когда почувствовала откуда-то с уровня пола неодобрительный взгляд маленьких черных глаз. Еще ничего не было сказано, но ее рука с ножницами дернулась, и на мизинце надулся темный шарик крови.

Самопал
В посылке были чай, много чая, пряники, конфеты, печенье. Большая синяя почтовая коробка. Я стояла в длинной очереди людей с такими же коробками. Я отправляла передачу человеку, которого едва знала. Тогда он сидел в следственном изоляторе на станции Сан-Донато под Нижним Тагилом. Его вот-вот должны были отправить по этапу.
Я понятия не имела, кто и зачем так нарек эту глухую и грязную местность. Тюремному начальству, с которым мне долго пришлось согласовывать свой первый и последний визит, тем более не было дела до тонкостей топонимики. Флорентийское название они произносили, не задумываясь, глотая и коверкая звуки. Получался какой-то Сын Доната. В их сознании поселение и существовало-то только благодаря тому, что здесь обжился один из шести свердловских следственных изоляторов. Отчасти так оно и было. С годами тюрьма осталась единственным работающим предприятием и кормила всех немногочисленных жителей округи по ту и по эту сторону решетки.
«Где СИЗО?» — спрашиваю первого встречного, когда двери электрички, свистнув, схлопнулись за спиной. Ни тени удивления на лице, вообще никаких эмоций. Иди, говорит, тут, мимо не пройдешь. Был август. Полем росли ромашки и пижма, оглушительно стрекотали кузнечики, прыскали в разные стороны из-под красных кед. Мне было девятнадцать лет, и это было мое первое серьезное журналистское задание.
Уже не помню, боялась ли я ехать в ту тюрьму. Кажется, нет. Я выросла в городке, жителям которого тоже не слишком-то приходилось выбирать, где работать. Был химический завод, бившийся в бесконечной агонии, был кирпичный, благодаря работникам которого в день строителя меня не пускали гулять, был базар, где торговок всегда больше, чем покупателей. И была колония строгого режима за трехметровым бетонным забором в венке колючей проволоки. Я жила по соседству. Мой дед, пока был жив, работал там снабженцем. Он-то и снабжал семью тюремными диковинами: резными шкатулками, плетеными креслами для летней веранды. А один раз принес домой мой портрет в полный рост, писанный по фотографии. Я стояла в школьной форме с огромным букетом георгинов в руках. На портрете мне было лет семь. Он до сих пор висит в простенке между маминой и бабушкиной комнатами в нашем старом доме.
Родители моей школьной подруги тоже работали «на зоне», чем она тихонько гордилась. Там, в отличие от химзавода, платили «живые» деньги, поэтому у нее на кухне всегда стояли конфеты «Ласточка» в хрустальной вазочке, и ей не стыдно было звать к себе в гости друзей со двора и одноклассников. И для нее, и для меня «зона» была просто местом, где работали люди и где платили деньги. О том, что они там держат за решетками других людей, мы как-то не задумывались.
Все десять лет я ходила в школу под звуки «Прощания славянки», доносившиеся с тюремного двора. Музыка мне нравилась. Она соединилась в памяти со свежестью осеннего утра и шорохом только начавших опадать листьев. Я не считала тех, кто должен был по расписанию делать зарядку под музыку военных лет, зверьми. Я не жалела их. Мы просто шагали вместе. Теперь мне предстояло перешагнуть порог комнаты для допросов и говорить с человеком, в трезвом уме убившем другого.
В «отстойнике» на КПП меня встретил сам начальник СИЗО, майор. Маленький, не выше меня ростом, глазки черненькие, живые. Ровно через год он повесился в своем кабинете, и я написала об этом короткую сухую заметку, которая вышла между сообщениями о том, что на Урале снова вырастут коммунальные платежи, и что в поселке Малышева нашли изумруд весом больше «Президента». Его быстрые глазки пробежали по мне сверху донизу три раза, что-то оценили. Он взял мое удостоверение в красной корочке, которым я еще страшно гордилась, отвел от глаз подальше, подержал. Пропел фальцетом про надежду и компас земной, сунул мне удостоверение обратно, приоткрыл решетчатую дверь. Я втиснулась, он прошел следом.
Стены залитого электрическим светом и оттого казавшегося темным коридора до половины были закрашены краской, почему-то фиолетовой. Майор привел меня в комнату без окна со «стаканом» из металлических прутьев в углу, указал мне на скамеечку, прибитую к полу по эту сторону клетки. Велел не скучать, побегал по мне напоследок глазками, хмыкнул и вышел. Дверь скрежетнула, но ключ в замке не повернули. Наверное, майор стоял снаружи. Пришлось ждать, смотреть было некуда. Я стала рисовать бесконечные спирали в блокноте. Когда на странице уже почти не осталось живого места, дверь открылась еще раз, и вошел осужденный. Руки за спину, взгляд в пол. Привел его худой и длинный парень чуть старше меня. Кадык у него так далеко выдавался вперед, что шея казалась сломанной пополам. Посадил осужденного в клетку и запер. Встал в углу комнаты, почти слился со стеной.
Человека, который сидел теперь в тюремном «стакане», звали как нашего тогдашнего губернатора. Над этим совпадением потешались все, кто хоть краем уха слышал историю. «Свердловский областной суд приговорил Александра Мишарина к двадцати годам лишения свободы», «Александр Мишарин осужден за убийство туриста», «Александр Мишарин с обрезом напал на свердловчанина» — коллеги хотели быть оригинальными. Съязвили — и забыли. Но я помню его до сих пор.
Шурка — так, пока была жива, звала осужденного бабка, так он звал себя сам, — сидел, сложив крепкие руки на коленях, опустив глаза. На нем была футболка-поло из синтетики с карманом на груди, линялая и в катышках. Такими лет пятнадцать-двадцать назад бодро торговали узбечки на рынках и в переходах. Когда говорил, он поднимал лицо и смотрел куда-то сквозь прутья решетки и сквозь меня.
Ему было уже за пятьдесят, когда повезло устроиться сторожем на полуразрушенную турбазу у озера Таватуй, на полпути из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Ни кола, ни двора к тому времени он не нажил, все по служебным бытовкам скитался. То электриком в студенческой общаге поработает за койко-место и три тысячи рублей, то охранником в зоомагазин устроится, будет ночами из кроличьего корма семечки выбирать. А тут повезло: дом свой. Хотя какое там «дом»: деревянная изба пять на пять под позеленевшим от времени шифером, четыре окошка да дверь. А все равно — радость.
О доме он мечтал, сколько себя помнил. В материнской «однушке» у него даже кровати не было, только матрас на полу за шкафом. Мать с сестрой спали на вечно разложенном диване по другую сторону. Свой дом был только у бабки, к которой мать отправляла его каждое лето, с глаз долой. Бабка не особенно привечала, но и не выгоняла. Она давно жила одна и в помощи внука не нуждалась. «Я корова, я и бык, я и баба, и мужик», — любила, выпив рюмочку, говорить про себя она.
К домашним делам Шурку она не подпускала. «Да иди ты!» — вот все, чем она удостаивала любое его предложение помочь. Все сама: вставала в шесть утра, доила корову, выгоняла ее в поле, отвозила парное молоко в трехлитровых зеленоватых банках на рынок, поливала огород, рвала свекольную ботву уткам, выносила поросятам грязные кастрюли вонючей каши из прошлогодней картошки и свиного же сала. К полудню она валилась с ног. Бралась варить суп — больше скотине, чем себе, и не ставила, а бросала алюминиевые кастрюли на старенькую двухконфорочную плиту. Не дай бог было попасться ей под руку в этот момент: запросто могла запустить увесистым половником и в кошку, и в собаку, и в Шурку.
Зато какой у бабки был огород! Грядки будто по линейке вымерены, а на них чего только нет! Первые огурцы появлялись уже в мае, под пленкой, тогда как соседи ждали чуть не до конца июня. В середине июля в парнике уже поспевали помидоры. Но самым большим чудом была клубника, кустики которой торчали из-под соломы. На соломе лежали спелые ягоды величиной с яйцо. Почти все, что вызревало на грядке, бабка продавала. Шурке лишь изредка перепадала какая-нибудь белоносая или чуть подгнившая ягода.
Вечерами, в бытовке зоомагазина он думал о том, как обязательно купит усы клубники, как посадит их на солнечной стороне, там, где ветерок продувает. Как заведет собаку, и этой тихой радостью будет жить. А вышло все, конечно, по-другому.
Пришли ночью. Шурка услышал какой-то шум и пьяные голоса. Опять туристы. Два года назад такие, чтоб им ни дна ни покрышки, пальнули в собаку. Еще Найда была, мать Рады. Она только ощенилась, спала вместе со щенками в будке, а когда те пришли, выскочила, залаяла, потом хлопнуло что-то, Найда взвыла. Шурка к ней всю ночь выйти боялся, те пригрозили: высунешься — убьем. К утру, когда они завели моторку и наконец уплыли, он собаку во дворе схоронил и пошел к мужикам самопал покупать. Думал, в другой раз припугнет, и больше не сунутся.
И вот он вышел с самопалом в одной руке и старым фонарем в прогнившем алюминиевом корпусе в другой. Первым, что увидел в темноте, был бритый лоснящийся затылок. В тусклом свете он казался пурпурным. Глаза подводили: приблазнилось, будто он растет от самых плеч. Там, где должна была бы заканчиваться шея, три глубоких борозды изображали подобие клоунской ухмылки. Маленькие уши, намертво приросшие к черепу, едва виднелись. Мужик был явно моложе. Он стоял на грядке с клубникой и отдирал горбыль от забора, который Шурка недавно подновил. Узкие штаны защитного цвета обтягивали мясистые икры. Штанины были заправлены в черные берцы, напоминавшие два стоящих рядом угольных утюга.
Шурка его окрикнул. Тот обернулся и с пьяной вальяжностью в глазах уставился на него. Рядом возник еще один. Шурка поднял в их сторону самопал (рука тряслась) и закричал, чтобы убирались. Жирный хмыкнул, щелкнул замком складного ножа.
— Пошел вон, петух. И пукалку свою убери.
Шурка вспомнил вдруг, не вспомнил даже, а услышал, как взвыла Найда. Он выстрелил: сначала в «клоуна», потом в другого. Я прочитала в приговоре, что первый выжил, а второй скончался до приезда скорой. Отдышавшись, Шурка сел на землю. Подумал, что не будет у него, видать, больше своего дома. Как сопляком спал за шкафом, так стариком на нарах и помрет. Собачку только жалко, Радулечку. Сиротой, суки, оставили.
Здесь он впервые перевел на меня мутно-серый взгляд. Помолчал, чуть растянул губы — улыбнулся.
— Знаешь, — говорит, — лучше всего было купить с получки полкило пряников в сельмаге, сесть на завалинке, Радулька рядом. Один ей пряник, один — себе. Водой из колодца из одной кружки запивали. Вкусно.
Когда разговор был окончен, кадыкастый паренек отвел меня к майору в кабинет. Комната оказалась небольшой и неуютной, с такими же, как в коридорах, крашеными фиолетовым стенами, обставленная самой дешевой мебелью. На тумбочке у стены стоял старенький кассетный магнитофон, ровным слоем покрытый несмываемой пылью. Играл Высоцкий. Начальник щелкнул кнопкой, встал, пожал мне руку. Что-то спросил, я что-то ответила, он показал на дверь. Шли молча, я чуть впереди, он чуть позади. Шел и мурлыкал себе под нос: «Первый срок отбывал я в утробе, ничего там хорошего нет».
О Шурке я ничего больше не слышала. Сразу, как только вернулась в город, я пошла в магазин и набрала целую корзину сладкого и чаю. Откуда-то, может, из детства, я знала, что чай на зоне особенно в цене. И пряников положила четыре упаковки. Написала на синей почтовой коробке адрес следственного изолятора в Сан-Донато, а место под обратный, подумав, оставила пустым. Наверное, струсила. Вот поэтому я так и не узнала, куда этапом отправили Шурку, и теперь не знаю, жив ли он. Спустя лет пять после нашей встречи я пыталась что-то выведать в пресс-службе ФСИН, но мне отказали, потому что не родня.

Солнышко
Первый раз муж ударил её случайно — она уронила чашку, кажется, из-за вечной своей несобранности, и он с оттяжкой отвесил ей леща и потом с любопытством наблюдал, как она, поднимаясь, промокает пальцами кровь на губе. Так же отстраненно, неторопливо смотрел он, вытягивая из неё своими белыми прохладными пальцами длинные оргазмы, исследуя и безучастно интересуясь: ну? А вот так? И в ночь после удара, уже бешено задыхаясь, она не могла понять, любит ли — или ненавидит этого человека.
На следующий день они ехали к ее родителям в Калугу. Припухлость в углу рта была почти незаметна, но синяк на переносице было не скрыть. Она не знала, как относиться к тому, что ее ударили — её воспитывали другими методами, поэтому реакцию родителей на следы побоев она ждала, как ребенок, предвкушающий новогодний подарок. Даже сердце замирало от того, что же это будет, долгожданная радость или унылый набор чего-нибудь полезного. Она знала, что их реакция определит её дальнейшую жизнь, и её немного лихорадило и подташнивало всю дорогу до родительского дома.
Мать в образе бледной, но энергичной королевы, не подняла даже бровь. Отец сделал вид, что ничего не заметил. Псы ластились, прыгали, сбивали с ног и тащили играть с привычным энтузиазмом. Только сестра наедине указала пальцем на желто-черное пятно на её лице и как будто о чем-то стыдном спросила: Больно? Нет, больно уже не было. Семья одобрила, значит, так и нужно — и больше к этому вопросу Солнышко не возвращалась. Поздней ночью, на кухне, вглядываясь в свое лицо, отражающееся в зеркальной панели холодильника — подарке мужа на тридцатипятилетие — она думала, что если бы муж трахал её сейчас не сзади, а был бы под ней, связанный, как она часто мечтала, вряд ли бы ему понравилось на неё смотреть. И она улыбалась, хоть это и было немного больно.
Пьющая женщина — пока она выполняет свои обязанности — вызывает сожаление и не вызывает вопросов. Она начала пить, потому что темные очки якобы с перепою хорошо скрывали синяки, а то, что очки не закрывали, можно было отнести на последствия веселой ночи, плохо замазанные тональным кремом. Побухивает — сочувственно кивали на работе — ну, при такой нагрузке, это понятно. Солнышко работала в крупной юридической конторе, была жестким и хватким юристом, и ей пророчили хорошее будущее в министерстве или думском комитете. Солнышком её звали родители (так же, как и вторую сестру, что поделать — фамилия такая), подруги, бывшие одноклассники и даже — с другой интонацией — коллеги и подчиненные. Она сохранила фамилию и в замужестве, и когда развелась, но прозвище было для неё набором букв, не несущих ни теплоты, ни света.
Ребенок получился случайным — после перенесенной в молодости травмы шанс Солнышка забеременеть в сорок был мизерным. Она не предохранялась, и уже два года занималась сексом с мужем, только когда он её насиловал. За двадцать лет брака чувства её уже перегорели, и она думала, что немного грубости добавят пикантную искру в их утратившую свет сексуальную жизнь. Это было больно, но даже немного забавно, и она не придавала особенного значения редким вспышкам страсти со стороны мужа, если они не оставляли заметных следов на её лице.
В тот момент, когда Солнышко поняла и убедилась, что беременна, ей показалось, что в груди, на уровне левого соска, что-то треснуло, как промерзшая ветка, в лицо ударили жар и краска, и она чуть не задохнулась от того, каким ярким вдруг стал бледный кафель её ванной. Родителям, конечно же, ничего не сказали, муж вроде был рад. Он не знал, что во вновь открывшемся Солнышку цветном мире его лицо выцвело и приобрело темную бесформенность, иногда прерываемую вспышками оргазмов.
Беременность замерла на тринадцатой неделе, сама собой. Она не хотела верить, ходила, прислушиваясь к себе, к своему животу, пыталась уловить краткие биения сердца и живой ток связи с младенцем и оттягивала выскабливание, как могла. Когда уже очищенная от неживого плода Солнышко вышла в приемный покой, ей вполне логичным показалось сказать мужу, что они разводятся.
Муж даже не стал бить её — накрутив волосы на кулак, он входил в неё в прихожей, едва только захлопнулась дверь, а она только шипела горлом, через которое вдруг перестал проходить воздух, и думала о том, какой из ножей на её хирургически блестящей кухне… но думала так, отстраненно. На следующий день муж принес Джека, сказав, что кот, конечно, не ребенок, но почти. Джек, черномордый и вислоухий, хозяйку в ней не признал, общение сведя к требованиям вовремя наполнять миску с едой.
После развода муж приходил под разными предлогами, чаще всего — покормить скучающего кота или обсудить продажу и раздел совместных дач и квартиры. Он насиловал её, и каждый раз это было всё больнее и неприятнее. Она понимала, что не любит и не хочет больше этого мужчину, но не впустить его к их общему коту она не могла — слишком сильно тот радовался приходу хозяина.
Солнышко переживала и мучилась, но в какой-то вечер ответить на звонок в дверь ей стало проще. Муж не обратил внимания на неаккуратно перевязанные запястья — она слишком часто и легко травмировалась — и сразу прошел на кухню, зовя Джека.
Джека нет, сказала она.
Как это, нет?
Его нет, он на балконе. А ты больше никогда сюда не придешь.
Он двинулся было к ней, но её покатые плечи, перевязанные руки, безжизненный взгляд, бесцветность и монотонность голоса остановили его. Он почувствовал, что его энергия крепкого, яркого, уверенного в себе мужчины стремительно покидает тело, и что надо что-то делать, чтобы сохранить хотя бы следы, остатки, не выцвести и не погибнуть в этой квартире. Он поднял на балконе ещё мягкий труп кота, с показным вызовом сорвал со стола скатерть — рюмка и пустая бутылка запрыгали по полу, но не разбились, — и нарочито медленно вышел, аккуратно закрыв дверь.
Солнышко сползла по стене и принялась яростно мастурбировать, раздирая себя горлышком водочной бутылки и повторяя: Никогда. Сюда. Не придешь.

Успел
Опять с этой сукой проблемы. Ни с того ни с сего она метнулась под колёса автомобиля — водитель даже сообразить ничего не смог.
Индиго Афалина Амор Патрис Туи — рыжая сука чау-чау. Жена с дочкой её по-домашнему Альфой прозвали, Славке не понравилось. Какая-то дворовая кличка, неоригинальная. Много чего ему не понравилось — собака быстро стала не дочкиной мечтой, а Славкиной заботой.
Бесконечные прививки, таблетки, вычёсывания и прогулки, прогулки, прогулки…
Альфа, казалось, была магнитом для всех болячек: в щенячьем возрасте у неё простыли уши, загноились глаза; в два года она умудрилась подцепить клеща; потом у неё вдруг начала подгнивать шкура, случилось воспаление мочевого пузыря. Уколы, капельницы, мази, капли, таблетки — в ветклинику ходили как по расписанию.
И вот сейчас она поскуливает на операционном столе, а Славка сидит в коридоре за стеной, на беззвучном режиме конвульсирует телефон, на груди — от сердца и ниже — всё смято, спутано, окровавлено.
Славка не любил свою собаку. Не в том смысле, чтобы ненавидел — просто не любил. Не проникся к ней, не очаровался. Ну есть и есть. Хвостом виляет. По-хорошему, ей бы другого хозяина найти: такого, чтоб гулял и вычёсывал с удовольствием, а не от слова «надо», чтоб на выставки с ней ходил, за уши трепал, стихи сочинял. Любил, одним словом. Но как её оставить, когда она тебя по хлопнувшей подъездной двери узнаёт? Это ж предательство. Кто-то детей бросает, кто-то животных. Собака — чем не ребёнок? Она не просила её заводить. Нет, Славка раз и навсегда для себя решил — любовь не любовь, а мы в ответе за тех, кого. И точка.
Парень с испуганной кошкой сильно похож на отца. Или не похож… Напряжённый весь, вжался в свою кошку — что она ему? Показуха это всё: кошки, собаки… Сдохнет твоя кошка и заведёшь новую. А потом ещё одну. Славка сжал скользкие от крови кулаки. Не надо врать! Какая забота? Какая ответственность? Либо любишь, либо нет. Не заметил, что смотрит в сторону парня с затянувшейся до неприличия паузой. Тот, словно отвечая на Славкины мысли, объяснил:
— Она бездомная. Еле поймал. Один глаз потеряла, второй ещё можно спасти.
Альфу за стеной уже не было слышно, анестезия подействовала. А если и правда — ещё можно спасти?
От ядрёного запаха мокрой псины, железа и хлорки Славке стало не по себе. Ещё и парень этот — об отце напомнил. Хотя чего в них схожего: этот кошек одноглазых спасает, а тот… Александр Петрович Сазонов, предавший жену и ребёнка, после развода не вспомнивший о них ни разу. Ладно, с мамкой не заладилось, — с ней и Славке не всегда легко приходится, но его, сына, — за что?
Когда отец умер, Славка уже студентом был. Платить за учёбу матери одной стало трудно, пришлось самому работать, пропускать стал много, еле-еле экзамены сдавал — спасибо зачётке: два первых года на «отлично» здорово выручали. На отца тогда разозлился — опять кинул, опять оставил. Уж и забыл, казалось, про него, а он снова умудрился предать.
Славка посмотрел на свои руки — окровавленные, пальцы противно склеиваются, на ладонях каждая линия как при дактилоскопии видна. Словно убил кого-то. Славка всё детство летом на море в лагерь ездил, английский учил с репетитором. Никогда не задумывался, а ведь не потянуть матери было такие траты…
Горло прихватило, даже глотать трудно, хорошо в ветклинике кулер есть. Пошевелил правой ногой — затекла, не заметил когда. Онемение стало уходить резко, больно; покалывая изнутри и снаружи тысячами иголок.
Альфа поправится и нужно будет её обязательно к хендлеру сводить. Пусть подготовит рыжую к выставке. Собака она хорошая. Не глупая, преданная. Сразу признала в Славке хозяина. Мать властная, Ленка вечно всем недовольная, Лиза, пока маленькая была, тянулась к отцу, а сейчас чуть что — «папа, тебе не понять». А для Альфы он самый хороший, всегда ему рада. Круглосуточно. Круглогодично. Нет у неё для него плохого настроения или головной боли, нет стеснения и упрёков.
Альфа сильная, всё будет хорошо. Она такое уже пережила — на несколько жизней хватит. Ещё не поздно, он успел — на руках два квартала бегом. Успел, успел. Сейчас подлечат, заштопают и будет как новенькая! Начнут с ней на пробежку по утрам ходить — Славка давно собирался, да одному скучно, а про мохнатую напарницу и не думал. А зимой на лыжах — Альфушка впереди в упряжи, сам следом — видел однажды, как на пруду лыжник с овчаркой гоняли.
На улице пошёл снег. Крупные хлопья валились почти готовыми сугробами. Захотелось замереть и превратиться в один большой белый и пушистый сугроб. И не таять до весны. Или вообще никогда не таять.
Славка шагал, не останавливаясь. Альфа умерла во время операции.
***
В небесной канцелярии проблем не возникло.
Александр Петрович мог быть покоен. За недолгую свою собачью жизнь он пропустил разве что мелочи: больные зубы, ушибы, пару психологических стрессов. Даже Лидку не обидел — всё-таки Славкина мать. Чуть не упустил автомобиль, но успел, успел. Это главное. Лидии Павловне вычеркнули из карты судьбы камни в почках, цистит и онкологические последствия. Добавили десять лет жизни. Лизочке убрали потерю слуха и инвалидность по причине энцефалита — дописали двух детей и успешную карьеру. Славику исправили самооценку, обнулили нейродермит и близорукость, продлили вектор жизни на сорок два года, стерев страшную аварию в январе високосного года.
Александр Петрович сверху взглянул на сына. Маленький, сутулый от залетающего за шиворот снега, тот впервые стоял у могилы отца.

Хранительница
I
Было 20 июня — день, в который родились или умерли известные и малоизвестные актеры, поэты, музыканты, летчики, изобретатели, нобелевские лауреаты, православные святые, священномученики и чудотворцы, в общем, ничем не примечательный день.
Лето дышало в лица москвичей липовым цветом и раскаленным гранитом.
Илья с Татьяной, спасаясь от полуденного пекла, выбрались к Терлецким прудам и гуляли вдоль воды. Вконец устав, шли молча — все разговоры уже переговорили, уже съели по початку желтой, густо посыпанной солью кукурузы, долго смотрели на утку и ее совсем крохотных птенцов, которые, раскрыв свои голодные клювики, подражая матери, глотали бурую, с ржавыми водорослями воду.
— Домой?
— Пойдем. — Не успел он договорить, как на пешеходной дорожке, посыпанной мелким песком и щебнем, послышалось шуршание шин. Из-за деревьев показались две полицейские машины — «Форд» и сзади него, как его прицеп, большой «Соболь» с пассажирской будкой без окон. Они двигались медленно, боясь раздавить гуляющих. Мигалки горели синими огнями, но сирена была выключена, и оттого казалось, что они и не едут, а крадутся.
У озера, куда они направлялись, уже собралась большая толпа зевак: купающиеся повылезали из воды и сгрудились плотной стеной обнаженных тел.
— Пошли посмотрим, — сказал Илья, — может, кто из наших приехал. — Он показал на вторую машину, ту, что была без окон: — Это труповозка.
Татьяна пошла за ним, уступая любопытству. Подойдя ближе, они смешались с зеваками, от которых пахло алкоголем и мокрой тиной. Дети разного пола, одетые только лишь в трусы, шлепали босыми ногами по песку, норовя подобно маленьким утятам вытянуть худые шейки и поглазеть на произошедшее. Трое здоровых полицейских в темной форме, в полном облачении, с оружием и дубинками, висящими на поясе, уже выгрузились из машин и неспешно направлялись к озеру. Толпа ширилась, обрастая новыми телами.
Мимо проходил молодой папаша с двумя маленькими девочками трех и пяти лет, он был совершенно пьян, но пытался казаться трезвым. Девочки, увидев скопление людей, тоже хотели посмотреть, но он, громко рявкнув «мимо проходим», попытался прикрыть их глаза своими ладонями. Не рассчитав свои силы, он чуть не рухнул на полицейского и тотчас громким голосом спросил: «Утоп, что ли, кто?» Полицейский, посмотрев на него с деланным упреком, отрицательно помотал головой.
Илья подошел поближе, Татьяна осталась стоять шагах в десяти. Вдали послышался звук сирены скорой помощи, которая, видимо, застряла на перекрестке, и, пытаясь объехать по встречной, кричала разноголосицей «иуууу-иууу». Эхо, вторя «иууу-иууу», отражалось, перепрыгивая на соседние дома.
Услышав угрожающие раскаты скорой помощи, Татьяна почувствовала, как что-то гонит ее отсюда, она отвернулась и медленно пошла прочь. Ей навстречу попался один из полицейских, следом за ним, не переставая тараторить, шла женщина лет сорока в одном купальнике и с пляжной сумкой через плечо:
— Я, когда пришла часа два назад, она уже лежала там, под деревом. Я подумала, спит, наверно, мало ли кто тут спит, пьяных-то развелось. Потом я купаться пошла, а когда вернулась, слышу, поет кто-то, это, видимо, она пела, а потом затихла. Я загорать легла, вдруг все забегали, я обернулась, вокруг нее люди, она, говорят, не дышит уже.
II
Медсестра из регистратуры судебно-медицинского морга номер девять, заглянув в секционный зал патолого-анатомического театра, позвала:
— Илья Андреевич, к вам пришли.
Илья Андреевич, прервав диктовку на «ткань селезенки резко дряблая, тусклая, серовато-красная», рукавом халата не спеша вытер пот со лба и раздраженно спросил:
— Кто? Родственники? Пусть позже приходят, я занят. Скажите — вскрытие.
— Это врач из нейрохирургии по поводу Неклимовой.
— Тьфу ты, как некстати, — и, повернувшись к печатавшей диагноз лаборантке, сказал: — Вбей пока, я сейчас вернусь.
Патологоанатом, одетый в фартук из зеленой клеенки поверх белого халата, в смешном колпаке, из-под которого торчали липкие от пота волосы, в прозрачном забрале и синих перчатках, окрашенных бурой спекшейся кровью, выглянул в коридор.
Нейрохирург оказался худощавым длинным юношей, на вид не дашь и двадцати пяти лет, с бледным лицом и почти прозрачными глазами. Он стоял в нерешительности, почесывая нос, и на какой-то краткий миг Илье Андреевичу стало невыносимо жалко его.
— Вы меня спрашивали?
— Да, простите, пожалуйста… Я по поводу Веры Ивановны Неклимовой, я ее два дня назад смотрел, никаких повреждений, ничего… Я… — Он съежился, отчего стал казаться меньше и, потупив глаза, продолжал: — Я тогда один дежурил в приемном.
— Ну-ну, это ваша первая смерть пациента? — покровительственно заметил патологоанатом. — Вот посмотрю я на вас лет через пять.
— На КТ не было никаких изменений…
— Ну, так я ее от сепсиса «хороню», а температуры не было?
— Нет, тридцать семь едва, ничего такого, что давало бы возможность оставить ее в больнице.
— Я должен откланяться, сейчас произвожу вскрытие.
— Да, прошу прощения, я просто, понимаете, не ожидал. Я ее смотрел и ничего не нашел.
— Вы же нейрохирург, узкий специалист. Травмы головы нет, — с некоторым раздражением сказал Илья Андреевич, а про себя подумал: «Вот же суки, отправили этого “желторотика” в морг, нет, чтобы налить ему сто грамм!»
— Давайте я вам по итогам вскрытия позвоню.
— Да, вот мой номер. Позвоните, пожалуйста, я буду ждать.
— Анализы придут позже, химики перегружены, сами понимаете, лето. Но тут налицо сепсис.
Патологоанатом отвернулся, намереваясь идти обратно в секционный зал.
— Сепсис? — переспросил нейрохирург, как будто впервые услышал этот диагноз.
— С сепсисом на такой жаре, сами видите.
— Господи…
III
Вернувшись вечером домой, Илья Андреевич превратился в Илюшу. Переодевшись в домашний халат, долго и тщательно мылил руки в ванной, пока Татьяна не позвала его ужинать. За ужином он рассказал о разговоре с нейрохирургом:
— А помнишь ту женщину, которую мы видели у пруда, тогда еще скорая пыталась ее реанимировать? Умерла в больнице. Я ее сегодня вскрывал, и, представляешь, приходил врач, который ее просмотрел.
Татьяна не спала всю ночь.
Веры Ивановны больше не было и, похоже, не будет никогда. И о смерти ее — не праведной и не героической — никто не вспомнит более. Не была Вера Ивановна ни артисткой, ни ученым, ни изобретателем, а была приехавшей месяц назад в Москву из поселка Пятиморск Волгоградской области нянечкой в поисках работы. Да, видно, что-то пошло не так: деньги кончились, идти некуда, просить помощи не у кого.
Татьяна складывала все внутрь, туда, где, как ей казалось, у человека находится душа. Там уже был потерявшийся в лесу пятилетний Алешенька, которого слишком поздно нашли и он заснул на опушке с мокрым от слез личиком. Татьяна часто пела ему песни про ежика. Был там и повесившийся безответно влюбленный Виктор, написавший на клочке бумаги, что он любил и всегда будет любить только Клаву, а в смерти своей просит никого не винить. Была там и добрейшей души баба Света, которая спешила к больной сестре с гостинцем и дорогу переходила, как положено — по пешеходному переходу, но какой-то лихач не заметил ее. И красные яблоки бабы Светы еще долго лежали на дороге, раздавленные и никому не нужные.
Поместила туда Татьяна и Веру Павловну.

Эффект дикобраза
Я родился потому, что в моего будущего отца попала игла дикобраза. Он работал униформистом в цирке. И сопящий грызун, ковыляя с репетиции, выстрелил ему в ногу. Игла дикобраза, чтоб вы знали, способна пробить кирзовый сапог. Тощую плоть родителя она пронзила до кости. Случай не смертельный, но дурацкий и болезненный.
Юная рыжая дрессировщица так старательно вымаливала прощение у временно охромевшего по ее недосмотру коллеги, что через несколько месяцев отправилась в декрет, оставив свою бестолковую живность на попечение без пяти минут молодого отца. Его карьера нежданно рванула вверх — батя получил жену-артистку, номер в цирковой программе и в довесок — меня.
Несмотря на кинокомедийный пролог к моему выходу на арену жизни, я рос мрачным, нелюдимым, зато удобным ребенком. Тихо сидел где-нибудь в закулисье, лепил куличики из лошадиного говна и воображал, как буду разведчиком. В итоге оба этих занятия суровой ниткой оплели и мою взрослую жизнь. Я стал журналистом.
Я вырос похожим сразу на трех своих прародителей — худой, рыжий, с торчащими в разные стороны длинными патлами. Женщины любили меня тоже по унаследованной от предков традиции — из жалости и чувства вины.
Когда секретарь редакции Лера, к утру измотанная моей акробатикой, призналась, что из-за ее ошибки в бумагах мне завернули визу в Испанию, я не издал ни звука. Молча выразил свое отчаяние в итоговом танце любви и стал собираться в поселок Новая Жижица.
Там свинокомплекс завалил несвежими тушами ценнейший археологический памятник и ушел в глухой отказ. Мне предстояло порыться в теме, уличить виновных, надавать им по щекам пафосом общественного гнева и заставить расчистить площадку для раскопок.
Археологов ждет сезон душистых артефактов. Ха-ха. А дурак Пахомов поедет вместо меня в Испанию. И плевать. Цирковые не плачут.
Хотя нет — тут я погорячился. От близости оскверненного памятника весь мой организм взрыднул, взор затуманился и даже насморк снесло потоком забористой вони.
Начальник археологической экспедиции — бородатый мужик в плавках — отплевываясь от мух, быстро объяснил: свалка появилась за одну ночь, в палатках — полсотни первокурсников и нечем дышать. Если студентов увезти, тухлым ливером накроется его докторская диссертация.
Из всех героев драмы сочувствие во мне вызвали только непотребно сваленные на поляне животные.
Все-таки кровь — великое дело. Конечно, дрессировщикам поздно прикидываться зверолюбами. Но если уж не рассчитал силу удара — похорони четвероногого артиста по-людски. Так всегда говорил батя, почесывая судьбоносную ранку на ноге.
Вдохнув ядовитых испарений, я понял: призвать к ответу свиноводов из Жижицы — дело не гонорара, но чести.
Свиноводы от призыва уклонились, вручив мне распечатку передвижений своих машин за последнюю неделю. Никто не сходил с маршрута и не гадил на опушке. Всего доброго.
Я не собирался сдаваться. Гора плоти, давно неразличимой под роем мух, требовала отмщения.
Мои посты в фейсбуке с сочными картинками с места событий к вечеру были облеплены десятками возмущенных комментариев. Проклинали бездушный бизнес, мясоедов, показушный Гринпис, захвативших страну коррупционеров, задолбавших мозги веганов, корыстных баб и первую коллекцию макияжа от «Шанель» для мужчин, в которой — и вот тут мнения многих сошлись — очень годный карандаш для бровей.
Свинокомплекс мои гневные хештеги в соцсетях проигнорировал и с румяным рекламным покерфейсом опубликовал рецепт рубленых шницелей.
Знакомые журналисты с телеканалов обещали поговорить с начальством. Но предупреждали, что тема «мелковата» и съемочную группу вряд ли погонят на ночь глядя в область.
Прокурор — вот он отнесся ко мне со всей серьезностью, заверил, что разберется и ответит в соответствии с законодательством через 30 суток. А если возникнут обстоятельства особой сложности — через 60.
В ночи я забился в спальный мешок какого-то студента и заплакал. Я не оправдал ожиданий родителей-артистов, не особо удался как журналист. И даже старый дикобраз, который склонился надо мной и смотрит грустными мамиными глазами, не нашел для меня слов поддержки…
Мою честь и гонорар спасли поутру первокурсники. Изнывая от вони и безделья, они бродили по поселку и рассказывали про прессу, которая съезжается к свалке и вот-вот всех разоблачит. Так они раскачали лодку людского безразличия и трусости. Из нее вывалился хозяин грузовика Николай. Студенты привели его для дачи показаний.
Николай показал, что три дня назад его разбудила жена и невежливо напомнила, что пора на работу. Он приехал на свинокомплекс, забрал отходы и только километров через пять сообразил, что уже полгода как на пенсии. А на сегодня его нанял глава поселка возить асфальт для дороги к новому коттеджу. Николай с перепугу сгрузил содержимое кузова на поляну и метнулся за асфальтом. Рабочие сильно матерились, но дорогу закатали. Теперь дом мэра до зимы можно будет находить по запаху. И тут уж ничего не поделать. Зато загаженный памятник истории виновный со всех сторон Николай готов спасти.
Репортаж получился. Благодарные археологи, глава-казнокрад, сознавшийся злоумышленник… Жизнь — цепь счастливых случайностей.
Я спросил у родителей — где они похоронили того дикобраза? Конечно, они хотели проводить его с почестями — нашли просторный короб из-под сигарет, упаковали. А цирковые рабочие нечаянно свезли его вместе с мусором на помойку.
Пахомов привез мне из Испании магнит — яростный бык таращит с холодильника полные ненависти зенки. Дурацкий итог бесполезной поездки. Я отдал быка Лере. Получился подарок со множеством смыслов: я все еще зол; спасибо за Жижицу; у меня в запасе есть еще несколько акробатических трюков — приходи.

Василий-картонка
«Скукоте-ень, ненавижу школу вообще, а дистанционку особенно!»
Ася откинулась на спинку стула. «Ладно, попробуем еще раз… Василий добежал от дома до школы за 5 минут и опоздал на 1 минуту. На сколько процентов Василию нужно увеличить свою скорость, чтобы не опоздать на урок?»
Какой урок?! Зачем урок! Было уже почти 00:00, а домашка все никак не делалась, ужасно клонило в сон. Вот Василий бежит, он бежит к школе, а добежать никак не может, бедняга рвется к знаниям, а они уползают… Ася широко раскрыла глаза, тупо пялясь на страницу учебника, затем не выдержала, прильнула щекой к прохладной поверхности стола.
Вдруг сзади раздался странный звук, какое-то клокотание — непонятно, что может у нее в комнате клокотать?..
Она резко села, потерла глаза. Посреди незнакомой ей почему-то комнаты стоял высокий кудрявый мальчик. Ася еще раз протерла глаза, но ни комната, ни мальчик не исчезли…
— Ты кто?
— Я? Василий.
Ася сглотнула.
— А-а, а ты откуда?
— Из двухсот восемнадцатой.
— Квартиры, что ли?
Странно, удивилась она, у них в доме вроде меньше.
— Вот бестолковая нашлась. Из задачки!
Глаза у Аси расширились, она медленно встала и подошла к окну, чтобы вдохнуть свежего воздуха, понять хотя бы примерно где она и… ВОТ ЭТО ДА!!!
Насколько хватало глаз, кипела работа: вон там два мастера делают шестеренки для часов, она про них только что решала. А вон там какой-то дебил бегает вокруг огромной пирамиды, пытается ее измерить… Она повернулась обратно к Василию. Бррр… а где он? Ася поморгала и вдруг поняла, что мальчик просто повернулся к ней боком, тьфу, плоская картонка! Почему-то ее это совершенно не удивило…
— Так значит, говоришь, из двухсот восемнадцатой ты? — спросила она, не зная, как начать разговор, и боясь спугнуть математического мальчика. Но Василий ни чуточки не смутился, а сразу перешел к делу.
— Да, да, из нее. Ты мне помочь пришла? — Он продолжал, не дожидаясь ответа, скороговоркой: — Вот спасибо, понимаешь школа у нас недалеко, а вот сколько я до нее не…
— Да знаю я, знаю! — перебила Ася, удивляясь быстроте, с которой она привыкла к ситуации. — Но говорю сразу: я тоже не имею понятия, как твою задачку решать.
Василий как-то сразу сгорбился, опустил голову, глубоко вздохнул. Асе стало нестерпимо жалко юного математика.
— Ну, я это, могу попробовать…
— Правда?! — он подскочил и ринулся к окну. — Какие у тебя мысли? Я уже все, что знал, перепробовал…
Ася снова взглянула на странный арифметический мир: вон там, недалеко, виднеется грязно-серый прямоугольник, это, наверное, и есть школа. Школы всегда красятся в неприятные цвета…
Другой человек на ее месте просто решил бы задачку. Объяснил Василию, что скорость надо увеличить всего лишь на… на… Ну вы поняли, на сколько-то там процентов…
Но Ася была не такова. Она была готова на все, лишь бы не решать никаких задачек!
— Если до школы не успеваешь добежать, до нее можно доехать на машине! — объявила она, деловито задрав кверху указательный палец.
— На машине? — Василий оживился. — Это такая штука на колесиках, как в трехсотой задачке?
Ася не имела ни малейшего понятия о том, какая штука на колесиках есть в трехсотой задачке, но все равно кивнула.
— Прекрасно! У меня в ней друг есть, его Шофером зовут! Я его попрошу, он поможет! — крикнул плоский пацан уже на бегу.
Но друг Шофер не помог. Он был очень занят: догонял другую машину, которая ехала на расстоянии 15 км от него со скоростью… В общем, это неважно, не мог и все тут. Василий снова сник, вот картонка! Ничего придумать не может! А Ася не картонка, она должна что-то предпринять!
— А если затопить пространство между школой и домом водой и поплыть?! — предложила она горе-теоретику.
— Водой? — Он уставился вверх, как будто вспоминая. — Вода — это как в речке из сто четырнадцатой, да?
Опять он со своими задачами лезет! Ася молча кивнула.
— А плыть — это как мой друг Пловец из двухсот пятьдесят девятой, да?! — оживился Вася. Ася снова кивнула. Он подбежал к окну и щелкнул пальцами. Огромное пространство стало постепенно наполняться, заглатывая сидевших во всех его уголках задачников, которые и ухом не повели. А Василий уже встал на подоконник, готовясь прыгнуть прямо с третьего этажа.
Ася испугалась, хотела его остановить. Но вдруг вспомнила, что он всего лишь плоская картонка! — и тут же снова затрепетала: размокнет вот, обмякнет, утонет, ищи его потом! Но все обошлось, за исключением того, что с рекой тоже ничего не получилось…
Они забыли про скорость течения, которую Василий побороть не смог. И опоздал не то что на одну, а на все десять минут. А когда они попробовали взять напрокат катер из двадцать седьмой, их ждала та же неудача, что и с машиной. Катер делал важное дело и ни за что не мог отлучиться от своих круизов вверх и вниз по течению.
Делать было нечего.
Сначала Ася подумала, не полететь ли им, но справедливо рассудила, что все самолеты и вертолеты очень заняты.
Оба сидели, подперев кулаками щеки, и безучастно смотрели в окно. Асе показалось, что Вася как-то еще больше сплющился, картоночка стала еще тоньше. И тут ее осенило! Она вдруг вскочила, подбежала к столу и как Василий щелкнула пальцам. На столе появился комп. Теоретик изумленно посмотрел на нее.
— Э-э-это что? — спросил он, слегка заикаясь. Ася не ответила, она уже вовсю погрузилась в знакомый с детства мир окон, табов, приложений и лент.
Наконец она выпрямилась и подвела оторопевшего Васю к экрану.
— Смотри! — объявила она и нажала продолговатую кнопку чуть ниже середины клавиатуры. На экране тотчас появилась голова молодой хорошенькой учительницы («не то что наша крокозябра», сердито подумала Ася).
— Добро пожаловать в класс! — Василий широко улыбнулся, а потом растерянно посмотрел вокруг…
— А теперь что, Анастасия…
Ася не знала, что теперь, но ее больше интересовало, откуда он знает ее имя.
— Анастасия! — повторил он строгим голосом.
— Анастасия! — чуть не завопила девушка на экране.
— НУ, АСЯ!!! — взвизгнули они вдруг хором.
Она закрыла глаза, стала трясти головой и отмахиваться. Руки обо что-то ударились. Голова ерзала по чему-то твердому. И тут в темноте прозвучал уже отчетливо мамин голос:
— Госпожа лежебока, не изволите ли проснуться и объяснить, почему уже два часа ночи, а математика еще не сделана?!
Ася, окончательно проснувшись, подняла голову. Мама смотрела, строго подняв одну бровь. Она тоже выглядела замученной и заспанной.
— Вышла это я, смотрю, у тебя свет горит! Пора кончать с этими ночными посиделками! Ты что, еще даже не закончила?!
— Да закончила я… — пискнула Ася.
— А это что? — Мама показала в тетрадку с нерешенной задачей. Девочка секунду посидела, раздумывая, а затем гордо, самыми красивыми прописными буквами вывела:
«Ему поможет дистанционное обучение!»
А под этим добавила маленькую приписочку:
«Проверено на практике!»

Дождливая неделя
Я — дождь. Я — весёлый помощник одуванчиков, рек, радуги, мокрых дорог, улыбок, зонтов и запахов, от которых ещё больше хочется сбежать с ненавистных уроков физики. Мысли и печали выливаются вместе с водой из моих кроссовок на чёрный асфальт, ложь — стекает вместе с каплями с шеи, а последние ручейки благоразумия и спокойствия — убегают вместе с землёй из-под ног.
Вся мокрая, от кудряшек на голове до тетради по алгебре в рюкзаке, я втекла домой. Сейчас же почувствовав, как перевоплощаюсь в дом: в мыло, кота, борщ на плите, мамины духи и срач родителей на кухне… Стоп, что? Они же ещё утром что-то не поделили. Неужели до сих пор… Блин.
Мокрые шнурки на кроссовках перестали пахнуть одуванчиками и свежескошенной травой, капли с толстовки раздражающе разбивались об пол, а кот грустно орал в комнате родичей. Свободный и меланхоличный образ дождя перестал быть мной. Теперь я — это я.
«Ненавижу не понимать. Что. Мать вашу. Происходит? Единственные изменения, которые были для меня заметны — привкус от папы и мамы. От папы стало нести вином, тупой независимостью и ложью, а от мамы — потерей, слезами и грустной музыкой», — звучал голос потерянности и злобы в башке.
Я никак не могла понять, как связать эти абсолютно противоположные ощущения, поэтому надеялась, что это просто кризис среднего возраста или типа того. Сидя в комнате и пытаясь сделать узелок из всех этих фактов и ароматов, я почувствовала, как уши пронзило оглушающей тишиной. Она появлялась в них только тогда, когда натягивалась, как сыр на пицце в зубах маленького ребёнка. Живот закололо, уши и руки замёрзли и покрылись холодным потом, а голова превратилась в пустую и ненужную шляпу.
Мама и папа вошли в комнату, которая была переполнена долбанутыми страхами.
— Нам нужно с тобой серьёзно поговорить, — с натягом и злобой сказал папа.
— Дело в том, что мы… — Тут мама больно запнулась. — Что нам с твоим папой нужно расстаться.
Перед глазами расплывается. Всё раскололось, развалилось и перестало иметь любовь и сказку внутри, но я держалась дельно и взросло.
— Что?!
— Это очень долгая история, которую ты обязательно узнаешь, но немного позже.
— Нет уж! Если решили дать мне какую-то ошеломляющую хрень, то будьте добры, объясните её до конца!
И, перебивая друг друга, они рассказали всю эту действительно немаленькую историю. Но я, похоже, слишком тупая и так и не поняла, что произошло. Версии слишком разные и каждый пытается показаться в моих глазах круче, детский сад, реально. Но конец всего этого паясничества отправил мозг прямиком в дурку.
— Тебе нужно выбрать, с кем ты хочешь остаться.
Я вообще сначала не врубилась. Типа, йоу, а как? Демоверсия тупейшего вопроса из детства «А кого ты больше любишь?» или что это за хреновина? Да и к тому же какого эклера я должна выбирать за двух? Почему мелкий не при делах? Чо за торт.
Они вышли из комнаты, оставив меня в невидимых ожогах. Хотелось заорать и разрыдаться от боли, но терпила в башке разорвал всё существование тупой и никому не нужной фразой: «Всё будет хорошо», а импульсивный ребёнок взорвался бредом и отчаянием в тот момент, когда они вошли, поэтому оставалось слушаться только этого терпячего и бесячего ублюдка, который делал только хуже. Нужно было кому-то всё рассказать, поплакать в плечо и забить на это дерьмо, но все привыкли видеть клоуна, а клоун не грустит на сцене.
И я вырубилась.
Очнулась часа в три ночи. Бессознательно закинула какую-то хрень в рюкзак, типа одежды, минимального запаса еды и воды, схватила укулеле с кресла, а потом засунула в карман честно накопленные деньги, взяла всё это барахло и тихо ушла из дома.
Идти по широкой, мокрой, оранжевой от фонарей улице — безумно приятно. Ночь — в принципе потрясающая хреновина. Всё становится по-своему волшебным, и это притягивает с невероятной силой.
Я бываю нереально везучая. Например, как сегодня.
На другой стороне дороги виднелась ярко-голубая машина с наклейкой на бампере.
«Была не была», — подумала и протянула руку.
К счастью, она остановилась. За рулём была потрясающе красивая старушенция. У неё были седые короткие волосы, круглые очки, широченные глаза ярко-зелёного цвета, королевские губы и брови, и милый вздёрнутый нос. Она была одета в ярко-жёлтый спортивный костюм и классные оранжевые кроссовки.
— Внученька, ты чего тут одна? — спросила бабуля волшебным, молодым, с хрипотцой голосом, чем-то похожим на мой собственный.
— Здравствуйте. Да вот, произошла не самая клёвая ситуация и решила куда-нибудь свалить, хотя бы ненадолго, — устало ответила я.
— Да? А куда едешь?
— Без понятия. Очень хочется в Грузию. Говорят, что там тепло.
— А ты счастливая.
— В смысле?
— Да я тоже туда еду, а одной безумно скучно. Внуки отказались, а у взрослых — работа. Не хочешь со мной?
Ветер начал весело и правдиво дуть в лицо, моросящий дождик уже не был противным, ну а я чуть не шибанулась в фонарь от опьяняющей возможности.
Поспешно согласилась, кинула вещи на заднее сиденье, а сама уселась вперёд.
«Это будет потрясающе», — орал импульсивный и впечатлительный ребёнок внутри.
«Это опасно, безумно и страшно», — твердил терпила. Мог бы и заткнуться, дебил.
Женщину звали Маргарет. У неё дома живёт три кота, один пёс, она безумно любит зефирки и мармеладных мишек, а ещё мечтает слетать на Луну. Маленькая девочка в башке ликовала, а «благоразумный» фыркал.
Когда Маргарет взахлёб говорила о схожести шкафа и гитары, я написала маме и папе о том, что свалила, и вырубила инет: слишком люблю слушать всякие бредовые сравнения.
Первые часов шесть прошли просто волшебно. Мы болтали обо всём и сразу: о любви, дружбе, смысле, дожде, ненависти и прочей сложной чепухе.
Маргарет остановила машину, чтобы заправиться, а я купила ещё воды, еды, зефирок и мармеладок, а потом крикнула своей новой знакомой, что пойду разомнусь, и убежала в ближайшее поле с подсолнухами. Подсолнухи занимают второе место в рейтинге «самые красивые и свободные растения в мире». На первом — одуванчики. С ними ничто не сравнится.
Ребёнок в коробке был ужасно счастлив и грустен одновременно, а терпила, вообще идиот какой-то, вроде чувствует, но ему нужно «держаться», а за что — сам не знает. Псих.
Из глаз текли слёзы из-за тупой потерянности и утраты, земля под ногами прыгала, а дождь до сих пор херачил в хлебало и очки. Я упала носом в какой-то безумно острый камень, расцарапала очечи в сраку, расхерачила нос, а настроение улетело к дождю.
Долго лежала и рыдала, как младенец. Нос противно щипало, в этих слепых штуках, которые обычно называют глазами, рябило, а дождь мирно смешивался на подсолнухах с кровью из бедолаги-носа, слезами и соплями. Без понятия, что произошло. Просто сердце сжалось и замерло, а в мозг ударили боль и непонимание, но он на удивление быстро успокоился.
Поэтому я села и запрокинула голову, чтобы кровь из носа свалила домой. Так неприятно, но в то же время волшебно.
«Круто, что небо всегда либо серое, либо — голубое. Клёво осознавать, что хоть это всегда будет на месте и неизменно стабильно», — здесь меня снова убаюкали облака, и я заснула.
Через несколько часов мы, уже отдохнувшие, мчали по дороге. Маргарет очень любит скорость, впрочем, как и я, поэтому было очень комфортно.
Уже ближе к вечеру мы подъехали к лесу и остановились в поле неподалёку. МоЙ лИчНыЙ вОдИтЕлЬ устала, поэтому очень быстро вырубилась, а я пошла побродить. Нашла какой-то высоченный холм, весь усеянный одуванчиками, и конечно же взобралась на него. Окровавленные коленки приятно покалывало, ушибленный локоть пел какую-то свою забавную песню, а я лежала в белой футболке, которая успела превратиться в жёлтую, смотрела на закат и выбирала. Выбирала между мамой и папой.
«С одной стороны, если мама, то Илюхе будет не очень круто, потому что он больше привязан к папе, а если папа — мне будет херово. Но ведь спрашивают только меня, так ведь? Ну, значит, мама. Но по сути же спрашивают за двоих… Хер разберёшь. Так. Ладно. Решаем тупым способом», — и достала из кармана шорт мятую бумажку и ручку. Разорвала пополам, через жопу написала «папа» и «мама», закинула это всё в кепку и перемешала с закрытыми глазами. Выпала мама.
«Ну, окей, похоже, даже кепка за маму. Блин, только я могу решать проблемы такими способами, тупая. Впрочем, я всеми руками за решение этого тупорылого головного убора, мать его».
Ещё чуть-чуть поругалась на бедную ткань с козырьком и, досмотрев закат, я пошла к машине. Достала телефон из недр рюкзака и написала родителям о своём решении. Руки тряслись, сердце перехватило, а внутри всё стало потихоньку замерзать. Пошёл обратный отсчёт. Три. Два. Один. Ииииииии…! Ничего. Ну да, действительно, зачем же отвечать. Хотя… Так даже легче. Я улыбнулась всё ещё моросящему дождю и улеглась на переднем сиденье.
Следующие три дня не происходило ничего интересного. Мы ехали, спали, играли в прятки (причем Маргарет очень хорошо пряталась благодаря своему маленькому росту), знакомились с заправщиками и гуляли. Дождь никак не хотел уходить, а мы его даже не думали гнать, как ни крути, он тоже путешественник, так пусть делает то, что хочет.
Но на четвёртый день мы въехали в Грузию. Там было… Даже слов подобрать не могу. Просто невероятно. Больше всего меня, как ни странно, зацепило бельё, которое сушится на верёвках. Видела такое года три назад, но не в таких больших количествах.
У Маргарет там живёт знакомая, у которой мы и поселились. Мне постелили на балконе. Сидела всю ночь и глазела на дождь, как будто впервые увидела. Он до сих пор бил по крыше. Неугомонный даун, мы с ним похожи. Плед грел тело, горячий чай — сердце, а аккорды из укулеле — уши. Тепло, спокойно, честно и неизменчиво. Наконец-то.

Как мы с Колей играли в пиратов
Мы с Колей решили играть в пиратов. Надели красивые шляпы и повязки на глаза.
— Нам нужно закопать сокровище! — сказал Коля.
— Что мы закопаем? — спросил я.
— Давай каждый из нас принесет свою любимую игрушку, — предложил Коля. — Представляешь, как через десять лет мы их откопаем!
Я пошел за своей машинкой. Но как я ее отдам? Еще столько всего нужно с ней сделать! Тогда я позвонил Коле и сказал, что нужно закопать что-нибудь вкусное. А тут у бабушки очень кстати были готовы пирожки с капустой. Но мы не удержались и съели их по дороге.
— Знаешь, — сказал мне Коля, — мама говорит, что Лариска ее сокровище.
— Отличная идея, юнга! У нее же золотые волосы!
Лариса была сестрой Коли. Она с радостью согласилась закопаться.
— Стоп! — сказала Лариска, когда мы уже собирались ее закапывать. — А что я буду есть?
— Точно! Давай возьмем пирожков у твоей бабушки и дадим Лариске, мы же раскопаем ее только через десять лет! — предложил Коля.
Тогда нам пришлось еще и идти за пирожками.
— Зачем вам столько пирожков? — спросила бабушка.
И в тот момент наша миссия провалилась. Мы были наивные маленькие пираты и рассказали ей про наш замысел. Бабушка позвонила Колиной маме, и она вытащила Лариску из ямы. А с нас взяла обещание, что мы никогда больше так не будем.
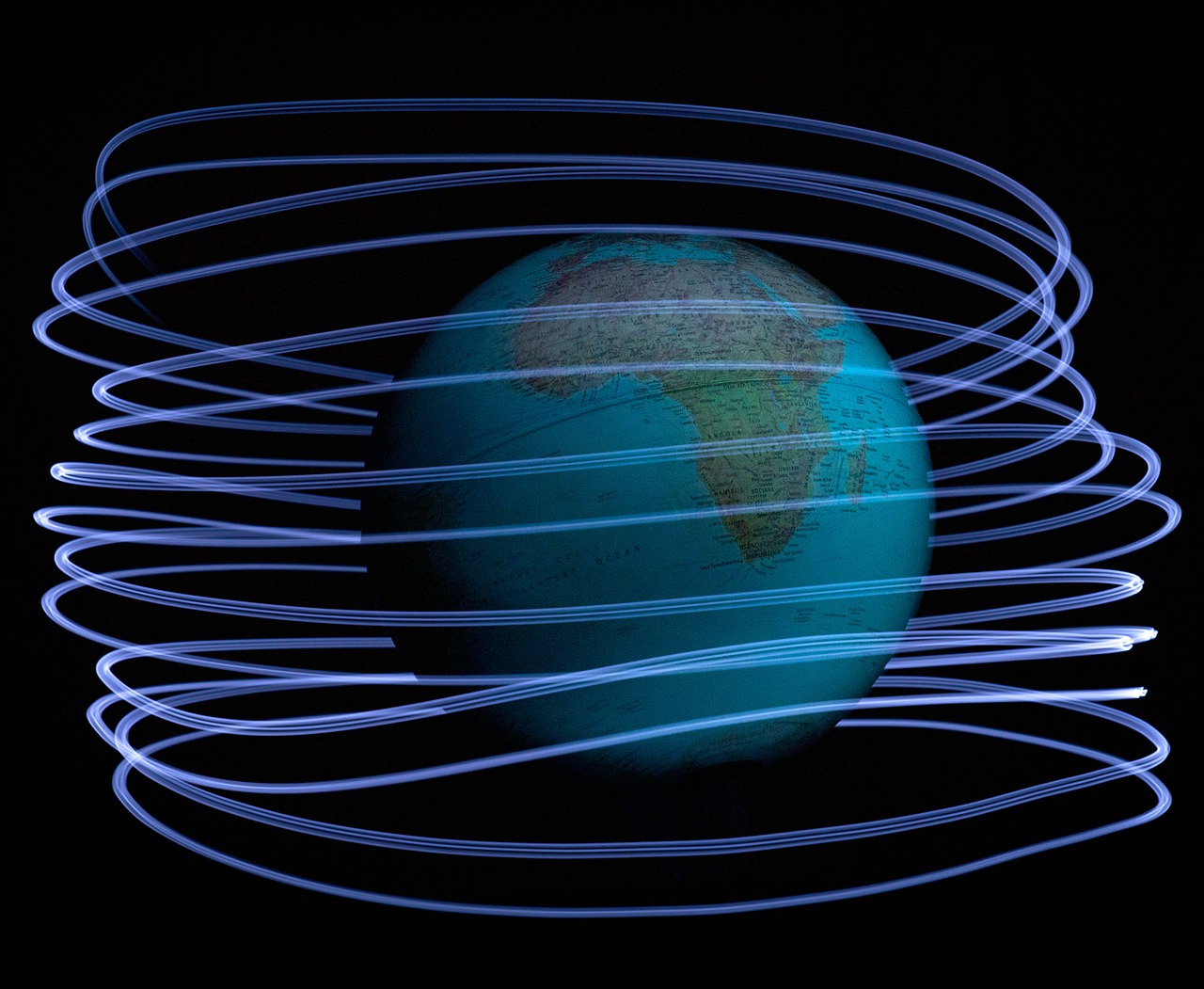
Камнерез на колесиках
Я шёл в столовую, чтобы сытно поесть. Я подошёл к буфетчице, достал деньги из кошелька и купил вкуснейшее мясо по-французски. Но тут мне прямо в ухо завизжала сигнализация:
— Виу-виу, вяу-вяу! Виу-виу, вяу-вяу!
Серьёзно, опять? У нас каждый месяц эта учебная сигнализация. Так всех тренируют «избегать опасных ситуаций». Да, я бы мог уже давно побежать на улицу, как это всегда просят сделать, но всему помешала одна деталь. Это то, что я уже держал в руках свой обед! Куда его девать — непонятно. Все друзья уже за пределами здания, тем более, всё очень быстро остынет, а такая привилегия, как микроволновка, у нас отсутствует. Выйти с едой на улицу тоже не вариант, так как у дверей школы стоит охранище, который запрещает «выносить за пределы здания школьное имущество, а именно вилку и тарелку!» Тогда я решил оперативно провернуть одну незамысловатую комбинацию. Запихнул мясо в рот, выбежал из столовой, наткнулся на уборщицу, направился к выходу, захотел пролезть под турникетом, долбанулся об него головой и выронил изо рта треть обеда, вышел на улицу, получил комом снега по голове, увидел своих друзей, направился к ним.
— Ты где был? — спросили друзья у меня.
— Да так… Хавал.
— Понятно. Ну ладно, как закончится эта учебная сигналка, сразу ран в школу в мобилки рубиться, а то у меня телеф на морозе выключится.
Никогда не любил говор своих друзей. Мы стояли минут пять в ожидании возвращения в класс. Неожиданно я услышал шум под ногами, который становился всё громче и громче. Судя по всему, услышал это не только я. Народ принялся с опаской отходить в сторону.
— Мы все умрём! — заорали вдалеке некоторые ребята из началки. В земле появилась трещина, она ровным кругом окружила всю школу. Затем по необъяснимым мне причинам наша школа отделилась с куском земли и взлетела вверх! Все в панике покинули территорию школы, а я не мог этого сделать. Почему? Да потому что я стоял на том куске земли, который оторвался вместе со школой. Все учителя, которые не сопровождали классы, посмотрели из окон вниз. Мы поднимались всё выше и выше. Вдруг наш небесный остров завалился набок. Я как кошка забрался на дерево и принялся там сидеть.
— Я знал, что это случится! — закричал географ, который пытался ухватиться руками за землю. Он неизбежно катился по наклонной плоскости вниз.
— Что случится? — спросил я.
— Один раз в несколько тысяч лет на Земле бушует Вертикальный Ураган! Он вырывает всё живое с корнем и тянет к себе наверх, — ответил он мне и упал, сорвавшись с края острова. А ведь всё начиналось с мяса по-французски! Сил держаться у меня не было, и я тоже отпустил руки. До земли было ещё километров пять, я просто надеялся на что-нибудь хорошее. Вдруг ко мне прицепился некий магнитный луч. Он начал тянуть меня к себе. В итоге я оказался на земле целым и невредимым. Я пошел к источнику магнитного луча. Он исходил из того места, где до этого была школа. Там стоял полностью каменный мужчина. Да, да, самый настоящий человек из камня.
— Спасибо, — сказал он мне.
— Кто вы? За что спасибо?
— Меня зовут Роки Стоун. Моя история закрыта смертному и открыта богам, о чём они пожалели. Спасибо тебе вот за это, — сказал он мне и вынул треть обеда, которую я уронил, направляясь на улицу. Я внимательно присмотрелся. Там блестело нечто… живое. Оно билось с неуловимой силой и скоростью.
— Что это? — спросил я у него.
— Это моё сердце. Ты освободил меня от подземных мук!
— То есть, это всё вызвано не вертикальным ураганом, а… вашим сердцем?
— Совершенно верно. Кстати, прошу прощения за школу, — ответил он мне и вернул на место небесный остров.
— А как же те люди, что упали? Например, учитель географии?
— Я их всех вернул к жизни и телепатически им внушил, что это был плохой сон. И снова спасибо тебе за моё освобождение. К сожалению, мне пора, — объяснил он мне. Он взял в руку своё сердце, и его грудная клетка распахнулась, как ворота. Как только он поместил туда свой живой орган, камень на его теле начал рассыпаться. Когда все куски и кусочки опали, передо мной стоял уже совершенно живой человек. Не промолвив больше ни слова, он взлетел на небо и исчез. Вместе с пропажей незнакомца у меня появилось одно желание. Я хочу узнать, кто же такой этот Стоун?!
С помощью мобильной связи я ввёл в гугле «Роки Стоун». «Фасадные панели» — выдал мне поисковик. Может, этот каменный чел владеет фирмой фасадных панелей? Фу, что за бред! Хотя…
— Эй, Вовандеморт! — раздались сзади голоса моих друзей.
— Что? — спросил я.
— Печалька…
— Почему печалька? Потому что школа взорвалась?
— Не поэтому. В мобилы поиграть не получится.
Я отбежал подальше от своих одноклассников, а то ещё «на хату» позовут. Неожиданно я начал чувствовать лёгкое покалывание в животе. Оно становилось всё сильнее и сильнее, превратившись в магнитный луч. Опять он?! Я переместился в огромный каменный дворец. За троном сидел, конечно же, наш Владелец Панелей.
— Приветствую тебя, смертный! — громовым голосом сказал он мне. — За моё освобождение ты получишь великий дар! Проси у меня что угодно.
Ком снега, который упал на меня днём, начал таять, затекая мне за шиворот.
— А можно два дара? — спросил я у него.
— Это ещё почему?
— Первый дар за освобождение, а второй — за мясо по-французски. 130 рублей как-никак!
— Пускай будет так. Что же ты желаешь?
— Я хочу узнать, кто ты такой. И, пожалуй, банку колы.
— Ты смертный, тебе нельзя рассказывать мою историю!
— Но ты же сказал просить что угодно!
— Ладно, так уж и быть, — начал Стоун, но не договорил из-за раздавшегося взрыва. От замка ничего не осталось, мы с Роки чудом спаслись.
— Кто это? — спросил Роки.
— Ты думаешь, я это знаю?!
Вдали появился загадочный силуэт. Он становился всё больше и больше. Может, это заклятый враг Роки? Или ещё кто-нибудь из-под земли? Перед нами стоял… Учитель географии! Его лицо было в порезах и ссадинах, костюм порван. Я узнал его только по значку в виде глобуса у него на груди.
— Володя Зайцев? Что ты здесь делаешь? — спросил он у меня.
— А что вы здесь делаете, Пётр Петрович? — спросил я у него.
— Я пришёл мстить этому каменному уродцу! Он мне внушил, что всё происходящее было сном. Конечно, сном, когда на тебе свежая кровь!
— Упс, — промолвил Роки.
— Как вы нашли нас? Я же телепортировался! — не понял я.
— Да от вашего магнитного луча сдох мой дозиметр радиации! Вы представляете, какая там была доза?! Поэтому я запросто вас вычислил.
— И… что вы хотите сделать? — снова спросил я.
— Если ты не будешь лезть, я с тобой ничего не сделаю. А вот ему не поздоровится, — сказал географ, показав на Роки. Затем он полез в карман и вынул оттуда карандаш. — Карандаш любого географа должен быть остро заточен. А острый карандаш острее любого ножа!
Пётр Петрович набросился на Роки. Дальше всё было, как в типичных боевиках. Кто-то лидировал сначала, кто-то потом. Роки беспощадно бил кулаками, а географ, будто шпагой, размахивал карандашом. Из одного лилась кровь, из другого сыпались камешки. Когда грифель карандаша Петра Петровича сломался, он попытался драться врукопашную. Особого преимущества это не дало. В итоге Стоун сделал из своих магнитных лучей кандалы для географа. К сожалению, проработали они недолго. Мой учитель географии снял свой значок с глобусом. Он позволил ему выбраться из западни. Дальше он бросил значок на землю, и тот обратился в камнерез на колёсиках! Я услышал, как Роки громко сглотнул. Географ понёсся на него. Не успело пройти и секунды, как Владельца Панелей разрубили пополам. Географ, прыгая от радости, скрылся вдалеке.
— Володя, Володя!.. — звал меня каменный друг. Я подошёл к нему. — Володя! У меня нет кровотечения, мне и удары никакие не страшны. Но моё сердце… Оно очень хрупкое, в отличие от моего твёрдого тела.
— Как я могу помочь? — поинтересовался я. — Может, мне нужно купить второе мясо по-французски и достать оттуда ещё одно сердце?
— Хе-хе. Нет, это так не работает… Ты вроде хотел узнать, кто я такой, а также просил банку колы. На первое у меня не хватит времени, а вот на второе…
Рядом со мной появилось то, что я хотел.
— Ну всё, мне пора. Прощай, Володя Зайцев! — произнёс Роки и испарился.
— Зайцев, завтра переписываешь контрольную! — напомнил издалека мне географ. Всё затихло. Все затихли. Я сидел на развалинах каменного дворца, попивал колу и с грустью посматривал на камнерез с колёсиками.

Крыска
Петр I на обложке напоминал мне бульдога. Челюсть у него собачья, и глазки запали куда-то внутрь. И пялится — прямо в душу. Я это понял минут пять назад, а может, тридцать, не знаю. Надоело, что он постоянно пырит на меня, и я подвинулся. Даже на парту лег, а он все смотрит и смотрит. Как Мона Лиза. Крыска-Лариска говорила, что если в Лувр поехать, то она будет на тебя смотреть, где бы ты в зале ни стоял. Не Лариска и не картина, конечно, а Мона Лиза.
Ларису Гузеевну мы прозвали Крыской ещё в третьем классе, когда она в нашу школу пришла. Это из-за её маленьких вертлявых ручек, которыми она постоянно что-то трогает. Например, голову Мишке Зайцу погладит, а он скрючится, как креветка, и лицо морщит. Но куда там денешься, не выдергивать же голову!
— Исаев, ты оглох?
Вообще-то, не оглох, задумался просто. Но кричит она знатно. Не как крыса, скорее, как здоровенная мышь.
— Ответь на вопрос в конце концов!
— Я полностью согласен.
— С чем ты там согласен, Исаев? Я тебя спрашиваю, когда Сушкин птих написал, а ты мне что?
Я прыснул. А зря! Глаза у Крыски выкатились, как у Петра. Но невозможно же не смеяться, когда у неё там Сушкин птих!
Удивительная женщина наша Крыска. Все что угодно в нелепость превратит, а я виноват потом. Стоит такая, Зайца по голове гладит и торжествует. А Заяц ужасно мнительный, терпеть не может, когда его трогают. Потом голову на перемене влажной салфеткой оттирает.
Я стараюсь не отводить от Крыски глаз, как будто это как-то поможет скрыть от нее мои руки, которые нащупывают на парте учебник, и рот, которым я отчаянно пытаюсь спросить у соседки Лизы Крыжовник, на какой странице эта дата. На самом деле Лиза вовсе не Крыжовник, а так просто, Мухина, но когда-то она зарегистрировалась под этой фамилией в ВК, а та взяла и приклеилась. Открыв, наконец, проклятый учебник я отвожу взгляд, и вся моя гипномагия рушится.
— Исаев, не заставляй меня ставить тебе два!
Я чуть не ляпнул, что и не думал никого заставлять, но неожиданно встрял Заяц:
— В восеча тысемсот пядцать дватом…
Затишье перед бурей. Так как глазам Крыски расширяться уже некуда, расширяется все остальное. Кажется, она скоро займет собой весь проход.
— Заяц! Что ты себе позволяешь! Как низко, Заяц! Мать ко мне после уроков! Отца! Марш к завучу!
За неимением больше в своей власти Зайца, Крыска теребит собственную голову, выдергивая из пучка пряди. Мне даже жаль ее становится. Но ненадолго — она нас шесть лет терроризировала, пора бы уже справедливости и восторжествовать!
Все-таки приятно смотреть, как орут не на тебя. Как будто купил случайно просроченный творожок, а его съел кто-то другой.
— И этого олуха Исаева с собой прихвати! Два клоуна завелись, ни грамма уважения!
Дело дрянь.
Мы с Зайцем идем по коридору медленно, будто это чем-то поможет. Видно, что Заяц еле сдерживается, чтобы не разреветься. Глаза на мокром месте и губа дергается, как Крыжовник на школьной дискотеке. Мне почему-то очень хочется его подбодрить, я выдаю:
— Ну брось, зато теперь она от тебя, скорее всего, отстанет. Тебе не придется ежедневно тратить кучу влажных салфеток на свою несчастную голову, ты не будешь выбрасывать их на помойку, они не попадут в океан и в них не запутается прелестная морская черепаха. Ты спас черепаху, зайчик.
— Спасибо, — выдавливает он, — люблю черепах.

Маковое поле
Дом, где жили Адель с мамой, отличался от всех других домов в округе. Хотя бы тем, что вокруг него со всех сторон росли алые маки. Какой-то тайный смысл в эту необычную посадку определённо вложили.
Дверь дома резко распахнулась. На крыльцо выбежала девочка с зарёванными глазами.
Она подбежала к женщине, которая только что вышла из такси.
— Адель, дорогая, успокойся! — Тётя Беатрис крепко обняла племянницу. — Я уверена, мама скоро вернётся!
Из глаз Адель хлынули слёзы.
— Она никогда так не задерживалась! — крикнула Адель и заплакала ещё сильнее.
— Пожалуйста, Адель, давай зайдём в дом, — встревоженно затараторила тётя Беатрис. — Нужно позвонить в полицию.
Они зашли в кухню.
Беатрис посадила Адель на стул и дала ей стакан воды. Затем подошла к телефону, который висел на стене.
— Алло, полиция? Я хочу заявить о пропаже человека.
На том конце провода что-то ответили.
— Её зовут Лорен Вилрест, тридцать два года, — сказала тётя Беатрис и прислушалась. — Фотография? Да, она у нас есть… Я хочу забрать племянницу на ночь к себе.
Тетя продиктовала свой адрес, поблагодарила диспетчера и повесила трубку.
— Ну, всё, — выдохнула она. — В полицию мы позвонили. Возьми всё необходимое на первое время. А я пока выберу из альбома мамину фотографию.
Адель поднялась на второй этаж. Минут через десять она спустилась с полным рюкзаком.
— Ну вот… — Тётя Беатрис показала Адель фотографию. — Думаю, эта подойдёт.
Адель снова заплакала.
— Ты Августа будешь с собой брать? — Тётя Беатрис постаралась разрядить напряжение. Она знала, что кот с самого рождения племянницы ходил за ней по пятам, и она его очень любила.
— Конечно. — Адель шмыгнула носом. — Кыс-кыс-кыс! — И позвала своего питомца.
Рыжий кот спрыгнул с дивана, и они вместе вышли на улицу, где их ожидало такси.
***
Адель и тётя Беатрис сидели в просторной кухне за круглым столом. Какао в кружке Адель уже остыло и покрылось холодной плёнкой. Тетя поставила на стол пустую чашку.
— Какой бодрящий кофе! — Беатрис подошла к зеркалу, достала из косметички помаду и накрасила губы ярко-красным цветом.
— Ты куда-то собираешься? — спросила беспокойно Адель.
— Джон пригласил меня в ресторан, — томно ответила Беатрис и загадочно улыбнулась.
— Это тот Джон, с которым ты ходила на свидание в пятницу? — спросила Адель.
— Что ты?! Тот оказался таким скучным и жадным — из него ни слова, ни гроша не вытянешь.
— Но ты же обещала, что мы сегодня сходим в полицейский участок! — У Адель задрожал голос.
— Если они что-нибудь и узнают, то сразу нам позвонят, — раздражённо ответила Беатрис. — Не нужно отвлекать людей от работы.
— Ну, пожалуйста! — не отступала Адель.
— Хватит, — отрезала Беатрис. — Когда я приеду тогда и поговорим.
Тётя ещё раз посмотрела в зеркало, поправила выбившуюся прядь из причёски, взяла свою сумочку и вышла из дома.
***
Вечером, когда Адель сидела на подоконнике в своей комнате, она увидела, что к их дому подъехал чёрный джип. Из машины вышла Беатрис с молодым человеком. Адель показалось, что он был намного моложе её предыдущих ухажёров. Они тепло попрощались, и Беатрис зашла в дом.
Адель лежала в кровати, когда в комнату, словно бабочка, впорхнула Беатрис.
— Адель, какой сегодня прекрасный день. — Беатрис закрыла лицо руками. — Я так счастлива!
— Очень за тебя рада, — сухо ответила Адель.
— Ну, раз у тебя всё хорошо, я пойду, — медовым голосом пропела Беатрис.
Бабочка выпорхнула туда, откуда прилетела, а Адель снова осталась одна.
Утром Адель проснулась в слезах.
Август сидел у нее в ногах и пристально смотрел на свою хозяйку. У кота откуда-то появилась царапина на полморды. Капли крови уже засохли, но было понятно, что этой ночью с животным что-то произошло. В последнее время у Августа появлялись новые ранения по утрам.
Беатрис говорила Адель, что такие раны для кота обычное дело и что не стоит из-за них переживать. Однако Адель понимала, что ночью все двери и окна закрываются. И Август не мог выйти на улицу — все его ссадины были получены только дома.
Адель погладила кота и вспомнила ночной кошмар, в котором она видела маму. Мама бежала по маковому полю, а за ней тянулись огромные чёрные руки, похожие на ветки старого обугленного дерева.
Тут на кухне загремела посуда, и сразу запахло горелым.
Адель вылезла из кровати и пошла проверить, что случилось.
Август засеменил следом за ней.
Это была Беатрис, она готовила оладьи. Стопка вкусных оладушек ей удалась, но последняя порция подгорела.
Тётя положила парочку на тарелку и поставила на стол рядом с кружкой Адель.
— Почему у тебя глаза на мокром месте? — спросила Беатрис.
— Мне приснилась мама. Она бежала по маковому полю, а за ней кто-то гнался.
— Маковое поле? — задумалась тетя.
— Да, — подтвердила Адель. — Ты знаешь о нем что-нибудь?
— Когда мы с твоей мамой были маленькими, мы часто ездили на каникулы в загородный дом. Он находился посреди макового поля. И там мы хорошо проводили время. Но однажды мы почему-то перестали туда ездить. Родители рассказывали нам, что в доме повредилась труба с газом, и он вспыхнул и сгорел. Но я точно не помню.
— А мы можем туда съездить? — спросила Адель.
— Куда? — удивилась тетя. — В тот дом?
— Да.
— Вот ещё! Там ничего уже нет, только развалины. Тем более, у меня работа, — резко ответила тетя.
— А если в выходные съездить, например, в субботу? Ну, пожалуйста!
— В субботу я не могу. У меня встреча с Джоном, — сказала Беатрис и встала из-за стола. — Мы туда не поедем.
— Тетя, у Августа царапины новые появились, — поделилась Адель переживаниями с Беатрис. — Он не выходил на улицу.
Беатрис посмотрела на подоконник, где сидел кот.
— Да мало ли чего с ним случилось, — равнодушно ответила тетя и пошла собираться на работу.
Адель смирилась с тем, что Беатрис не особо хочет ей помогать.
— Скажи хотя бы, где это поле? — спросила Адель.
— За городом, у поворота в лес. Но ты же не собираешься ехать туда одна? — Беатрис строго взглянула на племянницу.
Адель промолчала.
— Так, ладно. Давай тогда съездим, но только недели через две. Примерно во вторник. У меня в этот день нет никаких дел.
— Через две недели?! — возмутилась Адель.
— Прости, но раньше я не могу.
Адель расстроилась, но ничего не сказала. Возможно, Беатрис и вправду не могла поехать с ней раньше.
И тогда у Адель появился план.
***
Когда тётя Беатрис уехала в свой магазин цветов, Адель посадила кота в корзину велосипеда. Выкатила его на улицу и поехала домой, туда, где они раньше жили с мамой.
Через полчаса Адель уже была на месте. Она слезла с велосипеда, закатила его во двор.
Август тут же выпрыгнул из корзинки и засеменил за девочкой.
Дом Адель выглядел теперь одиноко. Он уже не встречал ее радостно, как обычно, и не вселял в неё тёплые чувства. Одни только сожаления. Таким он остался в ее памяти. Адель так соскучилась по домашнему уюту и маме. Но всё это в прошлом.
Она прошла на крыльцо, приподняла уголок коврика и взяла ключ. Август сидел на перилах и смотрел на хозяйку.
Адель приоткрыла дверь и зашла внутрь, кот прыгнул следом. Дома ничего не изменилось. Вещи стояли на своих местах, как и прежде. Только маки, что росли по всем комнатам в глиняных горшках, давно уже завяли. Адель зашла в детскую. Теперь её комната не светилась, как прежде, но была серой и унылой. Казалось, все краски исчезли с холста, и картина вдруг стала совсем черно-белой. На окошке в рамке стояла их фотография. Мама с Адель улыбались, обнявшись. Девочка забрала фотографию и положила в сумку. Хотелось поплакать, но слёз уже не было. Из прикроватной тумбочки Адель достала фонарик и положила его в рюкзак.
Еще раз внимательно осмотрела комнату и вышла на улицу. На маленькой клумбе возле крыльца все ещё росли красные маки. Она сорвала один и пошла к своему велосипеду.
Вечерело.
Адель стоило бы поехать к тёте Беатрис, но она развернулась и отправилась в другую сторону — к тому самому маковому полю, про которое рассказывала Беатрис и которое Адель видела в своем сне. Там, где её маме грозила опасность. Небо уже стемнело, и Адель постаралась ехать быстрее. Разные мысли лезли ей в голову. Сомнения закрадывались в её душу.
А может, она зря туда едет? А может, она ошибается и мамы там нет? К тому же Адель не сказала тёте Беатрис, куда направилась.
В глубине души тетя любила племянницу и волновалась за неё. Однако совсем не понимала её чувств.
Август сидел в корзинке и смотрел на Адель понимающими голубыми глазами. Это успокаивало девочку, и она ехала дальше. Июньским вечером ещё тепло, но с каждым днем становилось все прохладнее и прохладнее. Адель приближалась к полю. Во сне поле выглядело именно таким. Даже в вечернем сумраке яркие цветы выделялись на фоне мрачного леса.
И щебета птиц не слышно, словно природа замерла в безмолвии.
Адель слезла с велосипеда и вытащила из рюкзака фонарик. Август выпрыгнул из корзинки и быстро побежал в поле. Адель поспешила вслед за котом. Август изредка останавливался, водил ушами и к чему-то прислушивался.
Вдруг Адель услыхала крик, и ветер тут же унёс его в сторону.
Снова тишина.
Наконец цветочное поле закончилось, и путешественники увидели старый двухэтажный дом. Прогнившая крыша, доски, торчащие из полуразрушенных стен, и выбитые окна. Август напрягся, зашипел и вздыбил шерсть. Потом он подпрыгнул и быстро побежал к дому.
Адель пошла за котом. Переступила порог жилища. Она слишком любила маму, чтобы вернуться назад, так и не попробовав спасти её, так и не увидев, что там внутри.
Старая дверь отворилась со скрипом, и Адель вошла внутрь. Девочка чуть не лишилась чувств, когда в одной из комнат увидела маму, сидящую в кресле. Мама смотрела невидящим взглядом, как будто бы сквозь Адель. На негнущихся ногах она подошла к маме, но мама не пошевелилась. Адель упала перед ней на колени и зарыдала.
— Мамочка! Что с тобой?! Идём домой!
Но мама осталась сидеть на месте.
Неожиданно кот подпрыгнул к хозяйке и начал царапать когтями ее рюкзак. Адель тут же скинула его с плеч и раскрыла перед котом. Август потянул зубами край платочка, в который был завёрнут цветок мака из дома Адель.
— Что там? — спросила Адель.
Но кот никак не отреагировал. Он продолжил тянуть за платок.
Она неуверенно вытащила мак из платка, уставилась на кота вопросительно. Лепестки мака вдруг закружились в воздухе и полетели к маминому лицу. Мама медленно приходила в себя. В этот самый момент дверь с сильным грохотом сорвалась с петель и пролетела в комнату. Рухнула на пол. На пороге Адель с мамой увидели девочку.
Адель пригляделась. Лицо девочки перекосилось в злой гримасе.
Стены дома задрожали, и девочка закричала пронзительно:
— Ты никогда не выйдешь отсюда! Я никогда тебя не прощу!
Кот зашипел и отпрыгнул в сторону. Но девочка начала подходить ближе. Её губы беззвучно шевелились. Крик девочки стал громче. Казалось, он был везде. Вдруг Август запрыгнул на гнилую балку, которая торчала из стены, и та обрушилась на жуткую девочку.
Мама схватила Адель, и они хотели выбежать в коридор к выходу из страшного дома. Но девочка тут же оказалась на пороге. Она улыбалась. Пленникам больше некуда было бежать. Неужели сейчас, когда Адель нашла маму, их снова разлучат? Это несправедливо! Адель крепко взяла маму за руку. По щекам Адель текли слезы. Её больше никто не остановит. Вместе они сорвались с места и побежали прямиком на девочку-призрака. Когда они уже должны были врезаться в жуткое чудовище, они резко пробежали сквозь неё и выбежали на улицу. Призрак кричал, но вдруг дом с треском грохнулся и развалился на части, словно карточный домик. Теперь это и вправду были развалины, как говорила тетя Беатрис.
Адель и мама упали на землю. Из облака пыли выпрыгнул Август. Но страшная девочка больше не появилась.
— Что это было? — спросила Адель, задыхаясь от шока.
Мама всё ещё не могла прийти в себя. Она дрожала. Адель обняла маму.
— Это была Мелори, — тихо, почти неслышно проговорила мама.
— Кто это? Почему она кричала, что никогда тебя не простит? Что вообще происходит? — затараторила Адель.
— Я… я плохо с ней поступила, — разрыдалась мама. — Я очень плохо с ней поступила.
— Что ты с ней сделала?!
Мама плакала и не могла произнести ни слова.
— Мамочка, всё закончилось! — Адель ещё крепче обняла маму.
Мама молча сидела и смотрела на остатки дома, в котором в детстве играла она и тетя Беатрис. И наконец начала говорить.
— Когда я и Беатрис были маленькими, мы приезжали в этот дом на каникулы. Однажды наши родители познакомились с одной семьёй. У них была дочь моего возраста. Они пригласили их в гости, и через какое-то время взрослые решили, что хотят провести каникулы вместе с этой семьёй. Я и Мелори почти сразу подружились, а Беатрис не хотела, так как была старше нас. В один день, когда было холодно для прогулки, мы с подругой остались дома. Родители и Беатрис уехали за покупками.
Мелори сказала, что однажды видела, как её соседка призывала духов. И она помнит, что нужно делать. Я согласилась. Мы поставили свечи, Мелори сказала какие-то слова, но у нас ничего не получилось. Тогда мы решили убрать всё, что принесли для обряда, пока родители не вернулись. Но я зацепила свечу рукой и нечаянно подожгла ковёр, а потом стены. Мелори тогда завалило досками. Она кричала, звала на помощь, но я испугалась и выбежала из дома. А когда родители приехали, дом уже весь полыхал. Пожарные успели потушить огонь до полного разрушения дома. И когда у меня спросили, где Мелори, я испугалась и сказала, что она убежала в лес. Пока пожарные были заняты, я проскользнула в дом и… и… — Мама снова зарыдала.
— Что там было?
— Я убрала пару досок и увидела её обгорелые кости. Я собрала их и закопала на окраине макового поля.
Адель не могла сказать ни слова.
Как её мама могла так поступить? Всю жизнь она считала её чуть ли не святым человеком.
— Почему ты не сказала правду?
— Я боялась, что меня обвинят в её гибели.
— Что стало с её родителями?
— Когда родители Мелори её не нашли, то уехали в другое место, и больше мы с ними не виделись.
***
Через несколько дней мама и Адель вернулись на маковое поле.
— Ну вот и всё, Мелори, — тихо сказала мама. — Я знаю, что ты меня никогда не простишь. Но я не хотела тебе зла.
Мама вытерла слёзы и положила цветок мака на могилку своей бывшей подруги. Больше она её не увидит. Или нет?

Мыши, Кристи и суицид
Усталые, измаявшиеся, понурые и перегруженные, мы вернулись в класс после трех часов лекции о буллинге, суициде и неблагополучных семьях.
Устали как собаки, а впереди еще целый учебный день!
«Мы будем писать рассказы!» Мисс Кейтс сказала это очень радостно, но никто не разделил ее энтузиазма. Тем не менее она продолжала: «Мы посмотрели много фильмов про то, как можно писать рассказы». Хотя она же учительница, и вроде объяснять должна она, а не какой-то чувак из телевизора. Должно быть, она это тоже поняла и объявила, что будет писать вместе с нами. Типа, чтобы показывать на практике, что она имеет в виду. В прошлом году, по ее же словам, она преподавала во втором классе и по-видимому решила, что от второго до шестого не так далеко, и ее финты пройдут и с нами… Ну что ж, она вроде не ошибалась.
«В рассказе всегда должна быть проблема, которую герой пытается решить, и цель, к которой он стремится, а для интереса добавляются разные препятствия, которые герой должен преодолеть!»
И тут она привела прекрасный пример, как она сказала, «классического рассказа».
Жила-была девочка, ее звали Кристи, и она очень хотела играть в школьной футбольной команде. «Это цель», — объяснила Кейтс.
Но бедная девочка была инвалидом (мне стало интересно, как она тогда может играть в футбол) и не только физически, она также была инвалидом на голову (я не знаю, как нормально перевести ее слова, но это вполне близко), отчего у нее были плохие оценки и ее не брали.
Так вот… А, да, да! И еще над ней издевались!
«Это были ее препятствия на пути к цели!»
Я не помню, как именно она решала проблему с инвалидностью, и физической, и моральной — подозреваю, что Кейтс это не очень интересовало. Как говорится, додумайте сами…
Мой рассказ был не очень интересен, он был про двух мышей, которые пытались поделить арахис, единственным препятствием в нем была самая обыкновенная жадность. Всем знакомо, правда? Но суть не в моем рассказе…
Кейтс сказала, что перед тем, как сдавать свое произведение, нужно дать его на прочтение однокласснику. Ко мне подошла Адити, мы с ней были не то чтобы подруги, но и не то чтобы враги — в общем, обыкновенная такая индийская девочка в толстых синих очках.
Она предложила мне почитать ее рассказ, сказала, что он еще не закончен, и попросила меня подсказать правильную концовку, а то она в этом ну ничегошеньки не смыслит.
Я согласилась: всегда интересно, что другие придумали, пока ты корпел над мышами и арахисом.
Лучше бы не брала.
Этот рассказ был ярчайшим примером того, что поняли мои одноклассники из речи училки.
Рассказ начинался так: «В один прекрасный день мой брат плохо чувствовал себя целую неделю». Заметьте, перевод дословный. Дальше было о том, что у ее брата был рак легких, что он долго мучился, что родители главной героини ругались и что в конце концов брат взял и умер.
Джеки — так звали героиню — была в депрессии.
По правде говоря, я не знала, какой конец тут можно подсказать.
Хорошего в этой истории быть уже ничего не могло.
Да, мисс Кейтс, вы подаете прекрасный пример своим ученикам!
А еще удивляетесь, что девочки во время самостоятельной работы шушукались о разных видах рака. Хотя чему удивляться, если два дня назад мы все носили розовое, так как это, по словам многих учителей, цвет рака, а для тех, кто розовые вещи не надел, были сделаны специальные ленточки, тоже розовые, наверное, чтобы им было не обидно. Вот откуда она набралась!..
Фу-у… Угораздило же эту Адити выбрать…
На следующий день я пришла в школу с твердым намерением сказать «писательнице», чтобы она начала все сначала.
Но я и рта открыть не успела, как она начала говорить, что придумала прекрасный конец! Я несколько насторожилась, но все-таки спросила какой.
Ну конечно! Молодец Адити, нашла выход из положения! Прекрасный конец состоял в том, что Джеки должна торжественно покончить жизнь самоубийством. Лучше и не придумаешь!
Я не стала ее переубеждать, пусть делает как знает. Сказала, что это идеально, показала ей некоторые поправки с точки зрения строения предложений — а их было зашибись как много — и пошла, думая, что легко отделалась. Не так быстро…
Не буду рассказывать о том, как читала рассказ Сары, о том, как в его главного героя вселился демон и как он пытался убить младшую сестру, это неинтересно, но опять же вполне показательно.
Адити не смогла написать трагический эпилог для своей мелодрамы и опять же — ну кто ее за ногу дернул! — попросила меня…
Не знаю, кто дергал меня, но я, дура, опять согласилась, наваляла ей минут за двадцать историю про кровь и плачущих родителей. Адити была в восторге, ужасно обрадовалась, объявила, что это точно то, что ей нужно и что учительница обязательно одобрит. Ну что ж… пусть про моих мышей хотя бы вспомнят, пока с ними тоже не случилось что-нибудь ужасное… пожалуйста…
Сдача рассказов прошла успешно. На следующий день мисс Кейтс усадила нас на ковер — да, в шестом классе некоторые части урока мы проходим, сидя по-турецки на коврике, — и попросила минутку внимания.
«Дети! — тяжело вздохнула она, садясь сверху на парту. Поправила хиджаб на голове и окинула нас сочувствующим взглядом. — Ваши сочинения! Тронули меня до глубины сердца! Я и не представляла, что… Что вам так плохо! Если вам нужно поделиться с кем-то вашими проблемами, подходите! Не бойтесь! Я помогу!»
Она посмотрела прямо на Адити. А Адити обернулась ко мне и широко улыбнулась. Взгляд ее точно говорил: «Ура, ей понравилось!!!»

Побег
Маша, как всегда, проснулась в теплой и мягкой кровати. Кровать пахла чем-то своим, родным, и Маша с удовольствием ощутила этот запах. Жадно втянув носом воздух, она откинулась обратно на большую и мягкую подушку и еще немного подышала. Потом задребезжал, как бы пронизывая привычную густоту домашнего воздуха, некрасивый, взвизгивающий голос Маши:
— Дедушка, дедушка, где же ты, где… — На звук ее голоса откликнулись высокие ступени, равномерно и послушно тяжело скрипящие, подражающие, как эхо, ее голосу. В душной комнате очутился перед кроватью дед Анатолий Михайлович.
— Дедушка, дедушка… доброго тебе утра! Обними меня, дедушка… Пожалуйста… — Дед Анатолий Михайлович с жалостью и сочувствием посмотрел на слепую и сухо сказал:
— Доброго утра. Одевайся. Уж десятый час. — Маша вздохнула, но спустилась завтракать по знакомым ей высоким ступеням, которые неприятно скрипели под худыми ногами.
Войдя в столовую, Маша вверилась крепким рукам деда, а дед усадил ее на стул. Стул под ней ухнул, но, опомнившись, вытянулся и встал ровно. Сестры уже съели завтрак и выехали в город, учиться. Каково им там? Как выглядит этот город, школа, университет? Побывает ли она там? Каково это — видеть? Я не вижу того, с кем я провела свои девять лет. Я не вижу вообще. Никого. И ничего. И никогда не узнаю, что это — видеть? Никогда. Нужно ли это мне? Нужно, наверное… Мне это нужно, чтобы покинуть моего деда? Родного деда? Вчера я тоже об этом думала, и что? И вот я опять на том же хлипком стуле, как и вчера, сижу и думаю, как вчера, и завтра буду так же сидеть, так же думать и так же сомневаться, как вчера. И все я делаю так же, как вчера, как позавчера, как буду делать завтра: так же сплю, так же просыпаюсь, так же ем, так же думаю, так же делаю уроки, так же обедаю, так же сплю… И эта проклятая однообразность преследует меня всю жизнь… Но чего еще надо? Тишина, покой, чаек, еда какая-то… Как всегда. Все было как всегда. И все было не так, как хотелось.
Дед усадил внучку на стул, самодовольно оглядел столовую и подумал: а ведь дожил я до почтенного возраста, до заслуженной пенсии дожил ведь! И дети у меня есть, и внучки есть, да вот одна слепая… Да. Слепая… Хотя бы в эту омерзительную школу для слепых не ходит… Чаек надо покрепче…
— Васильич, принеси чашечку покрепче! Чего это Машенька-то сидит, нос повесила, чай не пьет? Машенька, милая, чего пригорюнилась, чай уж остыл…
Маша вздрогнула, посмотрела на деда невидящими глазами, слабо улыбнулась и членораздельно произнесла: «Нет, дедушка, я нисколько не грущу». И в знак этого отхлебнула из чашки с холодным слабым чаем.
Тем временем Маша продолжала свой внутренний монолог: неужели я обречена провести всю свою жизнь в доме, в то время как сестры живут полноценной жизнью?! И вообще, моя ли это жизнь, если я не могу ее направить в другое русло? Нет. Но дед… Дед не хочет меня от себя отпускать, это понятно. Он немножко учит меня сам, а вообще, наверное, считает, что из меня все равно ничего не выйдет, что ничего добиться я не смогу, а раз так, зачем стараться и рисковать. Но я-то считаю, что я не хуже других, я хочу учиться. Неужели он не понимает, каково мне? Каково сидеть взаперти и безутешно завидовать зрячим сестрам? Каково гулять по одному и тому же парку, и не одной, а под конвоем дедушки? Каково? Я не могу так больше жить! Не могу! И я сбегу, убегу в отчаянии от этой жизни! Сбегу!..
Васильич принес чай покрепче, пристально посмотрел на Машу и ушел.
Маша кончила свой завтрак. Она пошла к себе в комнату, дрожащими руками нащупывая перила. Ступени под ногами скрипели. Скрипели быстро и отрывисто, подражая взволнованному дыханию Маши. На последней ступеньке она чуть не упала, но бледные и длинные ладони вцепились в перила так, что костяшки пальцев побелели. Маша сглотнула.
Через несколько часов уроки, даваемые дедом, закончились. Маша знала, что через полчаса должна прийти Вера… И Веру нужно будет уговорить помочь в побеге! А если она не поймет? А если она не согласится? Если она скажет все дедушке? И, собственно, как она мне поможет, даже при всем желании? А если… если никто меня не поймет? Никто так и не узнает моей тайны. Уже через полчаса. Как страшно! Она дрожала, зубы стучали, худые руки напрасно сжимались в кулаки. Сердце билось со страшной быстротой, подчиняя Машу своему движению. Она колотила руками по столу, пытаясь остановить ужасную волну страха. Уже через полчаса! Как страшно! Зачем я это затеяла? О, мое сердце, оно выскочит сейчас наружу, и я не смогу жить без него. Сердце расшатывало все внутри. Маша сползла под стол. Уже через пятнадцать минут! Волны страха не давали вздохнуть. Снова и снова ударялась Маша головой об стол, чтобы остановить страх, но все равно все глубже погружалась в его пучину. Дыхание кончалось.
Вера шла из университета и ела булку. Упаковка из-под нее полетела в урну. Вера озябла. Ветер был холодный, беспощадный, шея сама втягивалась в плечи. Вот голые деревья вокруг, а за ними — дом. Красивый дом, но вот Маша его видеть не может… Ага, вот и дверь…
Маша окончательно потонула в страхе, судорожные и бесполезные барахтанья не помогли. Она не умела плавать в страхе. Вот волны сомкнулись над головой, я иду ко дну… А есть ли вообще у страха дно? Но вот и все. Я уже задохнулась, не могу выбраться на поверхность, умерла… Ключ повернулся в замке. Это была Вера. Не успела она еще снять длинный шарф, как Маша сбежала к ней с лестницы и, пренебрегая бывалой осторожностью, сразу ухватила ее за руку и увлекла в другую комнату. Вера сразу поняла, что что-то особенное заставило Машу так вести себя, заходить с ней в другую комнату и закрывать дверь.
— Что случилось, Маша? — Она молчала.
— Почему ты не отвечаешь? Может, что-то не так?
— Нет… Вернее… хм… Вера! Помоги мне бежать отсюда! Вера… — Вера была в шоке. Что? Как? Бежать? Почему бежать? Зачем? Но после долгой минуты молчания Вера поняла наконец всю сущность этой просьбы несчастной слепой девочки, своей родной сестры; и, не задумываясь о последствиях побега, она сразу была готова помогать Маше. Пора ей тоже пожить свободной от вечно опекающего деда жизнью! Я знаю, как хорошо он ее бережет!
— Маша, боже мой, кажется, я начинаю тебя понимать! Но… Это невозможно!
— Послушай, Вера…
***
Несколько дней Маша все еще жила в страхе: а если все-таки расскажет? Но нет. Вера честно хранила молчание. Ей было очень жалко Машу, она понимала ее. У Веры была квартира на другом конце города, и она обещала поселить Машу на время у себя.
Вера и Маша шли, измученные, по широкой дороге до первой автобусной остановки. Эта дорога была когда-то асфальтирована, но, по-видимому, очень-очень давно. Корни редких могучих деревьев пробивались сквозь асфальт и образовывали огромные бугры на дороге. Через эти бугры девятилетняя Маша перебиралась с трудом и из-за этого еще больше уставала. Когда они добрались до автобусной остановки, она совсем измучилась и продрогла. Вера начала сомневаться в своем быстром решении. Но не идти же назад! О, бедная Маша, она так устала, каким ударом были бы для нее мои мысли! Раз уж решила, значит, вперед…
В автобусе не было свободных мест. У Маши подгибались колени. Она почти падала в обморок.
Маша, выставив вперед дрожащие руки, прокладывала себе дорогу: они были уже в центре города, и вокруг было очень много людей. Ей было очень страшно; как только она натыкалась на что-нибудь, Вера слышала подавленный вскрик. Вера все больше и больше сомневалась в правильности своего решения. Ведь получается, что я обманываю и собственного деда, и собственную сестру. Так не должно быть!
Маша сидела на скамейке. Скамейка была у реки под мостом. Река широкая и глубокая, легко можно потонуть. По одну сторону реки был узенький тротуарчик. На этом тротуарчике стояла скамейка. Эта скамейка была пристанищем бродяг. Но этих бродяг тут не было. Тут лежала Маша. Она в полуобмороке свалилась на скамейку и провалилась в сон. Сон этот был беспокойный, странный, непонятный…
Сквозь сон Маша слышала фразы: «Извини, как-то само собой получилось… Спит…» Когда она проснулась, сразу позвала Веру. Никто не откликнулся. Она позвала еще раз. Никто не откликнулся. А что, если сейчас передо мной стоит человек, ухмыляется, наводит на меня дуло пистолета… Кто-то взвел курок…
Это турист на мосту щелкал фотоаппаратом. Но Маша этого не видела! Выставив вперед дрожащие руки, она двинулась навстречу смерти. Смерть отступала. Маша подалась вперед, сделала еще шаг — и нога ее провалилась вниз, и потянула за собой Машу, и Маша полетела. Куда она летит? Зачем? Для чего? Что это за холодный воздух вокруг? Я лечу в чулан? Вода! Вода везде! Я не могу больше дышать! Я умираю! Я задыхаюсь! Это была последняя мысль Маши. Она потонула в ледяной реке.
Маша проснулась, как всегда, в теплой и мягкой постели. Она пахла чем-то своим, родным, и Маша с удовольствием ощутила этот запах. Чьи-то крепкие руки вызволили ее из ледяной реки. Эти же руки уложили девочку в кровать. И спасением Маша обязана предательству Веры. Если бы она не позвонила деду в то время, как Маша спала, крепкие руки не смогли бы вытащить Машу из ледяной воды.
— Все-таки рассердилася она на меня, старый уже… Учиться хочет… Молодец! Золотая девочка! — Дед Анатолий Михайлович поскреб лысину и опустился на стул. Он под ним ухнул, но тут же выпрямился. — Васильич, принеси чашечку покрепче!
Через двадцать лет, благодаря усердным стараниям наемных учителей, Маша, несмотря на свою слепоту, стала ученым человеком. Мечта ее сбылась — она поступила в университет, на философский факультет, и слепота не только не помешала, напротив — помогла ей: Маша мыслила не так, как зрячие, и разработала несколько оригинальных философских концепций. Она доказала, прежде всего, самой себе, что способна жить и мыслить не хуже других и даже лучше.

Приключения осьминога Паула
Когда-то в океанариуме жил осьминог Паул. Это был застенчивый фиолетово-красный осьминог с большими, голубыми, как небо, глазами. На пятом щупальце у него отсутствовали присоски, если не считать одной крохотной половинки. Иногда Паул сливался по цвету с водой, потому что ему надоедали вечно глазеющие посетители. Зато так он мог рассмотреть брошюрки с надписью «Бразилия» в их руках.
Как-то раз, когда осьминога пришли кормить, в аквариуме подняли крышку, и ему удалось ускользнуть оттуда. Слившись с полом, Паул попытался аккуратно проползти к выходу, но упал в открытый аквариум с рыбами.
Оттуда осьминог увидел рабочих, направляющихся к аквариуму, и поспешно слился по цвету с водой. Рабочие не заметили его и, подняв аквариум, ушли. Осьминог увидел гигантский автомобиль, на котором было написано «ФУРА». Двое рабочих открыли двери и поставили аквариум внутрь. Затем раздался щелчок, и стало темно. Под громкий стук колес уставший от только что пережитого приключения осьминог задремал. Ему снилось, словно на него кто-то смотрит и говорит ему: «Вот ты, Паул, жаждал приключений, и теперь они твои. Будь аккуратен: тебе предстоит опасный путь!»
Сильный толчок заставил Паула проснуться. Сквозь щель между крышкой и аквариумом он смог разглядеть бронзово-красный вагон. Аквариум с осьминогом куда-то поставили, и все опять погрузилось во мрак. «Куда же нас все-таки везут?» — подумал Паул и снова уснул.
Осьминога разбудил пронзительный, резкий скрип колес. Двое загорелых мужчин в рабочих комбинезонах так неаккуратно вытащили аквариум из вагона, что с него слетела крышка. Заметив это, Паул засомневался. В нем боролись два желания: выпрыгнуть из своей клетки навстречу приключениям или остаться. Первое желание взяло верх — осьминог выбрался из аквариума. Как только он почувствовал под щупальцами твердый асфальт, то быстро огляделся. Впереди длинный перрон, слева бегают мужчины в рабочих комбинезонах, а справа… непроходимые джунгли! Конечно, Паул пополз туда.
В джунглях было жарко и влажно. Осьминог думал, что скоро ему станет плохо без воды, но время шло, а он чувствовал себя прекрасно. Через какое-то время Паул оглянулся, чтобы посмотреть, не преследует ли его кто-нибудь. Погони не было. Осьминог заполз под большой мокрый лист и начал осматриваться. Он был под огромной пальмой, на которой висело что-то разноцветное. Паул не успел рассмотреть, что же это было, как вдруг…
— Ай! — воскликнул он.
Сверху на Паула упали пять бананов, причем разных цветов! Они сразу же начали кланяться и представляться: Микс, Люкс, Вжик, Мелон и Праго. Осьминог выпучил и без того круглые глаза и сказал: «Паул. Осьминог Паул».
Тут самый крупный, зеленый банан выступил из толпы: «Так, Паул. Мне и моим друзьям хочется поговорить с тобой. В одной стране, которая называется Единороголандия, случилась беда. Исчез волшебный кристалл Оллоролокс. Этот кристалл защищал страну от плохих существ и природных бедствий. Мы, одни из представителей разноцветных бананов, хотим спасти Оллоролокс. Нам нужна помощь. Хочешь присоединиться к нам?»
Паул подумал, затем еще подумал и ответил утвердительно. Сколько лет он мечтал о приключениях! Неужели сейчас, перед этой толпой бананов, он сможет им отказать?!
«Отлично!» — воскликнул банан. И тут же добавил: «Вот подробная карта Единороголандии. Вот тут горы Себальярова, они названы в честь семьи великого волшебника — Себальяра. По их кромке течет река Любенсгерг. На дне её лежат драгоценные камни, из которых брал силы Оллоролокс. Нам предстоит пройти мимо них и не дотронуться ни до одного камня, иначе Оллоролокс потеряет все свое могущество. Видишь эту пещеру? В ней большой рубиновый пьедестал. На нем раньше стоял Оллоролокс. Дальше, за горами, лес единорогов. Теперь нам пора в путь. Выше нос те, у кого он есть!»
Через полтора часа Паул уже полз по тропинке, над которой был зеленый навес. Банан что-то тихонько напевал себе под нос, когда все вдруг услышали журчание воды, и не успели ничего сказать, как Паул ринулся вперед. Быстро лавируя между деревьями, он подполз к реке, в которой что-то поблескивало, и подпрыгнул вверх. Не успел он оторваться от земли на полметра, как что-то потянуло его вниз. Паул упал на камень и больно ушиб голову. Перед его глазами замелькали круги, и он потерял сознание.
А в это время двое мужчин, одетых во все серое, пробирались сквозь листву. Один был высокий, худощавый, с белыми как снег волосами и черными как смоль глазами. Второй был очень толстый, маленького роста, с грязно-болотным цветом глаз и серыми волосами.
— Ну Ролл! Почему ты не можешь остановиться прямо сейчас?
— Если ты задашь еще один вопрос, я выкину тебя в канаву с крокодилами!
Толстый обиженно посмотрел на него и пробубнил:
— Если Его Величеству Роллу так уж и захочется выкинуть бедненького Дила в канавку с крокодильчиками, то Его Величество наверняка полетит туда первым вместе с этим восьминогом!
— Хватит бубнить, Дил! Если хочешь привал, помолчи!
— Все, молчу. А мешок куда?
— Да вот в эти кусты!
Мешок отлетел в сторону, задел один из острых шипов, росших на кусте, и порвался. В нем что-то зашевелилось, и из мешка вылез… Паул! Он с трудом высвободил щупальца и быстро пополз в лес. Вскоре позади он услышал крик: «Сбежал! Ты кинул мешок в кусты с шипами, а не в кусты с листьями папоротника! ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ!»
Но Паул уже научился быстро перемещаться с помощью своих щупалец, и вскоре крики затихли вдалеке. Пока осьминог пытался вспомнить, где именно он расстался с бананами, что-то потянуло его вверх. Это был Микс, зеленый банан. Оказалось, что он быстро пронесся по веткам деревьев и спустился вниз у того самого камня, где Паул потерял сознание.
Но это был вовсе не камень, а большой, голубой, с желтой гривой и хвостом единорог! Паул ничего не понял и опять потерял сознание. Очнулся он от того, что кто-то лизнул его прямо в нос. Осьминог встал и посмотрел сначала на банан, а потом на единорога.
— Я ничего не понимаю, — сказал он.
— Да тут и нечего понимать! — весело ответил Микс. — Ты подпрыгнул прямо над рекой Любенсгерг и чуть в неё не свалился. Но тут двое каких-то не пойми кого поймали тебя за щупальца и потянули в кусты. Я, как предводитель, ринулся за ними, как вдруг…
— А почему ты не темно-зеленый, как был, а салатовый? — вдруг спросил Паул.
— Не перебивай. Ну так вот: когда я отправился вслед за этими ворюгами, одна противная макака схватила меня и сняла кожуру — приготовилась съесть! Ну я, понятное дело, сбежал, но кожуру с собой не прихватил. Но какой банан без кожуры? Увидел, что рядом с домом другого банана висит только что выстиранная кожура такого приятного салатового цвета, что даже в глазах зарябило. Поэтому я не сдержался и натянул ее. А потом вижу: летит по небу мешок прямо в кусты с колючками! Я за мешком прыгнул, а из него ты вылезаешь. Я тебя хвать, и вытащил. А дальше ты потерял сознание, очнулся и стал меня расспрашивать. Вот и вся история.
Вскоре вся компания бананов уже ехала на спине единорога и радостно пела:
Привет тому, кто здесь живет,
Кто любит мир свободы,
Пусть знает тот,
Кто так живет,
Что все невзгоды пополам,
Разделит доблестный банан!
Умение жить для оптимиста,
Как будто мяч для фуролиста,
Ой, нет, какой для фуролиста!
Как будто мяч для футболиста!
Спеши, о друг, спеши, спеши!
Нам Оллоролокс предстоит спасти!
Вперед, вперед спеши сейчас,
Мой друг, скорей, настал твой час!
Через час маленькая компания добралась до Леса Единорогов. Их встретили с почестями и радостными восклицаниями. И каково же было удивление бананов, когда они узнали, что ехали на сыне Его Императорского Величества!
— Кстати, мы не учли одну вещь, — сказал банан. — В Единороголандию можно попасть только на единороге.
— Значит, нам очень-очень повезло, — весело ответил Паул.
— Так, Ваше Императорское Величество, нам надо попасть на вершину горы Себальярова. Там тайник ворюг, которые наверняка похитили Оллоролокс, — вежливо сказал банан.
— Но сейчас уже поздний вечер, — сказал император Единороголандии, — вы можете заблудиться. Я советую вам остаться на ночь.
— Мм… хорошо! Мы остаемся, — смиренно сказал Микс.
— Отлично! — ответил император. — Сделаю все от меня зависящее, чтобы завтра вы добрались до места.
Ночь выдалась чудесной. Мириады звезд мерцали на небе, сверчки тихо напевали какой-то печальный мотив, а светлячки кружились золотистыми точками то там, то тут. Паул стоял у окна хижины, сплетенной из листьев папоротника, и о чем-то думал.
Наутро бананы и Паул снова двинулись в путь. Вскоре они добрели до вершины горы Себальяра и залезли в пещеру, полную сокровищ.
«Это он!» — воскликнул Микс и кинулся к серебристо-голубому камню, лежавшему в самой гуще сокровищ. Вдруг все увидели две странные тени, между которыми происходила борьба. Все обернулись и ахнули. Паул с явным усилием пытался повалить на землю толстого ворюгу, который с таким же упорством пытался поймать Паула.
— Ребята, в бой! — крикнул один из бананов и, выхватив блестящий клинок в ножнах из груды сокровищ, кинул его в толстяка. От ужаса тот покатился вниз, сбил с ног худого, и они вместе упали в пропасть. Вскоре Паул откопал рубиновый пьедестал, на который бананы поставили Оллоролокс. Вдруг налетели ураган, метель и пурга. А затем словно втянулись внутрь Оллоролокса с таким свистом, что по коже и кожуре забегали мурашки.
Вскоре Паул с бананами приблизились к Лесу Единорогов. Бананы рассказали императору о том, как осьминог помог им найти пьедестал для Оллоролокса.
— Паул, ты поступил очень смело, — сказал император. — За твою храбрость мы готовы исполнить три твоих желания. Решай, какие желания хочешь осуществить!
— Я бы хотел… — скромно начал Паул.
— Я хочу, — поправил его император.
— Я хочу… — продолжил Паул, — я хочу узнать, почему у меня нет присосок на пятом щупальце.
Вокруг него все закружилось, и он услышал:
— Когда ты был маленьким, двое браконьеров тащили тебя от серого камня, за который ты ухватился. Когда они оторвали тебя, почти все присоски остались на камне.
— И еще: я хочу, чтобы все мои присоски вернулись на место! — уже смелее сказал Паул. — Ой! — воскликнул он. На пятом щупальце с легким треском стали появляться присоски. Одна половинка к другой половинке: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь! Все недостающие присоски на месте! Восторгу Паула не было предела.
— И последнее. Я хочу вернуться в свою семью, — сказал Паул. Как только он это произнес, все расплылось и замелькало, а через секунду Паул услышал: Австралия! Он открыл глаза и увидел перед собой двух фиолетово-красных осьминогов.
— Паул, мой милый! — воскликнула осьминожиха, стоявшая справа.
— Мама? Папа? — спросил Паул.
— Сынок! — услышал он.
Через полтора часа осьминог сидел рядом с родителями и ел морскую капусту, которую не пробовал с самого детства. Вдруг с потолка их подводной пещеры свалились все бананы. Паул оторопел.
— Люкс? Микс? Вжик? Мелон? Праго? — спросил он.
— Конечно, это мы! — воскликнули бананы. — Ведь мы от тебя ни на шаг!

САНЁК
САНЁК
Иногда, услышав шорохи в шкафу, невольно задумываешься: «Не живёт ли в этом доме ещё кто-то?» Открываешь шкаф, но там пусто. Потом заколка потеряется, наушники. И разозлившись, начнёшь ругаться на того, кто издаёт эти непонятные шорохи.
Обычно люди не знакомы со своими домовыми, но в одной квартире он однажды забылся и нарушил это правило. Поздно вечером, решив, что все давно спят, домовой вышел из шкафа и пошлёпал к двери. Оторвавшись от домашнего задания, девочка остановила его:
— Пацан, ты куда миску походную потащил?
Он обернулся, выпучил глаза и промямлил:
— Так это… Есть пошёл я.
— Ну иди, ешь, вернёшься, садись ко мне — объяснять будешь, что ты такое, — сказала девочка и вернула своё внимание в тетрадь. Видимо, ситуация совершенно убила аппетит домового. Он остановился у двери, посмотрел на девочку, осторожно положил на пол миску и сказал:
— Я домовой. Санёк. — Он вытянул вперёд ладонь.
— Аня, — сказала девочка после рукопожатия
Санёк был почти одного роста с Аней. На его карие глаза постоянно опускались лохматые каштановые волосы, он ходил в дырявых спортивных штанах и камуфляжной мятой футболке. Его одежда, как и всё в той квартире, была покрыта пушистым слоем из шерсти мягкой домашней кошки. Возможно, девочке стоило испугаться и завизжать, но ей это дело показалось совершенно житейским. Он выглядел рассеянным и неуклюжим. Санька нельзя было назвать очень умным, потому что это было не так. Он любил воровать провода, ключи, книги, впрочем, делать это нормально не умел, поэтому вещи быстро находили. Однако о его существовании Аня никому не рассказала.
Санёк выходил к Ане ночью из шкафа и помогал делать простые домашние задания. Но математики боялись оба. Санёк говорил, что знал человека, который составил этот учебник, этот человек был больной и постоянно пил какие-то таблетки, а потом его отправили в психиатрическую лечебницу, где он и составил учебник. Вскоре Ане удалось научить Санька подделывать её почерк. Взамен она давала ему смотреть фильмы и читать книги. Чтение — главный талант Санька. Кажется, он читал быстрее, чем гепард бежит за добычей.
Когда все засыпали, они немного говорили о науке, о людях, о еде. Аня не видела других домовых, поэтому верила, что этот лучше их всех.
БУКА
В первые выходные мая родители Ани уехали на дачу, а её оставили со старшим братом. Брат говорил, что ночью всё немного прекраснее, поэтому гулять предпочитал после полуночи часов до четырёх утра. Аня же пользовалась случаем и выводила Санька дальше своей комнаты. Тем вечером они решили почитать старые книги.
В квартире был набитый книгами шкаф, но Аня могла достать только до четвёртой полки. Книги самые разные: синие, зелёные, жёлтые; тонкие, толстые. Все книги даже пахнут по-разному. Аня не особо любила старые книги, потому что в них мало картинок, но ей нравился их запах.
Она принесла из кухни деревянную табуретку, забралась на неё, встала на носочки, вытянула руку и достала самую старую книгу на той полке — мемуары княгини Мещерской, бросила её на диван и спустилась. Книга скрипела, когда её открывали.
— Буквы в некоторых местах стёрлись… Книгу, наверное, много читали. — Аня посмотрела на обложку — Как думаешь, она интересная?
— Нет, думаю, скучная. Мемуары… Звучит уже скучно, — решительно отрезал домовой. — Покажи, пожалуйста, где стёрлись буквы.
Девочка ткнула пальцем на пожелтевшую страницу.
— Уууууу! — Санёк немного ухмыльнулся. — Да у нас завелась Бука!
— Кто?
— Бука, мой друг, это книжный паразит. Питается интересными, яркими моментами книг и их запахом. Теряется яркость страниц, но это не страшно. Ужасно, когда бука попадает в школьные учебники. Не обнаружив интересных или ярких моментов, начинает съедать ответы, оставленные прошлыми владельцами, — объяснил домовой.
— И что же? Она нам сейчас все яркие моменты съест? А что же я тогда читать буду?
— Без паники! Я на то и домовой. Я обучен такие проблемы решать. По отлову бук у меня было во! — Санёк выпрямил спину и вытянул вперёд ладонь с широко расставленными пальцами.
Он потопал к шкафу, принюхался и начал что-то шептать, а потом достал толстую книгу и вскрикнул!
— Она здесь! — Он открыл книгу. По странице ползало небольшое существо, напоминавшее ящерицу с длинными ногами. Бука приподнялась на задние лапы и зашипела. — Она пытается со мной договориться, ишь, хитрая! Ладно. Тащи банку. Отпустишь её потом на улицу.
— Может, лучше я заберу потом её в деревню? Там на чердаке много старых книг, их всё равно никто не читает.
— А скоро ты туда поедешь?
— Через неделю, наверное.
— До этого момента ей надо чем-то питаться.
Аня принесла банку. Друзья засунули туда буку и задумались.
— Давай я ей туда журналов кину, а потом я её к тебе в шкаф спрячу? — предложила Аня.
— Можно. Но зачем? Её же проще выкинуть на улицу.
Аня подняла банку на уровень глаз.
— Я за ней наблюдать буду. Исследовать.
— Её нельзя исследовать. Она — дух. — Домовой тяжело вздохнул и посмотрел в зеркало на стене. — Как и я.
— И что это значит?
— Это значит, что мы приходим из ниоткуда и уходим в никуда.
— Наверное, я пойму тебя, когда вырасту.
Аня достала с полки свой журнал и засунула в банку. Послышались повороты ключа и тяжёлые шаги. Друзья бросились к шкафу. Когда Аня убедилась, что домовой спрятался, она быстро выключила свет, прыгнула в кровать, накрылась одеялом и закрыла глаза.
В квартиру вошел высокий юноша, вспотевший и уставший от долгой ходьбы среди тёплых ночей. На самом деле он и не думал проверять сестру. Всё, о чём он сейчас думал — кровать. Он доплелся до неё и плюхнулся одетый.
МЕЧТА
Шум двигателя родительской машины и свежий мокрый след от шин будто дали сигнал юноше, он взял рюкзак, повернул ключ и попрощался с сестрой, усмехнувшись, пообещал вернуться прежде родителей и купить мороженое по пути назад. Девочка оторвалась от своего рисунка, повернула голову, крикнула что-то вслед. Тишина в квартире нарушалась лишь криками с улицы и бумажной музыкой жёлтого карандаша. Кошка спала, кран не капал, даже тараканы ещё не приступили к своей трапезе.
Из шкафа послышалось шуршание, дверь немного проскрипела, и из-за неё осторожно выглянул домовой. Он подошёл к столу, наклонился и повернул руку, уводя её за спину.
— Добрый вечер, миледи!
Девочка положила карандаш и удивлённо посмотрела.
— Чего это ты?
— Чего, чего… Могла в шкафу оставить что-то кроме сказок о принцессах? Мне теперь очень хочется победить дракона! Но где я его сейчас возьму? Их и не осталось, вымерли все. Очень печально.
Санёк потянулся, разминая затекшие конечности. Аня встала со стула и пошла к книжному шкафу.
— Нет, драконов никогда не было, были динозавры.
Аня достала небольшую книгу. На обложке была яркая картинка с папоротниками, зубастыми ящерами, мамонтами, трилобитами и красными буквами, которые складывались в слово «палеонтология». Санёк полистал книгу и тяжело вздохнул:
— А чего ж картинок-то так мало?
— Нет у меня книжки про динозавров с картинками. А ты что, никогда про них не слышал?
— Я вообще мало о чём слышал. Я только свои обязанности выполнять умею. — Домовой опустил глаза, поставил стул, забрался на него, положил ладони на подоконник и посмотрел на звёздное небо сквозь темноту космоса, к другим планетам, звездам, галактикам. — Я не смог оплатить обучение в университете.
Аня подошла ближе к окну.
— А дорого оно стоит?
— Пятнадцать украденных вещей, но там ещё входные экзамены, которые я, наверное, тоже бы завалил. Понимаешь? Я совершенно не умею воровать.
— А зачем тебе университет? Ты же и так счастливо у нас живёшь.
Домовой повернулся и сел на стул.
— У меня была мечта: работать у какого-нибудь художника или ученого. К ним тебя посылают, только если у тебя есть подходящие для них знания, а этому учат в университете.
Аня задумалась и оглянулась вокруг, мысленно она осмотрела всю квартиру.
— А они смогут проверить то, что вещи украл именно ты?
— Нет. Им всё равно. Им главное забрать себе побольше.
— Давай я сама натаскаю тебе всяких ненужных вещей?
— Но ведь мне всё равно нужно будет сдать экзамены, не уверен, что у меня это получится, поэтому можно не пытаться…
Аня сурово посмотрела на Санька. Ей не понравилась его вялость, нежелание пытаться.
— Эй! Ты чего раскис? У нас много книг и вон, интернет есть. Ты можешь подготовить к экзаменам у нас.
— Да, действительно. Можешь тогда в шкаф кидать не сказки, а что-нибудь более серьёзное?
— Конечно!
— Вот и чудно… — Санёк подошёл к шкафу, открыл его и вытащил стопку книг. — А это забери обратно.
Аня принялась укладывать книги в шкаф.
— А кто будет заниматься твоей работой?
— Какое-то время никто. Только после успешного поступления я смогу подать заявку, чтобы вам прислали нового домового.
Аня посмотрела на лежащую на полу открытую книгу. На страницах красовалась геохронологическая шкала.
— Начни вот с этого. — Аня подняла книгу и протянула Саньку.
Он закрыл её, покрутил в руках, понюхал и вынес заключение:
— Хорошо, выглядит как что-то действительно полезное.
— Уже поздно. Я пойду спать. — Аня посмотрела в окно на совершенно чёрное небо. «Родители, наверное, уже приехали на дачу, а Максим ещё даже не вернулся. Надеюсь, если я усну, он положит мороженое в морозилку. Ведь может же и сам съесть!» — думала Аня, заползая в кровать.
На звук шуршания одеялом прибежала большая пушистая кошка. Она запрыгнула к Ане, легла ей на плечо и замурчала. Дверь шкафа проскрипела, послышалось вялое «спокойной ночи». Снова наступила тишина, пока тараканы не выползли к своему третьему ужину.
ЗЛЫДЕНЬ
В серое мусорное ведро опустилась упаковка от ванильного пломбира. Аня решила припасти мороженое до позднего вечера, чтобы съесть его в тишине, но не удержалась. Родители присылали фотографии дачных цветов, жаб, камней, бочек, луж, елей и прочих важных вещей. Максим говорил по телефону с матерью. Он никогда не врал ей, он мог недоговаривать, подменять понятия, применять литоту или гиперболу, но точно не врать. Под словами «витамины на завтрак» он понимал шоколадные шарики, на упаковке которых большими буквами написан витамин B с разными цифрами. Под словами «на первое суп, на второе — гарнир с мясом» он понимал лапшу быстрого приготовления: в одной порции оставался кипяток, в котором лапшу заваривали, а из второй кипяток сливался, вместо него к лапше добавлялась сосиска, разогретая в микроволновой печи. Под словами «легкая вечерняя прогулка» он понимал трех-четырехчасовое брожение по ночным улицам в полном одиночестве. На одну из таких прогулок он и собирался отправиться. Максим уже надевал кофту, когда к нему подошла Аня:
— Где ты достал мороженое? Магазины тогда не работали.
Юноша наклонился, чтобы завязать шнурки на берцах.
— Я достал его из морозилки. Я купил его до того, как ушёл. Оно лежало там всё это время. На других полках лежит ещё, можешь проверить.
Дверь захлопнулась. Ключ проскрипел свою единственную фразу, которая в зависимости от ситуации означала либо приветствие, либо прощание. Аня выдвинула ящик морозилки. Там уже не было ничего полезного, он был набит холодным десертом разных размеров, вкусов, цветов. Аня поскорее закрыла морозилку, чтобы не съесть всё сразу.
Аня вернулась в свою комнату и постучалась в шкаф. Дверь открылась.
— Когда старшие хозяева вернутся? — спросил Санёк, выползая из своего убежища.
— Кто? Мои родители?
— Да. Твоему брату явно не на пользу идёт их отсутствие.
Аня пожала плечами.
— Он говорит, ему так даже лучше.
— Он вообще много чего говорит, но это не значит, что всё действительно так. — Домовой нахмурился и посмотрел на портрет в деревянной рамке. Рукой уличного художника из Сочи был изображён молодой человек с короткой стрижкой, острым носом и голубыми глазами. Губы, очевидно, не спешили показывать улыбку, это вкупе с темными бровями и мешками под глазами придавало портрету серьёзности, которая в жизни разбавлялась ямочками на щеках. Рядом с корявой подписью художника было написано «Антонов М.П. Сочи. Август».
— Родители должны вернуться послезавтра. Хочешь мороженое?
Санёк быстро забыл о своём негодовании.
— Было бы непл…
В дверь постучали.
— Неужели не заметили звонок? — сказала Аня, подходя к двери.
Но снизу дверь начала расплываться, стала прозрачной так, что можно было разглядеть лестничную площадку. Из деревянной поверхности двери начало вытягиваться существо. На обложку модного журнала ему бы не удалось попасть: низкое, тощее, с клочками волос на голове, абсолютно без одежды, с шершавой бледной кожей. Аня отшатнулась назад и чуть не упала, она покосилась на существо и прошептала:
— Что это?
Санёк собрался что-то сказать, но существо его опередило.
— Позволь представиться! Злыдень! Это жилище наполнилось грехом, а я это очень люблю. К сожалению, пока я буду питаться грехами, мне придётся наводить здесь беспорядок, раздор, а еще я принесу нищету и болезни. — Злыдень протянул к Ане когтистую ладонь для рукопожатия, но она лишь отшагнула назад. — Как некультурно! Где твои манеры?
Санёк подошёл ближе:
— Не приставай к девочке! И вообще, тебе бы следовало отсюда уйти. Здесь не убивают и не воруют. Я изгоню тебя за две минуты!
— Ох! Ох! Значит, так ты встречаешь гостей? Очень мило. Спешу тебе напомнить, что ты слаб, ведь ты не просто попался человеку на глаза, он знает твоё настоящее имя…
— Здесь нет страшных грехов, немного вранья разве и так, по мелочи. Ты сам здесь не сильнее меня.
— А ты не очень наблюдательный. Утрата веры в истинного Бога, чревоугодие, уныние, ложь. Зеркал-то сколько — самолюбие. Мне продолжить?
— Это же мелочи! Я не дам тебе пройти сюда! — Санёк ткнул в злыдня указательным пальцем, злыдень оскалился, показав миру желтозубую пасть с окровавленными деснами.
Аня пыталась понять, что происходит, но поняла только то, что у неё проблемы. Она решила попробовать помочь домовому и бросилась на кухню за ножом. К моменту, когда она вернулась, в коридоре сияло множество искр, огня, но вещи всё равно не загорались. Санёк бормотал что-то вполголоса. Казалось, что ноги его уже не держат, потому что они подкашивались, и он потерял способность к прямой походке. Злыдню было ненамного лучше, но на лице его не пропадала ухмылка. Аня пыталась твёрдо взять нож в руки и всё крутила его в ладонях, думая, как это лучше сделать. На звук прибежала кошка, от увиденного она пришла в ужас, выгнула спину и зашипела.
Ухмылка злыдня сломалась затяжным чихом.
— Чёртова матерь! Апчхи. Апчхи. Извини, я вынужден удалидься за продивоалергенным средсдвом. Но я ещё вернузь!
Медленно злыдень начал растворяться под аккомпанемент из своих чиханий. Санёк упал на спину и закрыл глаза. У Ани застрял ком в горле, навернулись слёзы.
— Всё очень плохо?
— Да.
— Ты живой?
— Да, если так можно сказать про духа.
— И что теперь делать?
— Злыдни обычно за три дня могут украсть пачку чего-то из аптеки. Я должен уйти, вам пришлют нового домового. Он будет сильнее.
— Почему?
— Потому что домовые слабеют, когда их замечают. Домовой, который плохо прячется — плохой домовой. — Санёк открыл глаза. — Аня, ты веришь в Бога?
— В Бога? Не знаю. Наверное, да. Родители говорят, что Он нас создал, а Миша говорит, что никто нас не создавал, мы сами создались с течением эволюции.
Аня задумалась. Она посмотрела в зеркало на стене: «Вот она я, моя кожа, волосы, глаза. Зеркало висит на стене, стена тоже из чего-то сделана, как и зеркало. Наверное, это слишком сложно, чтобы создаться самим». Аня отвлеклась и ослабила хватку, нож упал на ладонь лежащего Санька. Он увидел фонтан крови до того, как осознал боль. Оба вскрикнули.
— Извини, пожалуйста. Я сейчас достану бинты, а ты пока иди промой рану.
Аня быстро побежала к тумбочке и вытащила из прозрачной пластиковой коробки две упаковки марлевых бинтов.
— Если честно, я совершенно не знаю, как обвязывать раны. — Аня виновато раскрыла упаковку бинтов.
— Ничего, я разберусь, больше так не делай. — Санёк вертел бинты, как-то обмотал рану. Он сел на пол и уставился в стену.
— Интересно, если я дух, откуда у меня кровь? — Он вопросительно повернул голову на Аню, которая села рядом.
— А вам об этом не рассказывают?
— Нет, нас учат только свою работу делать. Я прочитал ту книгу, которую ты мне дала. И знаешь, там ни слова про домовых.
— Ну, может, будет в других книгах, их же много.
Стало тихо, кошка тёрлась об Аню и мурчала, заглушая мысли, которые, казалось, вот-вот можно будет услышать.
— Я смогу познакомиться с новым домовым? — вдруг спросила Аня.
— Нет. Нужно будет стереть тебе воспоминания о домовых, злыднях, буках и прочем, чтобы новый домовой не повторил моих ошибок.
— И что? Я совсем не буду о тебе помнить?
— Не будешь. — Санёк посмотрел на Аню и по глазам понял, что сообщил об этом слишком резко. — Это для твоего же блага. Без этого злыдни разнесут тут всё. Поэтому нам нужно поторопиться. Собери мне, пожалуйста, каких-нибудь вещей. Я уйду завтра вечером.
ОН УШЕЛ И ОБЕЩАЛ НЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ
И снова день закончился вечером. В коридоре мужские руки снова завязывали шнурки на берцах, голова, которой эти руки подчинялись, не попадая в ноты, напевала «Звезду по имени Солнце».
Аня знала, что ей будет не хватать домового, но помогала во всех подготовках к побегу.
Она зашила и постирала старую одежду Санька, собрала ему в старый детский рюкзак немного печенья, яблочный сок и всяких безделушек (карандаши, калькулятор, заколки, попрыгунчики, карты, браслеты).
Тьма укутала небо, ветерок из открытого окна разгонял подъездную вонь. Они сцепились в неравном поединке, вонь царствовала в этом месте днями и ночами, но ветерок храбро выпихивал её из завоёванных ею владений.
Аня открыла чёрную дверь и шагнула на лестничную площадку. Санёк протоптал вперёд и остановился. Девочка надела на него цветной рюкзачок.
— Сань, ну ты это. Береги себя.
Санёк медленно кивнул. Аня обняла домового, он пошёл вниз, а она — вернулась в квартиру, закрыла дверь и больше никогда не вспоминала о нём.
***
По магазину разносился запах книг. Возможно, именно ради этого запаха люди продолжают ходить в книжные магазины. Девушка облокотилась на один из книжных шкафов, в мыслях пересчитала свой бюджет и уставилась на руки, каждая из которых держала по книге. Вдруг мысли её на момент остановились, потому что на голову что-то упало. Она подняла толстую красную книгу с бледно-жёлтой надписью «Общая геология» и подняла голову, чтобы понять, откуда книга прилетела. К верхним полкам была приставлена лестница.
— Ох! Извините меня, я сегодня встал не с той ноги, постоянно всё падает. Я надеюсь, вы живы?
Со ступенек спустился молодой человек. Он улыбался, но ему на лицо упала прямая чёлка, перекинутая на левый бок.
— Да ничего. Со всеми бывает. — Девушка протянула ему книгу и посмотрела на ладонь юноши. Там была татуировка в виде змеи, которая поедала свой хвост. — Какая у вас татуировка интересная! Их же больно делать на ладонях, и, говорят, они быстро становятся зеленоватыми.
— У меня очень некрасивый шрам в этом месте. Это декор. — Юноша пальцем провёл по ладони линию шрама. Он взглянул на две книги, лежащие на полке рядом. — Ваши?
— Да, вот не могу выбрать.
— Раз уж я вас чуть не убил, позвольте мне исправиться и угостить вас двумя этими книгами и чаем. — Юноша взял книги и сложил в стопку со своей.
Девушке черты его лица казались до боли знакомыми. Она понимала, что лучше бы было вежливо отказаться, но тогда он уйдёт и не будет даже возможности спросить, где она могла его видеть.
— Даже не знаю, что сказать. Я не против, буду очень благодарна.
— Что же, тогда приятно познакомиться. — Юноша взял нежную ладонь и хотел было её пожать, но будто испугался сломать такое хрупкое тело. Чтобы не добавлять неловкости ситуации, он приподнял ладонь, немного преклонил одно колено и склонил голову. — Александр.
— Анна.
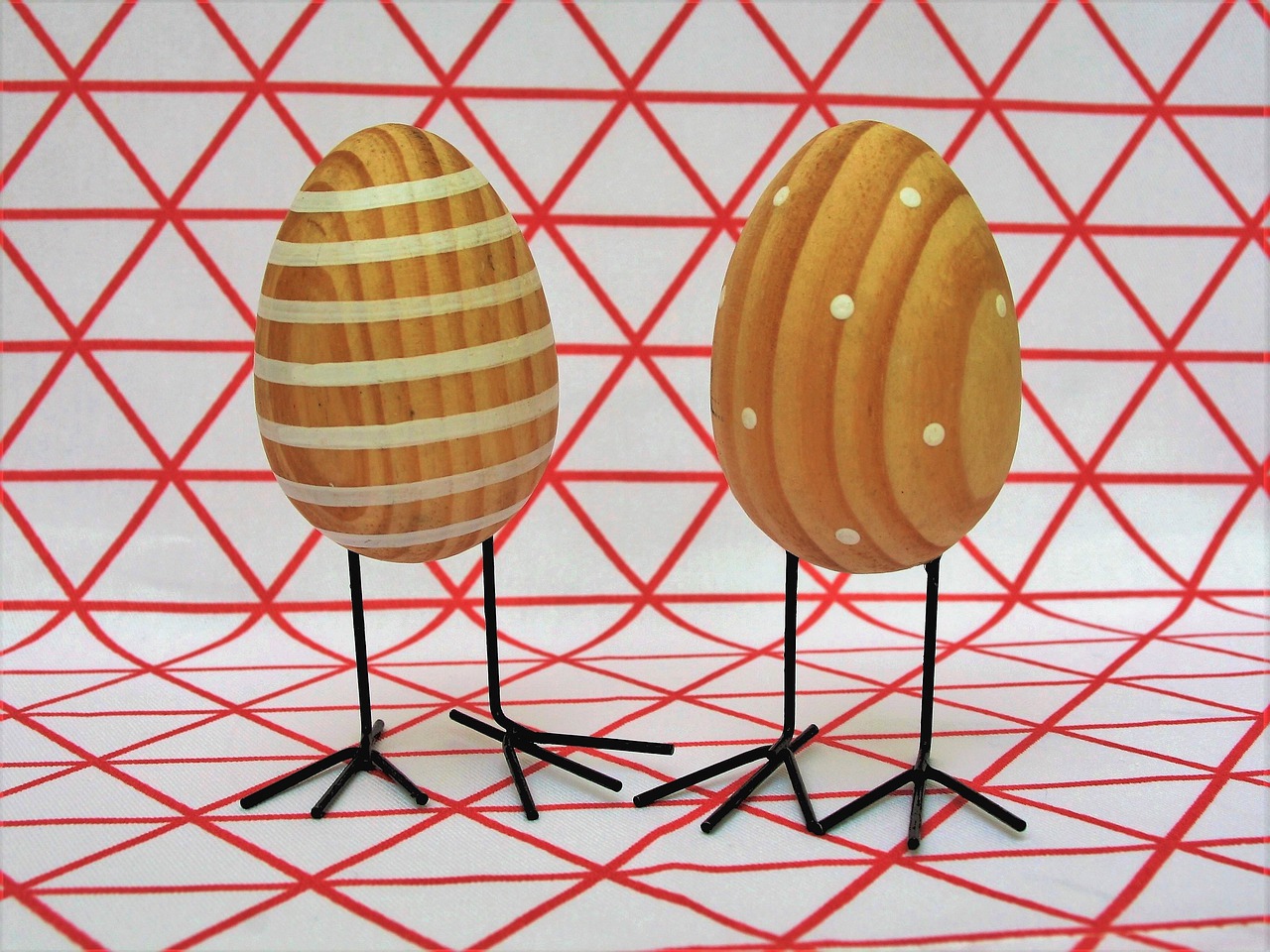
Сказки о тех, кто вылупляется из скорлупы
Змейка, у которой не было друзей
Однажды родилась маленькая змейка. Ее мама была плохая мама и поэтому не следила за маленькой змейкой Чу. Поэтому Чу пошла сама познавать мир. Чу пошла налево, там она встретила мышь. Чу уже хотела спросить, кто она и хочет ли она поиграть, но вдруг мышка вскрикнула и убежала. Тогда Чу расплакалась и пошла направо.
Потом она встретила птенца. Она вспрыгнула и поймала его. Но когда она хотела поиграть с ним, она поняла, что он мертв. Она убежала в лес и зарыдала.
Тут она услышала шорох в траве. Она насторожилась, но все еще всхлипывала. Из кустов вышел мангуст и спросил, что случилось и как ее зовут. Чу сказала, что ее зовут Чу и что она хочет поиграть, но все умирают, когда она начинает играть с ними. Мангуст сказал, что он может поиграть с ней. Тогда Чу обрадовалась, и они начали играть.
И тут мангуст случайно убил ее. Но умерла она с улыбкой на лице.
Ну ты и дурак
Жили-были птенчик Арри и его мама, птица Яентария, но все ее называли просто Ария. Как-то раз Ария полетела за червячком для Арри. Арри был совсем малышом и не понимал, зачем мама улетает.
— Я хочу, чтоб мама не улетала, а червячки появились сами! — сказал Арри.
— Хочешь червячка? — раздался незнакомый голос.
— Хочу, — взглянув вниз, сказал Арри.
Это оказался подросток-орел.
— Ты только выйди на край гнезда.
— Хорошо.
Тут орел как взлетит! как рванется к Арри! Но к счастью, он промахнулся и выдернул только два пера. Тут прилетела мама орла и сказала ему: «Ну ты и дурак!»
Тут прилетела и мама Арри, подняла его обратно в гнездо и сказала ему: «Ну ты и дурак!»
И больше птенчик Арри никогда не слушал никого, кроме своей мамы.

Скучно
Ранним утром летнего дня 2016 года большая семья двинулась в путь из Барселоны в Кастельдефельс, небольшой пригород большого города. Мы собирались провести день на пляже. Шел второй месяц каникул, и мне с братьями было порядком скучно.
Первый к морю побежал Габи, он долго ждал возможности искупаться в прохладной водичке и позагорать. За ним спокойно шел четырнадцатилетний Игорь, довольный тем, что наконец-то от него отстали учителя с их контрольными. Завершал процессию я, сонный и невыспавшийся. По правде говоря, я надеялся, что соленая морская вода поможет мне взбодриться. Алекс немного задержался, он попытался выпросить хоть чуть-чуть мохито у бабушки. Он просил очень убедительно, да и бабушка была не против. Но родители, к несчастью, были рядом, и досталось не только Алексу, но и бабушке.
— Лучше бы ты мне давала мохито, когда я была маленькой! — злилась мама.
— Лучше бы ты так хорошо себя вела, как Алекс, — не осталась в долгу бабушка.
Тем временем мы всей компанией уже плескались в море. Волн не было, зато водорослей хоть отбавляй!
— Ну вот, даже не поплавать толком.
В итоге решили делать из них парики, украшая их камнями, ракушками и коричневым песочком. Маме было все равно: для нее главным было, чтобы мы не ныли, что нам надоело, и не просили гаджеты.
Но этого развлечения хватило ненадолго. Вскоре мы вылезли и залегли на пляже, как стадо тюленей. Скучно. Пляжный бар был уже закрыт, и пообедать где-то поблизости было негде… В итоге, наскоро собрав вещи, мы помчались домой. Хотя мы зря так спешили, по дороге нас всех без исключения укачало. И есть уже совсем не хотелось.
Вечер прошел ужасно. Мама и бабушка закрылись на кухне, Алекс ушел прогуляться, а Игорь запретил нам даже приближаться к его двери. Мы с Габи маялись от безделья. Даже ссориться было лень.
Вот бы какое-нибудь настоящее приключение, подумал я. И Габи как будто прочитал мои мысли: «Вот бы замутить чего-нибудь, а то со скуки сдохнуть можно».
Вот уж точно моя бабушка говорит: не мечтай, а то сбудется.
Легли мы рано, где-то в девять. Рано? Да если честно, мы бы и в семь легли, если бы солнце не светило в окно, все равно делать было нечего. Такой расклад устраивал всех, и родителей, и детей. В сон я провалился быстро, сжал своего плюшевого медведя и отключился самый первый.
Утром, когда я зашел разбудить Габи к завтраку (он всегда позже всех вставал), я увидел его лежащим на ковре возле кровати. Он тихо посапывал, и мне даже стало жалко его будить (похоже, он так крутился во сне, что свалился, но спал настолько крепко, что не проснулся).
Только я тихо вышел из его комнаты, как за спиной услышал дикий вопль и звук разбитого стекла. Я мигом прыгнул в комнату обратно. Происходящее повергло меня в ступор: окно было разбито вдребезги, Габи громко кричал, держась за перила балкона. Более того, его как будто кто-то тянул через них! У меня перехватило дыхание, я со скоростью света подбежал к брату и схватил его за руки, чтобы помочь. Это и стало роковой ошибкой. Габи отпустил перила, держась только за меня. Я не смог удержаться на ногах, и нас вместе унесло в сторону моря каким-то чудовищным порывом ветра. В глазах потемнело.
Очнулся я в холодном, сыром помещении. Все стены, пол и потолок были из металла. Страшно болело плечо. Габриэль лежал на полу без сознания. Он летел первый, поэтому очень сильно ударился о стенку. Майка была порвана, из раны на спине сочилась кровь, а на затылке красовалась огромная шишка. Забыв о боли, я побежал к брату. Слава богу, он дышал и у него билось сердце. Что же делать? На лбу выступила испарина, руки дрожали. Я был в панике, поэтому ничего лучше принципа «потряси и дай пощечину» я не нашел. После сильной пощечины Габи очнулся и чуть не полез в драку, хотя быстро остановился.
— Братик, ты очнулся! — воскликнул я.
— Дубина! Ты, видимо, очень хочешь, чтобы я здесь остался навсегда! Я не могу встать! — рявкнул в ответ он.
— И тебя с добрым утром! — Я был так рад, что он очнулся, что предпочел не обращать внимания на сарказм.
Тут на одной из стен стали проступать буквы. Как будто кто-то невидимый продавливал металл с обратной стороны. Мы замерли и медленно прочитали надпись на испанском: «Хотите выбраться? Предлагаю сыграть в игру. Просто ответьте на мои вопросы. И обещаю, скучно вам не будет»
Начинается… Мы с Габи переглянулись, вспомнив фильм «Джуманджи». Ждали мы минут пять, и мне это уже надоело, как вдруг в голову пришла идея.
— Да, мы все поняли и ждем первого вопроса, — протрубил я.
— Ты чего орешь? — поморщился брат.
— Надо! — отрезал я и стал ждать дальше. Вопрос на стене не появился. Тем не менее первая надпись исчезла.
Прошло еще минут пять. Я мерял шагами комнату, Габи тер ушибленную ногу.
Тут уже он заорал.
— Да, мы все поняли и ждем первого вопроса! — повторил он за мной.
Я с удивлением посмотрел на него. Он насупился: «Чего смотришь?»
Перепалка закончилась не начавшись. На стене стали проступать огромные буквы: «Сколько будет 1+1?»
Казалось, что вопрос простой, но в чем подвох? Наши с Габи мнения разделились. Я считал, что нужно ответить два и не выдумывать. Габи же, как всегда, придерживался другого мнения, что тут что-то не так. Его хлебом не корми, дай поспорить. Через три минуты ожесточенной баталии мы все-таки сошлись на том, что надо попробовать. Решили одну проблему и тут же столкнулись с другой: где написать этот текст?
Да сколько же можно головоломок: от злости я стукнул кулаком по стене, и там появилась белая точка.
— Ага, вот как это работает, — сказал Габи и, схватив камень, записал ответ на стене.
Но увы! Ничего не получилось. Похоже, Габи был прав, ответ был неверный.
И тут меня осенило: а если речь идет о другой системе счисления? Нас тут двое, может быть, речь о двоичной системе?
— Десять! — заорал я. — Пиши!
Габи написал десятку на стене, и она замерцала холодным фиолетовым свечением.
— Есть! — воскликнули мы с Габи хором.
— Ждем второго вопроса! — завопили мы, перекрикивая друг друга. В ушах зазвенело! Наверное, у создателей этой игры чуть родимчик не приключился от нашего ора. Поэтому вопрос появился быстро.
— Кто вы?
Мы переглянулись. Я мог дать десяток ответов на этот вопрос, но какой из них верный?
— Жители планеты Земля, — буркнул Габи. Его эта история явно начинала злить. Он молча мерил шагами помещение. Вдруг подхватил камень и написал на стене: «Братья».
И снова надпись замерцала.
Настала пора третьего вопроса.
«Умеете ли вы обращаться с холодным оружием?» — Вот это поворот!
Мне стало страшно. Габи, наоборот, был счастлив, что ему наконец-то можно будет подраться с кем-то.
В голове роилось множество вопросов. Кто создал эту игру? Почему именно мы? Почему такие странные вопросы? И вообще, доживем ли мы до конца? Погруженный в размышления, я не заметил, как заснул. Открыв глаза, я сразу понял, что мы уже не одни. Рядом со мной лежали топорик и щит. Габи держал в руках короткий самурайский меч. А в десятке метров от нас стояли четверо странно одетых людей с палицами и кинжалами в руках.
Один из них начал медленно двигаться в мою сторону. Мы с Габи не сговариваясь встали спина к спине. Мой противник первым нанес удар. Но не попал, воткнул кинжал в самую середину щита. Я отбежал и метнул свой топорик. Попал в ногу. Враг взвыл и упал на землю. Оглянувшись, я заметил, что Габи яростно отбивает атаку сразу трех нападавших.
— Держись! — крикнул я и, прикрывшись щитом, кинулся в самую гущу. Некоторое время мы удерживали оборону, но силы были слишком неравными.
— Нужно бежать, — выдохнул Габи, — смотри, там какая-то дверь! Иначе нам крышка!
Мы побежали к двери и распахнули её. Вдруг я услышал чей-то голос, обернулся…
— Дааавииид, просыпайся, да сколько же можно тебя будить! — Мама трясла меня за плечо…
— Где Габи? — первым делом воскликнул я.
— Да спит, где ж еще ему быть.
— А с кем ты всю ночь разговаривал?
— Да так, мам, приснился сон.
— Страшный?
— Ну, есть немного, — улыбнулся я. Зато скучно мне точно не было!

Стены между нами
Взмыленная Саня влетела в свою комнату, не забыв на прощание как следует хлопнуть дверью, и прислонилась спиной к двери. Как же она устала.
За дверью почти сразу же раздался сердитый окрик матери:
— Я тебе сейчас похлопаю дверьми! Давай, ломай все, мы же миллионеры!
— Тогда понятно, почему они могут сломаться! Ты же с твоим распрекрасным Димой их выбирала! — закричала Саня.
— Ты сейчас договоришься! — По ту сторону стены послышались шаги. Саня мигом повернула ключ в замочной скважине и подперла дверную ручку стулом.
Все, теперь никто не войдет. Мать стучала по дереву, орала и бесилась, пытаясь войти, но Саня не обращала ни малейшего внимания на весь этот психоз.
Надо успокоиться. Саня подошла к письменному столу и включила ноутбук. Старенький, он всегда медленно загружался. Еще бы, на счету этого ноутбука была неудачная попытка скинуть его с десятого этажа, потому что, видите ли, «в этом доме не будет ничего, подаренного Ниной Петровной», как однажды на всю квартиру заорал Дима. Один клик «мышкой», и вот Саня уже в другом мире, в мире вордовского файла под названием «Иллюзия».
Сидеть в одиночестве, в полной тишине и придумывать сцены и реплики героев, отрывая себя от кричащей на всю квартиру реальности, что может быть замечательнее? Она быстро пролистала документ в конец. Сто страниц откровенного бреда были уже за плечами. Саша открыла маленький зеленый блокнот. По плану, который Саня записала еще целую вечность назад, должна была идти до тошноты счастливая сцена, наверное, по голову залитая терпкой ванилью. Она сделала глубокий вдох и выдох. Этот фанфик всегда успокаивал, но, видимо, не в этот раз. Как вообще можно описать, как радуются другие, когда у самой лицо как после цунами?
Соленые слезы жгли раздраженную от подводки кожу в уголках глаз и стекали по иссохшей коже, растворяясь в складках одежды. Подумать только, может же обычная вода жечь как лава… Вдохновения, которое обычно приходило в больших количествах, как только она садилась за ноутбук, хватило только на коротенькое «Он пришел».
В другой комнате еще ругались мама и бабушка, но крики постепенно умолкали. Надо же раздуть скандал из-за такой ерунды: как есть курицу — вилкой или руками! Но нет, вместо того, чтобы успокоиться, они всегда плавно переходили на тему настоящего мужа мамы, дяди Димы. А тут всегда затрагивалась неприязнь к нему Сашки, дескать, бабушка наговорила. Поэтому обычная ссора ни разу не заканчивалась иначе — Саня в слезах уходила в свою комнату и так хлопала дверью, что на кухне тряслись стаканы, бабушка и мама продолжали перекидываться язвительными словечками, а младшая сестра Сашки Милена, как обычно, сидела с полным ртом еды и поддакивала матери.
Нет, сегодня написать хотя бы один абзац несущих какой-то смысл слов, как любил говорить до противного приставучий старый учитель русского, не получится. Нужно почитать что-нибудь формальное. Сашка решительно вытерла слезы, отодвинула ноутбук и грохнула перед собой учебник по геометрии за восьмой класс. Глупые сухие правила понемногу успокаивали ее. Хотя, наверное, они не такие уж и глупые. Они бесстрастные и чопорные, они ничего не чувствуют и просто портят всем ученикам жизнь. Иногда Саше хотелось именно так — ничего не чувствовать и быть холодной, как ледышка, ко всему, что происходит, чтобы не устраивать Второй Всемирный Потоп и не тратить нервы.
Дима приходился родным отцом Саше и Милене. Бабушка всегда рассказывала, как познакомились их родители. Произошло это как в обычных сериалах на «Первом» — Анна Николаевна столкнулась с ним в офисе и случайно пролила кофе на его белую рубашку. Дальше пошла череда самых обыкновенных извинений и слов, потом он непринужденно надел пиджак и — драма по классике — предложил спокойно выпить по чашечке кофе. А после — самые обыкновенные свидания. Все было настолько банально, как будто кто-то выше уже изначально заготовил схему, как надо действовать, и уклоняться от курса нельзя было никак.
Они поженились через год. Вскоре родилась Саня, через четыре года — Милена. Все было хорошо. С бабушкиных слов Дмитрий был настоящим красавцем — высокий и стройный, с мягкими каштановыми волосами и правильными чертами лица, он смог очаровать маму. Но была в их отношениях та формальность, за которую Санька так ненавидела учебники и которая сохранилась даже после рождения детей. Нина Петровна, бабушка, чувствовала, что что-то не так. Она всегда замечала больше, чем ее дочь, и на этот раз от ее глаз не укрылось странноватое поведение зятя в последний год маминого брака — на работе допоздна, на выходных, во время заслуженного отпуска, — о чем она всегда говорила своей дочери. Но та предпочитала особо не вникать. А потом как-то утром, когда Дима умывался, Саня игралась с котом, а Милена опять канючила мультики, мать обнаружила переписку с какой-то непонятной Анжелой в его телефоне.
Саня навсегда запомнила этот день. Мать безмолвно собирала вещи мужа, чтобы преспокойно выкинуть в общий коридор, Дима так же молчаливо одевался. Видимо, понял, что натворил. А потом, как жалкий пес, позорно подобрал с пола общего коридора сумки и быстро ушел к лифту. И навсегда испарился из их жизни, никак не напоминая о себе. По крайней мере, так думала Саша.
Через год в их семье появился дядя Сережа. Для Саньки, которая лихорадочно искала в каждом мужчине отца, он стал примером идеального семьянина. Добрый и заботливый, он не обделял своей любовью ни детей, ни Анну. Саньке он полюбился сразу же, она надеялась, что он останется с ними навсегда. Видеть родного отца ей больше не хотелось, она уже знала причину, из-за которой тот оказался выставленным на улицу.
Сергей пробыл в их семье около года, как вдруг громом среди ясного неба в их жизнь заявился Дима. И мать его простила. Простила. Санька никогда этого не понимала. Теперь отец вернулся в семью, а отчим вместо него оказался за дверью. Сколько бы Саша ни умоляла, ни кричала, ни плакала, решение Сергея было непоколебимо. «Твоя мама будет счастлива только вместе с твоим отцом. Я не хочу делать ее несчастной», — сказал он перед уходом.
— Тогда поменяй в моей комнате замки. Не хочу, чтобы он туда заходил, — сквозь слезы проговорила Саня. Дядя Сережа исполнил просьбу девочки, после чего ушел навсегда. И больше никогда не появлялся в их жизни.
А Дима опять по нахальному стал хозяином квартиры. Но сколько бы он ни старался, добиться расположения Саньки он так и не смог, зато быстро выбрал Милену в качестве «любимой доченьки». На свете не было еще такого человека, которого Саня бы ненавидела всем сердцем и душой. Его возвращение привело к многочисленным ссорам матери и бабушки, но только теперь к старушке подключилась и Саша. Отношения между матерью и дочкой, которые раньше были такими доверительными, стали не теплее вакуума в космосе.
Санька вздохнула и потянулась к телефону. Быстро нашла в списке контактов абонента «Вишенка» и приложила трубку к уху. Это был второй человек после бабушки, которому она все доверяла.
— Алло? — раздалось в динамике телефона.
— Маш, привет… — Ее голос сорвался.
— Ну, рассказывай, что у тебя там произошло. Я готова.
— Я не могу так больше, не могу! Они опять из-за этого придурка пересрались! — Она пустилась в рассказ о ссоре. После разговора с подругой ей стало чуточку легче.
***
Тупая информатичка! Что она вообще понимает в людях?
Санька открыла входную дверь и зло бросила рюкзак на черный дипломат отца, который прислонился к стене. Тот упал, и внутри что-то разбилось. Саша злорадно усмехнулась и пропустила перед собой Милену. Сестра сразу заорала:
— Мы пришли!
В этот момент Саня была готова ее убить. Она совсем не понимает, что так орать не надо? Что сестра ее в кои-то веки хочет проскользнуть незамеченной в свою комнату, чтобы не столкнуться с Димой или с мамой? Но противной четверокласснице всегда нравилось бесить сестру, она с хищной ухмылкой проскочила в коридор и увернулась от шапки, которая полетела в нее в качестве наказания. Почти в эту же секунду в коридоре оказался отец. У него и мамы был отпуск.
— Саша, держи себя в руках, — не поскупился на замечание он.
— Ой, кто бы говорил, — демонстративно скривившись, отрезала Саня и прошла на кухню. Там она сразу же подверглась допросу матери:
— Как дела? Что получили? Что нового?
Милена, как всегда, сразу все рассказала. Она болтала долго и безостановочно, Саньке показалось, что от этого «словесного поноса» у нее сейчас расколется голова. Она устало спрятала лицо в ладонях, поблагодарив бабушку за тарелку супа. Тот противно пах не то корицей, не то кинзой, не то еще чем, но чем-то определенно не «суповским». Наверняка опять стряпня отца… Он определенно хочет их отравить. Убедиться в правдивости запаха у Сашки не было возможности — кривая перегородка носа стала настоящим камнем преткновения. Ну и ладно, после информатички эта перегородка даже защищала от отвратительных запахов. А кстати, этот запах надо обязательно добавить в повествование «Иллюзии»…
— А Санька двойку получила по инфе! — широко улыбаясь, объявила сестра. Саня вскинула голову и зло глянула на сестру.
— Это же сколько теперь исправлять ее придется? А говорила я тебе, говорила же, что надо готовиться к контрольной, а не фанфики свои писать! — сразу обрушился на девушку гнев матери. — Ты же хочешь быть айтишником, какие двойки!
— Да плевать мне на эту информатику! Не хочу я быть программистом! Не хочу! — вышла из себя Саня.
— Но ты же говорила…
— Это он тебе говорил, не я! Это он за меня решил! — Она указала на отца.
— Во-первых, не «он», а твой папа, во-вторых, я хочу, чтобы моя дочь разбиралась в этой сфере, — спокойно произнес он, но сразу пожалел об этом.
Саня вскочила со стула.
— А ты вообще замолчи! Мало ли что ты хочешь! Сам полжизни моей шлялся не пойми где и с кем, теперь не смей мне указывать!
— Александра! Не смей так говорить с отцом! — встряла Анна Николаевна.
— Мама, очнись! Он предал тебя, а ты его снова взяла под крылышко? Что ты за человек такой! «Предавший однажды снова может предать», сама же говорила!
— Он исправился и больше так не будет. А над своим поведением тебе стоит подумать.
— Анна, Сашенька права, я всегда тоби це ховорила! Не слушаешь мене, послушай хоч ребенка! — попросила бабушка.
— Я вам не ребенок! — в исступлении закричала Саня. — Я уеду когда-нибудь, уеду от вас навсегда, чтоб не видеть больше! — Она выбежала из кухни. В комнате хлопнула дверь, щелкнул замок. На кухне повисло молчание, прерываемое только чавканьем Милены. Мать поставила локти на стол, спрятала лицо в ладонях, как некогда ее дочь, и пробурчала:
— Несносная девчонка… Что же мне с ней делать?
— Перебесится — успокоится, — важно изрек отец. — Она у вас совсем от рук отбилась. Надо заняться ею.
— Я тоби займуся! — разозлилась бабушка. — Ти испортил жизнь им обеим, испортил одну з них, я не дозволю тоби испортить Санечку!
— Мама, ей уже четырнадцать лет, хватит с ней сюсюкаться! И не начинай свою байку снова, достала уже! — схватилась за голову Анна. Только ее мать заметила, как беспокойно она смотрела вслед убежавшей Саше.
Бабушка поджала губы, встала, взяла миску с супом и направилась к комнате внучки. Только ей одной всегда удавалось утихомирить разбушевавшуюся внучку, и только ее одну слушалась Саня и доверяла почти все тайны. Любую просьбу отца или матери она воспринимала в штыки, поэтому Анна Николаевна уже давно разочаровалась в попытке поговорить с дочерью-бунтаркой.
Но тем не менее Анна вдруг вскочила и протянула руки к тарелке.
— Мама, не надо. Я сама. — Она отобрала тарелку и вышла из кухни.
Бабушка победоносно глянула на поднявшего бровь Дмитрия и начала притопывать ногой, как всегда делала, когда была довольна происходящим.
Анна постучала в дверь Саниной комнаты. Изнутри раздалось глухое и монотонное:
— Если ты не бабушка, то уходи на все четыре стороны. — А потом раздалось что-то новое: — А тебя, Милена, я вообще скоро Круциатусом прокляну!
Анна покачала головой и осторожно толкнула дверь. Она тихо поддалась и открылась внутрь. Немного опешившая, женщина вошла в комнату.
Сгорбившись, Саня усердно тыкала пальцами в клавиатуру ноутбука. Пальцы ее дергали черные волосы, которые каждое утро безбожно пытали не «Круцио», а утюжком-выпрямителем. Улыбка легким порывом пронеслась на лице матери. Она поставила тарелку рядом с компьютером и неловко села на стул рядом с Саней.
— Я всегда думала, что ты запираешься после каждой нашей перепалки, — произнесла она. Это, наверное, было самой бредовой идеей, как начать разговор, но Анна мысленно себя успокоила.
— Я никогда не запираюсь, — не поворачивая головы, буркнула Саня и отодвинула тарелку. — Я всегда жду кого-нибудь из вас, но вы не приходите. И суп этот забери. Я вам не таракан, чтобы травить меня не пойми чем.
— Это не отрава. Твой отец, между прочим, старался.
— Даже не пытайся. Ты же знаешь, что своего мнения о нем я не поменяю. — Кнопка, на которую она безостановочно тыкала, болезненно охала, каждый раз грозя всему миру, что скоро попросту выпадет. Но Саня предпочла не замечать ее страданий и продолжила: — Я не понимаю, как ты его простила, как ты вообще могла это сделать?
Анна отвела глаза в сторону и тихо сказала:
— «Если есть что-то непростительное на свете, так это неумение прощать».
— «Прощайте врагов ваших, но не забывайте их имена». Но ты, походу, забыла, — возразила Саня, мысленно поблагодарив Кеннеди за удачную цитату. Она повернула голову к матери. — Мам… Ты чего? Эй!
Непонятное, отсутствующее выражение лица женщины ледяным душем окатило Сашу, заставляя всерьез задуматься, а нет ли в этой комнате какого-нибудь гаррипоттеровского дементора. Анна широко распахнула глаза цвета ежевики и смотрела куда-то в стену. Казалось, что она находится не в четырех стенах трехкомнатной квартиры, а где-то вне времени и пространства, там, куда никому из ныне живущих не суждено добраться.
Мозгу Сани совершенно не понравилось все происходящее. Разбудив нервы на руке, он заставил Саню щелкнуть пальцами перед лицом матери, но та даже не пошевелилась, только сказала:
— В людей надо верить, какие бы они ни были. Это основа всей жизни. Никто не должен ставить границы перед лицом конкретного человека словами «Ты лгун», «Ты предатель». Иначе поставишь слишком много стен в своей голове. Может быть, они и предатели, все без исключения, но тебе с ними жить. А жить, не контактируя ни с кем, так проще пойти в монастырь где-нибудь в Сибири. — Она обратила взгляд на дочь. Какие-то пляшущие чертята прошлого в ее глазах заставили Саню съежиться и перестать насиловать клавишу. — Твой отец сделал ошибку, о да. Но я еще люблю его, поэтому готова простить и в двадцать пятый раз. Ты уже взрослый человек и должна понимать это.
Она замолчала, давая понять, что на сегодня тема закрыта. Что-то неприятно зашевелилось внутри девочки и быстренько окрасило уши в красный цвет. Саня поспешила перевести тему разговора:
— Почему ты ушла с филологического факультета? Ты была бы неплохим писателем.
Завеса былого спала с лица Анны, как только она улыбнулась и произнесла:
— Знаю. Но поняла, что это несерьезно. Если ты хороший писатель — это одно дело, но когда ты даже на людях показываться не любишь, то куда уж тебе до выпуска собственной книги!
— А если я хочу пойти на писателя? — спросила Саня.
— Прямо совсем тебе не нравится информатика?
— Я ее не понимаю.
— Я тоже, — просто сказала Анна. Саня выпучила глаза. — Да-да. У меня рядом с работой есть институт, и один молодой человек учится там на программиста. Так вот, он приходит и максимально просто объясняет мне, как и что делать, или что-то помогает делать на компьютере, когда свободен. Он и практикуется, и зарплату получает. Я довольна, он доволен, коллеги мои отдыхают от постоянных дерганий с места вопросами — а как? а почему? Так и живем, — пожала плечами она. Саня рассмеялась. Слезы уже давно перестали жечь щеки.
— Можно я почитаю твой фанфик? — после недолгой паузы одобрительно сузив глаза, спросила Анна. — Я же, как-никак, недоученный писатель. Что-то я еще помню. Заодно и познакомлюсь с современным писательством.
— Без проблем, — улыбнулась Саня. Так просто и непринужденно они не общались уже целую вечность.
Анна встала и сказала:
— Ешь суп и делай уроки, хватит фанфики писать, а я пока наделаю пончиков. С шоколадом. — Она вышла из комнаты и тихо притворила дверь.
Пончики… С шоколадом… Нормальный разговор с мамой в кои-то веки… Если Дима сейчас съедет с их квартиры, то это будет лучший день в Саниной жизни.
Она мечтательно потянулась и отодвинула ноутбук, предварительно удалив все буквы «т», которыми мучила несчастную кнопку.
На следующий день Санька зашла на кухню и кинула перед тарелкой отца учебник по литературе. Ее губы были плотно поджаты, а из глаз, казалось, вот-вот вылетят шаровые молнии. Мама, моющая посуду, быстро обернулась к дочери, бабушка безмятежно отложила газету в сторону.
— Слушай меня, человек, который в паспорте мой отец. Вот чем я хочу заниматься. И никакое твое идиотское решение не помешает мне стать писателем, — ядовито процедила Саня.
— Ты серьезно хочешь этим заниматься? Тебя могут не читать, не оценить, а это как минимум затяжная депрессия, — попытался как можно проникновеннее сказать отец.
— И что? Меня это не остановит. Я умею хорошо писать, я в этом на все сто уверена.
— Но ты хоть понимаешь литературу? Я думаю, тебе больше подойдут точные науки. Потом мы с мамой всегда сможем устроить тебя на работу.
— Я не настолько безнадежна, чтобы работать под опекой родителей. Причем мама за меня. Да, мама? — Она резко повернулась к матери.
— Я поддерживаю. У нее есть прекрасный шанс быть признанной обществом. Потом, это моя дочь, ты хочешь сказать, что я вырастила беспросветную тупицу? — к удивлению Сани, взвилась мать, скрещивая руки на груди.
Дима закатил глаза, но вовремя сменил гнев на милость, не желая подливать бензина в пока еще зарождающийся огонек. Он поджал губы и кинул:
— Ты что, Аня, конечно же, нет.
— Вот и отлично. А еще я хочу выучить испанский, — добавила Саня.
— К чему это? — беспокойно сверкнула глазами Анна.
— Люблю языки изучать. Французский и английский я и так учу, теперь еще и испанский. И да, курсы я тоже нашла. Твое дело оплатить, — так же небрежно обратилась к отцу Саша.
— Ну, раз такая тяга к языкам, то почему бы и нет? — попробовал одобрительно улыбнуться отец, но Саня одарила его только гневным взглядом, да и получилось у него не очень-то правдоподобно.
— Вот и превосходно. — Саня забрала учебники и удалилась к себе. Мать поджала губы и молча вернулась к посуде. Бабушка, тихо посмеиваясь, спряталась за газетой.
Саня успела пройти всего лишь метра три до своей комнаты, как вдруг услышала:
— Ты спятила? Не забыла, чем кончилась твоя тяга к этой долбаной писанине? — резал слух жесткий и колючий голос отца.
— Я верю в свою дочь. Я читала, что она пишет. Поверь, пусть лучше ее сначала не признают, она будет долго и муторно трудиться, чем всю жизнь горбиться на сидящей в печенках работе в сфере, которую она не понимает от слова совсем, — воспротивился резкий, но уверенный и мелодичный голос матери.
— Ты на что намекаешь? Вспомни, кто помог тебе пробиться в люди, кто вытащил тебя из этого украинского захолустья, из-за кого у тебя теперь высокая зарплата? Ты думаешь, такие, как я, так просто на дороге валяются? Бери — не хочу?
— Ти думаешь, що вона никогда не найдет соби хлопца? Она найдет, и в рази лучше тебя! На таких редкостных гадов як ти ни одна благоразумная дивчина внимания не обратит! — взорвалась бабушка. — Сколько ж в тоби бахвальства!
— А вас, Нина Петровна, никто, заметьте, не спрашивал, — ядовито напомнил Дима. — Аня, с ее отвратительным характером ее никто на работу не возьмет, подумай о ней! А ты еще и даешь ей вольную на писательство!
— Так, знаешь что? Не смей так говорить о моей дочери! — зашипела Анна. — Если она захочет, она всего добьется! А ты вообще мог оставить меня там и уехать восвояси со своей Анжелой! Я бы хоть счастливее была!
— Ах так? Ну что ж… — Из кухни послышались шаги. Саня едва успела юркнуть в комнату и закрыть дверь, моля всех богов, чтобы Дима ничего не заметил. Остальной разговор она не услышала.
Он забрал маму и бабушку с Украины? Мама знала эту пресловутую Анжелу? Они были знакомы? Чем же закончилась «тяга к писанине»? Миллион вопросов уже построил жужжащие пчелиные ульи в голове.
Саня машинально села за стол и открыла «Твиттер» на телефоне. Если раньше посты от какого-нибудь Творца Стекла веселили ее, то теперь она бессмысленно водила глазами по экрану, не понимая ничего дальше первых трех слов.
Дверь тихо скрипнула, в комнату вошла Анна. Саня обернулась к ней, чуть не свернув шею и не опрокинув стул вместе с собой. Печальные черные мамины глаза встретились с такими же черными глазами дочки, широко раскрытыми от непонятной тревоги. Анна глухо сказала:
— У тебя есть еще полтора года до ОГЭ. Выбери что-нибудь более серьезное. Врач, учитель, не знаю, банкир, офисный работник… Что угодно, но не писатель.
Саня поперхнулась воздухом. В мозгу что-то щелкнуло, та чаша, которая занимала почетное место в сознании под названием «Бесит», резко заполнилась до краев. Через какое-то время девочка смогла выдавить из себя:
— В смысле? Ты же говорила…
— Я много что говорила в этой жизни, много обещала и клялась и не всегда это выполняла, — резко отозвалась Анна. — Одними фанфиками на хлеб не накопишь, пусть они будут как хобби. Я не хочу, чтобы моя дочь жила не пойми где, питалась не пойми чем только потому, что дохода от ее книг нет. Так что давай завязывай со всем этим. Пора уже взяться за ум.
— Что он тебе наговорил? — срывающимся голосом начала Саня.
— Я взрослый человек и решения принимаю сама. И хватит относиться к своему отцу с таким неуважением. Забудь всю свою неприязнь, тебе еще много лет здесь жить. И это, — она подняла ноутбук со стола и направилась к выходу, — я забираю.
Она закрыла дверь в комнату дочки и прислонилась к ней спиной. За дверью громовым раскатом взорвался крик Сани: «НЕНАВИ-И-И-И-ЖУ!». Анна прикусила губу и ушла в свою комнату.
Саня решила, что уедет когда-нибудь. Уедет далеко и надолго. В какую-нибудь дальнюю Италию, Испанию или Францию. Да или просто в другой город. Лишь бы никого из родственников не видеть. И пусть сестра всегда говорила: «Зачем тебе эта Франция? Чего тебе в России не сидится?» — она в принципе никогда не понимала до конца намерений Сани, а Саня уедет отсюда.
Санкт-Петербургский государственный университет, звучит заманчиво… Особенно первое слово. Саня села за стол на кухне и вгрызлась в мякоть яблока, листая страницу в интернете на телефоне. Нет, ну кто придумал такое сокращение — СПбГУ? Как это вообще можно выговорить?
Как же хорошо, что три последних урока отменили, а дома никого нет. Рыжий кот тихо подошел к стулу Сани и запрыгнул на ее колени.
Как бы надо делать уроки, но так лень… Саня потянулась и налила себе сок.
Тишину квартиры разорвал звонок в дверь. Может быть, бабушка пришла. Саня столкнула с колен Рыжика, который с обиженной мордашкой засеменил к двери, и поспешила открыть.
Лучше б она сидела на месте. В дверях стояла девушка с накрученными волосами. В руках она держала бутылку с шампанским и явно не ожидала увидеть Саню, потому что до тошноты сладкая улыбка вдруг слетела с заштукатуренного тональным кремом лица.
Но в ту же секунду Саня скрестила руки на груди и произнесла:
— Значит, Анжела вас зовут.
— Эмм, да… А ты кто? — неуверенно спросила та и заглянула внутрь.
— Неважно. Его все равно здесь нет. Но вы проходите, располагайтесь, — вздернув бровь, ответила Саня. Шикарный коварный план возник в ее голове.
Анжела скинула сапоги и прошла внутрь. Как будто хозяйка этого дома. Саню передернуло от отвращения. Бедная мама! Но мы сейчас быстренько отомстим, решила она.
Тем временем Анжела мыла руки в ванной. Похоже, что здесь она часто бывала, раз так хорошо ориентировалась. Она повернулась к Сане, но та не дала ей возможности заговорить. Мило улыбнувшись и помахав рукой, она с шумом захлопнула дверь и повернула ключ в замке. Анжела оказалась запертой в четырех стенах. Изнутри нельзя было открыться, в этом-то и заключалась загвоздка замков этой квартиры: только в Саниной комнате можно было запереться изнутри, а снаружи нет, тогда как с остальными замками все было наоборот. Почти сразу же раздался крик Анжелы:
— Эй, ты что, открой!
— Ну уж нет! — злорадно крикнула Саша. — Сиди там! Решила на женатых мужиков поохотиться, у которых есть дети, так вот теперь плати за свои поступки! Подумать только — он водит тебя сюда прямо под носом у мамы! Бедная моя мама! И как она только ничего не заметила! Ну ничего, сегодня вы оба вылетите из этой квартиры, за пределами которой сколько душе угодно можете удовлетворять свои плотские потребности!
Саня ушла в прихожую, игнорируя мольбы Анжелы, и сразу увидела сумочку, которая так и стояла на полу, забытая хозяйкой. Внутри дребезжал телефон, на экране которого всплыл контакт «Зайка», а под ним — номер Димы. Саня приняла звонок и спокойно сказала:
— Ну вот ты и попался, разбойник!
На другом конце линии повисло молчание, а потом Дмитрий заговорил:
— Э-э-э-э… Саня, это ты? А что же…
— Значит, так, змея ты хренова, ты сейчас забираешь маму, приводишь ее сюда и все ей рассказываешь, — сурово сказала Саня. — Она верила тебе, а ты?
Дима замолчал, а Саня сбросила вызов. Не факт, конечно, что он ее послушает, но попытка не пытка. Если что, то Анжелу в ванной она подержит часик, а потом восвояси отпустит. Но главное — сделать фотографии для пущей правдоподобности. Саня сделала все дела, ушла на кухню дожевывать яблоко и непринужденно листать дальше сайт СПбГУ.
От работы до дома ехать тридцать минут. Саня мысленно прикинула, во сколько родители должны прийти. На руку играло то обстоятельство, что Дима был начальником мамы. Если остатки его совести возьмут верх, то они скоро будут здесь.
Через сорок минут в квартире Акимовых раздался звонок. Саня вскочила и понеслась открывать дверь. На пороге стояли растрепанные Анна и Дима. Не говоря ни слова, они прошли внутрь, и Саша отперла дверь ванной.
Четыре человека сидели на кухне, молча переводя взгляд друг на друга. Оскорбленное достоинство одного злобно ругалось где-то в уголке. Вина, свинцовым облаком нависшая над другим, как недостойный пес скулила под ногами у тихого и молчаливого, но грозного и непредсказуемого, разбитого о скалы доверия, осколки которого аурой окружали третьего. Упоение торжеством справедливости плясало вокруг четвертого, во весь голос издеваясь над первыми двумя призраками действительности.
Анна Николаевна глухо и сухо, но твердо сказала:
— Убирайтесь отсюда, вы оба. Живо. Пока я не поубивала вас всех.
— Аня, послушай… — начал было Дима, но Анна резко закричала:
— Выметайся отсюда! Собирай свои манатки и вали на все четыре стороны! Ради тебя я бросила дело, которое любила и понимала, уехала из родной страны, заставила всех родных тревожиться! Думала, что люблю тебя, из-за тебя отвергла другого, достойного, простила тебя! Пригрела змею! Поругалась с дочерью и матерью, настроила дочь против себя, сделала ее несчастной! И все ради тебя! А ты? Что я делала не так, из-за чего ты так со мной? Так нравятся куклы? Все, я больше не обременяю тебя ответственностью за семью. Иди, играй с куклами дальше, раз не вырос за все свои сорок лет жизни! ВЫМЕТАЙСЯ, Я СКАЗАЛА!
Она поднялась и ушла в комнату. Через десять минут спортивная сумка со всеми вещами Димы полетела в общий коридор. Саня и Анна стояли в прихожей, скрестив руки на груди. Две пары черных глаз, которые сейчас были больше похожи на пробуждающиеся вулканы, одинаковые поджатые губы, одинаково убранные черные волосы — похожие как две капли воды мать и дочь безмолвно выносили вердикт главным их головным болям и источникам всех проблем. От этого сходства и Диме, и Анжеле становилось не по себе.
Уже собираясь уйти, Дима вдруг протянул руки к Сане. Анна молниеносно выставила руку в сторону, отгораживая дочь от ненавистного человека.
— Не смей трогать мою дочь. Проваливай, — добавила она.
Наконец они исчезли. Саня посмотрела на закрывшуюся дверь и сказала:
— Вот и все.
— И слава богу, — закатила глаза Анна. Так закатывать глаза, как она, никто не умел. — Они все имели свойство возвращаться.
— Давай только этот раз с ним будет последним, ладно?
— Давай вместе не дадим им вернуться, — улыбнулась мать.
Между ними было расстояние в один метр. Саня медленно подняла руку и распустила волосы, как любит мама. Потом одним шагом покрыла дистанцию, чего, наверное, никогда не сделала бы еще месяц назад, и обняла Анну. Старые распри оказались за захлопнувшейся дверью где-нибудь в сумке Дмитрия посреди его вещей, и теперь обломками каменной стены между матерью и дочкой оттягивали лямку сумки, до боли натирая плечо.
Никто не знал, что будет дальше. Никто не может предугадать, какое оно, будущее. Но зато мы все можем жить настоящим, которое порой еще прекраснее этого таинственного далеко. Сейчас Сане хотелось, чтобы этот момент не заканчивался.
— У тебя не будет проблем на работе?
— Я уволюсь. Сдался мне больно этот офис, когда можно устроиться на работу в какой-нибудь журнал автором статей. Знаешь, учись на кого хочешь. Хоть на дворника. Лишь бы все было хорошо. Не знаю, смогу ли я нагнать упущенное за эти два года, но я обещаю больше не вставать на твоем пути.
— Нагонишь. Мы вместе нагоним.
— А давай в честь этого события сходим куда-нибудь? Все равно сегодня пятница. Пошли в «Макдональдс». Чего вас так рано отпустили?
— Да тут такое дело… Ка-а-ароче…
Они быстро собрались и, разговаривая, спустились на улицу.
***
Ленинградский вокзал гудел. Люди бегали туда-сюда, как муравьи, по всему залу время от времени разносился ровный приятный голос, который объявлял прибытия и отбытия и подгонял запоздалых пассажиров.
У Сани потели ладошки, а в животе скакали какие-то опьяневшие зайцы.
Прекрасный проходной балл по ЕГЭ, полное одобрение со стороны мамы и вот, наконец, долгожданный билет в город туманов дрожал в руках девушки. Все бумаги были оформлены, Питерское общежитие при СПбГУ уже ждало ее.
Она села в вагон. На платформе махали ей руками мама, Миленка, улыбающаяся во все двадцать восемь зубов, бабушка и дядя Сережа. Она улыбнулась им в ответ и помахала рукой.
Поезд со свистом тронулся с места. Милена на платформе побежала за ним, но вскоре отстала и еще долго смотрела вслед уходящему составу.
***
Анна сидела за столом в своей квартире и что-то быстро строчила на бумаге. В дверь постучали, и женщина побежала открывать. В квартиру вошел ее муж, Сергей Дементьев. В руках он держал два конверта.
— Привет. — Он поцеловал жену. — Вот тебе повестка в «Почту России», посылка твоя пришла, а вот Саня прислала.
— Так давай же сюда скорее! — всполошилась женщина.
Она вернулась на кухню и открыла письмо от дочери. В конверте лежала открытка.
«Дорогая мама! Пишу тебе из моей комнаты в общежитии. У меня все хорошо. Здесь так классно! Ждите меня на Новый год», — было написано ровным Саниным почерком.
На фотографии Анне улыбались две девушки — черноволосая Санька и ее новая подруга Лиза. Они сидели в по-новогоднему украшенной уютной комнате, сзади какой-то парень со смешным выражением лица старался испортить кадр.
А белый московский снег все падал за окном, пушистым облачком оседая на проводах.

Стихи о кошках
***
О чем мечтает кошка,
Сидя на окошке?
О птичке, о жуке,
О бабочке и мотыльке.
Я сяду на окошко
И помечтаю с ней немножко.
О море, о песке,
И о мороженке в руке.
***
Как у Кузи у Кузьмы
Мордочка усатая,
Спинка полосатая.
Весь он рыженький такой,
Словно солнышко весной.
***
Иду по дорожке.
О! Какое изящество!
Белая кошка.
***
Зимний вечер.
Котёнок играет с клубком.
Не спится.
***
Весеннее утро.
Щебечут птицы на заборе.
Кот замер.
***
Дождливая осень.
Котенок мурлычет на коленях.
Спокойствие.
***
Бездомная кошка
Принесла нам котят.
Доверие.

Стихи о собаках
***
Собака мечтает о косточке,
А я мечтаю о собаке,
Которая будет только моей.
***
Радужные собаки бегали по облакам,
А на земле отражались солнечные зайчики в виде собак,
И все люди радовались.

Чем могут быть интересны летающие шарики
— Люба! Пора домой! Еще вечером погуляем!
Я тоскливо посмотрела на яркий оранжевый шарик, трепыхавшийся в воздухе над моей головой. Его-то я и пыталась поймать: мне казалось, что нечто маленькое, розовое и блестящее мечется в нём от одной стенки к другой. Но шарик всё время ускользал от меня, и я совсем забыла, что пора домой.
Мы с мамой уже вышли из парка и перешли дорогу, а я всё оглядывалась на тот шарик… Мне даже показалось, что он летит за мной. Это хорошо! Даже если это не так, сегодня всё равно суббота и вообще очень хороший день. Сейчас у нас с мамой будет вкусный обед…
Пока мама готовила суп, я тайком стянула с кухни печенюшку с шоколадными крошками и убежала в свою комнату грызть её. По окну снаружи важно прогуливался голубь, громадным всевидящим глазом поглядывая на мою еду. Я отколола от печенья одну шоколадную крошку, открыла окно и бросила птице. Испугавшись, голубь улетел. Но на его месте вдруг возник тот самый шарик. Очевидно, всё это время он колесил по воздуху.
Розовое и блестящее существо прошло сквозь стенку шарика и устремилось к крошке. Это была всего лишь розовая блёстка, поминутно исчезающая в многообразии солнечного света, но она, скорее всего, имела нечто вроде рук, если ей удалось удержать крошку. Затем блёстка устремилась к моему окну!
Я стояла, затаив дыхание и открыв окно как можно шире… Вот блёстка подлетела к жёлтой газовой трубе, вот уже совсем близко к моему карнизу…
— Любочка! Иди ешь! — донеслось из кухни.
— Иду, иду!
Я неохотно оторвалась от подоконника и пошла есть, машинально закрыв за собой дверь. Как же хорошо, что я это сделала!
После обеда мама ушла смотреть телевизор, а я отправилась к себе. Открыв дверь, я обнаружила, что прямо на полу моей комнаты сидит прекрасное создание лет пятнадцати с длинными русыми волосами и в светло-розовом платье с боковым разрезом!
— Ты… ты кто? — Я чуть не упала в обморок.
Девушка пискнула и стала стремительно уменьшаться в размерах, после чего превратилась… в ту самую розовую блёстку и забилась в угол!
С большим трудом мне удалось поймать её и убедить, что я ничего плохого не замышляю. После этого девушка тоненьким голоском сказала мне следующее:
— Меня зовут Эльза, мне пятнадцать лет, и я попала сюда из другой вселенной…
— Из другой вселенной?! — эхом отозвалась я.
— Ну да, — ответила Эльза таким тоном, словно перемещение по вселенным было самым обычным делом, нечто вроде поездки на машине. — Да, я из другой вселенной. В нашем мире путешествовать по вселенным разрешается с двадцати лет, но даже взрослые, попадая в новый мир, превращаются в маленьких существ, чтобы их не заметили. Я же попала в портал случайно, и теперь не знаю, как мне вернуться. — Эльза всхлипнула. — А возле портала летала эта круглая штука. — Девушка кивнула на оранжевый, почти сдувшийся шарик в её руках. — Я, когда уменьшилась, залетела в неё. С моего крыла нечаянно соскочила блёстка, закрыла дыру в этой штуке, и шарик не сдувался. А когда ты мне бросила вот это… — Эльза достала из кармана шоколадную крошку. — Я просто убрала свою блёстку и поймала крошку. Кстати, я не знаю, что с ней делать. — Девушка вопросительно посмотрела на меня.
— Кушать, — ответила я. — Я могу принести ещё печенья. Да ты садись на диван, что на полу сидеть-то?
— Я не знала, что на этом можно сидеть.
— Слушай, а у тебя есть какая-нибудь мечта? — спросила я, когда Эльза, наконец оторвалась от еды.
Моё впечатление оказалось ошибочным. Эльза повернулась ко мне с набитым ртом.
— Ишвыни, я шишас ым.
Я прыснула. Эльза засмеялась.
— Так какой у тебя там был вопрос? — через пять минут спросила она.
— Есть ли у тебя мечта, — ответила я.
— Мечта… Конечно, есть. Я мечтаю, чтобы все — и взрослые, и дети, — дружили между собой, в том числе и из разных вселенных. А лучше всего было бы, если бы все мы жили в одной вселенной. Не придётся превращаться в маленькое существо, ведь ты знаешь, что все добрые и никого бояться не надо.
— Понятно. А как ты думаешь, эта мечта осуществима?
— Конечно, осуществима. Нужно просто каждому начать с малого… с себя. Со всеми дружить, ко всем хорошо относиться, никого не обижать. А дальше, глядишь, и тебя все полюбят. Добро всегда возвращается.
— Следующие полчаса я отвечала на вопросы Эльзы «а это что?», «а это зачем?», «а с этим что делать?» и так далее. Меня это вовсе не тяготило. Эльза была очень приятным существом с мягким взглядом и добрым, милым голосом. После этого она улетела «дальше изучать эту вселенную», а я осталась волноваться за неё.
Мои волнения оправдались. Через несколько минут с улицы послышались шум и крики. Я подошла к окну и всё поняла: по асфальтовой дорожке у нашего дома бегали несколько хулиганов, гнавших Эльзу и швырявших в неё ветками, прелыми листьями и другим мусором. Перепуганная девушка то превращалась в блёстку, то пыталась убежать от них в человеческом облике… Не знаю, чем бы всё это кончилось, если бы на другой стороне улицы не появился полицейский. Он как раз оштрафовывал водителя за неправильную парковку. Сделав своё дело, полицейский громко засвистел и помчался к месту происшествия.
Пользуясь тем, что мама увлечена телепередачей, я быстро надела уличную футболку и шорты и помчалась вниз по лестнице.
— Та-а-ак, — пробормотал полицейский, устало обернувшись ко мне. — Может, хотя бы вы нам объясните, что здесь происходит?
— Если я расскажу правду, вы, не поверите, — тихо проговорила я.
— Почему же? Поверю. Только говори правду.
— Дело в том… Дело в том, что она, — я кивнула на Эльзу, — что она из другой вселенной. И превращается в розовую блёстку, чтобы её не заметили.
— Странное стечение обстоятельств. Я разбираюсь в порталах, могу вас отвезти. Вы из какой вселенной, девушка?
— Из ////12356566780987879962825908+565872348947814738917, — ответила Эльза.
— А почему ты сразу не превратилась в блёстку? Ускользнула бы от этих хулиганов.
— Я была напугана, а когда я напугана, я плохо рассуждаю.
…Уже два часа мы ехали в машине полицейского. За окном тянулась бескрайняя степь, вдалеке мутной дымкой виднелись леса, а Эльза в буквальном смысле прилипла к окну.
— Нам долго ещё ехать? — устало спросила я.
— Уже недолго, — улыбнулся полицейский. — О, а вот и портал! Как говорится, в нужное время в нужном месте! Портал здесь открывается ровно в полдень, то есть сейчас.
Мы вышли из машины в степь, на самой макушке неба сияло солнце. Пахло жарой, в воздухе витала пыль, жёлтые степные травы и лес неподалёку безмолвно просили дождя.
Портал был огромным жёлто-оранжевым овалом с нечёткими границами, окружёнными синим светом.
Эльза улыбнулась мне и подошла к порталу…
— Стой! — вдруг крикнула я, подбежала к Эльзе и схватила её за плечи. — Стой! Не уходи! Ты такая классная…
— Ну ты чего… Мы же с тобой совсем не знакомы… — ответила Эльза.
Мне почему-то хотелось плакать и не хотелось отпускать Эльзу. Казалось, вместе с ней из нашей вселенной уходит частичка добра, а их в современном мире не так уж и много…
Эльза прыгнула в самую середину жёлто-оранжевого портала, и зелёные языки пламени охватили её… Через секунду послышатся хлопок петарды, и портал исчез, породив лёгкий дымок. До меня донеслось потусторонне-тихо: «Пока-а-а-а-а-а-а-а-а…»
Полицейский усадил меня в свою машину, и мы поехали домой.

Яблоко из Ведьминого сада
Часть 1
Алиса сидела и смотрела в окно на мальчишек, идущих в школу. Она думала: «Эх, а когда-то я и сама шла с ними»…
— Эй, побежали, а то в школу опоздаем! — сказал Ник, брат Алисы.
— Подожди, Ник! У меня шнурок развязался!
— Ну, ты его сто лет завязывать будешь.
— Нет, не сто лет, представь себе! Уже завязала.
— Уже восемь — колокола бьют, побежали! — сказал Ник, обращаясь к сестре.
— Бегу, бегу, догоняй! — ответила Алиса, обгоняя брата.
И так, соревнуясь и поддразнивая друг друга, они добрались до школы.
Уроки кончились, Алиса и Ник пошли домой. Они шли мимо «Ведьминого дома» — так его называли дети — и Ник сказал:
— Спорим, ты не сможешь залезть в сад и достать оттуда яблоко!
— Ник, ты чего! Это же Ведьмин сад!
— Испугалась! Что, страшно без защиты в чужой сад лезть?
— Нет, не страшно!
— Трусиха, трусиха! — дразнился Ник.
— Ах так! — ответила Алиса и полезла через забор.
Ведьмин сад был местом довольно мрачным. Старый железный забор густо оплёл плющ. Трава была Алисе по пояс. Огромные деревья закрывали небо и создавали сумерки. Алиса шла по саду, ей было жутко. Она то и дело оглядывалась, а от любого шороха падала в траву. Она шла, ища глазами яблоню, но её нигде не было. Вдруг она увидела среди деревьев дом. Она подошла ближе. И вдруг из кустов выскочила собака и схватила Алису за джинсы.
— Ай! Выпусти меня! — закричала Алиса и со всей силы ударила собаку, но та не обратила на неё никакого внимания. Собака тащила Алису к дому, вырваться не было никакой возможности. Вскоре они уже стояли у порога Ведьминого дома.
Дверь открылась, и Алиса увидела ведьму. Она была одета в старое рваное платье, а на руке был браслет из чего-то белого.
— А-а, Сивый. Заходи.
Они зашли в дом. Место было жутковатое — к стенам были прибиты полки, а на них — банки с красной жидкостью. Ведьма схватила Алису за руку и втолкнула в маленькую комнатку. В ней было ещё больше бутылок и банок.
— Посмотрим, — сказала ведьма, — что я ещё не испытывала? А! Да! Вот это!
Она взяла банку с чем-то тёмно-синим и сунула в руки Алисе.
— Пей! — сказала она.
— А что это? Вы сначала скажите! — с вызовом сказала Алиса.
— Откуда я знаю! Подпись потерялась сто лет назад, — ответила ведьма. — Пей, а то не выпущу!
— А так что — выпустите?
— Да, выпущу, как только посмотрю, что это за зелье.
— Ладно, была не была! — сказала Алиса и выпила содержимое банки.
Зелье оказалось очень противным. А с Алисой происходило что-то странное: ноги и руки превращались в лапы, тело уменьшалось и обрастало шерстью.
— Котозелье! Я нашла его! — послышался как бы издалека голос ведьмы.
Часть 2
Нет, ну надо что-то делать, подумала кошка Алиса, отрываясь от воспоминаний. Нельзя же сидеть и грустить о том, что жизнь не удалась. Нужно попросить о помощи, но как?
Взгляд Алисы упал на карандашницу: она запрыгнула на стол и скинула её вниз. Затем кошка соскочила на пол и взяла карандаш в зубы. Писать она не могла, зато вполне могла выложить надпись. Например, «Алиса — это кошка». Она уже выложила «Алиса», но вдруг заметила, что у неё осталось только два карандаша. Тогда она выложила их в форме знака «=» и села рядом.
Прошёл час, и Алиса успела уснуть, когда вошёл Ник. Кошка сразу проснулась. Ник увидел надпись Алисы и спросил:
— Ты и есть моя сестра, которую я потерял, да?
— Мур-р, — ответила Алиса.
— Это значит да? — спросил Ник
Алиса сложила из карандашей «да».
— Понятно, — сказал Ник. — Тебя что, превратили?
— Мур-р, — сказала Алиса и выложила слово «ведьма».
— Из Ведьминого сада?
— Мур-р.
— Тогда жди здесь. Я за друзьями.
— Каков наш план? — спросила Катя, подруга Ника.
— Я не знаю, командует здесь Алиса, — ответил Ник.
— Алиса?! — разинув рты от удивления, спросили все.
— Да она же пропала полгода назад! — удивлённо сказал Саша.
— Она не пропала, она здесь, — сказал Ник, указывая на кошку.
— Ты что, с ума сошёл?! — уже начинал злиться Саша. — Это же просто кошка!
— Нет, не просто. Это Алиса, которую поймала ведьма и превратила в кошку.
И Ник рассказал друзьям обо всём, что узнал.
— Ну хорошо, про кошку разобрались, — сказала Катя. — Но как она общается с тобой?
— Очень просто. Алиса, покажи, пожалуйста.
Алиса мяукнула и с помощью карандашей выложила надпись: «вот так».
— Классно! — сказал Саша. — Но всё-таки, что будем делать?
Ждать пришлось долго, но за четыре раза Алиса собрала фразу: мы заберёмся в Ведьмин дом, заберём противоядие, вернёмся домой и превратим меня обратно.
— Но ведь это очень опасно! — воскликнула Полина. — Это всё равно что прийти и сдаться ей!
Алиса выложила: нет, у меня есть план.
— Какой же? — спросил Саша.
Алиса торопливо выкладывала: мы залезем в сад. Я пойду первой и задержу Сивого — собаку ведьмы, а вы — оббегите дом и залезьте на старую грушу позади дома, я буду прямо за вами. Потом я прыгну на подоконник и открою окно, вы залезете внутрь, а дальше будем искать противоядие. Если кто-нибудь заметит ведьму — предупредите остальных.
— Хорошо, — сказал Ник, — только мне кажется, что у каждого из нас должен быть перочинный нож.
— У нас есть! — хором ответили Катя, Саша и Полина.
— Нам же их в летнем лагере каждый год дарят, — сказала Катя.
— Ну, тогда пошли! — сказал Ник.
Вскоре они были у Ведьминого сада.
— Так, лезем по одному, сначала девочки, — сказал Ник.
Алиса, Катя и Полина перелезли через забор. За ними — Саша и Ник.
Алиса побежала по саду, ребята, хотя им было жутко, пошли за ней. Они подошли к кустам, и Алиса выбежала первой. Сивый бросился на неё, но она ловко прыгнула Сивому на спину и стала царапать его когтями. Сивый заскулил и попытался сбросить Алису, но она держалась крепко.
Ребята в это время уже залезли на дерево, а Алиса вскоре к ним присоединилась. Стараясь не издавать ни звука, ребята доползли до окна. Алиса прыгнула на подоконник и попыталась открыть окно. Заперто. Но тут Саша поддел ножом замок, и ставни распахнулись. Все забрались внутрь.
Они оказались в комнате, уставленной шкафами, среди которых была почти незаметна дубовая дверь. Полина осталась обыскивать шкафы, а остальные подошли к двери.
— Если увидите ведьму, три свистка — это предупреждение, — сказал Ник, вручая всем по свистку.
— Хорошо, поняла, — сказала Полина.
Выйдя из комнаты, они оказались в длинном тёмном коридоре.
— Мяу! — сказала Алиса, пытаясь предупредить друзей об опасности: плитка на полу была сделана как шифр — если по ней неправильно пройти, она обвалится.
— Свет! — сказал Саша.
— И что нам это даст? — спросила Катя — Мы же не знаем, какой это шифр.
— Знаем, — сказал Саша, — это греческий язык. Я занимался. Повторяйте за мной! — сказал он и начал прыгать и произносить вслух слова шифра:
Путь к первой двери очень прост!
Вот мы уже на месте!
— Ну, чего стоите? За мной! — сказал Саша.
Все прошли. Они открыли дверь: эта комната была на удивление светлая, со столом посередине.
— Ничего интересного, — сказал Ник.
Они прошли дальше, на этот раз не по шифру, а через сквозной проход между комнатами. Во второй комнате тоже ничего не оказалось. Они прошли в третью. Эта комната была уставлена шкафами, так же, как и та, в которую они залезли сначала. Но вот Катя сказала:
— Смотрите! Это наше.
На банке было написано: Антикотозелье.
— Давайте миску и уходим отсюда! — сказал Ник
— Вот! — Катя вытащила из груды хлама в углу старую миску.
Но тут раздалось три свистка, а вскоре, распахивая сквозные двери, прибежала Полина.
Ник быстро налил противоядие в миску. Алиса выпила его и сказала:
— Бежим! Там дерево!
Саша открыл и это окно ножом, и они спрыгнули на толстую ветку яблони. Спустившись вниз, они во весь опор побежали через сад. Даже Сивый не смог их догнать. Только около своего дома они остановились отдышаться.
— Ну, кажется, убежали, — сказал Ник.
Потом он увидел, что Алиса протягивает ему яблоко.
— Это что? — спросил он.
— Яблоко из сада, — ответила Алиса
— Да это же антоновка! Они кислющие!
— И ради какой-то антоновки я перетерпела столько бед! Мог бы в нашем саду насобирать.
Все рассмеялись и разошлись по домам.

