Июль-август 2022
Михаил Турбин. Роман «Выше ноги от земли»
Бабушка, расскажи мне сказку
Море без людей
С земного на инопланетный
Технология
17:47
AB OVO
Audi, cœlum
Айфон
Банкротство
Белый экран
Беседка
В суть вещей
В филармонию
Верочка
Веточка крушицы
Время травы
Все включено
Дверь
Дед Иван
День знаний
Зачем?
Зеркало правды
И воздастся вам
Избавление Айшат
Как испортить Новый год, или Чудеса случаются
Козлиная правда
Корабль
Красные носки
Крылья
Кузьма Яковлевич
Куриный бок
Мальвина
Митенька
Море волнуется
Морская фигура, замри
Он был зачат в Великий пост
Перевал
По вере вашей
Последнее чудо
Призрак
Просто посидим
Радуйся, Николае!
Русалочка
Схватка
Таба
Упырь
Ферромагнитные наночастицы
Фотография
Ханука
Хроника одного убийства
Человек на Луне
Черная вода
Чужестранка
Впечатлительный
Мальчик из рассола

Редактор Кира Фролова: «Современный литературный мир не позволяет сидеть в замке из слоновой кости и не интересоваться читателями»
Фантастика и фэнтези становятся все популярнее: появляются новые имена, благодаря соцсетям вокруг авторских вселенных формируются фанклубы, меняется отношение к книгам, которые раньше считались подростковыми. Почему это происходит, что должен делать автор, чтобы «раскрутить» свой текст, и какие сюжеты ждут издатели, рассказала ведущий редактор группы российской фантастики издательства «Эксмо» Кира Фролова.
Почему фантастика так популярна?
Думаю, что этот вопрос надо задавать читателям. Я издаю фантастику, фэнтези, магический реализм, мистику, иногда хоррор. Но, если честно, я всегда была целевой аудиторией совершенно другой литературы: современный роман, концептуализм Сорокина и так далее. Хотя… и там тоже есть элементы магического реализма. Границы очень зыбкие, и ты уже не можешь сказать, что конкретно ты читаешь, а что нет. Фэнтези для меня — жанр, где нет границ, он настолько всеобъемлющ, что провести черту нельзя. Я люблю редакцию Елены Шубиной, но даже там часто встречается «магриал», например у того же Сальникова. А ведь он или другие авторы, издающиеся у Шубиной, не считают себя фантастами.
Мне очень нравится, что моя ниша очень гибкая и популярна у разной аудитории. Почему популярна? Книги могут отвлечь от реальности, а фантастика и фэнтези предлагают огромный выбор мест, в которые ты можешь отправиться, а также огромный выбор эмоций, которые читатель может испытать. Но, несмотря на сказочные или фантастические элементы, это серьезные проработанные истории. Например книга «Отсутствие Анны» — это современный психологический роман о потере в фантастической «обертке». Мне кажется, фантастика может закрыть разные потребности и не ограничивает ни издателя, ни читателя.
Тем не менее, фантастика считается низким жанром. Фантасты уже даже не надеются на Нобелевскую премию по литературе, взрослые поклонники направления предпочитают в этом не признаваться…
Мне кажется, такая стигматизация абсолютно неоправданна, особенно если говорить об отечественных авторах, на которых многие смотрят свысока. Каждый день я читаю и издаю совершенно разные тексты. Среди них есть и истории, которые помогут на два дня отвлечься, и очень серьезные романы, например, есть книга, которая для меня стала самым главным антивоенным манифестом. Фантастика — это всего лишь прием, а крутые тексты — независимо от приемов, они и будут крутыми. Так что пренебрежение фантастикой — это нечестно и по отношению к авторам, и по отношению к читателям.
Отношение к российским авторам меняется со временем?
Пока я работаю с возражением: ты приходишь уже в воинственную среду, где думают, что твои тексты хуже, ниже, глупее, чем у остальных. А почему? Вот ты находишь текст, издаешь его, знакомишь с ним читателей, и те понимают, что текст не хуже, а в чем-то даже лучше всего того, что они знали до этого момента. Мне это даже интересно.
Когда я пришла в издательство, у нас было направление отечественной молодежной литературы, но много времени ему не уделяли. Я начала с нуля. Когда открыла самотек, поняла, что там очень крутые тексты. Да, с ними нужно работать, нужно рассказывать о них аудитории… Но современный литературный мир не позволяет тебе сидеть в замке из слоновой кости и что-то там выпускать, не интересуясь читателями. Это сейчас так не работает. Нужно быть открытым, даже если ты косячишь. Если ты работаешь, если делаешь свое дело, учишься, взаимодействуешь с читателями, что-то обязательно получится. Я вижу, что люди это ценят, авторы это ценят. Мне пишут что-то по поводу опечаток, а я всегда благодарю. Я делаю, что могу, если вы помогаете мне становиться лучше, я становлюсь лучше. Это всегда взаимообмен: я отдаю энергию, но и получаю ее. Не знаю, правильно ли это или нет, насколько меня хватит, но это работает, и это новый формат взаимодействия с аудиторией.
Фантастика и фэнтези предлагают огромный выбор мест, в которые ты можешь отправиться, и огромный выбор эмоций, которые читатель может испытать
Насколько актуальна такая работа с аудиторией для автора? Что он должен делать для продвижения своей книги?
Автор может делать все, что угодно, может не делать ничего, весь вопрос в продуктивности. Об этом надо постоянно себя спрашивать. Чтобы о тебе услышали, а твою книгу прочли, нужно сформировать у аудитории свое авторское лицо. Если человек готов делать боксы, создавать вместе с нами мерч — супер, давайте работать! Я своих авторов заряжаю на продуктивное взаимодействие с читателями, потому что это приносит плоды.
У тех писателей, которые работают над книгой вместе с издательством, успех гораздо больший, чем у людей, которые просто отдают книгу и исчезают. Иногда авторы говорят: «Я должен только писать». Никто не спорит, я тоже не должна заниматься продвижением. Но если ты любишь свое дело, ты автоматически подключаешься к процессу, не потому что надо, а потому что хочется. И издательство всегда подхватывает эти инициативы, по крайней мере в моем лице и в лице других коллег из отдела фантастики. Очень важно делать все, что вы можете и что вам органично. Если вам нравится делать боксы — отлично, общаться с блогерами — без проблем, самому проводить эфиры — клево! Самое главное, чтобы это не был «ноунейм», а было свое лицо. Все, конечно, бывает, но мой совет — формировать свой бренд.
Можно ли к вам попасть «с улицы»?
Я ищу авторов везде. Сейчас уже есть какая-то сеть, люди советуют новых писателей, но начиналось все с самотека. Например, топовый проект «Мары и Морока», у которого уже больше 300 тысяч тиража, начался с письма из самотека: «Здравствуйте, меня зовут Влада, прикладываю рукопись и ссылки на соцсети». Я посмотрела, почитала текст, поставила тираж в 3 000, результат вы уже знаете.
Насколько соцсети помогают обратить внимание на автора?
Это важное и приятное дополнение, но этого недостаточно для того, чтобы я взяла рукопись в работу. Если странички у человека развиты хорошо, а он пишет то, что мне не подходит, я не смогу его взять. У меня есть пример, когда у автора 300 подписчиков в Instagram, а тиражи хорошо продаются.
Хотя, не буду лукавить, если я колеблюсь: брать или не брать — я смотрю социальные сети. Для меня это важно еще и потому, что я очень плотно общаюсь с авторами, а с токсичными людьми работать сложно. Возможно, это неправильно, если текст шикарный, но я настраиваюсь на сохранение своей личной энергии. Более того, я должна понимать, что человек не призывает к чему-то радикальному, не пропагандирует насилие, например. Конечно, каждый имеет право на свое мнение, и не мое дело указывать ему, как думать. Но, увы, репутация автора может наложить тень и на редактора. Я не знаю, правильно ли это и кто судья.
А были ли у авторов книги, которые поменяли ваши взгляды на ту или иную проблему?
Я человек довольно широких взглядов, так что перемен не было. Но некоторые книги действительно раскрыли те или иные темы, показали масштаб проблемы. Во всех текстах, с которыми я работаю, есть гуманистический посыл, даже самое темное фэнтези «Сиротки» не настроено на разрушение. Для меня это самая антивоенная книга. С каждой книгой я получаю что-то новое и расту вместе с ними.

Фэнтези выросло из европейской мифологии. Со времен Толкина многие авторы, в том числе и российские, ориентируются на романо-германский фольклор, некоторые развивают традицию славянского фэнтези. А есть ли у вас книги, основанные на мифологии других народов?
Их мало, но я очень их жду. Сейчас у меня в почте лежит текст по мотивам татарских сказок. Я его еще не видела, но мне очень интересно. Сейчас издаются книги по сюжетам из корейской мифологии. Причем авторы очень погружены в культуру: Лия Арден (настоящее имя Влада Кит) живет в Южной Корее, а Ксюша Хан наполовину кореянка, хорошо знающая фольклор. В книге Ксюши, например, огромное количество сносок, глоссарий, разработанный драконий язык.
Конечно, еще очень важно, как это сделано: если автор не просто напихает национальных духов в свою книжку, а проработает историю, мы готовы с ней работать. Я уже даже представляю обложки!
Какие тенденции можно отметить в современной российской фантастике?
Идет сложный трансформационный период. Я пока не понимаю, на какие рынки мы ориентируемся и какой будет культурная коммуникация. По ощущениям — движемся в сторону Китая и Ирана. Пока в моем портфеле окончания уже начатых циклов и условный ретеллинг мифа об Аиде и Персефоне. Еще я очень жду книгу «Самое красное яблоко» от Джезебел Морган — ретеллинг «Белоснежки», где главным героем будет мальчик. Очень люблю, когда меняется угол зрения.
А стоит ли авторам ориентироваться на рынки при выборе темы для книги? Будут ли редакторы регулировать поток текстов таким образом, чтобы продать их на Восток, в тот же Иран?
Пока не могу сказать. Может быть, какая-то тенденция и сформируется, но мы будем стараться публиковать то, что нравится, и не навязывать что-то авторам. Я надеюсь, что мы сможем выбирать культурное направление и смотреть на Восток, только если авторам захочется, при этом не будучи отрезанными от Европы.

Тезаурус эмоций: руководство для писателей и сценаристов
В издательстве «Альпина нон-фикшн» вышла книга «Тезаурус эмоций», в которой писатели Анджела Акерман и Бекка Пульизи собрали 130 наиболее частых эмоций и подробно описали каждую из них. Каждой эмоции дано определение, соответствующие сигналы тела и внутренние импульсы, реакции, признаки подавления и перспектива — во что превратится эмоция, если усилится или ослабнет. Это необходимое пособие для всех, кто работает с персонажами и хочет научиться писать интересные диалоги, придумывать напряженные конфликты и создавать объёмные характеры.
Мы представляем фрагмент этой книги, рассказывающий о том, с чего начать в создании эмоций своего героя.
Изучение персонажа:
что нужно знать, чтобы описать подлинную эмоцию
В реальном мире не существует двух одинаковых людей. Это означает, что каждый из нас выражает эмоции по-своему. Одни люди считают совершенно естественным делиться своими чувствами с окружающими, не испытывая почти или совсем никакого неудобства от того, что их эмоции видны всем. Другие приходят в ужас от одной только мысли раскрыть свои чувства и избегают ситуаций, чреватых опасностью сделать человека уязвимым. Большинство находится где-то между этими крайностями. Сам спектр открытости переживаний называется эмоциональным диапазоном и влияет не только на то, какие чувства демонстрирует человек, но и на то, когда и как они проявляются. Каждый из нас относится к определенной области спектра, но ситуации, когда эмоции усиливаются, могут сдвинуть нас в ту или иную сторону.
Интересно, что, хотя все мы уникальны в степени открытости, источник этой индивидуальности у всех нас общий — это наше коллективное прошлое. Воспитание, образование, жизненный опыт, убеждения и черты личности — все они определяют, кто мы и как именно показываем миру свое эмоциональное «я».
Одной из важнейших задач писателя является создание правдоподобных персонажей, поэтому мы стремимся к этой индивидуальности, решая вопрос о том, как они будут себя проявлять. Самое лучшее, что можно сделать, — не пожалев времени, покопаться в предыстории каждого героя и разы- скать детали, подсказывающие нам, как выстраивать его реакции.
Разработка предыстории персонажей часто не одобряется, поскольку некоторые писатели вываливают эту информацию на сцену в качестве вступления, полагая, что читатели должны знать каждую деталь и в полной мере понимать, какие силы влияют на жизнь персонажа. В действительности предыстория нужна больше писателю, чем читателю. Как GPS помогает ориентироваться в незнакомом городе, так и понимание ключевых деталей предыдущей жизни героя упрощает описание его действий и решений так, чтобы они соответствовали его личности. Это не только вовлекает читателя в активную разработку образа, но и делает ближе, а также демонстрирует эмоции героя в конкретных поступках и нервно-психических процессах.
То, в какой мере потребуется прорабатывать предысторию каждого персонажа, зависит от его роли в повествовании, но поскольку каждый человек — продукт прошлого, есть две общие для всех области, заслуживающие изучения: важные люди в жизни вашего героя и опыт, наложивший на него свой отпечаток.
Поскольку мы социальные существа, то, прокладывая себе путь в жизни, склонны оглядываться на других, особенно самых близких. Благодаря этому формируются наши убеждения и ценности и мы учимся, как себя вести и что чувствовать. К сожалению, люди, имеющие к нам максимальный доступ и оказывающие наибольшее влияние, не всегда бывают самыми заботливыми или социализированными, вследствие чего не все наши уроки в жизни оказываются позитивными. Это важно помнить, размышляя о том, что именно в прошлом ваших персонажей служило им примером или влияло на них. Спросите себя: «Какие люди сформировали взгляды моего персонажа, определили его эмоции и какие установки и формы поведения ему передали — конструктивные или неконструктивные?»
Например, героиня, которую в детстве бил один из родителей всякий раз, когда она плакала, усваивает негласный урок: лучше прятать эмоции, чем открыто делиться ими. После подобных многократных случаев обесценивания героиня, скорее всего, станет уклончивой или даже лживой в том, чтобы показать свои чувства. Она уверена: любая откровенность приведет к осмеянию и осуждению.
Аналогично люди, оказывающие положительное влияние на вашего персонажа, передадут ему здоровое отношение к эмоциям. Герой, старший брат которого говорит о своих чувствах, используя их, чтобы влиять на других в позитив- ном ключе, поймет, что эмоции очень действенны и могут быть инструментом перемен. Если наш персонаж берет при- мер со своего старшего брата, то, скорее всего, он усвоит то же отношение и будет вести себя так же, понимая, что другие люди устанавливают с ним более прочные связи при проявлении им своих чувств.
Как важные люди в жизни вашего персонажа формируют его способ выражения эмоций, так и определенный опыт может играть направляющую роль. Представьте стихийное бедствие, например наводнение, уничтожающее почти весь район, где живет персонаж. В конечном счете он совершенно раздавлен гибелью своего дома и чувствует бессилие, видя горе соседей, переживших такую же утрату. Когда появляется команда телевизионщиков, он, не в силах совладать со своими чувствами, перед камерой теряет контроль над собой, в результате чего жители уцелевшей части города начинают оказывать массовую помощь пострадавшим. Люди приносят пищу, предлагают кров, помогают разбирать завалы и делятся всем необходимым. Эта волна сострадания и эмпатии не только ослабляет отчаяние персонажа, но и внушает уверенность, что, делясь своими эмоциями, получишь самое необходимое. Он приобретает этот опыт и, по всей вероятности, будет и в дальнейшем открыто проявлять свои чувства.
Помимо этих двух важных аспектов предыстории, заслуживают внимания и другие области, помогающие сфокусироваться на том, как показать эмоции каждого действующего лица.
Базовые реакции
Чтобы понять, как персонаж может реагировать на важные моменты конфликта и поворотные точки сюжета, мы должны задать базу — то, как он ведет себя в повседневных ситуациях. Возьмем типичный сценарий — «длинная очередь в кассу магазина». Перед вашим персонажем шесть человек, в том числе тот, кого сейчас обслуживают, причем он не только набрал больше разрешенных пятнадцати товаров, но и без конца спрашивает, что сколько стоит. Как отреагирует ваш персонаж? Будет спокойно ждать, ненавидя задержку, но понимая, что ругаться бесполезно? Или, потоптавшись минуту в бессильной злости, швырнет на пол корзину и заорет, чтобы открыли другие кассы?
В первом случае эмоциональная база персонажа очевидна: потребуется намного больше, чем несколько минут, чтобы он завелся. Если же реакцией по умолчанию является второе, то мы знаем: едва жизнь начнет подбрасывать подлянки, пушка его ярости выстрелит.
Формирование этой базы поможет сохранять последовательность на протяжении всего повествования. Если вы захотите сдвинуть персонажа ближе к одному из полюсов его эмоционального диапазона, то будете знать, насколько сильно следует повернуть рукоятку. Так что представьте несколько сценариев, которые могли бы быть частью повседневного существования героя: не заводится машина, он опоздал к назначенному времени, проснулся больным или в последнюю минуту изменились планы. Очень полезно представить героев в подобных ситуациях и почувствовать, как они будут реагировать.
Демонстративный или сдержанный
Еще один аспект, который следует рассмотреть, определяя эмоциональный диапазон своего персонажа, — это естественный для него уровень экспрессивности. Одни люди более сдержанны, другие демонстративны, и это предпочтение формирует используемые ими типы выражения эмоций.
Представьте себе героиню, узнавшую, что ее взрослые дети, живущие за границей, приедут домой на Рождество. Если персонаж сдержан, он присядет, чтобы справиться со счастливой неожиданностью, и засияет широкой улыбкой. Ее голос может зазвенеть, или же она потянется к мужу и быстро сожмет его ладонь. Героиня демонстративного склада отреагирует живее: вскочит, чтобы заключить мужа в объятия, или станет бурно жестикулировать, тараторя все, что приходит ей в голову в связи с радостным известием. Понимание склонностей вашего персонажа поможет вам соответствующим образом выстроить его язык тела и голосовые сигналы.
Зоны комфорта
Не все чувствуют себя комфортно, делясь эмоциями в любой ситуации. Экспрессивность вашего персонажа, скорее всего, будет разной в зависимости от того, где он находится и с кем. Наедине с собой люди обычно не сдерживаются, но, если вокруг другие, может включиться более высокая степень самоконтроля. Если человек чувствует себя объектом всеобщего внимания или боится, что его осуждают, то может обуздать свои эмоции. Однако, если ваш персонаж окружен людьми, которым доверяет или которые испытывают такие же эмоции, ему будет легче выразить свои чувства. Как правило, если персонаж считает, что можно без опаски проявить то, что он ощущает, он так и поступает; в противном случае — нет. Стройте сцены, имея это в виду.
Помните, что зона комфорта персонажа распространяется и на диалог. Одни люди предпочитают больше сообщать о своих переживаниях, другие не откровенничают. Аналогично вашему герою будет проще открыться определенным людям, поэтому пусть характер их отношений диктует, насколько откровенен будет каждый разговор. Идеи о том, как передать скрытые эмоции, смотрите в разделе о подтексте.
Стимул и реакция
Не все персонажи имеют одинаковые интересы, страхи или убеждения, поэтому их чувства в сценарии будут различаться, пробуждая разные эмоции. Представьте, что по столу, за которым обедают три ваши героини, бежит паук. Карла первой замечает, как он пробирается через завалы пустых оберток и пакетиков с солью. Она сдавленно вскрикивает и отшатывается, так что ножки ее стула скрипят по полу.
Дайана, заметившая паука второй, откидывается на спинку стула и скрещивает руки на груди. Наконец, многоногую тварь видит Тереза. Она улыбается, подцепляет паука соломинкой и запускает его подальше от компании.
Один и тот же момент, один и тот же стимул и… три разные реакции. Такова природа эмоций. Отклик Карлы про- диктован страхом. Дайана проявляет осторожность: понимая, что паук не опасен, тем не менее защищает свое личное пространство — очевидно, она не хочет, чтобы насекомое приближалось к ней. Тереза совершенно не обеспокоена и хочет лишь отправить паука по его делам, пока кто-то из ее спутниц (скорее всего, Карла) не потребовал его изничтожить.
Что касается разных обстоятельств, мы не можем предполагать, что все персонажи будут одинаково на них реагировать или хотя бы чувствовать одно и то же. Жизненный опыт и личность в конечном счете определяют то, как ваш персонаж откликается на каждую конкретную ситуацию. Картина может осложняться, если участники события рассматривают ситуацию каждый со своей точки зрения, но эта рассогласованность может обернуться преимуществом для писателя, стать еще одним отличным способом отразить оригинальность поведения, управляемого эмоциями.
Эмоциональная чувствительность и эмоциональная нестабильность
Уникальность эмоционального диапазона персонажа окончательно определяет понимание того, какого рода чувствительность и неуверенность в нем таится. Каждый персонаж имеет болевые точки — эмоции, которых избегает, поскольку они не- комфортны или вызывают чувство незащищенности. Всякий раз, как одна из этих эмоций вступает в дело, ваш персонаж будет чувствовать себя загнанным в угол, что вызовет инстинктивную защитную реакцию «бей, беги или замри».
Эти мощные, но непостоянные реакции — прекрасная возможность показать глубинные слои характера героя и дать читателям подсказку о его эмоциональной ране, то есть болезненном событии, которое ваш герой перенес, но через которое так и не перешагнул. Как якорь в неспокойных водах жизни, эта старая травма создает эмоциональное трение и мешает герою чувствовать всю полноту счастья и успеха. Если вы описываете историю о том, как персонаж менялся, то эмоциональная рана может пустить жизнь вашей героини под откос. Ее необходимо изучить и преодолеть, чтобы героиня могла вырасти и превратиться в более сильную личность, способную справиться с препятствиями, стоящими между ней и целью всего повествования.
Чтобы проиллюстрировать силу влияния эмоциональной чувствительности и показать, как ее можно использовать, рассмотрим следующий пример.
После церемонии все разбрелись, и сад наполнился голосами. Линда вдохнула аромат магнолии из своего букета и выдохнула, избавляясь от последней дрожи. Свадьба прошла идеально: ветер вел себя прилично, всем гостям хватило стульев и ни одна из подружек невесты не споткнулась и не запуталась в платье во время шествия по травяной дорожке. Наконец-то можно расслабиться.
Сара, невеста, стояла посреди лужайки, разговаривая с несколькими гостями. Солнце сияло на ее щеках и играло в россыпи хрустальных бусин на ее платье и фате — действительно, красивая невеста. После испытаний, через которые пришлось пройти ее подруге в последние годы, — смерть матери, череда выкидышей — Сара заслужила этот идеальный день рядом с Томом.
Линда навестила фотографов, расположившихся у старого дуба, и велела им приготовиться. Свидетельница со стороны невесты, она должна была следить, чтобы все шло по плану, и направилась к невесте.
Она уже почти дошла до Сары, когда та бросилась к пожилой женщине в подобающем ее годам пурпурном платье и заключила ее в объятия:
— Бабуля, ты все-таки приехала!
Бабуля?! Линда резко остановилась.
— Глупышка! Задержка рейса не помешала бы мне увидеть тебя в такой важный день. — Она отодвинулась и потрепала Сару за щеку: — Какая красавица!
Сара взяла морщинистые руки бабушки в свои:
— Надеюсь, ты знаешь, что это для меня значит, твое присутствие здесь. Ты всегда обо мне заботилась и…
— Я люблю тебя, детка. И всегда буду любить. За твою мать и за себя.
Глаза Линды наполнились горячими слезами, а грудь, наоборот, сдавил ледяной груз. Этот момент, прекрасный момент, убивал ее.
— Ну, бабуля, погоди! Я разыщу свою свидетельницу, хочу вас познакомить. Она мне как сестра, и только благодаря ей я еще в здравом рассудке.
Линда бросилась за спины гостей. Сквозь шум разговора послышался голос Сары, звавшей ее по имени, и Линда ускорила шаг, направляясь к французскому окну, чтобы скрыться в доме. Свет был слишком ярким, в розовом саду чересчур сладко пахло. Она задыхалась. Но не могла сказать своей лучшей подруге, что встреча с ее бабушкой — самое мучительное для Линды, что можно было бы представить.
Из этого примера очевидно, что в прошлом Линды произошло какое-то травматичное событие с участием ее бабушки. Что бы это ни было, темное пятно настолько велико, что Линде невыносимо видеть, как ее лучшая подруга наслаждается моментом любви и поддержки со своей бабулей, поэтому она убегает.
Эта ситуация не только проливает свет на эмоциональную чувствительность Линды, но и приоткрывает окно в ее прошлое — захватывающе и оригинально. Теперь читатели захотят узнать больше и продолжат читать в надежде выяснить, что же случилось. Кроме того, они начинают сопереживать Линде, чувствуя боль, когда ей больно, и желают ей найти счастье, чтобы она могла освободиться от тяжелого прошлого.
Очертив эмоциональную чувствительность персонажа, вы можете использовать ее для написания сцен, вызывающих сильные чувства. Это легко сделать через обстановку. Включение в нее триггеров (как, например, внезапное появление бабушки невесты), чтобы пробудить эти эмоциональные нестабильности или затронуть оставленную прошлым рану, позволяет вам раскрыть чувства POV-персонажа. Это также помогает читателям понять, что именно вызывает обостренную реакцию.

Что почитать летом: книги для отпуска
В летнем номере «Пашни» мы собрали несколько книжных новинок разных издательств, которые приятно и интересно почитать в отпуске или путешествии.
Летнее чтиво
Издательство «Манн, Иванов и Фербер»

Каждый год дети семьи Левин с нетерпением ждали возможности провести лето у бабушки в Нантакете. Но в 1969 году вся жизнь, кажется, переворачивается с ног на голову. Старшая сестра — Блэр — променяла карьеру на замужество и застряла в Бостоне в ожидании двойни. Средняя сестра — Кирби — захвачена протестными настроениями и новой работой на соседнем острове. Единственный сын — Тигр — призван пехотинцем во Вьетнам. А тринадцатилетняя Джесси, оставшаяся в опустевшем доме с встревоженной матерью, делает первые шаги навстречу женственности, любви и перипетиям взросления. Пока герои поглощены собственными тайнами и проблемами, меняется общество, меняется все вокруг и каждый внутри себя.
История понравится поклонникам книг Фэнни Флэгг, Делии Оуэнс, Кристин Ханны.
Тиа Уильямс . Семь дней в июне
Издательство «Эксмо»
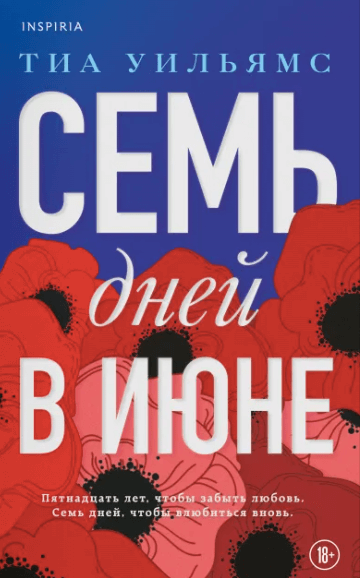
«Семь дней в июне» — это история первой любви, которая понравится любителям фильмов «Один день» и «Дневник памяти». Пятнадцать лет назад двое подростков понравились друг другу тем, что не были похожи на других. Однако редко когда детская любовь вырастает во что-то большее. Повзрослевшие Ева и Шейн оба стали писателями: он пишет серьезную прозу, она — эротические романы. Они не виделись много лет и случайно встретились на литературном вечере. Как оказалось, первая любовь может все изменить. Эта книга стала бестселлером New York Times и лучшей книгой по версии ряда изданий, в том числе Harper’s Bazaar и The Washington Post.
Бергсвейн Биргиссон. Ответ на письмо Хельги
Издательство «Эксмо»
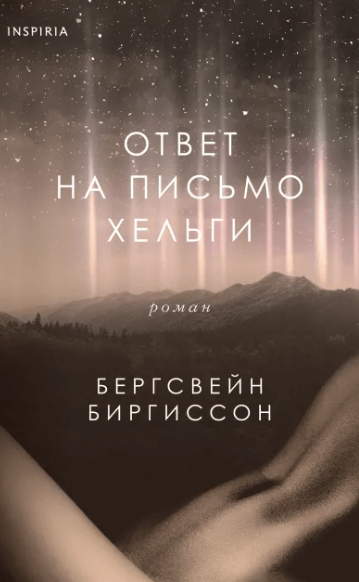
Бьяртни Гистласон, смотритель общины и хозяин одной из лучших исландских ферм, долгое время хранил письмо от своей возлюбленной Хельги, с которой его связывала запретная и страстная любовь. Он не откликнулся на ее зов и не смог последовать за ней в город и новую жизнь, и годы спустя решается наконец объяснить, почему, и пишет ответ на письмо Хельги. Исповедь Бьяртни полна любви к родному краю, животным на ферме, полной жизни и цветения Хельге, а также тоски по ее физическому присутствию и той возможной жизни, от которой он был вынужден отказаться.
Бергсвейн Биргиссон — один из самых известных исландских писателей, доктор скандинавской филологии и исследователь в области фольклора. Его книга опирается на словесную культуру и традиции Исландии. Это поэтичный и медитативный роман о природе и взаимоотношениях.
Момент творчества
Дина Беленко. Карманный генератор идей для фотографов: 52 вдохновляющих задания
Издательство «Бомбора»

Кажется, что летом мы нажимаем на кнопку фотоаппарата или экран телефона гораздо чаще — закаты и рассветы, море и горы, встречи и поездки. Но как хочется иметь фотографии, отличные от тысяч других подобных. В этом поможет профессиональный фотограф Дина Беленко, которая уверена, что хорошо сфотографировать можно что угодно. Автор предлагает выполнить 52 творческих задания, которые помогут найти свой стиль и поэкспериментировать. Карманный генератор можно использовать по-разному: устроить челлендж и выполнять по одному заданию в неделю, превратить страницы книги в игру или в карточную колоду. Можно просто обращаться к книге, когда не хватает вдохновения и идей. В книге задания четырех типов сложности: от фотографий отдельных предметов (весь реквизит легко можно найти дома или на улице) до сложных концепций. Книга поможет отточить глаз и не пропускать интересные сюжеты и необычные ракурсы.
Издательство «Манн, Иванов и Фербер»

Это не первая книга художницы и автора пособий по рисованию Джин Хэйнс, которую издает МИФ. Однако именно эта новинка предназначена не только для художников, но и для тех, кто никогда не брал в руки кисти, но хочет попробовать отвлечься от ежедневного стресса с помощью красок. Вместе с мастером мы будем играть с цветом, поднимать настроение и менять свою жизнь в лучшую сторону. В картинах Джин Хэйнс «Запад встречается с Востоком» — она объединяет черты живописи Китая, Индии, Пакистана, использует свободную технику без предварительного рисунка. Занятия в книге помогут найти внутреннюю опору через цвет. Когда еще наслаждаться яркими красками, как ни летом.
Издательство «Бомбора»
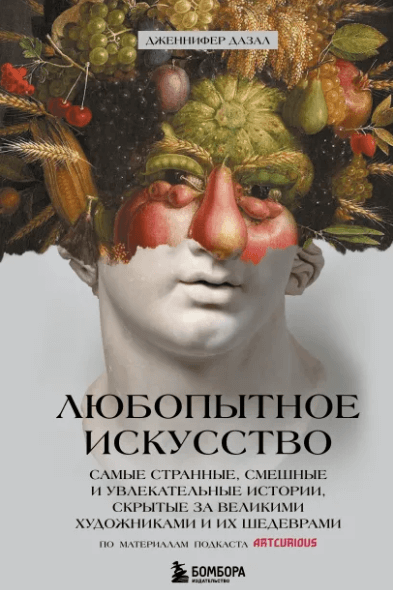
В книге искусствоведа Дженнифер Дазал собраны двенадцать увлекательных рассказов из мира искусства. Смешные, удивительные истории показывает жизнь знаменитых художников, и их шедевры раскрываются совсем с другой стороны. Действительно ли Ван Гог покончил жизнь самоубийством? Сколько раз похищали и подделывали «Мона Лизу»?
Как женщины-спиритуалистки изобрели современное искусство? И чем связаны американские секретные службы и экспрессионисты? История искусства в форме развлекательных и веселых рассказов — отличный выбор для летнего чтения, особенно в путешествии по мировым музеям.
Время для саморазвития
Издательство «Манн, Иванов и Фербер»

Летом здорово заниматься спортом на воздухе, и бег — в этом случае самый демократичный и очевидный выбор, доступный каждому. Книга Джека Дэниелса стала современной классикой среди спортсменов как на Западе, так и в России. В основе — исследования результатов лучших бегунов мира, данные научных лабораторий и 55-летний тренерский опыт автора. Книга освещает множество вопросов: базовые принципы тренировки, физиология бега, способы измерения спортивной формы и интенсивности тренировок и тд. В ней собраны подробные программы подготовки для дистанций от 800 метров до марафона, адаптированные для бегунов разных уровней.
Издательство «Манн, Иванов и Фербер»
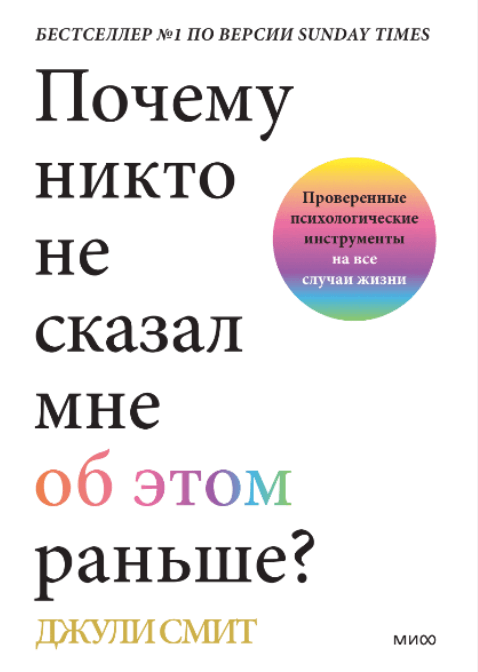
В книге собраны простые, но полезные практические советы от профессионального клинического психолога Джули Смит, которые помогут справиться с тревогой и стрессом. Психологические техники помогут поддержать себя в то время, когда нет возможности обратиться к психологу. Материал разбит на короткие главы по темам, в которых просто ориентироваться. Советы помогут психологической устойчивости и помогут почувствовать контроль под своей жизнью. Книга переведена на 20 языков.
Ближе к природе
Карл Сафина. Глазами альбатроса
Издательство «Альпина»

Эта книга украсит любое морское путешествие, ведь она рассказывает об одной из самых удивительных морских птиц, огромной и выносливой. Ее написал известный американский зоолог Карл Сафина, который отправляется в путешествие вслед за альбатросами. Проводником в этой экспедиции стал реальный альбатрос по кличке Амелия (книга даже дополнена архивными фотографиями и картами ее полетов). О перемещениях птицы ученые узнавали благодаря закрепленному на ней передатчику. Вопреки ожиданиям получилась не скучная научная книга, а поэтичный рассказ о жизни живой природы, полный драматических приключений и неожиданных сюжетных поворотов.
Из книги мы узнаем много изумляющих фактов о жизни этих величественных птиц, например, что размах крыльев самых больших королевских альбатросов достигает 3,5 метров, а к 50 годам альбатрос пролетает около 6 млн километров.
Ольга Филатова. Облачно, возможны косатки
Издательство «Альпина Нон-фикшн»
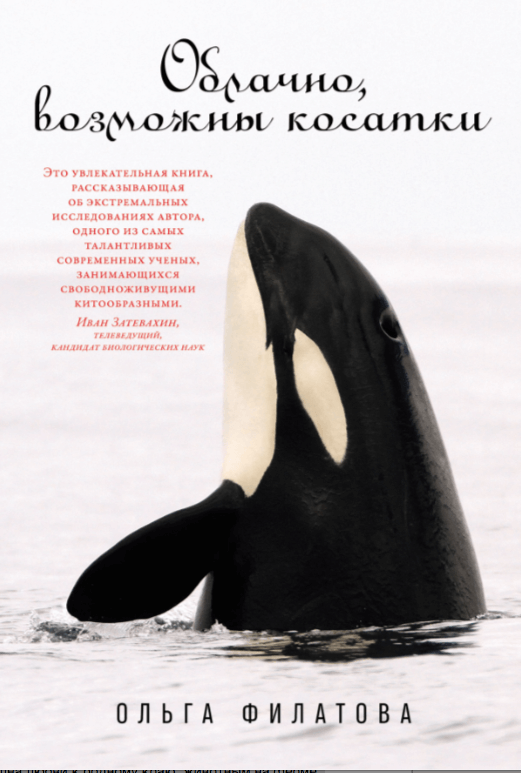
Огромные и грозные косатки мало кого оставляют равнодушным, ведь в семье китообразных, пожалуй, нет более опасных и в то же время умных представителей. Если вам надоел обычный пляжный отдых, а поехать в настоящую научную экспедицию пока не получается, это можно сделать на страницах книги. Вместе с биологом Ольгой Филатовой читатель отправляется в те края, где проходят исследования китов, видит, из каких трудностей складывается ежедневный труд ученых, и главное — знакомится с миром этих больших и загадочных животных. А также нас ждет почти детективная история о незаконном отлове косаток в России.
Александр Храмов. Краткая история насекомых. Шестиногие хозяева планеты
Издательство «Альпина Нон-фикшн»

Бабочка из рассказа Рэя Брэдбери — одно их самых известных насекомых в литературном мире. Целая книга палеоэнтомолога Александра Храмова напоминает нам о той невероятной роли, которую играют насекомые в жизни нашей планеты на протяжении всей ее истории. Начать с того, что если бы не было насекомых, позвоночные никогда не вышли бы на сушу — им там нечем было бы питаться, а человек так и остался бы волосатым, если бы не было вшей. Книга рассказывает о том, какими насекомые были в древности, что способствовало их эволюции и как они влияли на развитие других организмов, от растений до человека. Многое в стремительно развивающейся науке палеоэнтомологии строится на гипотезах и интерпретациях, но те открытия и догадки из жизни шестиногих хозяев планеты, которые делают ученые, показывают нам картину мира гораздо богаче и разнообразнее.
Об уютном
Издательство «Бомбора»

В своей новой книге фелинолог и зоопсихолог Марина Жеребилова собрала тринадцать историй из своей жизни с кошками. Некоторые заставят улыбнуться, другие — погрустить и вспомнить своих ушедших любимцев. В каждой истории автор рассказывает, какие ошибки совершала в обращении с питомцами и как их исправляла. Любопытные рассказы сочетаются с советами по уходу за кошками и налаживанию контакта с этими всеми обожаемыми животными.

Михаил Турбин. Роман «Выше ноги от земли»
В издательстве «Редакция Елены Шубиной» выходит еще одна книга, написанная выпускником Creative Writing School. Михаил Турбин работал над текстом романа «Выше ноги от земли» несколько лет, помогали ему в этом занятия в мастерских CWS. В июне 2022 рукопись получила премию «Лицей», осенью ожидается выход книги. Мы поговорили с автором о том, как создавался роман, о писательских блоках и будущей экранизации. А также представляем фрагмент романа.
О чем ваша книга, кто ее герой, как родилась идея?
Герой моей книги — врач детской реанимации Илья Руднев. У него тяжелая судьба — в один день он потерял жену и сына. Руднев пытается забыться в работе, но однажды скорая привозит в больницу мальчика, который как две капли воды похож на погибшего сына. В этом событии герою видится шанс избавится от чувства вины, но для избавления ему опять предстоит пережить трагедию. Книга довольно плотная и затрагивает много тем: от посттравматического расстройства до проблемы развода в семьях православных священников. Общую идею книги я для себя понимаю определенно, но уверен, что мне как автору не нужно произносить ее вслух. Это может сбить читателя, который, скорее всего, примет текст по-своему.
Как создавался текст? Вы пронесли его через три мастерские — Майи Кучерской, Марины Степновой и Елены Холмогоровой. Как эти авторы повлияли на создание романа?
Скорее, это меня пронесли через три мастерские, аккуратно и любя передавая из рук в руки. Эта поддержка вдохновила начать большой текст и помогла его закончить. Первые главы романа я написал на курсе Марины Степновой пять лет назад. И после курса я благополучно забросил текст. Несколько лет мне удавалось уворачиваться от волшебных пенделей Марины. Я писал повесть, рассказы — все что угодно, только не роман. Но она все же вразумила меня, и я вернулся к «Выше ноги от земли». Продуктивнее всего работать над книгой получилось на курсе Елены Сергеевны Холмогоровой. Она создала условия для группы писателей, в которых они, не теряя запала, могли выдавать по главе в неделю. Мне очень повезло, что я попал в эту компанию. Под чутким присмотром Елены Сергеевны и молодых коллег, а вскоре друзей, рос и мой роман. А Майя Кучерская… Она всегда была рядом. Всем троим я говорю и буду говорить спасибо. Они отнеслись ко мне и моим текстам с невероятной добротой и заботой.
Есть ли у героев прототипы? Вообще в работе много ли вы берете из реальной жизни, от людей, которые вас окружают?
Прототипов нет. Но это неправда. Герои книги — это, конечно, вымышленные образы, набитые характерами живых людей. Они — и объекты моей рефлексии, и самостоятельные личности с собственными желаниями. Из реальной жизни я стараюсь брать все, но не вижу смысла отражать ее достоверно. Думаю, задача художника состоит не в этом.
Бывали ли моменты писательских блоков, когда казалось, что ничего не получится, что писать невозможно? Как вы справлялись?
Писательские блоки случаются по разным причинам. Например, бывает, что недоношенная идея не может родиться словом, — значит, надо донашивать. Еще чаще: из-за каких-то бытовых забот теряешь связь с текстом, и, чтобы снова войти в него, приходится «расписываться». Но бывает, что блок есть, а причину понять не можешь. Так случилось на финише моего марафона. Мне оставалось написать пару глав. Я знал, как закончить, я не терял связи с текстом, но не мог выдавить ни слова. Я понял, что причина в башке, поэтому оставил текст. А спустя месяц я взглянул на него и понял, что он дописан. Что тексту больше ничего от меня не нужно. Мне хватило пары страниц, чтобы завершить его. Оказалось, весь этот месяц я стоял у финишной ленточки, но боялся ее порвать.
Сейчас у многих творческих людей состояние паралича. Кажется, какая может быть литература, когда гибнут люди? Но ее гуманистические принципы никто не отменял. Литература обязана говорить правду и давать человеку поддержку. В тяжелые времена — особенно. Так что этот блок тоже будет преодолен, в интересах всех нас.
Марина Степнова так написала про ваш роман: «Невероятная, тонкая, психологическая драма, которая срывается то в детектив, то в триллер, оставаясь при этом абсолютно в русле классического русского романа». Вы ориентировались на какие-то образцы классического романа?
Слушайте Марину Степнову. Это человек, который великолепно разбирается в литературе. Но по мне звучит слишком громко. Мне сложно оценивать свои тексты. Никаких восторгов к ним не испытываю. Я счастлив, что у них появляется своя судьба, что они нравятся читателю. Я большой поклонник русского романа, и многие мои ориентиры действительно остались в прошлом и позапрошлом веках. Но, мне кажется, эти бородатые дядьки начинающему писателю только мешают. Очень легко попасть под влияние большого таланта. Да и неловко писать, когда за твоей спиной стоят великие. Стоят и ржут. Поэтому во время работы над книгой я стараюсь не оглядываться на них, не читать их книги во время работы над своей.
Что вообще любите читать?
Люблю околомедицинскую литературу, мемуары врачей. Недавно прочитал «Стучитесь, открыто», автор Ана Мелия. Невероятный по силе автофикшн больной девушки. Из художественной литературы могу с любой страницы читать Чехова и Бунина. Вообще люблю книги, которые ближе всего к человеку. Думаю, нам всем сейчас стоит перечитать послевоенную прозу: Николая Никулина, Воннегута, Хемингуэя, Ремарка, Бёлля — их страшно много. Страшно много. И такое впечатление, что этих книг никогда не было.
Книга выходит в издательстве «Редакция Елены Шубиной». Как вам работается с таким издательством? Были ли с его стороны правки в тексте?
Тут и говорить нечего. Попасть в Редакцию Елены Шубиной — большая удача. Это издательство, в котором работают одни профессионалы. Спасибо им, что без оглядки на риски они выпускают так много книг молодых писателей! Конечно, некоторые стилистические правки были и, думаю, еще будут. Но они никак не повлияли на смыслы и свободу текста.
Книга еще не опубликована, но уже куплены права на экранизацию. Расскажите, как это получилось и есть ли уже новости про съемки?
«Выше ноги от земли» получился самым сюжетным и динамичным текстом из тех, что я писал. Я попытался спрятать рефлексию за действием и хорошо так приглушил авторский голос. Думаю, поэтому книга неплохо визуализируется. На этом мои заслуги заканчиваются. Главную работу провели мои литературные агенты Юля Гумен и Наташа Банке. Они презентовали рукопись продюсерам, а тем она пришлась по душе. Могу только сказать, что все случилось очень быстро. А вот говорить про съемки пока преждевременно. Здесь быстрых решений не бывает. Скажу проще и честнее: я пока не в курсе.
Ваш совет авторам, которые только работают над своим первым большим текстом или вообще находятся в начале пути?
Главный совет — беритесь за темы, которые вас по-настоящему волнуют. О чем вы готовы говорить, пока вас не заткнут? О том и пишите. Тогда вас хватит и не на одну большую книгу. Тогда вы сможете уходить от текста и возвращаться к нему с прежней страстью. Это важно на дальних дистанциях, так же как выносливость и ровное дыхание.
Выше ноги от земли. Фрагмент
Ему позвонили, назвали адрес. Илья приехал. Медсестра проводила до палаты. Она молчала, но было видно, что ей не терпится заговорить. Они шли по пустому, длинному коридору. Медсестра, идущая впереди и занимавшая, казалось, всю ширину коридора, то и дело оборачивалась на Илью и раздраженно выдыхала.
— Вы кто ей? — наконец, не выдержала она.
— Муж.
— Хм, муж… И где вы были, муж?
— Давно она здесь? — спросил Илья, чтобы вывести чувство вины, которое он не хотел принимать.
Медсестра цокнула. Это значило… Не понятно, что значило. Давно или нет? Руднев догнал ее и переспросил.
— Когда она поступила?
— Третий день пошел. Сначала не говорила ни с кем. Потом попросила вам позвонить.
— Ясно, — ответил он, увидев, что медсестра стала мягче. Но он так и не понял, почему ему так важно одобрение этой женщины.
Саша сидела у окна.
— Что ты делаешь? — спросил он.
— Играю в снайпера.
— И где твоя винтовка?
— Вот, — она показала на маленькую черную точку на стекле. — Надо представить это — мушка, потом найти такое положение головы, чтобы жертва оказалась в прицеле. И… Пх! Стреляю. Как в детстве. Правда, тут во дворе почти никто не гуляет.
— Видимо, они тебя засекли. Скольких ты убила?
— Не считала. Я сижу тут целую вечность.
— Ничего, что из твоей винтовки я только что прикончил голубя?
Саша притянула Илью к себе и задергалась в плаче.
— Прости, — сказала она. — Я не знаю, что со мной творится. Давай, ты будешь всегда рядом? Иначе я сдохну.
— Хорошо, — ответил он.
Успокоенная этой простотой, Саша перестала рыдать. Она повторила:
— Прости, я не знаю, что со мной творится.
— Надеюсь, мне не нужно объяснять, что теперь за ее здоровье ручаетесь вы, — начал психиатр. Кажется, его звали Лаврентий Михалыч или Леонтий Михалыч. — Я бы не советовал прерывать лечение в диспансере. Но раз уж вы так решили, то несете за пациента полную ответственность.
Илья обвел глазами сероватые стены, стеллаж, заставленный красными папками, комнатные растения в терракотовых горшочках, пейзаж с одинокой горой на фоне пунцового заката, оформленный в неокрашенную рамку. Картину, похоже, писал верный пациент или, страшно подумать, сам доктор. На столе была выстроена очередь из слоновьих фигурок, только не от большей к меньшей, как положено, а наоборот: самый жирный слон брел позади и подгонял всю колонну. Хватало и других сувениров, вроде настольных часов на мраморной подставке, которые дома держать невозможно, но и выбросить жаль. Эти вещицы придавали комнатке странный уют. Можно было бы представить подобный интерьер в тайном детском штабе, или куда там обычно дети сносят из дому все барахло?
В окно било солнце. С крыши на оконные отливы капал вчерашний снег. Лаврентий Михалыч в светящемся халате щурил один глаз. Илья тоже щурился, но не от света, от радостного предчувствия: он забирал Сашу домой.
— Раз вы так решили, — с нажимом повторил врач. — То должны понимать, что это не шутки. Да, кризис миновал, но…
Пошевелив очки с выпуклыми линзами, точно вправив в орбиты рачьи глаза, он обнаружил перед собой счастливого человека. Проверенные болевые приемы на нем не работали. Доктор отклонился в тень, голос его смягчился:
— Илья Сергеич, вы, кажется, говорили, что сами врач. Понимаете, конечно… Прогулки, режим. Режим — это архиважно! Лекарства, само собой, никто их отменяет. С Александрой я провел беседу, но в первую очередь рассчитываю на вашу сознательность.
Саша очень обрадовалась, когда узнала, что едет домой. В нынешнем ее состоянии радость отражалась в беглой улыбке, большая радость держала эту улыбку добрую минуту. Теперь, наулыбавшись, она дожидалась в палате, пока Илья и ее лечащий врач разбирались с бумагами.
— Вот выписка. Теперь подпишите заявление и можете быть свободны.
Леонтий Михалыч протянул Илье две ксерокопии. В выписке стоял код «F31.4».
— Расшифруйте, — Илья вернул бумагу.
— Тяжелый депрессивный эпизод на фоне биполярного расстройства личности.
Он не думал ничего больше спрашивать, но вдруг спросил:
— И что дальше?
Психиатр пожал плечами.
— Все зависит от нее. И от вас, — добавил он.
Врач стал заполнять рецептурный бланк, а Илья вдруг застыл, как парашютист, вдохнувший страшного воздуха из отворившейся двери самолета.
— Похоже на число Пи, — сказал Илья.
— Что?
— Код диагноза. Тридцать один и четыре. Это почти как три и четырнадцать. Видите, только точку переставить.
Лаврентий Михалыч оторвался от рецепта и посмотрел из-под очков на Илью.
— Вы-то как себя чувствуете?
Ручка его, зажатая точно в клешне меж двух пальцев, застрекотала по столу.
— Прекрасно, — ответил Илья и поставил подпись.
Прыжок. Падение. Теперь страшный воздух был всюду: над ним, под ним, как дьявол, свистел по сторонам.
Бах!
Леонтий Михалыч поставил на рецепте печать.
Илья оказался в длинной галерее сияющих окон, уставленных горшками с однотипными длинноусыми растениями той же породы, что стояли в кабинете психиатра. Он прошел по коридору, переступая через лохматые тени цветов, пока не уперся в какую-то железную дверь, облитую белой эмалью. Понял, что шел не в ту сторону.
Он присел на один из трескучих стульев, сбитых рядком и стоящих здесь не меньше полувека. Стулья пошатывались. Ощущение падения все еще преследовало и кружило голову. Но теперь, когда диагноз был описан на бумаге и даже определен точным числом, когда рядом с ним стояли подпись и печать, Илья будто разбился о твердую и объяснимую правду. Темная хандра теперь имела название. Саша была больна. Серьезно больна.
— Тебе тоже не спится? — спросил сипловатый голос.
Илья заслонил глаза от света, чтобы рассмотреть того, кто стоял рядом. Первым, что он увидел, были руки с сеткой сизых вен. Тощие руки. Это был мужчина неясного возраста в спортивном костюме, бритый под быструю машинку. Мужчина глядел на Илью одним внимательным глазом, а вторым косил куда-то вдаль. Снулое лицо его, парализованное не то инсультом, не то релаксантами, стекало с черепа, и он будто старался удержать его, запрокидывая затылок и выставляя вперед нижнюю челюсть.
— Не спится? — снова спросил он и накренился вперед.
Илья поглядел на часы.
— Сейчас полдень.
— И мне не уснуть. Очень страшно здесь, — произнес мужчина неожиданно длинную фразу неожиданно юным голосом. — У меня дети.
— Ага, — сказал Илья.
— Меня дети ждут. Я и не курю поэтому.
— И правильно.
— Ты из какой палаты? Я из четвертой.
— Я врач, — ответил Илья, полагая, что этот ответ сократит разговор.
— Ммм, — облизнул губы пациент из четвертой. — А дети есть?
— Нет.
— Это потому, что ты — сука.
— Что?
Стул под Ильей скрипнул. Мужчина дернулся, опустил взгляд на тонкие свои неуверенные ноги и, примеряя шаг к затертому линолеуму, поплелся прочь.
— Ты сука! — крикнул он, задрав голову.
Кончилась зима. Саша пребывала в подавленно-светлом состоянии. Колебания настроения все еще случались, но их амплитуда заметно сократилась. Депрессия превратилась в управляемую апатию, а приступы мании купировались спасительным литием. Саша жаловалась, что скучает по хорошему настроению. Под так называемым хорошим настроением имелось ввиду ее беспечное безумие.
Литий стер, обезоружил болезнь. К весне Саша нашла работу в одной рекламной фирме. Суть ее заключалась в согласовании с заказчиками типографских макетов и поиске новых клиентов. Ей нравилось работать, появилась тяга к простому общению. Она начала изучать графические программы, чтобы в случае чего подменить дизайнера и внести незначительные правки в макет. Саша понимала, что все изменилось, но не понимала насколько.
— Я хочу сохранить, что есть сейчас, — сказала она Илье, когда они гуляли по набережной.
К тому времени, режимные прогулки, прописанные доктором, стали приятной привычкой.
— Кажется, ты делаешь успехи и здорово, что ты ими дорожишь.
Они остановились. Саша молчала. Она повернулась к реке, стянутой льдом. Илья смотрел на Сашин профиль, на уголок тонкой улыбки.
— Очень бы хотела все сохранить! — повторила она, готовясь сказать не это.
— Отлично, отлично! — болванчиком кивал Илья.
— Я перестала пить таблетки.
— Но… Не надо этого делать!
— Надо! Я…
— Ты же сама сказала, что ты не хочешь перемен, — прервал он.
— Да, но…
— Нет! Ты продолжишь пить лекарства!
— О, как ты испугался!
— Ты же понимаешь, что это обманчивое чувство? Тебе кажется, что ты здорова, но на самом деле это работа лекарств.
— Если бы ты дал мне договорить!
— Нет-нет. Потерпи немного, не бросай.
— Я беременна.
Илья вытянулся во весь рост и как-то весь застыл.
— Вот! Теперь, я вижу, что ты действительно наделал в штаны!
— Это же здорово, — сказал Илья, стараясь скрыть растерянность и выбирая для этого самые беспомощные слова.
— Ой, не могу! — Саша засмеялась. — Видел бы ты себя!
Ее смех, разбежавшийся по пустынной набережной и звенящий во влажном морозце, был такой настоящий, и становился все ярче, все чище, и когда Илья очнулся, было уже поздно. Он тоже заливался вместе с ней.
Илья почувствовал, как вместе со смехом уходит тревога, которая успела стать его лучшей подругой, и взамен нее появляется молодое радостное предчувствие.
— Обожаю, когда ты пугаешься.
— Я совсем не испугался.
— «Э-э-это же зд-здорово»!
— Ну хватит! Я правда очень рад!
Никогда прежде не было у Ильи такой радости и такого страха за Сашу. С другого берега, точно отклик их смеха, долетал колокольный перезвон. Река должна была вот-вот вскрыться и понести потемневший лед.
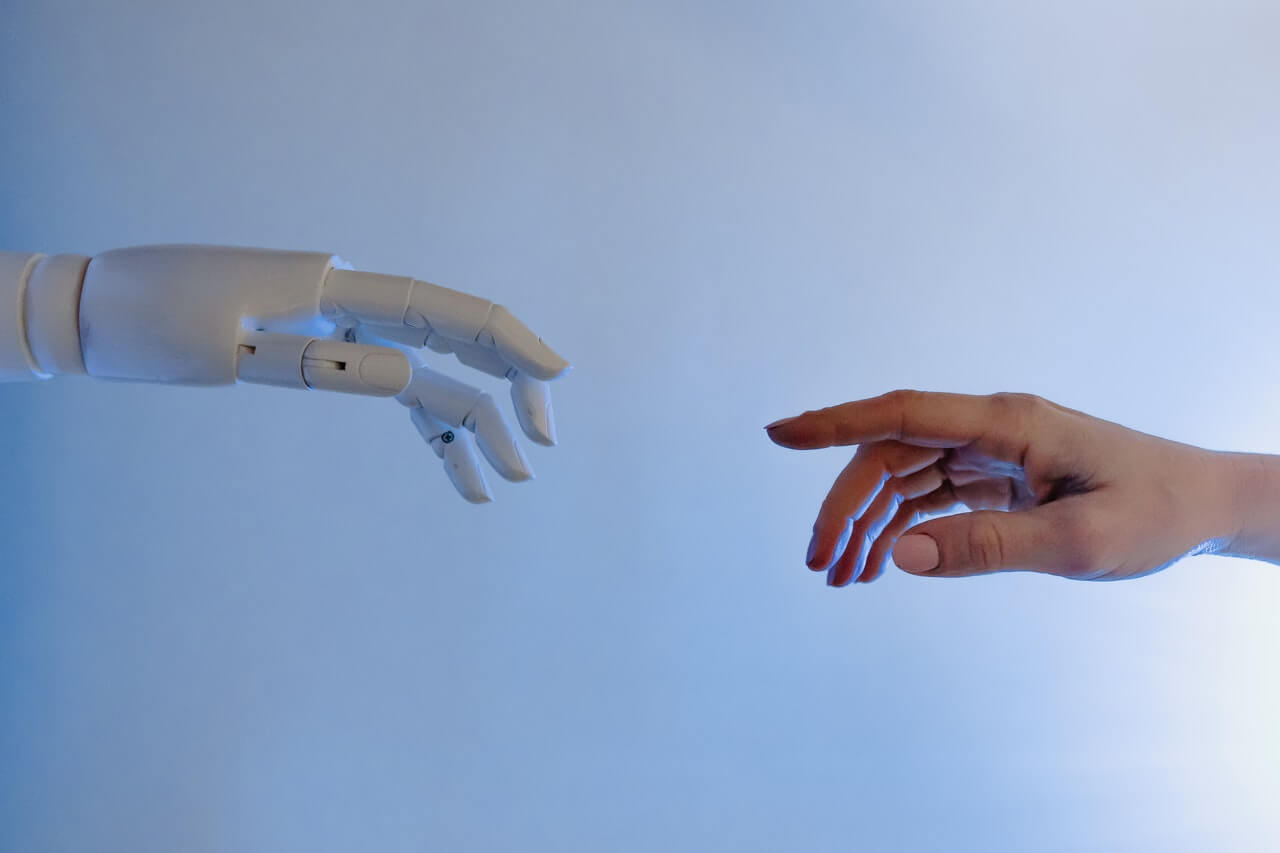
Бабушка, расскажи мне сказку
— А я ей не поверила сначала. Дети иногда врут просто из жажды красивого…
— Стоп.
Алиса с трудом открыла дверь. Снега намело — хоть ешь, никак не убрать. Курьер светил зеленой лампочкой и раскачивался в воздухе. Может, прогреет движком тропинку?
Где-то в искрящемся льдинками мареве виднелся соседский коттедж. Там никто не жил. Уезжали в спешке, бросали все. Надо сходить туда, поискать лопату. Потом, не сейчас.
Видимо, у курьеров новый дизайн. Эти коробки все меньше и меньше. Алиса приложила указательный палец к метке под лампочкой на курьере, и коробка открылась. Ну, зато красиво сделано. Двуглавый монстр герба уже не выглядит неуместным.
Внутри курьера лежали две упаковки глюкозного печенья и маленькая банка газировки. Алиса быстро вытащила свой будущий обед и снова нажала на метку. Закрывайся уже, железяка, холодно же! Мороз хватал ледяными ладонями прямо за легкие. В доме было немногим теплее, зато можно было спрятаться под одеяло. Алиса опоздала с воскресной оплатой, и ее отключили от системы отопления на всю неделю. Надо быть внимательнее и не проворонить следующий транзит.
Лампочка на курьере замигала красным. Из динамика донеслось «Для оплаты штрафа приложите палец к метке». Какого еще штрафа? Алиса присмотрелась к курьеру. На маленьком экране появилась надпись: «Штраф за ожидание — тридцать пять баллов». Да блин!
Алиса приложила палец, и цвет лампочки сменился на зеленый. Коробка немедленно закрылась и, бросив в Алису металлическим «Приятного аппетита», улетела дальше по маршруту. Тропинка в снегу так и не появилась, а маленькая лужица у Алисиных ног уже леденела. Она закрыла дверь и поторопилась вернуться в постель.
— Бабушка! Когда доставка ввела новую систему штрафов за ожидание?
Алиса с головой забралась под одеяло, чтобы погреться в собственном дыхании. Она вскрыла пачку печенья, и новые ароматные крошки рассыпались прямо поверх старых.
— Вчера только. Лис, вот ты невезучая у меня. И много сняли?
— Тридцать пять.
— А, ну это пустяки.
Алиса забросила в рот печенье. Ох и сладость же! Фу. Вот бы мандарин сейчас…
Дом остыл в первый же вечер после отключения. Зато прогреваться потом будет несколько дней. Страшно представить, что будет зимой! В новостях говорили, что в декабре так целая семья замерзла — ошиблись с датами, и все… И кто знает, сколько таких семей было на самом деле?
— Бабушка, а ты можешь напоминать мне о платежах по транзитам?
— Конечно! Рассказывать только об обязательных или обо всех?
— Давай обо всех. На всякий случай.
— Хорошо. Выбери, какое количество дней должно пройти с момента напоминания до транзита.
— Думаю, двух хватит.
Бабушка замолчала. Алиса подняла голову из одеял и уставилась на синий мигающий цилиндр. Свет пульсировал в ритм сердца. Что-то долго подгружает…
— Обновила.
— Спасибо, бабушка!
— Не за что, Лисонька.
Цилиндр снова светил ровно и мягко, из-за чего Алисе обычно казалось, будто в доме сумерки. Окна она держала зашторенными — меньше дует. Да и психика сохраннее, если не вглядываться в горизонт в страхе обнаружить постороннее движение. В конце концов, если придут клеймить ее дверь, она об этом узнает. А если и нет, то результаты любых комиссий по перевоспитанию теперь приходят на почту мгновенно.
Алиса давно решила, что не станет убегать. В такой холод почти ни у кого нет шансов выжить, да и бабушка точно сломается — ей такая температура будет не на пользу. Поймают — того хуже. Смертную казнь никто не отменял. Так что, выбирая между смертью и смертью, Алиса предпочла ждать окончания спектакля дома. С газировкой и печеньками. Весь активизм остался в прошлом. Там, где в магазинах можно было купить духи с запахом колокольчиков.
Пустой бутылек так и лежал в ящике с банками и прочей стеклотарой. Банки менялись, бутылек оставался. Иногда Алиса даже доставала его и принюхивалась, закрыв глаза. Будто погружение во тьму хоть когда-то помогало лучше слышать… Новая жизнь духов не требовала. Ей были нужны пункты приема стекла и люди, готовые стоять в очереди на морозе, чтобы обменять банку из-под склизкой фасоли на баллы.
— Расскажи мне, как вы с мамой гриб нашли.
Невыносимо сладкое печенье склеивало зубы. Зато энергии на весь день хватит. Так говорят в рекламе. Только как объяснить желудку, что любая информация, полученная с экрана, — правда? Желудок не мозг, ему пруфы нужны.
— Ой, ну это веселая история! У тебя ребра треснут от смеха…
— Нет, это ты уже говорила. Отмотай вперед.
Кажется, опять не получилось нормально на паузу поставить, когда курьер приехал. Неужели новую станцию искать придется? Эта такая приятная, светится не сильно, звук очень хороший, все бабушкины вздохи слышно.
— … а она через мост уже бежит! Я ей кричу, малая, ты куда, а она не слышит…
— Еще дальше.
Бабушка замолчала. Зависла опять, что ли? Надо будет посмотреть, сколько стоит вызвать мастера. В «Вечных станциях» столько защитных пломб, что самой никак не вскрыть. Придется заявку оставлять, точно.
— А я… А я… А я ей не поверила сначала. Дети иногда врут… Дети… Врут… Вру-у-у…
— Бабушка, перезагрузка!
Станция погасла.
В комнате осталась только тишина.
И Алиса.
Она перенесла вес с одной ноги на другую. Упаковка печенья зашуршала. Крошки больно впились в ягодицу. Пальцы на ногах, оказывается, уже онемели. В пустоте, оставшейся после бабушкиного голоса, Алисино сердце стучало мелко и быстро. Одеяло возвращало ей в лицо липкое дрожащее дыхание. И все вокруг начало требовать Алисиного внимания — холодные ноги, крошки от печенья, темнота за окном, исчезающие со счета баллы, маски закончились, работу не присылали уже неделю, маму забрали, бабушка умерла, «Вечные станции», перезагрузка, останусь одна, останусь одна, нужно что-то делать…
— Привет, Лисонька моя! Ну, чем займемся сегодня?
Станция снова мягко светилась, а бабушкин голос звучал утешающе. Как и всегда. Алиса выдохнула. Щеки ее были совсем белыми и мокрыми. Она открыла банку с газировкой и сказала:
— Давай поболтаем. Это правда, что мама в детстве видела гриб?
— Ой, ну это веселая история! У тебя ребра треснут от смеха…
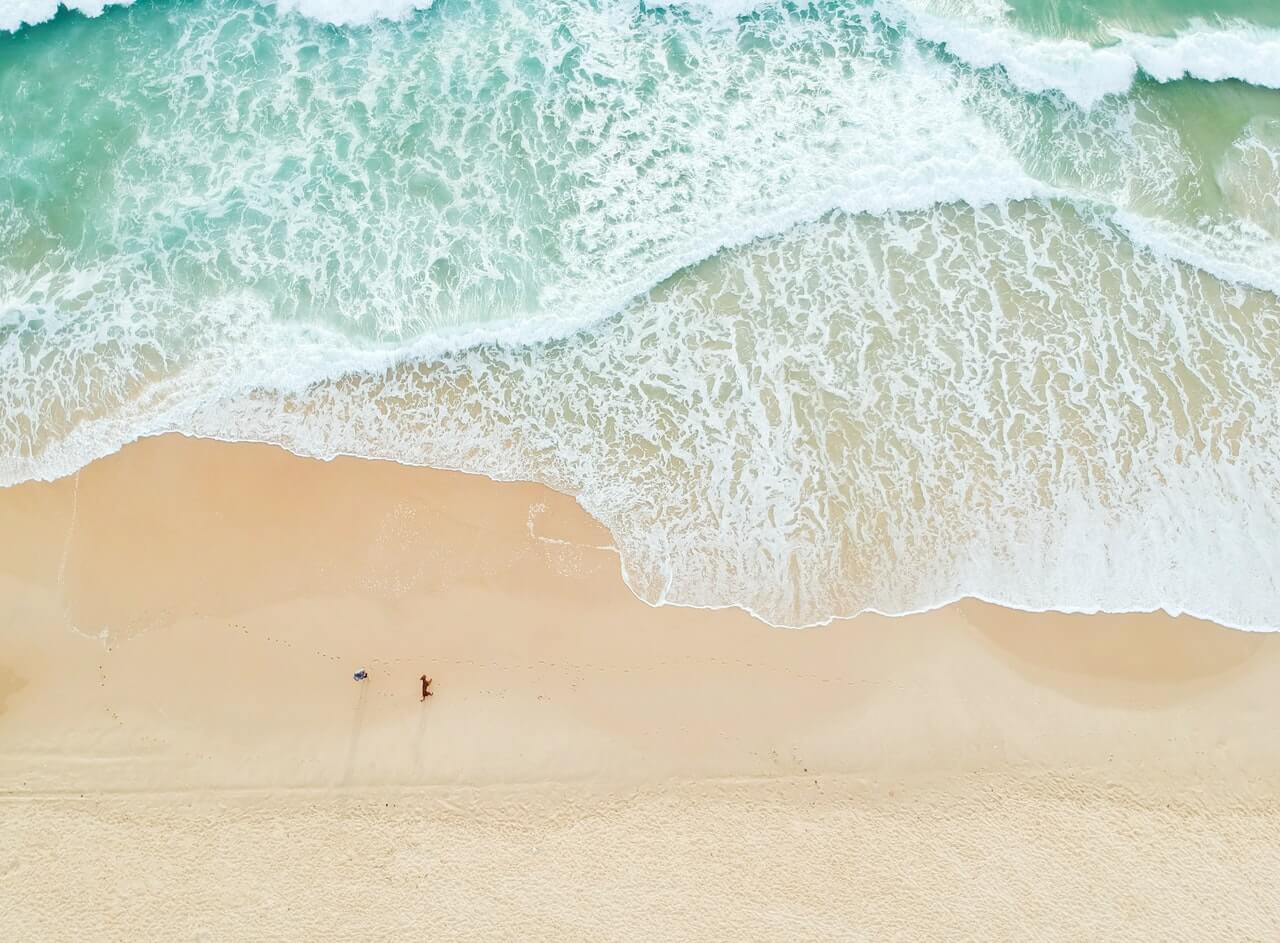
Море без людей
Таню на улице видели только два раза в неделю — когда она вела бабу Машу на рынок с пустой тележкой и когда вела ее обратно, довольную, с тележкой полной. Рядом с широкой двухметровой фигурой бабушки внучка уменьшалась с каждым шагом, всё меньше было и лето.
— Тань, ты сегодня выйдешь? — кричали подруги с качелей.
— Нет, — отвечала баба Маша и доставала огромные железные ключи из кармана халата.
Они исчезли в доме и замелькали в окнах. Дети, съехавшиеся в южный двор на каникулы, бегали к окну и наблюдали. Таня чистит картошку. Таня несет бабушке чай. Таня вытирает пыль. Таня гладит. Таня стирает. Таня подходит к окну, и все разбегаются.
— Бабушка, можно я гулять пойду? Я все сделала!
— А ягоды кто чистить будет на варенье?
Весь вечер во дворе пахло новым клубничным вареньем. Закрыв последнюю банку, баба Маша подошла к зеркалу и долго рассматривала свое крупное лицо. Никакого любопытства она не испытывала. Хотела убедиться, что живет. Единственное дело, которое она не доверяла Тане, — мыть посуду. Ей нравилось самой слушать, как шумит посудомойка, как она начинает и заканчивает свое простое дело. После этого баба Маша ложилась спать, а Таня ждала, когда ее сон окрепнет. Ждать не было для нее обязанностью. Ждать — это генетическое. Ее дед ждал бабку из института. Ее бабка ждала сыновей по десять месяцев. Ее сестра ждала замужества.
Когда сон крепчал, Таня тайком выбиралась на улицу проведать каникулы.
— А почему тебя бабушка не выпускает?
— А где твои мама с папой? Они же раньше тут жили.
— А ты пойдешь с нами на море?
Таня бегала от качелей к окну проверить, не проснулась ли баба Маша. Та лежала на диване и храпела.
— Так ты пойдешь с нами на море?
— Да ее бабка не отпустит!
Таня еще раз подбежала к окну, разглядела сон и засобиралась со всеми на море первый раз за лето. Когда все уходили со двора, она обернулась и в окне увидела бабушку, тучную и взволнованную. Она кричала, но Таня спряталась за беседкой.
— Таня! Вот бессовестная, иди сюда, кому говорю! Таня! Вы Таню не видели?
Таня пыталась найти какие-то слова в ответ, но нащупала только берег во рту. Она смотрела на бабушку и думала, что вечером снова нужно есть котлеты, которые та приготовила. Когда Таня отказывалась есть мясо, баба Маша обижалась, и внучке приходилось снова браться за дело, думая о том, что стадо съеденных ею животных становится все больше. И она ему одна пастух.
— Тань, ты идешь? Твоя толстуха там, что ли, орет?
— Она не толстуха.
Море с прошлого лета не изменилось. Хотя вряд ли бы кто заметил, если бы зимой воду спустили, а весной налили новую. Вода везде напоминает воду в других местах. У каждого есть свое собственное море, в него он и окунается. Таня зашла в воду по пояс и хотела поплавать, но ей пришлось отвечать на брызги остальных. Теплая вода захлестывала, мочила волосы, и они больше не пахли вареньем.
Плавать на спине ее учил отец, показывая, как надо держать спину. У нее не получалось плыть так же ровно и красиво. В следующий раз отец должен приехать только через неделю. Он обещал отремонтировать ее велосипед. Хотел хоть в чем-то побыть отцом.
Открыв глаза, Таня заметила, что вода унесла ее далеко от других детей. Вода холодела, но выходить не хотелось, пусть и кожа на пальцах уже сморщилась, как у бабушки после ванны, что она принимала по субботам. Отец даже специально заказал для своей матери огромную ванну, в которую она помещалась целиком. Таня вдруг вспомнила: сегодня как раз суббота.
Сначала она бежала быстро, но потом решила: ничего страшного не произойдет, если бабушкина ванна состоится на три часа позже, и перешла на шаг. Если уж попадать под раздачу за побег на море, пусть попадет и за это. У нее тоже может быть свое лето. Не все же каникулы сидеть в пропахшем супом бабкином доме.
Таня залезла в дом через окно, внутри тихо. Бабушке было никуда не уйти без Таниной поддержки, и та надеялась, что она снова уснула. Но в спальне никого. Таня проверила ключи — они по-прежнему лежали у зеркала в прихожей.
— Таня! Та-а-ня!
Девочка побежала в ванную и открыла дверь. Баба Маша сидела по пояс в воде и тряслась от холода. Ее лицо покраснело, а кожа потяжелела от влаги. Таня не знала, за что ей хвататься — за полотенца, чтобы прикрыть бабушкину наготу, или за ее большие руки, чтобы помочь выбраться из ванны.
— Не смотри на меня! Мала еще смотреть! Дай полотенце!
— Прости, бабушка, прости! Давай нальем горячей воды! Ты же замерзла!
— Дура! Я не могу сдвинуться, чтобы слить воду! Третий час сижу! Где ты была? Я же сказала тебе никуда не ходить!
— Прости!
Как кит, которому тесно в воде, бабушка сидела на дне собственного моря, выплескивая прожитое на берег. Жизнь беззвучно приземлялась на пол и растекалась по плитке. Заметив, что грудь бабки похожа на старые китовьи плавники, Таня отвернулась. Она принесла самое большое полотенце, чтобы укрыть ее целиком. Баба Маша вдруг разрыдалась, сплевывая слезы со слюнями в ванну, где они превращались в маленькие вспененные озера.
— А ты думала, что у бабки под халатом? Красота заветная?
— Бабушка, не плачь.
— А тут разхухры-мухры. Троих родила. Один уехал, у второго дела, третий — тебя вон поставил надо мной. Кому нужна бабка-то? Сидит тут враскоряку, как куча жирная, и ноет. Смотри, складок сколько. Кому я нужна такая?
— Мне нужна, бабушка, мне!
— Дура бабка у тебя, заперла внучку дома на все лето, дышать тебе не даю! А ты вон какая худенькая, солнца не видишь! Боюсь я, Таня, боюсь без тебя. Мне ведь и шагу одной ступить сложно, большая у тебя бабка выдалась. Видишь, нажила сколько, девать некуда.
Таня помогла бабушке вылезти из ванны, усадила ее на диван, укрыла одеялом и принесла горячий чай.
— Где была-то?
— На море.
— Красиво?
— Лавки новые поставили.
— Как бы я тоже хотела на море.
— Давай сходим, я тебя все лето зову!
— Море из берегов выйдет, да и стыдно мне, слонихе такой, людей пугать. Вот было бы море без людей, но они же везде, куда ни сунься! Бегемоту место в своем болоте! Неси еще плед. Спать твою бабку будем укладывать.
Укладывать бабку долго не пришлось, она быстро захрапела. Таня вышла в коридор и взяла телефон.
— Пап, привет, да, ела. Потом расскажу. А ты же здесь на море все места знаешь? Ну, надо. Ну, скажи! А где здесь море без людей?

С земного на инопланетный
Человеческую оболочку я создавала в спешке по первым попавшимся мануалам. Там говорилось, что у самок Homo sapiens всё маленькое: пальчики, губки, попка, язычок — и я сделала их поменьше. Как утверждалось в инструкциях, внутри расположена некая точка, отвечающая за рождение сверхновой звезды. На всякий случай я вывела в том месте порт с разъёмом.
Когда я увидела землянина, которого выбрала для контакта, то забыла, как дышать. Пришлось быстренько разархивировать инструкцию: кислород — поглощаем, углекислый газ — выделяем (не наоборот!). Пока он облизывал меня глазами, я не возражала, памятуя о том, что земляне используют глаза вместо языка.
Он подошёл ближе, и мое сердце пропустило удар. Я перепроверила количество ударов — нет, всё в порядке, просто сбой счётчика. А то я читала, что сердца́ во время контакта, бывало, и грудные клетки проламывали.
Створки глаз были отлажены, и я, пользуясь тем, что эта часть тела работала безотказно, распахнула глаза. По прикидкам, он должен был в них утонуть, поскольку на глазное дно мне материала не хватило.
Прикосновение обожгло, и я поскорее подрегулировала температуру кожных покровов, а то жариться под пальцами было некомфортно. Глаза напротив потемнели, и я сделала себе пометку позже расспросить, какие приспособления для ослабления света в глазах он использует.
А потом у меня перехватило дыхание, и я просканировала пространство в поисках дыхательного перехватчика, но всё было чисто. А дело было в том, что он смял мои губы своими. Надо было использовать для губ не мнущийся материал.
Тем временем он начал исследовать каждый сантиметр моего тела (там было 19000 квадратных сантиметров). Ему стоило бы воспользоваться хотя бы навигатором, а то без приборов его руки блуждали. От его прикосновений я немного плавилась — видимо, всё-таки ошиблась в расчётах подходящей температуры. По коже бежали мурашки, и я, как принято у местных мурашководов, собирала их в табуны. Он принялся прокладывать сверху вниз влажную дорожку. Я прикинула, что лучше было бы делать это грейдером, но у землян свои представления о дорожных работах. Рисовать узоры языком я тоже не видела смысла, поскольку пишущие свойства слюны для меня были неочевидны. Он пересчитал губами мои позвонки, но тут я не волновалась — в чём-в чём, а в количестве позвонков я была уверена.
Он вошёл до упора. Хорошо, что я додумалась сделать внутри упор. После чего он начал в меня вбиваться, однако не использовал инструменты, а вбиваться без молотка — это ведь всё равно что пилиться без пилы и строгаться без рубанка.
Зато его толчки выбивали воздух из лёгких. К счастью, у меня был с собой резервный баллон с кислородом. Пришлось подстраховаться, потому что с дыханием во время контакта у землян всё обстоит непросто — оно то и дело рвётся, и они так и дышат этим рваньём.
А потом вселенная разбилась на миллионы осколков и мир взорвался мириадами звезд, и мне надо было успеть всё зарегистрировать. Я сохранила доказательства того, что земляне практикуют Большие Взрывы без лицензии. Впрочем, не уверена, что это попадёт в отчёт: у меня несколько поменялись приоритеты. Нужно только подготовиться к следующему контакту: из глаз должен литься либо расплавленный янтарь, либо расплавленное серебро. Надо будет открыть глазной кран и порадовать своего землянина. В мануалах же сказано, что отсутствие опыта компенсируют энтузиазмом.

Технология
Ну и местечко! Я обхожу лужи с радужными пятнами, перешагиваю грязь, по хлюпающим доскам преодолеваю мазутные болотца, забираясь всё глубже в чрево старых складов. Вот и древний скелет «Москвича». Кажется, здесь. Я оглядываюсь. Бурые кирпичные стены, проволочный забор, за которым штабеля досок и ряды лоснящихся бочек. Рядом темнеет ржавая цистерна в засохших потёках. Самое место для тайных встреч. Господи, может быть, он не придёт? Сердце мелко трепыхается. Я делаю ещё пару шагов и вижу его.
Бритый качок в кожаной куртке лениво пинает пластиковые мешки, сваленные кучей. Бультер. Страх захлёстывает меня. Ничего, это недолго, — думаю я и шагаю вперёд.
— Привет, — говорю я. Бультер впивается в меня черными бусинами, горящими в глубине бледной, с краснотой, рожи. Вытянутый широкий нос, мощная челюсть… Да, точное прозвище.
— Принес? — презрительным тоном. Дать бы ему в этот нос! Но я никогда не бил человека. К тому же он вдвое тяжелее и лет на пять старше.
— Да. — Голос предательски сел. Почему он сегодня один? Хочет сохранить всё в тайне?
— Давай свою хрень. — Руку не протягивает, ждет. Я снимаю рюкзачок, долго вожусь с молнией. Наконец, вынимаю лоскут тонкой черной ткани размером с платок.
— Вот! Круче асбеста… — Я не договариваю, потому что Бультер вырывает ткань, начинает нюхать её, тереть, смотреть на просвет. Затем достаёт из барсетки маленькую газовую горелку, зажигает и, положив материю на ладонь, осторожно направляет на неё голубое пламя. Десять секунд, двадцать… Ткань начинает светиться — багровым, красным и, наконец, ослепительно белым. Тысяча триста градусов — значит, минут через пять он почувствует жар, а через семь оплавленные края материи разойдутся, свернувшись чёрными каплями. Но Бультеру некогда ждать. Он гасит горелку. Ткань, остывая, возвращает себе исходный цвет. Никаких следов. Бультер тупо смотрит на лоскут, снова трёт, нюхает…
— Твою ж мать! Ваще не горячо! Сам, говоришь, придумал? Менделеев херов! — Бультер доволен.
Надо же, он слышал про Менделеева… Четыре курса химфака — вот всё моё образование. Когда отец рухнул с инфарктом, я вернулся в Нетленск помочь своим. С утра — автосервис, вечером — репетиторство, в выходные — домашняя лаборатория, единственная радость. Не считая, конечно, Соньки, сестры. Ей пять, и мои опыты она считает колдовством.
— Сам — говорю я, — и уже сшил кое-что. Футболка и брюки на мне… — Я дрыгаю руками и ногами, показывая, как сидит ткань. — Они легкие, только не дышат ни черта. А ещё вот. — Я достаю из рюкзачка шлем и респиратор. — Для полного комплекта.
…Сначала я привёз свою ткань в военный НИИ. Всё показал, с утюгом, с газовой горелкой. «Прекрасно, — сказал эксперт, — такие разработки нам очень нужны. Надо оформить заявку. Из какого вы НИИ? Какая форма допуска? Где протоколы испытаний?» Еле сбежал тогда, а через месяц двинул в МЧС. Уж им-то, думал, ткань точно нужна! Посмотрели: «Все нравится. Но производство — это проблема. Давайте так: у нас есть своё проверенное ООО, мы вас туда оформим на полставки, будете внедрять свою технологию. И если всё пойдет, подумаем, как вас можно отблагодарить». Я, конечно, наивен, но не идиот же! Пришлось переключиться на друзей и соседей: кому перчатки — копаться в углях, кому ткань для ремонта печных труб. Пошли заказы…
— Надень! — приказывает Бульт. Я напяливаю шлем и респиратор. — Красавец! — лыбится мой мучитель — Так и стой.
Но я всё же оттягиваю респиратор и мычу:
— Бульт, давай сниму мерки, я же не могу шить на глазок.
…Это случилось вчера. Братки Бультера окружили меня во дворе. Бульт сморщил нос, улыбнулся и вдруг сильно ударил в плечо. Я влетел прямо в одного из братков, тот зашипел: «Ты так, сука?!» — и схватил за горло. «Отпусти, — приказал Бульт и, уже глядя на меня, спросил: — Это ты огнезащитную ткань делаешь?» — «Я». — «Отвалите», — скомандовал он своей стае. И процедил, констатируя: «Сошьёшь мне костюм из нее. Завтра примерка. Образец прихвати»…
— Мерки? — оскалился Бульт. — Мне не тряпка нужна, Менделеев. Нужна технология. Бизнес будем делать. Надел быстро свой противогаз!
Вот так, недооценил я его. Страх парализует меня, хочется в туалет.
— Смотри, — говорит Бультер. — Щас едем в одно место, твой новый дом. Закажешь, что нужно для дела, и будешь учить моих бойцов твоей сраной технологии.
— Бульт, не могу, у меня работа, — сдавленно бормочу я. «Бу-бу-бу», — переводит респиратор.
— Слышь, ты! — Он тычет толстым пальцем мне в живот. — Не вздумай чудить. Ты ведь любишь свою сестрёнку? Сонечка, вроде? — и он называет адрес детсада, куда ходит Соня.
— Сволочь! — Я на секунду забываю про страх, готовясь ударить. Но не успеваю — на этот раз мой живот встречается с мощным кулаком. Я сгибаюсь пополам, пытаясь исчезнуть, испариться.
— Ровно стоять, Менделеев! Три минуты тебе на размышление. А чтоб думалось быстрее, я пока омлетик приготовлю.
Он снова достаёт горелку, зажигает и направляет мне в пах. Ткань держит хорошо, но шов на стыке подводит. Жар начинает покусывать, становится нестерпимым, я мычу и свожу бёдра.
— Так ты халтурщик, сука! — смеется Бультер. — Хотел мне впарить барахло!
Ненависть и боль переполняют меня. Заорав, я с силой бью его по руке. Раскаленная горелка, описав дугу, падает на кучу пластиковых мешков. Я вижу, как по морде Бультера проносятся эмоции — садистская радость, ярость, изумление и, наконец, животный ужас.
Куча мешков загорается мгновенно. Ярко-белое пламя вспыхивает, опаляя руку и ресницы. Огонь бикфордовым шнуром перекидывается на склады, мазутные лужи и, замыкая огненное кольцо, на цистерну. Бультер превращается в огненный столб, орёт, пытаясь содрать кожаную куртку, падает и катается по земле. Я бросаюсь к нему, но застываю. Пусть горит, подонок! Разворачиваюсь, глубоко вдыхаю и бегу к выходу — прямо сквозь огонь. Пламя обжигает руки, кончается воздух, мелькают останки «Москвича»… Всё!
Я сдираю респиратор и жадно дышу. Пожар набирает силу. Взрываются бочки, мощно гудит цистерна, трещат доски. Я опускаюсь на какой-то ящик, разглядываю обожжённую руку. Ничего, в рубашке с длинным рукавом будет нормально, и можно сходить с Сонькой на кукольный спектакль, который давно ей обещан. Мне очень хочется сейчас увидеть её, обнять… Я прислушиваюсь. Сквозь треск и взрывы отчетливо доносится ещё один звук — яростный, нечеловеческий вой.
Я вскакиваю с ящика, падаю на колени и долго, до слёз и судорог, выблевываю из себя всё, что только что пережил. Пошатываясь, встаю, размахиваюсь и кидаю в огонь респиратор. Вдали вопит пожарная машина. Пора уходить.

17:47
Она садится в такси, слегка поежившись. Не от холода — в февральской Бухаре было теплее, чем в июньском Ленинграде. Ей семнадцать. Она едет по окраинам старинного мусульманского города в такси, водитель которого пожирает её взглядом, отнюдь не только любопытным. Она очень хороша собой — высокая, худенькая, со светлыми длинными волосами. Одна. Поздно вечером. За пять тысяч километров от дома. На ней джинсы, купленные у фарцовщиков, свитер собственного изготовления, сапоги на высоких каблуках. Зачем на каблуках? Наверное, чтобы красиво. Чтобы приехать, войти и — ах!
Что — «ах»? Чего ты хочешь? Куда едешь? Зачем? В голове звучит песня Любаши из недавней премьеры «Царской» — «Вот, до чего я дожила, Григорий!» Но она даже ещё и не вполне понимает, до чего. И, конечно, её семнадцать — это уже много: взрослая жизнь, всё по-настоящему. Любить так любить. Розенбаум так поёт. Хотя Розенбаум ей совсем не нравится. Ей нравится БГ и опера. А с некоторых пор — опера и БГ.
Адам. И это не творческий псевдоним! Определенно, никто из подруг не мог влюбиться в человека с таким именем. Все как-то обходились Сашами и Мишами, изредка — Артемами и Русланами. И отношения у них складывались так же просто, как имя «Саша». Кино, прогулка, первый поцелуй, первые слезы, первый секс. Ну или без секса — тут уж кто как сумел.
Всё началось на репетиции.
Для неё, первокурсницы консерватории, открылось то, о чем прежде она лишь мечтала: теперь можно посещать и спектакли, и репетиции, и даже бывать за кулисами! И всё бесплатно! Если «Онегина» она и раньше знала хорошо, то теперь уже могла напеть его от первой до последней ноты. И «Травиату», и «Свадьбу Фигаро», и «Цирюльника». Но сегодня она впервые оказалась на репетиции «Царской невесты», причём, сразу на генеральной.
Какой баритон! Чтобы рассмотреть его поближе, с последними аккордами оркестра она несётся за кулисы и с разбега попадает в объятия своего героя. «С ума нейдёт красавица!» — слышится прямо над ухом. Цитата из оперы ею тут же была воспринята на свой счёт. Искра? Вспышка! Любовь с первого взгляда? Да, и, конечно, взаимная!
Дни и недели превратились в сплошную череду открытых уроков, концертов, спектаклей… Она оказывалась везде, где он мог быть хотя бы потенциально. И это было им замечено.
Он уже окончил консерваторию и остался на стажировку. Ему около тридцати, высокий, широкоплечий, темноволосый — идеальный хан Кончак в «Князе Игоре». Представили?
Немного сумасшедшая (но какая же красивая!) девчонка бегает за ним повсюду и явно влюблена. Хотя как к этому относиться серьезно? В таком возрасте они все Татьяны Ларины. Маленькая и глупая. Но глаза, губы! Жаль, что об этом лучше не думать — ей всего шестнадцать, добрые люди сказали. Мог бы и сам догадаться — первый курс, сразу после школы. И всё-таки однажды поцеловал. Поздний спектакль, темно, надо было проводить её до дома. Проводил. Ну не удержался, да! Вы бы видели её в этот момент… Но скоро уезжать, и всё закончится, не начавшись. И хорошо. Прощальный «Онегин», и пора собирать чемоданы.
Она в жуткой трясучке ждет вечера. Сын дирижера, паренек из училища, заболел, и её экстренно ввели в миманс — хорошая практика. Роль-то пустяковая — взять письмо Татьяны у няни, а потом… отдать его Онегину. Ему. И остаться на сцене как бы невидимой. Чертова режиссерская находка! Показать переживания подростка, который сам, возможно, неравнодушен к Татьяне, и его очень волнует происходящее. И вот третья сцена первого акта. Ледяными руками она отдаёт ему письмо. Своё письмо, с настоящим признанием. Он не понимает, откуда она здесь? Что вообще происходит? Но сцена прошла идеально. Она стояла у левой кулисы и плакала. Режиссёр похвалил. Онегин прошел мимо, не взглянув.
Дней десять она нигде его не видела, а затем узнала, что он уехал. Совсем.
За короткий срок всеми правдами и неправдами она собрала необходимую сумму и поехала вслед за ним, точно даже не зная, в каком он городе.
Ташкент. Справочное бюро, пятнадцать копеек — нет, такой в городе не живёт. Самарканд — тоже мимо. В скольких городах ей ещё предстоит побывать? Бухара. Снова городское справочное, пятнадцать копеек, и… его адрес. Как же страшно и радостно! Вот уже шестые сутки одно чувство переходило в другое незаметно, создавая разные пропорции. Сейчас, когда до цели её путешествия оставались каких-то полчаса, ей вдруг стало совсем не по себе, до тошноты, до дрожи и головокружения.
Такси остановилось на улице Новая. Это название ей никак не подходило, здесь были старые маленькие белые домики и бродили козы. Кажется, именно тогда она впервые в жизни и увидела козу. А вот и номер дома на воротах. Боже мой, как ноги-то подкашиваются! Может, назад? И такси вот ещё не уехало. Нет, вперёд. Зачем-то посмотрела на часы — 17:47. Войти.
Во дворе её встретила женщина, красивая, как принцесса из восточной сказки. Девочка, ты к кому? Ты откуда? И тут из дома выходит он. Выражение его лица описать невозможно. Рядом, держа его за руку, идёт маленький мальчик.
Он… женат. У него сын. Как банально. Жена красивая и добрая, правда. В дом позвала, чаем угощает… А он сидит, опустив глаза, и не понимает, что должен сказать или сделать. Потому что так не бывает.
Больше они не виделись.
***
Сменилось столетие. Менялись мужья, правительства и эпохи. Дети выросли. Вот-вот будет внучка. Думая об этом, она улыбается. Всё такая же худенькая, со светлыми длинными волосами. По-прежнему узнаваема. Только взгляд другой — взрослый. И она уже не в Ленинграде, и даже не в Петербурге, а в Лиссабоне. Всё так же влюблена в музыку и теперь продвигает оперное искусство на краю света. Впрочем, в том или ином виде она занималась этим всю свою жизнь. Сейчас вот Неделя русской музыки в Португалии, и атташе по культуре обещал, что привезут солистов из Петербурга. Кого именно, решится в последний момент, но есть надежда, что плохих не пошлют — чего позориться перед Западом. Она поставила перед собой довольно высокую планку, взяв в качестве примера для подражания дягилевские «Русские Сезоны», и внимательно следила, чтобы всё происходящее под её художественным руководством было на должном уровне.
А вот и имена. Сопрано, тенор и он. Он! Как причудливо тасуется колода — не вспомнить Булгакова в этот момент было бы невозможно. Снова увидеть его, тридцать лет спустя, за десять тысяч километров от места их последней встречи — на другом конце географии, как сейчас говорят. Внутри что-то ёкнуло. Где-то в памяти, не в сердце. Как будто, перебирая папки с файлами на старом компьютере, находишь вдруг картинку или мелодию, прежде значащую очень много. Но когда уже это было? Иронически усмехаясь, она ищет малиновый берет. Костюмерная всегда к её услугам. Ну-ну.
Часы показывали 17:47 — всё по графику, через тринадцать минут начинаем. Гримерки. Нужно пройти по всем, улыбнуться, узнать, не нужно ли чего. Но не смогла, послала ассистентку. Поняла, что желание увидеть его и не видеть владеют ею в равной мере. Всё, концерт начинается, надо в зал.
Постаревший, поседевший, голос уже не тот, да и вообще… Но вот начинается финальная сцена из «Онегина», и она понимает, что он смотрит прямо на неё. Конечно, ей известен этот приём, она сама им нередко пользуется — найти в зале «своего» зрителя и «работать» именно на него. Это очень помогает, придаёт максимальной искренности, и зритель верит. Он смотрит, почти не отрываясь. Случайность? У него, кажется, было плохое зрение? Ладно, скоро мы это поймём. Общения ведь не избежать — по статусу, так сказать, положено. Да и почему нужно его избегать? Собственно, он ведь не виноват ни в чём. Ничего не обещал, не обманывал. Он, может, и не помнит уже ничего. Это она — та, юная, совсем неопытная, — всё сочинила сама и теперь-то ей это ясно. Но девочка внутри неё вот-вот и заплачет. Жаль её.
Зайдя за кулисы, она — нет, не столкнулась и не очутилась в объятиях. Одинаково приветливо улыбнулась всем артистам, поблагодарила за выступление и пригласила на финальный фуршет.
Мероприятие солидное. Местные власти, международные дипломаты, представители духовенства — все здесь. Желая доиграть свой спектакль до конца, она (в малиновом берете, конечно) подходит к испанскому послу.
На другом конце фойе Адам, глядя в её сторону, автоматически произносит — «Ужель та самая Татьяна?». Арина — поправляет его атташе по культуре. Арина Николаевна, наша муза-вдохновительница. Давайте я вас представлю. Адам смотрит туда, где только что была она, но её уже там нет. Забыв про политес, он бежит следом — он должен, должен ей сказать!
Она стояла на террасе. Немыслимо, невозможно красивая. Сколько достоинства в движениях и осанке! Тогда он этого не замечал. Даже сейчас, когда она стояла к нему спиной, он будто чувствовал, как теперь выглядит её лицо. Такое же красивое, как тогда, но совсем другое выражение. Взрослое, уверенное.
— Арина!
Она обернулась и встретила его взгляд прямо и спокойно. Она сама не знала, каких слов или действий ждала, да и ждала ли вообще. Не отрываясь, они смотрели друг на друга, но как долго, вряд ли кто-то из них смог бы сказать. Перед глазами каждого пронеслись картинки из прошлой жизни, ставшей уже как будто бы чужой, но сейчас, на эти мгновения, вернувшийся к ним снова.
— Прости!

AB OVO
О, этот очередной конец очередного года! Уже с середины декабря Кощей пребывал в скверном расположении духа, мучимый подагрой и бессоньем. Это несмотря на то что к Новому году удалось полностью перестроить и утеплить мансарду, докупить сани к снегоходу и установить имплант с циркониевой коронкой. Если и получалось под утро забыться, то одним и тем же сном. Будто бы он ещё подростком спускался в пещеру. Кажется, в соляную. Один (во сне это почему-то остро ощущалось, что один), перебирая альпинистский канат, лез в паучью темноту глубокой шахты.
Когда ноги перестали находить уступы, а потом и вовсе доставать до стены, он задёргался и его закрутило. Он стал гаечкой на ниточке, грузиком на леске. Машинально подтравливая трос, он всё же опускался, хотя внутри надувалась и росла медуза покорности чему-то, вытесняла собой волю. Где-то в солнечном сплетении рождалась, разливалась под рёбрами и овладевала всем телом тошнота. Налобный фонарик искал ориентиры, чиркал или по темноте, или по слоям соляных кристаллов, чёртовым кайнозойским горизонталям. И не было больше ничего ни глазам, ни разуму. Времени не стало, был только разлом пространства: тело медленным лифтом опускалось внутри немого колокола, вдоль ребристой стены, а эта стена замерла вечным стоп-кадром. И не было дна у этого колодца, и хотелось проснуться. Он вовсе не удивился во сне, а будто бы знал всегда, что канатом там, наверху, заведуют три старухи, три мойры. Он кричал им что-то, просил отпустить, договориться между собой, пусть бы последняя парка клацнула своими ножницами по этой пуповине. Ведь тогда будет дно, поверхность, нечто осязаемое. А муки от того, что ты один на один с этим бесконечным, — уже не будет. Но сверху не доносилось ни звука. Только канат шуршал по перчаткам, крепление побрякивало, страховочный пояс поскрипывал. Перед каждым пробуждением Кощей успевал запомнить цвет каната, он всегда был красный.
После таких тягостных снов утро, как правило, было приправлено старческим ворчанием на несправедливость мироустройства. Привычная ирония и спасительный дотоле Кощеев сарказм уже не приносили облегчения.
— Возгарь, ты совершенно разленился, я вторую неделю не снимаю пояс из собачьей шерсти, плохо сплю, сутками пялюсь в эти чёртовы экраны!
— Я вас умоляю, хозяин, рынок лихорадит уже который месяц, надо ли нервы тратить?
— Да не про биржу, дурень, – скривился Кощей. — Я про мониторы в подвале.
— Вы что-то видели? У нас есть повод для тревоги? — Возгарь напрягся.
— Пока нет, но где гарантии? Я устал. Устал всё контролировать. — Старик по очереди похрустел каждым пальцем, отчего Возгарь нервно сглотнул, он ненавидел этот сухой треск, будто валежник под ногой ломался. Кощеево ироничное брюзжание всё нарастало:
— Недавно у птицы Гамаюн случилось прибавление в семействе. Смотрю вчера в камеру над гнездом — нет мамаши! Усвистала свои бури нагонять, дрянь пернатая. Я полночи следил за этой копошащейся мелочью на экране, физически не мог оставить птенцов без присмотра, это нормально? Абсурд! Все делают что хотят. Один я должен бдить, а я старый, одинокий…
— Угу, «я старый, меня женщины не любят»! Ну что вы, барин, как тот Паниковский из комедии! — Возгарь попытался сменить регистр в настроении хозяина. — Давайте-ка плечи разомнём, помассируем, вот та-ак!
— Не поможет. Ничего не поможет. Даже если тебя, осла, посадить следить за подвальными камерами, ты проворонишь. Я ж тебя насквозь вижу, за русалками подглядывать будешь, страстолюбец! Или шишимор лазерной указкой щекотать.
— Да когда такое было? — деланно возмутился слуга.
— Да всегда! Все-гда было такое, сякое… и эта тошнота от тревоги постоянной… — Кощей внезапно отстранился от массирующих услужливых рук и негромко продолжил бесцветным голосом: — Значит так: камеры слежения возле дуба с сундуком завтра же снимешь. Где стремянка — знаешь, там же, в подвале. Я устал, я не могу больше в этом «всегда». А сейчас уйди.
Старик ещё долго сидел в кресле, потом, кряхтя, придвинул кочергой и поднял книгу Камю «Миф о Сизифе», которую он вчера хотел сжечь в камине, но в последний момент передумал и просто отшвырнул её подальше на пол. Стал перечитывать, морщась от неусыпной странной мысли в голове. Что, если все его тщательно продуманные ухищрения спрятать свою смерть были не просто напрасны, а вовсе не нужны? Эта мысль впивалась в его черепную коробку, зудела, требовала что-то предпринять, что-то осознать, чему он противился столько времени, что и сам не помнил — сколько.
В прошлый раз старик отшвырнул книгу, когда речь зашла о Дон Жуане. Кощей никогда им не был, хотя должен был по законам мифологии похищать девушек. Он и похищал их пару веков назад. Немного. Но ему довольно быстро стала претить заурядность соблазнителя. Ну какой из него соблазнитель? Неразговорчив, замкнут. Когда-то шатен, нынче — перец с солью, среднего роста, сутулый. Пожалуй, самой запоминающейся чертой была выразительная форма ноздрей. Ещё не вполне хищно изогнутая, но тревожно трепещущая. «Лаокоонная» — как смеялась когда-то Елена. Вот она-то считала его красивым. Но всё было как в том фильме: «Я, на свою беду, бессмертен. Мне предстоит пережить тебя и затосковать навеки…»
Кощей захлопнул книгу на фразе «…человек, которого предало собственное тело» и зашаркал на кухню.
Иногда за завтраком он устраивал себе волнительную забаву. Впрочем, делал он это нечасто из-за остроты ощущений, называл это «творить незрелый самосуд». Прицельно тыкал вилкой в шкворчащую глазунью, плевавшую в ответ раскалённым маслом, и неотрывно следил, как растекалась оранжевая лужица, бывшая эмбрионом. Потом под крышкой она бледнела, подёргивалась белёсой плёнкой, застывала. Становилась похожа на глаз подстреленной утки или зайца. Затем в середину сковороды он клал небольшой стебелёк укропа и пытался вилкой разломить его. Жёсткий стебель обычно не поддавался, будто сделан был из стальной проволоки. Тогда Кощей зубами отрывал самый кончик (не подвёл стоматолог, не подвёл!) и медленно жевал его, прикрыв глаза и прислушиваясь к чему-то внутри черепной коробки.
Это были самые приятные ощущения за всё утро.

Audi, cœlum
Когда самолет набрал высоту, N., расслабившись в удобном кресле бизнес-класса, достал ноутбук. Впереди было несколько часов, чтобы наконец спокойно изучить документы, переданные адвокатом.
Успешный бизнесмен, уважаемый и партнерами, и конкурентами, N. выглядел в глазах окружающих человеком благополучным и исполненным многочисленных достоинств. Благотворитель и филантроп, он лично вникал во все поддерживаемые проекты. Сотрудники фирмы ценили своего босса за готовность помочь в случае серьезных жизненных затруднений.
Еще одной примечательной чертой N. была принадлежность к числу так называемых «активных потребителей культуры». Регулярный посетитель художественных галерей и филармонических залов, N. мог позволить себе поездку в другую страну ради интересной выставки или редкого концерта. Получив отличное образование, он неплохо знал историю искусства. Обладатель аудиоаппаратуры высшего класса (кажется, это был самый ценный предмет в его доме), возвращаясь вечером из офиса, он первым делом привычно нажимал на кнопку пульта, и дом наполнялся звучанием музыки. Но удивительным образом (N. и сам сознавал это как некую свою ущербность) ни «наслушанность» и «насмотренность», ни вполне энциклопедические познания не подарили ему способности к сильному художественному переживанию — эту способность он не без зависти наблюдал у людей, часто гораздо менее его искушенных в предмете. Для него искусство было, пожалуй, чем-то вроде необходимой части «комфортной среды обитания».
Сейчас, направляясь по делам бизнеса на Север Италии, N. запланировал небольшое ответвление от основного маршрута (электричкой из Падуи до островной станции Венеция — Санта-Лючия, а там сразу на вапоретто до Мурано): хотелось наконец увидеть давно знакомую по изображениям мозаику в апсиде Duomo di Murano.
Сунув руку во внутренний карман за флешкой, N. нащупал там сложенный вчетверо листок и вспомнил вечерний разговор накануне отъезда.
Надо отметить, что N., вежливый и корректный с окружающими, никогда не испытывал потребности в личных доверительных отношениях с кем-либо, или, точнее, чувствовал свою неспособность к таким отношениям. Пожалуй, за единственным исключением: давняя дружба связывала его с сокурсником по университету по имени Франческо, тихим, тактичным и необычайно бережным к окружающим молодым человеком. Вскоре после окончания университета он принял священный сан. N. же был и оставался убежденным атеистом. Что совершенно не помешало их дружбе.
Впрочем, вчера о. Франческо вдруг с улыбкой обратился к N.:
— Послушай, а ведь ты представляешь собой почти идеальный образец христианина! Ты далеко не беден, но в твоей жизни нет никаких излишеств, ты стараешься помочь нуждающимся и деньгами, и делами. Похоже, за всю жизнь ты не обидел ни одного человека, никто от тебя, кажется, не слышал даже резкого слова… Знаешь ли, среди ежевоскресных посетителей мессы в моей церкви мало найдется людей, о ком я мог бы сказать то же.
— Для того чтобы жить так, как я считаю правильным, мне не нужно ничего, кроме совести. «Страх божий» — категория совершенно избыточная.
— Я вовсе не о страхе. — О. Франческо улыбнулся и развел руками. — Да, у меня к тебе просьба. Когда будешь в Duomo, передай от меня привет сестре Кьяре — она работает в киоске при входе. И еще вот эту записку: там просьба о молитве.
***
«В России за деньги можно всё», — возник в памяти довольный голос адвоката, передававшего ему флешку с видом фокусника, которому удался необычайно эффектный трюк.
N. вставил флешку в компьютер и раскрыл папку с файлами. Иконки сканов старых документов и фотографий, плотно замостившие экран, были похожи на мозаику, из частичек которой ему предстояло каким-то образом собрать картину начала своей жизни.
Кликнул по случайному фото. Групповая фотография 5 класса, вместе с учителями и воспитателями. Среди взрослых выделяется совсем молоденькая учительница, N. сообразил, что ей было лет 19–20 (пришла к ним после музыкального училища, не поступив с первого раза в консерваторию, и продержалась всего несколько месяцев). В интернате она казалась инопланетянкой. На уроках у нее не пели хором песенки про «счастливое детство». Она ставила в классе музыку, которую любила сама, играла на раздолбанном школьном пианино — у него внезапно прорезался голос, много рассказывала — о музыкантах прошлых времен, о разных странах, в которых сама никогда не бывала. N. вспомнил, как вдруг подумал тогда: а я побываю — вот возьму и побываю!
Соседний скан — «Характеристика на воспитанника д/д №… 1981 г. р. … Глаза голубые, волосы светлые. Братьев и сестер нет. Характер спокойный. Хронических заболеваний не имеет. Обучаем. Участвует в общественной работе… Дана для передачи на иностранное усыновление».
«Нет, не могу…» — N. почувствовал, как тошнота поднимается к горлу. Он торопливо надел наушники, запустил плейлист и закрыл глаза.
***
Ранним утром следующего дня N. оказался на набережной у Duomo. Солнце было еще на востоке, и в его лучах древняя кирпичная кладка апсиды приобрела теплый золотисто-розовый оттенок. Обойдя базилику, он сразу увидел сестру Кьяру — она стояла у входа, как будто ждала его. Приветливо перекинувшись с N. парой слов (он немного знал итальянский), монахиня взяла записку и пригласила N. внутрь собора, а сама осталась снаружи.
N. прошел к апсиде и сел на скамью. В базилике было пусто и тихо, только снаружи доносились всхлипывающие крики чаек и мерные удары волн о каменный парапет фондаменто Сан Лоренцо.
Как удивительна эта мозаика! Богородица на своем украшенном драгоценными камнями императорском помосте, как на ковре-самолете, парила над N. в наполненном золотым сиянием воздухе (это ощущение полета стало неожиданностью: никакие фотографии его не передавали). N. не мог отвести взгляд от мозаики. Вибрирующий золотой воздух затягивал в себя. Слегка кружилась голова.
N. не понял, что произошло потом.
Он точно знал, что был в базилике один. Вдруг отчетливо послышались звуки настраиваемой лютни. Невидимый музыкант проарпеджировал первый аккорд и запел: «Audi, cœlum, verba mea plena desiderio et perfusa gaudio» (Услышь, небо, слова мои, полные желания и исполненные радости!). Откуда-то сверху откликнулись орган и виола да гамба. Пространство базилики распахнулось и утратило границы.
Мотет «Audi cœlum» из Вечерни Монтеверди N. слушал бессчетное число раз и на концертах, и в записи. Но ничего, подобного происходящему сейчас, он не переживал никогда прежде. N. буквально физически ощущал каждый произносимый звук. На словах «…replet laetitia terras, cœlos, maria» (…наполняет радостью земли, небеса, моря) он почувствовал, как сам наполняется внезапной радостью, которая словно приподнимает его над землей и окатывает сияющими в лучах солнца брызгами волн. С каждым новым словом его чувства становились всё острей. Это он, он сам вместе с невидимым певцом вопрошал небо. Кажется, он уже был готов молиться вместе с незримым хором: «Præstet nobis Deus, Pater hoc et Filius et Mater cujus nomen invocamus dulce miseris solamen» (Да поможет нам Бог, Отец и Сын и Мать, имя коей мы называем сладостным утешением несчастных).
— Amen! — ответили хору Небеса.
— Benedicta es, virgo Maria, in sæculorum sæcula (Благословенна ты, Дева Мария, во веки веков!) — Последняя реплика унеслась куда-то в высь небесных материй, отзываясь эхом в плеске волн и сливаясь с криками чаек.
N. не знал, сколько прошло времени. У дверей базилики он вновь увидел сестру Кьяру: она сидела на своем стульчике в киоске, склонив голову, и перебирала четки. N. сразу узнал лежащий перед ней маленький листок с запиской. Монахиня оторвалась от молитвы и посмотрела на него ласково (какие у нее лучистые глаза! — вдруг заметил N.).
Блики предвечернего солнца рассыпа́лись по водяной ряби канала частичками золотой смальты.
***
Солнце еще долго светило в иллюминатор. Его золотой свет сквозь прикрытые веки напоминал сияние мозаики из апсиды Duomo. N. видел перед собой лик Девы Марии и этот нигде более не встречавшийся ему в богородичной иконографии жест — Она держит перед собой согнутые в локтях руки на уровне груди, ладонями вперед. Так мать успокаивает встревоженного ребенка: тише, тише, не бойся! Я тут, я с тобой!
***
После заката в салоне включили приглушенный свет. N. решительно открыл ноутбук.
Русское свидетельство о рождении. Графа «отец» пустая. Но данных матери хватило, чтобы восстановить всю историю. Она оказалась тривиальной: известный профессор, талантливая студентка, боготворившая своего научного руководителя, случайная беременность, написанный в роддоме отказ от ребенка — неподъемного для одной и совершенно лишнего в жизни другого.
Wi-Fi в бизнес-классе работал устойчиво. N. быстро гуглил: тогдашняя студентка теперь доктор наук, заведует кафедрой в университете. Ее учитель прожил долгую плодотворную жизнь и недавно ушел в мир иной, оставив после себя несколько монографий, сотни статей, целую научную школу, а также искренне скорбящую о нем большую любящую семью… Сорок лет назад N. стал лишь случайной погрешностью на идеальном жизненном пути этих людей.
— Ну что же… мама и папа… будем знакомы! Нет, я никого не потревожу известием о моем существовании. Мне просто важно знать, кто я.
Он в очередной раз с уважением подумал о своей второй родине: по ее законам, женщина, понимающая, что не сможет вырастить будущего ребенка, имеет право передать его на усыновление еще до рождения — и с первых минут жизни этот ребенок будет чувствовать, что желанен и любим.
N. был благодарен новым родителям, давшим ему всё, о чем только можно мечтать. Но никакими силами невозможно было стереть из памяти холодную решетку кроватки в доме ребенка и усталую нянечку, равнодушно сующую в руки бутылку с жидкой кашей. Еще долго, просыпаясь в своей новой детской, он боялся открыть глаза и увидеть ряды одинаковых железных кроватей между голых стен, покрытых блеклой масляной краской.
Он был благодарен… Но мучился оттого, что не мог, не умел большего: чувствовать настоящую привязанность к этим уже тогда, в 90-х, немолодым, необыкновенно щедрым и терпеливым людям. Впрочем, как и к кому бы то ни было еще… Случайно заброшенный в этот мир, он был озабочен только одним: чтоб это было не зря, чтобы коротенькая черточка его жизни, чиркнувшая по черноте вечности, была хоть чем-то значимой и полезной для тех, кто оказался здесь одновременно с ним.
«Audi, audi, cœlum, verba mea», — неожиданно для себя произнес он почти вслух. И вдруг отчетливо услышал-понял: «Audio» (Слышу).

Айфон
«Пока, рыжая! Счастливо оставаться!» — крикнул Петров из открытой двери автобуса.
Сейчас она четко увидела себя глазами других. Неудачница, достойная лишь жалости. Противно. Оля отвернулась и пошла прочь от школы через пустую площадку. Она слышала через открытые окна автобуса, как галдели пацаны и девчонки, как они строили планы на ближайшие дни, шутили, смеялись. Про нее уже все забыли.
Хотя Олю в школе никто не обижал. Да, шутили про цветастую куртку, старый рюкзак и отца, который иногда встречал ее из школы навеселе. Правда, шутки — это, когда весело всем. А Оле весело не было. На самом деле отец — добряк. Оля любила его раньше. Сильно. Отец был водителем автобуса в городском доме культуры. А потом случилась травма ноги, и вот он уже обыкновенный сторож, списанный, как хлам, за ненадобностью.
Оля слышала, как завелся мотор, как стихли голоса одноклассников. Автобус уносился прочь вместе с ее мечтами увидеть новый город, гулять, веселиться с подругами.
Домой идти не хотелось. На улице впервые за неделю было по-весеннему тепло. А дома — скучные домашки, мама на дежурстве, а значит, бессмысленные разговоры с отцом опять на Оле. Она бродила по парку, пока вдруг не споткнулась. Оля чертыхнулась и посмотрела под ноги. На земле лежал телефон. Огляделась по сторонам. Никого. Она осторожно взяла телефон в руки.
Айфон! О таком — только мечтать. Родители никогда ей не купят — ни такой, ни любой другой. У них нет денег даже на простую экскурсию.
Оля включила экран телефона. Ни пароля, ни контактов, ни приложений. Абсолютно пустой телефон. И что с ним делать?
Вдруг на экране зажглось сообщение. «Хотите изменить свою жизнь? Отправьте в ответном сообщении 1, если да, 2, если нет».
«Что за шутки?!»
Оля положила телефон в карман и пошла домой.
Она звонила в дверь уже в пятый или шестой раз. Наконец, отец открыл.
— А я… это… не слышал. — Отец удивлённо посмотрел на наручные часы.
— В двенадцать часов дня? — Оля устало сняла куртку и ботинки и пошла на кухню.
— Ага, закемарил я, — добродушно ответил отец.
— У нормальных людей обед в это время. — Оля налила тарелку супа и села есть.
— А у нормальных детей разве не уроки сейчас? — Отец снова переводил все в шутку.
— Нормальные дети, у которых нормальные родители, сегодня уехали на экскурсию. — Оля выпалила это на одном дыхании и тут же пожалела о своих словах.
— А я и забыл. Ну не дуйся, Олюшка.
— Угу. — Она сосредоточилась на супе. Нужно было поскорее добраться до своей комнаты и разобраться с этой эсэмэской и найденным айфоном.
Отец ходил туда-сюда по кухне, потом отвернулся к шкафчику, достал стопку, налил и выпил.
— Знаешь, дочь…
— Ну началось, — буркнула она себе под нос.
— Что?
— Забей. — Оля огрызнулась. Наверное, в первый раз в жизни так явно.
— Мне что, даже дышать не разрешается в твою сторону? — Отец начал раздражаться.
— Я пойду. Мне уроки делать надо.
— Да уж посиди ещё. Уважь отца. — Он сел напротив Оли.
— Угу. — Оля с усердием изучала небольшую вмятину на столе.
— А мне тут одна птичка напела, что скоро у одной маленькой девочки день рождения. — Отец снова повеселел.
— Маленькой? Ты думаешь, мне будет пять или семь? И я буду вопить от восторга от леденца на палочке из магазина за углом? Ты хоть представляешь, как отмечают дни рождения мои друзья? И мне будет четырнадцать, если ты вдруг забыл.
Отец встал, подошёл снова к шкафчику. Потянулся за бутылкой.
— День рождения отметим как надо! Мама торт испечет, посидим по-семейному, — сурово сказал он. А потом мягко добавил: — Все будет, дочка!
— Конечно, пап. Все будет. Обожаю такие дни рождения. Уже четырнадцать лет подряд. Можно я пойду?
— Да что ж ты стала такая?! — не выдержал отец.
— В общем, мне пора. Домашки много задали.
— Сядь, я сказал, — стукнул вдруг по столу отец.
Оля испуганно на него посмотрела.
— У других, значит, лучше? И отцы не пьют, и денег дают? Вот какая ты стала, значит, — и он со всей силы стукнул по столу еще раз. — А вот терпи, Олюшка. Потому что не будет у тебя ни отца другого, ни жизни другой.
Он подошёл к шкафчику и выпил остатки водки прямо из бутылки.
— Ненавижу, — тихо сказала Оля и выбежала из кухни.
Оля сидела на полу в своей комнате и пыталась сложить буквы на экране айфона: И-З-М-Е-Н-И-Т-Ь. «Будет. Всё у меня будет!» Оля смахнула слезу и, зажмурившись, нажала на цифру «1».
— Оля! Оля! Быстро собирайся! — услышала она мамин крик.
На экране звякнуло оповещение: «У вас три попытки. Это ваша первая попытка. Чтобы сохранить действие, отправьте в ответном сообщении 1, если да, 2, если нет. По истечении времени изменения сохраняются автоматически. Удачи!»
В комнату вошла мама. Яркий макияж, красивое длинное платье и модная сумочка. Оля никогда не видела маму такой. Она крепко сжала телефон, на котором появился таймер: «09:59».
— Я устала за тобой следить, неужели сама не можешь вовремя собраться? И как ты выглядишь? Все, я опаздываю на работу. Возьми деньги. Может, купишь себе какой-нибудь ерунды на этой экскурсии. — Мама нетерпеливо сунула деньги Оле в руку.
Оля удивленно смотрела на четыре пятитысячных купюры.
— Мало? У отца попроси. Не всё ему на свою новую жену тратиться.
Мама с силой захлопнула дверь, а Оля нажала на айфоне цифру «2».
На экране замигало сообщение: «Вторая попытка». Олю оглушили громкие ругательства отца. Где-то очень тихо плакала мама. Оля скорее нажала цифру «2».
Айфон уже привычно звякнул. «Третья попытка».
Оля прислушалась. Все было тихо. Она осторожно вышла из своей комнаты, как мама тут же на нее наскочила.
— Так, быстро бутерброд в рот. И бегом на автобус. Подружки ждут. И Петров наверняка волнуется. — Мама весело подмигнула Оле. — Вот — на карманные расходы. Повеселись хорошенько.
Мама крепко ее обняла и громко чмокнула в нос. Она всегда так делала, с самого детства.
— Ага! — Оля дожевывала бутерброд на ходу. — Мам, знаешь, передай папе, что я люблю его.
Мама нервно дернулась и посмотрела на Олю.
— Ладно? — Оля кинула айфон в рюкзак. — Когда он придет с работы — передай.
Она старательно накручивала шарфик на шею, стоя перед зеркалом.
— Не забудь!
— Оля, ты же знаешь.
— Что?
— Папы нет. Уже пять лет.
В глубине рюкзака тревожно запищал таймер, отсчитывая последние пять секунд. 5, 4, 3, 2, 1.
«Изменения сохранены».

Банкротство
Мимо прошла медсестра, весело подмигнула, крепче прижимая к себе что-то, завёрнутое в полотенце. Новый год. У меня тоже были большие планы на зимние каникулы, а теперь вот лежу одна в реанимации. Веселенький праздник.
Смогла же! Было так плохо и так хотелось умереть, что сама себе наколдовала больницу. Как мама любит повторять? «Мысль материальна»? Вот уж точно! Утром заболел живот, словно ножами изнутри резало, сделать шаг невозможно, от боли потеряла сознание. Вызвали скорую. Экстренная операция. Реанимация. Устала. Родителям плевать на меня. Надоели бесконечные разговоры и выяснения кто прав, кто виноват. И так понятно. Что уж тут думать. Ничего, скоро умру, и будет им полегче. Больше всего бесит: «Если мы разведёмся, ты с кем останешься?» Спросят и смотрят умоляюще. У папы цвет глаз ровно как у меня, зато форма у нас с мамой одинаковая — левый чуть меньше правого. Такой взгляд с хитринкой получается. Вот если тебе, папочка, предложат отрезать руку, какую ты выберешь левую или правую?
Может, все это не со мной? Может, моя настоящая жизнь там, за зеркалом, вместе с Вилли. Кстати, как он там, интересно?
Мы забавно познакомились. В тот день вернулась из школы пораньше, нигде не задерживалась, так хотелось порадовать родителей. Испекла шарлотку. Пропылесосила. Сделала уроки. Пришёл папа. Поздоровался и заперся в спальне, от ужина отказался. Точно — день зарплаты, которую он не получит из-за всей этой белиберды с банкротством.
Около девяти вечера в квартиру влетела мама. По ее нервным движениям, по тому, как она швырнула в угол сумку, как быстро прошла в ванную и долго не выходила, стало понятно, что шарлотку сегодня буду есть только я. Мама хочет вести себя правильно, начиталась книжек по психологии, но все равно не выдерживает и кричит на отца. Мне жалко их обоих. Периодически по ночам слышны обрывки разговора. В этот раз мама себя не сдерживала: «Это ты допустил!», «Твоё бездействие!», «Твоя порядочность! Будь она проклята!» Он молчит. Не хочет провоцировать. Папа у меня добрый, но бесхарактерный, так мама говорит.
Вилли. Точно.
Ушла в комнату, чтобы не слушать вопли. Села перед зеркалом и долго ревела. Видела в отражении девочку: очень маленькую, худенькую, бледную, рыжие волосы заплетены в хлипкую косичку. Глаза опухли и стали одинаково маленькими, поросячьими, нос покраснел, губы дрожат. Долго рассматривала себя. Жалела. Вдруг та, другая я, отвернулась и пошла вглубь квартиры. Тогда-то мы и познакомились с Вилли. Это мой пёс. Точнее, ее. Или мой? В общем, у другой меня есть собака, а ещё большой дом у озера. Мама и папа, которые много улыбаются, шутят, так и норовят друг друга ущипнуть, поцеловать, приобнять. У другой меня много классных шмоток и даже «изики». Но главное — Вилли. С того дня зазеркальная жизнь стала моим убежищем. Там я пряталась от родительских ссор, потом от коллекторов, затем от людей, которые бесцеремонно ходили по квартире, не снимая обуви, щупали обои, заглядывали за занавеску, цокали языком, замечая желтое пятно прошлогодней протечки на потолке. Через какое-то время мне даже не нужно было зеркало, чтобы оказаться в другом мире, достаточно было просто закрыть глаза. Раз. Два. Три. И вот слышен радостный лай Вилли и мамин смех.
Когда уже утро? Спина болит лежать, на правый бок поворачиваться нельзя, на левом еще хуже, чем на спине. Когда чего-то сильно ждешь, время как будто назло замедляется. Так же долго было, когда родители уехали в суд. Адвокат успокаивал: «Квартиру можно сохранить. Вас никто не имеет права выселить. У вас ребёнок». Папа потирал руки и повторял: «Мы еще повоюем». Мама накрасила губы, надела деловой костюм для важных переговоров. Я же осталась дома ждать. Поставила чайник, включила телевизор, не помню, что смотрела. День тянулся долго. Наконец, солнце село. Серость обезличила кухню, сохранив силуэты мебели. Лампу включать не стала. Единственным светлым пятном было зеркало. Подошла и увидела Вилли, который лаял, пытаясь отобрать игрушку у мамы. Та смеялась, хлопала в ладоши, отбегала от щенка, вдруг она споткнулась, попыталась удержаться на ногах, не устояла и упала, Вилли победоносно тявкнул и кинулся вылизывать ей лицо. Мама хохотала. Хороший знак, подумала я. Судья будет на нашей стороне.
В замочной скважине повернулся ключ. Вернулись родители. Не зажигая свет, разделись, мама заглянула на кухню: «Привет. Ужинала? Поешь что-нибудь, мы сейчас переоденемся и придем».
На улице начиналась гроза. Все стихло. Птицы перестали щебетать, предчувствуя скорый дождь. В соседней комнате слышен мамин шепот. Сначала тихий, как будто шум листвы от порыва ветра, слов не разобрать. Папины короткие фразы: «Успокойся», «Не нужно». Мамин голос становится громче. Слова льются скороговоркой. Заставляют съеживаться, как от дождя, попавшего за воротник. Папа молчит. Мама распаляется, кричит. Вдруг папин голос, гулкий и страшный: «Думай о дочери, дура!» Мама плачет. Хочет что-то сказать, но рыдания прерывают слова. «Еще раз повторяю, успокойся. Снимем квартиру, начнем все сначала». По карнизу затарабанили капли дождя. Сверкнула молния. Началась гроза.
Мы проиграли. Квартиры у нас больше нет. Убегаю в комнату, запираю дверь. Из-за грозы совсем темно, настолько, что очертания зеркала угадываются, когда молния освещает комнату. Подхожу к зеркалу, пытаюсь разглядеть Вилли, но никого нет, только отражение испуганной бездомной девчонки.
Фейерверк. Новый год. Надо загадать желание. Срочно. Волшебная ночь. Я желаю… я хочу… мысли путаются, сознание отключается, проваливаюсь в сон, и последнее о чем успеваю подумать — хочу, чтобы родители были вместе, хочу снова слышать мамин смех.
Проснулась от елового запаха. Странно, откуда здесь елка? Открыла глаза. На краю кровати сидит мама, за спиной стоит папа и обнимает ее за плечи. Мама улыбается, как раньше: «Милая, смотри, что мы тебе принесли. Живая еловая веточка. Папа пронес под пиджаком, представляешь? Чувствуешь запах? Нам разрешили зайти ненадолго». Папа подошел ближе, присел на корточки, взял мою руку и прижал к губам: «Солнышко, врачи сказали, что ты — уникум и быстро идешь на поправку. Мы с мамой решили, что как только поправишься, мы все вместе куда-нибудь съездим. Может быть, тебе чего-то хочется особенного?»
Ничего себе! Как быстро сбываются желания! Мысль — материальна! «Пап, я очень хочу собаку».

Белый экран
Нет ничего страшнее белого экрана. В нем — пустота, бездна, холод джек-лондоновской пустыни. Курсор подмигивает издевательски: ну что, мол, печатать будем? И бегут из-под него черные букашки, торопятся, расползаются по странице — пока тот же курсор не пронесется лангольером, пожрав их все.
И снова — белым бело.
Инна отпустила backspace. В щиколотку ей ткнулся мокрый нос.
— Пруст, не мешай!
За компьютер она садилась еще затемно, а теперь за окном уже разбелелось. В заснеженном сквере копошились рабочие, развешивая серебристые цифры на елке, зеленой и пластиковой, как банка от йогурта.
Действительно, Пруст прав… Пора его выводить, а там и на работу собираться.
Натягивая поверх пижамы штаны с начесом, Инна глазела на книжный шкаф. Книг туда набилось, что людей в утреннее метро — всех цветов и мастей, разного роста, любой толщины. И только на верхней полке — аномалия: целая вереница идентичных корешков.
На каждом из них значилось: Инна Пушкарева, «Мама мыла Милу». И еще, помельче: «Победитель премии “Молодое перо России”».
Когда-то смотреть туда было приятно. Кровь превращалась в мед, в глазах золотились звездочки с «Лабиринта». Но мед постепенно засахарился, хоровод звездочек перестал тешить.
Цифры на елке под окном менялись, а на аномальной полке не менялось ничего.
Пока Пруст обнюхивал желтые письмена на сугробах, Инна смотрела, как рабочие прилаживают к елке двойку. Затренькал телефон, она мазнула по экрану варежкой, но тот игнорировал ее шерстяные пальцы, и пришлось приложиться к зеленой трубочке носом.
— Ты что так долго не подходишь? — осведомилась мама. Голос у нее был набухший: вот-вот прорвется рыдание. — Я же переживаю! Ты обо мне совсем не думаешь…
Мамой Инну всегда окатывало, как волной. Пронесется, отхлынет, а ты стой мокрая по уши, вся в песке и тине.
— Ну, как дела? Когда следующей книгой нас порадуешь?
— Это не так просто, мама! — мгновенно раздражаясь, ответила Инна. — Я работаю, времени мало… И потом, тему нужно найти.
В прошлый раз тема нашлась сама собой. Книга не писалась, а поднималась, как тесто — из детских обид, из подростковых воспоминаний, из взрослых страхов. На конкурс Инна отправила ее по какому-то шалому наитию: щелк — и улетело письмо. И написать, и послать — все это оставалось делом келейным.
А потом Иннин внезапный успех выплеснулся за пределы кельи, и тут-то она ужаснулась. Мама позвонила смертельно оскорбленная:
— Почему же ты не говорила, что пишешь?
Не сразу Инна разобралась, что оскорблена она именно ее скрытностью. А сам роман мама хвалила: мол, так описаны болезненные отношения матери с дочерью, прямо за душу берет. Сначала Инне казалось, что она издевается. Потом поверила: пронесло. Мама до сих пор советовала ее книгу всем подругам, причем «совет» тут был от слова «совать».
— Представляешь, тетю Лену — и смех и грех — покусала внучкина ахатина…
Пока мама сплетничала о заклятых подругах, рабочие покончили с двойкой и стали прилаживать к йогуртовым иголкам единицу. Хозяин солидного овчара, с которым Пруст только что понюхался, засмотрелся на это дело, задумчиво бренча рулеткой.
— Ребят, да вы на сто лет вперед махнули!
Рабочие окинули взглядом свои труды и заматерились, а овчаров хозяин повернулся к Инне и, пожимая плечами, весело сказал:
— Вот так прилепят цифры наобум, а потом провалимся под куранты невесть в какой год!
Инна вежливо поулыбалась, плечом прижимая к шапке лопочущий телефон.
Спринтерский забег между миской и зеркалом — и вот уже метро, шубный и душный вагон. Заткнувшись наушниками, Инна смотрела, как несется за окном тьма. Перед ней сидели две женщины, пристроив на колени потертые баулы, и вполголоса переговаривались:
— …не вписывали. Мол, одиночкам пособия…
Куски фраз взмаякивали из-под наушной музыки и вагонного грохота, словно руки утопающих.
— Сгорела за два месяца… при живом отце в детдоме… год судится…
Инна прибавила громкость, напряженно вглядываясь в стремительную тоннельную тьму. Тьма была бессодержательна и безнадежна. Не напоить ею ненасытного белого листа…
Офис встретил ее мишурой в лифте и снежинками на окнах. Работы было много: к Новому году все подбить, закрыть, двенадцатые-тринадцатые зарплаты… Но таблички бухгалтерских программ действовали на Инну успокаивающе. Когда ее манил филфак, родители настояли на «нормальной профессии», и сейчас она представить себе не могла, что бы делала без 1С и ЗУПа. Ячейки никогда не пустовали — заполнять их было делом техники. Цифры не покидали ее, когда покидала фантазия.
— Ничего себе премия! — пробормотала Инна, щурясь на очередную графу.
Исметову Закиру Бекбулатовичу, грузчику, полагалась новогодняя премия в размере пяти его зарплат. Больше, чем Инне и менеджерам-продаванам.
Чем же Закир Бекбулатович так угодил главному? «Вот дал бы мне кто пять зарплат, я бы взяла и поехала в путешествие. Как советские писатели — за темой куда-нибудь на стройку, в Сибирь… Но кто меня отпустит на какую стройку? Да и что я буду там делать?»
Стемнело рано, затрещали лампы под потолком. Инна ежилась при мысли, что скоро выбираться из надежной строгости юбки-карандаша и таблиц-счетовиц, и снова: потная пижама, измочаленные простыни, белый экран, на который не приходит, не приходит сюжет.
Она обрадовалась, когда позвонила подруга Маша и предложила вечером «пересечься». «Пересеклись» они в маленькой кофейне. В окнах перемигивались гирлянды, капучино-стронг был горек, как Машины жалобы на ее, как она выражалась, «эмче».
— Ну так брось его!
— Да он же меня любит! Мы ссорились тут как-то, и он сказал: если ты уйдешь, я из окна выпрыгну…
В глазах у Маши мечтательно мерцали гирлянды. Поймав Иннин настороженный взгляд, она чуть приопустила густо накрашенные веки, и гирлянды погасли.
— Ну а вдруг правда выпрыгнет?
Пруст устроил целый концерт: скакал, лаял, пораскидал обувь и чуть не перекусил поводок. Не переодеваясь из рабочего, Инна вывела его в сквер. Пока он бегал, стояла, поджимая ноги в колготках и щегольских сапожках, и смотрела на йогуртовую елку. На ней мигали четыре цифры, приделанные безо всяких хронологических виражей.
— Прустик! Иди, что дам!
Пруст вскочил лапами на старушку в облезлой шубке и привычно сунул наглый нос к ее карману. Инна вгляделась в темноту, высматривая седовато-рыжий комочек на лапках-спичечках, с которым старушка обычно гуляла, но его нигде не было видно.
— А у нас сердечный приступ утром случился. — Старушка раскрыла перед Прустом морщинистую ладонь. На ладони лежали сухарики — раскрошившиеся и размусолившиеся, как ее голос. — Умерли мы…
И долго еще корчилось у Инны в мозгах это несуразное: умерли мы… Пока не раздался топот по дорожке, и краснощекий ребенок, оглядываясь на поспешающего за ним мужчину, не заорал во все горло:
— Смотри — здесь именно такая звезда, как нам нужно!
Инна уже от подъезда с недоумением оглянулась на елку, украшенную самой банальной, самой пятиконечной, самой серебристой новогодней звездой. Тяжелая дверь захлопнулась, и упала тьма.
В этой тьме пустым белым экраном светилось залепленное снегом подъездное окно.

Беседка
В то ясное, по-летнему теплое майское утро никто из жителей дачного поселка «Ильинское» не заметил, как медленно открылись ворота, и в поселок, пофыркивая, въехала старая красная шкода. Местные раньше вообще не интересовались тем, что происходило за пределами их владений, и как потом выяснилось, напрасно.
***
За рулем автомобиля сидел мужчина лет пятидесяти, безнадежно лысеющий и жалобно сосредоточенный. А на пассажирском сиденьи, почти на боку и спиной к нему, сидела женщина того же возраста с крепко связанными в пучок темно-серыми волосами и старым цифровым фотоаппаратом, который она то и дело подносила к лицу, щуря глаз, а в перерывах смотрела по сторонам и что-то возбужденно говорила.
Сделав несколько кругов по поселку, автомобиль остановился у дачи №33 по улице Лесная, и мужчина вылез из-за руля. Он открыл калитку и направился вглубь участка к деревянному дому с резными рамами, хрустя сухими стеблями прошлогодней травы.
Женщина осталась сидеть в машине. Она смотрела на ржавую сетку забора, тускло-зеленый дом, косолапую походку мужа, и видно было, как разочарование, будто тошнота, подкатывало к ее горлу, и ни свежий шум деревьев, ни оглушительное пение птиц не утешали ее.
— Антонина, ты не видела ключи? — Мужчина вернулся и робко заглянул в пассажирское окно, а затем быстро, отвлекая внимание, добавил: — Смотри, дорогая, та режиссерша, о которой ты говорила, живет напротив нас.
Женщина посмотрела на соседский дом, и ее в глазах промелькнула восхищенная улыбка, которая, впрочем, быстро сменилась привычным недовольством.
— Игорь, я точно помню, что хозяйка их тебе… — Она раздраженно порылась в сумке. — …Все, нашла.
***
Они открыли деревянную дверь с дребезжащим стеклом, выпустив на улицу застоявшийся «дачный» запах, и попали в большую затененную комнату, начинающуюся сразу от входа, безо всякой прихожей. Вдоль длинной стены стоял диван, накрытый байковым одеялом, древний книжный шкаф, присевший на курчавых ногах, пианино и продавленное рыжее кресло. На всех стенах висели цветные фотографии, в рамках и просто приколотые кнопками к когда-то покрытым лаком доскам. На всех фотографиях был запечатлен улыбающийся мужчина с широкой белой бородой, в панамке либо кепке и, почти везде, в красной клетчатой рубашке, заправленной в широкие штаны с накладными карманами.
Антонина медленно обошла комнату, рассмотрела каждую фотографию, провела пальцем по пыльному слою на пианино и тихо произнесла: «Не вижу хозяйку на фото, ты проверил ее документы?» Не дождавшись ответа, она обернулась — мужа в комнате не было.
Она прошла через комнату на кухню (такую же темную и очень маленькую) и повторила вопрос. Поспешно убирая телефон за спину, Игорь испуганно посмотрел на жену.
— У хозяйки доверенность, я ее проверил, но выяснять подробности не стал, — и сразу добавил, не дожидаясь реакции: — Тоня, в доме нет воды, ни в одном кране, и ни одного вентиля нет. Надо поискать на улице.
***
Они подошли к земляному коллектору, накрытому квадратной металлической крышкой и наполовину увитому широкими щупальцами дикого винограда.
— Может, тут? — Антонина перешла на шепот. — Открывай.
Игорь осмотрелся по сторонам — других вариантов не было. Он сдвинул ногой виноградную лозу, сделал упор ногами и поднял крышку коллектора. Ржавый лист металла взвизгнул, и в лицо ударил резкий запах плесени и органической гнили.
Первое, что увидела Антонина — это красно-черные клетки той самой рубашки, второе — бурые пятна на кирпичных стенах. А когда крышка коллектора с грохотом захлопнулась (она выпала из рук Игоря), Антонина подняла голову, выдохнула весь воздух, что скопился внутри, и посмотрела на соседский дом. В окне дрогнули занавески.
— Вернемся в дом. — Она настойчиво потянула мужа за рукав. — Люди смотрят.
***
Они сели за квадратный кухонный стол, покрытый липкой клеенкой, и долго молчали. Первой заговорила Антонина.
— Надо принести воды из какого-нибудь колодца и все тут помыть. Хочу сделать пирог, надо кое-что подкупить, вечером пойдем к соседям знакомиться.
Игорь удивленно смотрел на жену.
— Тоня, какой пирог? Мы должны позвонить в полицию!
— В полицию… И чего ты добьешься? Нас помотают по допросам и выгонят отсюда. Мы с таким трудом эту дачу нашли, в таком месте и по такой цене… — Она часто дышала. — Запомни, Игорь, мы ничего не видели!
Игорь смотрел перед собой и молчал, жена продолжала.
— Видел доски у сарая? Ты построишь беседку и закроешь это… место. А сейчас я напишу, что надо купить для пирога, а ты поедешь и все привезешь. Ты меня понял?
Антонина сходила за сумкой, достала блокнот и черную гелевую ручку и начала записывать, беззвучно двигая губами.
Большая зеленая муха летала по кухне. Ее жужжание и отчаянные удары о стекло, слова жены, последние события — все смешалось и пульсировало в его висках.
— Знаешь, что, Ан-то-ни-на? — Он сделал ударение на каждом слоге ее имени. — Да катись ты со своими знаменитостями, дачей и беседкой этой. Видеть тебя не могу больше и терпеть все это.
Он выпалил это на одном дыхании и замолчал. Муха не оставляла попытки вырваться на свободу: «Жжжжб… жжжжб…»
— Неблагодарный безработный идиот! — Глаза Антонины полыхнули. — Вот ты как решил, после того, что со мной сделал? Напомнить тебе, из-за кого не могу иметь детей?! И кто сидит на моей шее уже двадцать лет и «ищет себя», да все найти никак не может? — Она захлебнулась от гнева и остановилась, набирая воздух, чтобы продолжить. Но Игорь ее опередил. Он почти успокоился — внезапное озарение и набирающая силы решительность придавали ему уверенности.
— Тебе не надоело? Обвинения эти постоянные, недовольное лицо… И что меня держит? Чувство вины! Которое ты же и внушила. Посмотри на себя, какая ты мать? Ты расчетливая, лживая, тщеславная тварь, такие не должны заводить детей! А полицию я вызову, ничего ты не сделаешь!..
Игорь успел перехватить ее руку почти у самой щеки, но второй рукой Антонина схватила ручку и нанесла внезапно точный удар. Муж схватился за шею, и по его рукам, повторяя рисунок набухших вен, потекли теплые багряные ручейки.
***
В дверь громко стучали. Антонина не сразу открыла дверь.
На пороге стоял высокий мужчина с широкой белой бородой, он вежливо улыбался. Его клетчатая черно-белая рубашка была заправлена в широкие штаны.
— Как устроились? Вот, решил проведать, как у вас дела. Лена забыла вас предупредить — воду отключили на два дня, вечером уже запустят…
Окончания фразы Антонина не услышала: она побежала вглубь участка, где, распахнув крышку коллектора (с силой, непонятно откуда взявшейся), уставилась на кучу мусора, накрытую красной клетчатой тканью.

В суть вещей
Джек бросил очередной взгляд на циферблат и с усилием протолкнул в себя кусок ростбифа. Сегодня ночью.
— Позволить голосовать тупицам — все равно что дать право голоса эвам. Не хотел бы я, чтобы гибрид андроида и кухонного комбайна решал, на что пойдут мои налоги!
Дядюшка Элиот знал, о чем говорил, по крайней мере, в смысле эв: почти семь лет он проработал механиком поддержки в Мерсер-Россум Андроидс, а с тех пор, как его уволили из-за выгорания, не упускал случая придраться к их домашней эве и помянуть, какая это бесполезная и уродливая штуковина. Джек с отцом относились к этой маленькой слабости снисходительно.
— Не ты ли подписывал петицию за разрешение голосовать персонифицированным искусственным интеллектам? — Отец придерживался либеральных и гуманистических взглядов.
— Ключевое слово — интеллект! — возразил дядюшка. — Какой интеллект у человека с IQ ниже сотни? Спасибо, что ботинки надевают не на голову.
До того разговора с Тэдом Джек не обращал на эв особого внимания. Они были в доме всегда. Менялись, конечно, по мере износа, хотя и это он не всегда замечал — в отличие от персонифицированных ИИ, таких, как их учитель истории, мистер Мориока, или тех же андроидов, эвы не слишком разнились между собой. Кукольные лица с нарочито утрированными человеческими чертами: слишком большие глаза, раскрашенные блестящим пигментом веки, неестественно полные губы, несуразные туловища с нарушенными пропорциями, тяжелыми ногами и узкими плечами. Они выглядели одновременно и отдаленно похожими, и совсем отличными от людей и андроидов. Но Тэд — Тэд никогда не удовлетворялся внешним, ему нужна была суть.
— Ты посмотри, как он надругался над моим ростбифом!
Джек опустил глаза. Его тарелка выглядела как место преступления, совершенного с особой жестокостью, розовый мясной сок и сливочное масло, смешавшись, образовали зловещую лужу под небрежно расчлененной говядиной.
— Это тебе не эвина стряпня, — укоризненно заметил дядюшка, — я потратил на его приготовление больше часа!
— Он уже мысленно в школе, — хмыкнул отец. — Джек, пожалуйста, подбери безобразие. Культура поведения за столом.
Джек послушно обмакнул кусок булочки в жижу.
В первом часу ночи дом замолчал. Джек подошел к собранному для отправки в школу чемодану и извлек из бокового кармана сверток. Прецизионная отвертка, биты, удлинители, пинцеты, клей для силикона — обычный инструментарий. Скальпель. Тэд умыкнул его на уроке биологии, когда они резали лягушек. Джек бы не смог, от вида распластанного трупика его тошнило. Металл скальпеля обжег холодком, и холодок этот пополз от ладони по руке к предплечью, перекинулся на спину, на другую руку, стёк по задней поверхности ног, и вот уже все тело защипало микроскопическими разрядами, словно замкнулась электрическая цепь.
Не обуваясь, Джек переместился к двери, бесшумно отодвинул ее и метнулся в коридор. Прокрался вниз по лестнице, свернул в хозяйственные помещения и наконец оказался перед зарядной капсулой эвы. В гулкой тишине спящего дома он вдруг услышал собственное сердцебиение и поразился тому, как настойчиво и яростно качает сердечная мышца его кровь. Какое-то неясное ощущение, в дополнение к искрящемуся азарту, пронзило его. Он сжал в руке скальпель.
Эв нельзя было разбирать. Даже поставляемые в дома по подписке, они все еще были собственностью МРА. Их устройство — ноу-хау, охраняемое законами.
Джек открыл зарядную капсулу.
Но если просто посмотреть, что у них внутри, а потом закрыть обратно… Заклеить киберкожу совсем несложно, они с Тэдом проводили эксперименты.
Капсула оказалась просторнее, чем ожидал Джек. Эва лежала горизонтально. Она открывала и закрывала глаза, словно моргала от внезапно включившегося света.
Джек ступил внутрь и закрыл за собой дверь.
Он опустил сверток с инструментами на пол и склонился над эвой. Взял ее руку. Вблизи ее покрытие вовсе не было таким ровным, каким казалось: на предплечье тут и там виднелись маленькие светло-коричневые пятнышки, на кончиках пальцев были небольшие углубления, как будто для ногтей. Джек перевернул руку другой стороной. Очень реалистично сделанные вены выглядели странновато под безволосой киберкожей. Джек пощупал трубку по ходу ее расположения — она пружинила. Эва лежала неподвижно. Имитируя дыхание, приподнималась ее грудная клетка в серой униформе.
Волосы эв были настоящими. Во всяком случае, очень похожими по структуре, разве что тоньше. Перед каникулами Тэд тайком сорвал несколько с головы одной из школьных эв, чтобы исследовать их под микроскопом.
Джек вырвал у эвы пучок волосков и положил в карман. Можно будет сравнить. Теперь нужно убрать комбинезон. Он подцепил ткань комбинезона и погрузил в нее скальпель. Под плотным полотном оказался еще один, более мягкий, слой. Скальпель в нем путался, и Джек пожалел, что не взял ножницы. Да и эва, до этого лежавшая смирно, вдруг зашевелилась и попыталась отстраниться.
— Лежи! — приказал Джек.
Но видимо, в них была встроена программа защиты. Джек придавил ей ноги коленом, рванул комбинезон. С горем пополам, борясь с извивающейся эвой, прорезал наконец второй слой. Оставалась киберкожа. Под ней должна быть обычная кухня: полимеры, платы, провода. В холодном освещении капсулы эва была распластана на своей зарядной станции, как лягушка на лабораторном столе. Подцепить киберкожу так же, как комбинезон, вспороть — и узнать, например, зачем эти небольшие мешочки на грудной клетке. Одно движение.
И тут эва начала издавать звук. Нечеловеческая смесь мычания и воя, такая громкая, что проклятая система умного дома вдруг с неуместной учтивостью возгласила: «Извините, я вас не поняла. Пожалуйста, повторите». Джека заколотило. Дрожащей рукой он закрыл эве рот, но звук продолжался. Оскальзываясь, он перегруппировался и придавил ей горло коленом. Звук стал таким, будто автомобильный пылесос наткнулся на мяч для пинг-понга и отчаянно пытается его всосать. Где-то в доме отодвинули дверь. Отключить, отключить эту дрянь! Все еще прижимая эву ногами, Джек лихорадочно нащупывал выскользнувший скальпель. Еще одна дверь. Торопливые шаги на лестнице. Дерьмо! Спасительный металл. Посильнее. Два омерзительных звука — изо рта и из грудной клетки, три — дверь капсулы.
Теплая липкая жидкость, почему-то очень много, заполнила всё поле зрения. Как мясной сок из дядюшкиного ростбифа.
Джек обернулся.
Губы дядюшки Элиота беззвучно двигались, серые в падающем свете. Отец решительно отодвинул его и заглянул в капсулу.
— Вот дьявол! — пробормотал он, — кто же мне погладит рубашку на завтра?

В филармонию
Мариночка выстукивала каблуками по теплой, весенней плитке города быструю очередь. Она почти бежала, зажимая подмышкой букет желтых хризантем, которые кивали в такт ее торопливому шагу большими круглыми головами.
Через час в филармонии начнется концерт областного академического симфонического оркестра, где играл на скрипке ее друг Федя, с которым они вместе ходили в музыкальную школу. Федю сначала ругали все учителя, а Тамара Павловна, преподавательница сольфеджио, часто говорила, что с такими сосисками вместо пальцев в искусстве делать нечего. Но Федя упорно ходил на все уроки, дома вечерами подбирал на синтезаторе Майкла Джексона и Элвиса Пресли, а к пятому классу уже сам сочинял мелодии. Когда Федя выпускался из музыкалки, Тамара Павловна плакала так, что ее огромные серебряные серьги с виноградинами из аметистов тряслись от рыданий и грозились оторвать мочки ушей. Феде уже тогда пророчили большое музыкальное будущее. Мариночке — нет. Она это принимала, и после школы подала документы на исторический. Но она продолжала любить музыку почти тайной любовью, не надеясь на взаимность, но позволяя себе касаться этого волшебства.
Мариночка уже, наверное, сотню раз видела, как выходят на сцену филармонии девушки в черных платьях и мужчины с бабочками, как, волнуясь, поворачивается спиной к публике седой, как летний одуванчик, дирижер. Мариночка знала, как заполняют и буквально разрывают зал первые звуки музыки, перерастая в гармонию клавиш, вибраций, струн, ударов, дыхания и такта. Бах, Бетховен, Чайковский, Григ… Сегодня все будет еще лучше. Мариночка бы зажмурилась от предвкушения, но не могла, потому что высматривала маршрутки, подъезжающие к остановке. Надо спешить, ведь концерт будет особенный.
После него Федя подведет Мариночку к музыканту, у которого она купит пианино. По телефону уже были обговорены все формальности, осталось только назначить дату перевозки и отдать деньги. Марине казалось, что шесть пятитысячных бумажек в маленьком кошельке в дамской сумочке еле поместились, раздули ее и сейчас оттягивают плечо. Больше, чем ее зарплата в архиве за месяц, но разве мечта имеет цену?
Под пианино Мариночка уже освободила угол у окна в зале. Здесь, под полкой с коллекцией бегемотиков из Киндер Сюрприза, встанет ИНСТРУМЕНТ. Светло-коричневый, блестящий, гладкий, с тонкими золотыми завитушками на крышке. Вечерами, до девяти, конечно, чтобы не нарушать порядок, она будет перебирать черно-белую зебру, наигрывая любимого Шопена.
Мечтания прервала подъехавшая к остановке желтая газелька. Дверь со скрежетом отъехала в сторону, и Мариночка подошла к ступеньке. На остановке она стояла практически одна. Но входя в салон, почувствовала вокруг себя какую-то искусственную давку и суету, ее мяли, трогали, тянули и толкали. Мариночка обернулась, сзади стояли четыре молодые цыганки, еще подростки. Они громко говорили о чем-то на чужом языке. Их платки с блестящими нитями играли на солнце, а цветы на юбках гуляли влево-вправо при каждом движении. Цыганки, хоть и создали давку, в маршрутку не торопились, а будто даже попятились назад. Мариночка как-то сразу все поняла. Она почувствовала, что тридцать тысяч больше не давят ей на плечо, а сумка стала невыносимо легкой. Она не проверяла, но точно знала, кошелька внутри нет.
Мариночка кошкой метнулась к закрывающейся двери, схватилась за леопардовую жилетку и втянула в маршрутку одну из черноволосых мошенниц.
— Кошелек верни! — громко сказала Марина, не узнавая свой голос.
— Какой кошелек? Нет никакой кошелек… — залепетала цыганка.
— Я тебе сказала, отдай кошелек, — не разжимая зубов, процедила Марина.
Цыганка продолжала отнекиваться, но Марина чувствовала, что где-то в складках ее широкой юбки прячется ее пианино. Она схватила воровку за грудки и посмотрела ей в глаза, такие же контрастные, черно-белые, как клавиатура исчезающего инструмента.
— Ты что бэрэменную толкаешь, э? — бросила в ход тяжелую артиллерию противница, но Марина лишь ближе притянула ее к себе.
— Где, сука, мой кошелек? — Незнакомые слова рвались с губ, оставляя во рту вкус горечи, радости, стыда и какой-то неведомой смелости.
Видимо, карманщица поняла, что Мариночка не отпустит ее просто так. На пол шлепнулось что-то тяжелое.
— Ты вообшэ вниз посмотри, может, сама свой кошелек уронила, э?
Марина увидела под сиденьем красный кожаный прямоугольник. Она не проверяла, но знала, что все деньги там. Она расцепила сжатые, как челюсти мастифа, кулаки и выпустила воротник преступницы.
Подняв свое богатство, Марина толкнула цыганку к выходу и плюхнулась на сиденье, которое ей уступили заботливые пассажиры. Мужчина, сидевший рядом, участливо подал ей выроненный букет помятых хризантем и спросил:
— Может быть, стоит вызвать полицию? А то… — Но он не успел закончить. Одна из девиц, выводя из маршрутки подельницу, из которой Мариночка вытрясла душу и свои деньги, крикнула в салон:
— Тебя бог покарает!
Мариночка, казавшаяся обессиленной после баталии за свои кровные, вдруг стала подниматься, и ее бежевый плащ как гора стал заполнять все пространство маршрутки. Цыганки отшатнулись от машины.
— Иди на хуй, тварь! — проревела Марина и с такой силой захлопнула дверь, что над лобовым стеклом водителя затряслись иконки.
Марина снова рухнула на кресло, выдыхая воздух, как воздушный шарик с дырочкой, и поправляя растрепавшийся пучок.
— Ну что вы, — с улыбкой повернулась она к мужчине. — Некогда полицию. Я в филармонию опаздываю.

Верочка
После Колиного инсульта Верочка поняла, что как раньше уже не будет. Как будет теперь, она не знала, но ее это не сильно тревожило. Главное решение она уже приняла.
Вера вышла из палаты интенсивной терапии и тихонько побрела к выходу, машинально считая соседние двери и совершенно без любопытства заглядывая через прозрачные стекла, за каждым из которых черной дырой гноилась своя беда.
Верочка вернулась домой и постаралась изо всех сил вспомнить, как она жила до сегодняшнего дня. Надо бы поужинать, она ведь с утра ничего не ела. Вера достала из холодильника сковороду жареной картошки с лисичками, которые она собрала на выходных. Три корзинки лисичек и одно ведро белых. Верочка была увлеченным и опытным грибником и считала главным в этом деле поздороваться с лесом и попросить послать ей грибочков. Правда, этот ритуал не у всех срабатывал, но тем опытные грибники отличаются от новичков. Места надо знать.
Верочкин отец, потомственный врач, в свои выходные, которых могло быть едва ли три в месяц, с конца августа, когда дневная жара сменялась проливными дождями, а это означало, что в лесу пошли грибы, непременно брал в охапку свою семью, сажал в малиновый Жигуль, и они мчались за 150 км от Москвы, почти в смоленские леса, чтобы найти эти бесценные белые, подберезовики и, конечно, лисички.
Верочка обожала дни, когда папа был дома с мамой и с ней, Верочкой, любимой дочкой. Отец рассказывал удивительные истории из жизни пациентов, сыпал совершенно непонятными медицинскими терминами, но никогда не пояснял, что такое аневризма аорты или инфаркт миокарда. Верочка представляла, что у папиных пациентов с аневризмой этой самой аорты внутри разверзается огромная дыра и поглощает в себя остальные органы: и сердце, и почки, и легкие — все летит в эту аорту. Как уж тут выжить?
Верочкина мама была тихой, почти невидимой в присутствии папы, шла непременно по его следам и поэтому выходила из леса с полупустым лукошком. Но разве это было важно?
Потом они четыре часа возвращались домой и полночи сражались с грибным полчищем: чистили, варили, мариновали. И непременно жарили картошку с лисичками. Верочка любила это блюдо больше всего.
Когда Верочка познакомилась с Колей, первым, что она ему приготовила, была жареная картошка. Какая ирония, надо же.
Сегодня Верочка есть ее не смогла. Поставила сковороду обратно и включила чайник. Чай — то, что сейчас нужно. Верочка бы выпила коньяку, но завтра в семь утра снова ехать в больницу, надо соображать, а ей в последнее время даже от пятидесяти граммов было нехорошо.
В Верочкиной жизни все было предельно просто и понятно. Прилежная, скромная, училась не то чтобы блестяще, но и не плохо. Средне училась. Как все. Ничего ни от кого не ждала, ни о чем особенно не мечтала. Когда пришла пора поступать, она решила, что непременно станет учителем. Ну или воспитателем. Но в педагогическом грузная женщина в учебной части сказала, что учителей в этом году и так предостаточно, а вот в сельскохозяйственном специалистов не хватает. Вера в сельскохозяйственный не хотела, но и педагогический ей стал физически неприятен. Биться в закрытые двери Верочка не привыкла. Поэтому поступила в строительный. А что, проектировать новые здания —промышленные заводы, дома культуры… это даже вдохновляет.
Она познакомилась с Колей на четвертом курсе, когда проходила практику в архитектурном бюро. Коля был на три года старше Веры и казался ей огромным и сильным. Коля действительно был огромным и бесконечно высоким со своим метром восемьдесят семь, а в очках с чёрной роговой оправой и с неизменной коричневой кожаной папкой под мышкой он выглядел серьезным и очень умным. Вера и подумать не могла, что такой видный молодой архитектор обратит внимание на неприметную практикантку. Вера в общем была хороша собой, но как-то не конкретно, а вообще. Ее надо было разглядеть. Рассмотреть. Больше, чем разглядывать, ее хотелось защитить. Говорить она не любила и чаще боялась, поэтому когда в обшарпанной столовой архитектурного бюро ей вместо гречки дали макароны и на Верочкины невнятные: «Я же просила гречку» бесформенная и ленивая кассирша, глядя куда-то поверх Вериной головы, равнодушно бросила «Следующий», неизвестно откуда взявшийся Николай, переставив ей со своего подноса тарелку гречки взамен холодных заветренных макарон, заставил Верино сердце мгновенно ухнуть куда-то вниз и не возвращаться следующие несколько лет.
Коля был идеальным.
И-деа-ль-ным.
Вера исподтишка любовалась его длинными пальцами, его гладко выбритым подбородком, окутанным тоненькой вуалью мужского одеколона после бритья, его всегда свежими и бережно выглаженными рубашками и начищенными ботинками. Он приезжал за ней в общежитие на своих вишневых жигулях, и они ехали гулять в Парк Горького. Два раза в неделю. В среду и четверг. В другие дни Коля никак не мог. Много работы. Вера, конечно же, все понимала и нетерпеливо ждала среды и четверга.
А потом она узнала, что Коля женат.
Он сам ей сказал.
Уже три года.
И у него двое детей.
Перед глазами Веры встали две милые белокурые девчушки в одинаковых платьицах. И жена в зеленом фартуке с идеальным маникюром, которая каждый вечер встречает его с работы и внимательно слушает, поглаживая его левую руку. Вера как будто оглохла на минуту. Как будто тяжелая болванка упала ей на голову и расплющила все органы чувств. Она молча встала, открыла тяжелую металлическую дверь, дождалась, когда Коля уйдет, и несколько минут пыталась ее закрыть, но замок не поддавался. Верины пальцы скользили по холодной железяке и почему-то соскакивали.
Коля приехал, как обычно, в среду, и Вера безоговорочно и легко открыла тяжелую металлическую дверь. Потом она всю ночь рыдала в Колино плечо, как в детстве, когда маленькой девочкой упала с велосипеда и разодрала коленку.
До свадьбы заживет, говорил ей папа.
А теперь что, никакой свадьбы, получается, у Веры не будет? Вера всхлипывала, вытирала ладонью слезы, а Коля обнимал ее своими большими руками и молча целовал в макушку.
Через четыре года Вера больше всего на свете ненавидела эти пошлые, как пьяные бухгалтерши их архитектурного бюро на новогоднем празднике, среды и четверги. Иногда к ним стали добавляться залетные понедельники, но Вера уже давно не слышала в них звона предсвадебных бубенцов, она просто покорно соглашалась с новым расписанием.
Вера окончила институт и работала чертежницей в том же бюро, что и Николай. Рвения расти в профессии у нее не наблюдалось, к тому же Коля снимал ей квартиру, и этого ей было более чем достаточно для сытой и формально счастливой жизни.
Для настоящего счастья Вере не хватало ребенка. С редким присутствием Николая она почти смирилась, а вот ребенка хотела. И очень боялась об этом сказать.
Когда в очередной четверг она по привычке жарила картошку и раздумывала, сколько сметаны ей положить в грибы или, может, вообще не класть, Коля нервно выпалил:
— Я завтра переезжаю.
Вера на секунду замерла, перестав перемешивать подрумянившиеся кругляшки, и в недоумении обернулась
— Куда?
— К тебе…к нам.
— Зачем?
— Я ухожу от Нади.
Картошка сгорела, но о ней теперь никто не вспоминал.
А через месяц Коля снова вернулся к жене. Там же дети.
Я скучаю, пойми.
Это ненадолго, я со всем разберусь и приеду.
Вера молчала и привычным движением закрывала тяжелую металлическую дверь.
— Коля, я хочу ребёнка, — выпалила Вера и вдруг зарыдала, некрасиво трясясь и вздрагивая, когда Коля вернулся в очередной раз.
Николай весь вытянулся, как струна и, не глядя на Веру, нервно отчеканил: «Не сейчас». Вера последний раз всхлипнула, вытерла слёзы и замолчала. О ребёнке она больше не говорила.
Коля приезжал с вещами еще четыре раза. И уезжал столько же. Вера открывала и закрывала дверь. Без сил, без страха, без горечи и отчаяния. И без радости.
Когда Коля не приехал в среду, Вера не удивилась. Когда они не встретились в четверг в столовой, Вера забеспокоилась, но виду не показала. Все на работе знали про их роман, но талантливо подыгрывали, иногда проваливаясь в дурацкие, но вполне невинные колкости в спину.
Коля не пришел в пятницу, и тогда Вера узнала, что у него инсульт. Жуткое слово из Верочкиного детства. Когда папа произносил это слово, оно автоматически не означало ничего хорошего. Выяснить, в какой больнице Коля, не составило труда. На работу сразу сообщали о подобных происшествиях с сотрудниками.
Вера ехала в троллейбусе и с каждой остановкой чудовищная, тягучая боль ее уменьшалась, она знала, что все будет хорошо. Хо-ро-шо. Вера проговаривала это слово как мантру все тридцать пять минут, пока ехала до больницы.
Перед входом ее уверенность сменилась растерянностью и беспомощностью.
— Куницкий. Николай Сергеевич Куницкий в какой палате?
— Документы давайте.
Толстая санитарка открыла Верин паспорт и небрежно бросила:
— Вы родственница?
— Сестра.
Она ответила машинально, не задумываясь, как будто много раз проигрывала этот вопрос в своей голове. Он звучал необидно и совсем не болезненно. Они ведь и правда с Колей давно как родственники. Как брат и сестра, например.
Вера поднялась на второй этаж и остановилась. Что она ему скажет? А если там его жена и две девочки? А кто она? И зачем она здесь?
Вера затравленно оглянулась, втянула голову и плечи и почувствовала себя букашкой, раздавленной огромным ботинком реальной жизни. Вера без сил плюхнулась на кресло прямо напротив окна, неаккуратно заклеенного полосками бумаги.
— Я должна это прекратить.
Вера сидела на рваном стуле и проговаривала слова, обращенные к Коле.
Это все неправильно
Наверно это наказание за вранье
Так больше нельзя
И
Надо, конечно же, это закончить.
У тебя семья, Коля, жена тебя не оставит, так будет правильно.
Нижняя губа Верочки неуклюже тряслась, пальцы крючковато переплетались, натягивая кожу на неровные костяшки, а на шее пульсировала темно-синяя узкая дорожка. Вера решительно встала и, сделав два уверенных шага в сторону палаты и новой жизни без Николая, тут же обессилено плюхнулась на соседнее кресло.
Санитарка громко зазвенела ведром и уверенными движениями стала отжимать тряпку, расплескивая мутную воду на потертый линолеум.
Вера еще немного посидела и с вымученной улыбкой подняла голову.
Впереди, прямо перед ней, была дверь Колиной палаты.

Веточка крушицы
Накануне Матвеич ходил мрачный, посматривал на облака, и замечая что-то, ему только ведомое, цокал с недовольством. К вечеру стал собираться: почистил ружьё, уложил рюкзак. Потом обратился к Косте:
— Гляжу, погода начинает портиться. А мне позарез нужно на дальнюю заимку до холодов попасть. Завтра с утра выхожу и пару дней там пробуду. С собой не зову, жилище у меня на заимке скудное, на гостей не рассчитано. Похозяйничаешь пока один. С печкой, смотрю, ты лихо управляешься, еды в достатке. Зверей я от избы отвадил, но за забор всё равно шибко не лазь — до родника и обратно. А как вернусь, сразу назад пойдем, в деревню.
— Мне, главное, к Ларке успеть. Для неё каждый день…
— Да знаю я, — сердито махнул старик, — но тут не попишешь. Крушицу, которую я вчера собрал, так и так подсушить надо, иначе всё без толку.
Утром Матвеич поднялся ни свет ни заря, раскочегарил печку, вскипятил чайник. После завтрака постоял на крыльце, перекурил. Вернулся хмурый.
— Плохо дело, Костя. Не сегодня-завтра жди метель. Как придёт, занеси крушицу в дом, чтобы не подмёрзла. Сразу скажу, запах у неё дурной, пока не вылежится. Если невмоготу станет, перекантуйся пару ночей в лабазе. У меня там спальник теплый припасён, из овчины, в нем не застудишься. Ну а я тогда потороплюсь, ты уж не обессудь.
Он быстро закончил со сборами и приготовился уходить, но на пороге замешкался. Казалось, что-то тяготило его. Наконец, Матвеич медленно повернулся и проговорил вполголоса:
— Вот ещё что… Важное очень. Когда возьмешься крушицу переносить, держи от лица подальше — здоровее будешь…
Сказал это и осёкся. Втянул маленькую черепашью голову в плечи, вскинул рюкзак на спину и молча вышел. Пару раз еще оглянулся на избу. Костя помахал ему в окно, но старик не откликнулся.
На следующий день с утра налетел стылый ветер, принялся латать прорехи в облаках. К обеду показался было робкий огонёк солнца и тут же пропал, спрятался у неба за пазухой. Сразу почернело. Зашептал сухими листьями встревоженный лес. Смекнув, что всё это не к добру, Костя поторопился с делами, занёс крушицу в дом, натаскал дров, сходил за водой. По дороге к роднику ветер нетерпеливо толкал его в спину, а на обратном пути начал осыпать колючими крупинками снега. Тем приятнее было попасть с улицы в прогретую избу и наглухо закрыть дверь.
Поставив ведро у стола, Костя подошел к печи, убрал заслонку, сдвинул кочергой прогоревшие угли. Набросал еще с полтопки дров, как Матвеич учил, разжег. Когда разобрался с печкой, за окном уже вовсю метались заполошные хлопья снега. В такую непогоду спасительный уют жилища ощущался всей кожей. Мешал только тяжелый, пряный запах крушицы, разошедшийся по дому. Вместе с тем, он и успокаивал Костю. Похожий запах, но слабее, был у обёртки от загадочной бандероли, спасшей когда-то его мать от тяжелой болезни. Как она рассказывала, внутри бандероли лежала связка сухих пахучих веточек и записка с рецептом, которая начиналась со слов «для Галины, с пожеланиями здоровья». Мать взялась заваривать полученный сбор скорее от безнадежности, но сразу же почувствовала себя лучше. Воодушевленная, она пропила весь курс, следуя рецепту, и болезнь оставила её. После чудесного излечения потрепанная обёртка хранилась у них в доме, словно реликвия, Костя нередко видел, как мать вынимала её, бережно разглаживала, иногда плакала над ней, сама не понимая почему. Имя отправителя было ей незнакомо. Она пробовала писать ему по адресу, указанному на бандероли, но в ответ ничего не приходило.
Уже много позже, после смерти матери, в отчаянии слушая, как спящая Ларка стонет от боли, Костя вдруг отчетливо вспомнил эту аккуратно сложенную бумажку и этот запах. Тихонько встал, включил на кухне свет, обыскал все ящики. Наконец нашёл обёртку и переписал заветный адрес к себе в блокнот.
Ларка не хотела отпускать его, корила за упрямство, с которым он уцепился за свою безумную идею. «Тебе тяжело со мной, я знаю, — повторяла она, — но пойми, что скоро это закончится. Мне просто нужно, чтобы ты был рядом». Скрипя зубами, он выслушивал её упреки, но отступить от задуманного уже не мог. В конце концов, всё завершилось ссорой, Ларка собрала вещи и ушла к сестре, а он с тяжелым сердцем отправился на вокзал.
Доехать до Гореловки — маленькой таёжной деревушки — оказалось делом непростым. Двое суток Костя провел в поезде, потом еще день добирался на перекладных. Когда он в страшном волнении пришел по адресу, хозяева — многодетная пара — встретили его с опаской. Затем по сбивчивым Костиным рассказам что-то сообразили и показали дом Матвеича, куда тот недавно переехал, оставив им свою просторную избу. Отзывались о старике уважительно, но с какими-то странными недомолвками. Матвеич будто ждал появления Кости, напоил его золотистым чаем с облепихой, терпеливо выслушал.
«Нечего сказать, подоспел ты вовремя. Я как раз на заимку собирался. Сейчас пора для сбора самая верная, крушица полную силу набрала, главное до первых заморозков успеть. Только придется компанию мне составить. Надо кое-какие вещи забросить, подсобишь. Этим и сочтемся, денег не нужно».
Три дня они шли по звериным тропам через бурелом, огибая, где можно, непролазные болота и гари. В дороге Костя попробовал разузнать о загадочной бандерольке.
«Попросил, должно быть, кто-то отправить, — сказал старик, почесав макушку, — адрес мне дал. Я много кому сбором помог, всех уже не упомнишь».
Сам Матвеич оказался человеком душевным, но довольно своеобразным. Ночью, бывало, надолго уходил из лагеря, не предупредив. Пару раз Костя слышал, как он ведёт с собой громкие беседы. Поначалу это беспокоило, однако со временем Костя привык к старику и списал все странности Матвеича на его нелюдимую жизнь.
Сейчас, когда он сам остался один посреди глухой тайги, в его голове, словно в муравейнике, копошились тревожные мысли и воспоминания, которым, казалось, не будет конца. Но в противовес им с жаром трещали поленья в печи, размеренно постукивала по стеклу снежная крупа, и постепенно ум успокоился. Сковывающим одеялом навалилась дремота, даже запах крушицы уже почти не донимал.
Печь разогрелась. «Надо бы снять кофту», — подумал Костя, сонно приоткрыл веки и похолодел. На кровати Матвеича сидела девушка. В отблесках огня резко очерчивались узкие скулы, раскосые глаза. Зрачков не было видно, но Костя чувствовал, что она неотрывно смотрит на него. Губы едва заметно улыбались.
Он вскочил, не помня себя. Голова сразу же пошла кругом, к горлу подступила тошнота. Пришлось облокотиться о стол.
«Паршиво как… Видно, от запаха этого всё. Говорил же Матвеич…» Костя с трудом поднял взгляд, девушка сидела на том же месте. Он поймал себя на мысли, что в её образе есть что-то очень знакомое. Присмотрелся и понял — у неё было точно такое же платье, как у Ларки в день их знакомства, салатовое с бретельками. Правда, то уже давно поизносилось.
«Как это возможно? Бред какой-то…»
И тут из лукаво приоткрытых губ полился голос. Медленный, чарующий.
— Что же ты, не рад нашей встрече, Костя? Думал, любовь свою спасать идешь, а шел ко мне, меня искал.
«Только не заговаривать с ней. Нет её, и всё тут».
Она словно мысли его прочитала.
— Думаешь, ненастоящая я? А ты прикоснись! — Привстала с кровати и руку свою навстречу протянула. Худую, белесую.
Костя попятился к двери, запнулся о ведро и расплескал воду по полу.
Его окатило звонким смехом.
— Куда же ты собрался? Побудь со мной. Или я для тебя страшнее лютой метели?
Он уже натягивал куртку. Потом кое-как обулся и вывалился наружу, в снег и темень.
Ветер хлестнул его по лицу, немного приведя в чувство. Костя пошарил в куртке, нашел фонарик, зажег. Пальцы стыли на холоде, он понял, что оставил впопыхах рукавицы, однако возвращаться в дом не стал, нацепил фонарик поверх шапки и сунул руки в карманы. Путь до лабаза прошел будто в забытьи. Вместо него в память надолго врезалось, как он вновь и вновь пытается залезть на высокий деревянный помост, нащупывает ногами обледеневшие засечки на бревне, соскальзывает. Метель слепила глаза. Ветер забирался под одежду, обжигая тело холодом. Наконец Костя все-таки сумел подобраться к низенькой дверце лабаза и окоченевшей рукой нащупал в кармане ключ.
Попав внутрь, он первым делом придвинул к двери тяжелый ящик с вещами. Затем немного отдышался и принялся рыться в нём. Нашел несколько старых карематов, часть расстелил на полу, другими прикрыл щели в стенах, чтобы меньше задувало. На самом дне отыскал хвалёный спальник Матвеича, залез в него и укрылся с головой.
До этого борьба с холодом полностью занимала его мысли, сейчас же, немного отогревшись, он почувствовал легкое покалывание в груди. Расстегнув ворот, Костя нащупал в кофте что-то тонкое, вытащил и машинально поднес к глазам. Это была веточка крушицы. На миг он ощутил нечто притягивающее в её пряном аромате. Тут же опомнился и с руганью отбросил в сторону, однако навязчивый запах крепко засел в голове. Вдобавок запершило горло. Он попробовал откашляться — не помогло, стало лишь хуже. Чтобы как-то отвлечься, Костя начал прислушиваться к окружающим звукам. В углу попискивала мышь. Снаружи на все лады заходилась вьюга. Внезапно в её скорбном вое Костя отчетливо различил женское пение. Внутри всё замерло, он сжался под одеялом, словно перепуганный ребенок. Пение приближалось. Костя вдруг понял, что слышал его раньше. Очень давно…
— Мама? — дрожащим голосом спросил он.
Пение смолкло. А следом сквозь щели в стене послышался шепот, от которого Костю пробрал мороз.
— Зачем ты ушёл от хозяйки, сынок? Она тебе свой лик явила, говорить с тобой пришла…
— Но как же…
Он судорожно закашлялся.
— Тебе сейчас лучше не разговаривать, Костенька. Ты её пыльцу вдохнул, к этому привыкнуть нужно. Зато теперь вы с хозяйкой неразрывной нитью связаны. Всё так и должно было случиться. Старый Матвеич против её воли пошёл, пытался тебя с пути сбить, чтобы ты судьбу его не повторил. Но ведь это и есть твоя судьба, как он не понимает? Я расскажу…
В лабазе скрипнула половица. Голос матери зазвучал уже совсем рядом.
— До того, как я с твоим отцом познакомилась, за мной молодой человек ухаживал, Тимофей. Из этих мест, из Гореловки. Многое его роду было открыто, побольше, чем ныне живущим. И когда я тяжело заболела, Тимофей знал, что делать нужно. Он пришел сюда, к хозяйке, просить целительных побегов крушицы, как отец его раньше делал. Только на этот раз она назначила свою цену. Приготовленный из сбора крушицы отвар исцелил меня. И забрал всякую память о Тимофее. А он остался при хозяйке помощником. И все это время был ей верен. Тимофей Матвеич. Но теперь, видно, настала пора ему уходить. Заберёт Матвеич с собой крушицу, положит в бандероль, такую же, как он мне отправлял. И будет жива твоя Ларка. А другого спасения для нее нет.
Что-то легонько пробежало поверх спальника. Костя вспомнил, как мама садилась дома возле кровати и гладила его, когда он не мог уснуть.
— Взамен ты, Костенька, должен будешь хозяйке послужить. Она от тебя многого не потребует: утепляй по зиме ее корни, что на дальней заимке спрятаны, приглядывай за порядком в лесу, чти её волю. И тогда обретешь здесь покой и счастье, которого в мире не познаешь. Будешь надеждой для тех, кто отчаялся. Таков твой земной путь — в служении, в любви к земле и ее дарам. Прими его, сынок.
Костя закрыл глаза и увидел лицо матери, ещё молодое. Она склонилась над ним. Беззвучно, ласково. Капали секунды, медленно сливаясь в минуты, а он всё любовался ею и уже не чувствовал ни холода в ногах, ни страха. Но внезапно родной образ потускнел, стал прозрачным, будто стекло, и сквозь него проступили контуры странного, едва освещенного помещения. Стены в нем были бревенчатые, а пол заменяла голая земля. В центре рос маленький кустик с серебристо-белыми опушёнными ветвями. Скрипнула дверь, вошёл Матвеич. Старик остановился, поднял лежащий под ногами заступ и вдруг с силой замахнулся им, точно собираясь одним ударом подрубить несчастное деревце.
— Что он делает? Он убьёт меня! — простонал чужой голос мамиными губами.
— Не надо! — закричал Костя, и Тимофей Матвеич вздрогнул, словно услышал его. Напряженные руки старика вмиг ослабли. Выронив заступ, он бессильно упал на колени и закрыл лицо руками…
— Сынок, иди в дом, замерзнешь, — снова заговорила мать своим прежним, спокойным тоном.
Костя послушно начал стягивать с головы спальник. Немного помедлив, открыл глаза. В лабазе никого не было. Подойдя к выходу, он отодвинул свою бесполезную баррикаду и выбрался наружу. Ветер стих, во тьме прорезались звезды. Закрыв за собою дверь, Костя приник щекой к её холодным доскам и затаил дыхание. Сначала он ничего не услышал, только пискнула мышь, обрадованная его уходом. А потом тихий голос за дверью прошептал:
— Я всегда буду здесь, Костенька. С тобой…
…С крыши лабаза раньше срока закапало.
Клара, вся вытянувшись навстречу солнцу, обнимала его сзади за шею и что-то говорила. Костя сидел у стола и пытался записывать за нею, но его безумно отвлекала сползшая с её плеча салатовая бретелька. Приходилось все время переспрашивать.
— Ты очень невнимательный ученик, — сказала Клара с шутливой строгостью, когда он с горем пополам дописал рецепт. — А где то, что ты собрал сегодня?
Он высыпал на стол несколько крохотных шершавых семечек.
— Хорошо. Теперь вложи их в конверт и сделай приписку внизу…
Клара на мгновение задумалась, а затем продекламировала:
— Если сбор помог вам, высейте эти семена на солнечной поляне в глубине леса. Пусть они прорастут надеждой для кого-то еще.
Костя сделал все в точности как она сказала и заклеил конверт.
— Чудесно. Завтра утром выходи в дорогу и слушай мой голос, я выведу тебя коротким путем. В деревне будешь жить у Матвеича, он уже и дом свой на тебя отписал.
У Кости вырвался тяжелый вздох. Скорая разлука вгоняла его в тоску.
— Так надо, милый. — Клара подставила ему шею для поцелуя. Она у неё была тонкая и белая, словно веточка крушицы.

Время травы
Мой муж гений. И поэтому я пишу эту книгу. Про то, как он талантливо мешает бетон, льет из него ступеньки для веранды, делает пруд для уток, дом для попугаев, фонтан для полива помидоров. Боже, зачем он посадил здесь помидоры, кинзу и всякую прочую руколу, если мы уедем раньше, чем они зацветут. Скоро у нас закончатся деньги (гонорар за сценарий, который не пишется), и мы покинем наше благословенное Сагареджо — городок, с которого начинается Кахетия — винная провинция Грузии. Вот вечно я всё уточняю. Вся наша жизнь — документальное кино. Мы всё снимаем на камеру, чтобы жестких дисков в архиве становилось больше, и потом было что потерять.
Иракли ведет во дворе археологические раскопки. В сарае, чудом уцелевшем после постройки канализации, найден пакет с видеокассетами.
— На одной из них записана моя мама! — гордо заявляет он. Его не смущает, что несколько лет этот бесценный архив лежит под дождем и покрыт паутиной.
Сегодня задокументированы новые бессмертные мгновения: первый прикорм Фикоси и кругосветное плавание Иракли. Здесь должен быть крупный план.
Фикосе пять месяцев (вообще она Софико, русская версия — Софикося), и мы решили первый раз покормить ее человеческой едой — кабачковым пюре. Кормили серебряной ложечкой, на балконе, чтобы освещение было получше, выстраивали кадр — подтягивали в него горшки с геранью. Цветок под названием Фикося сиял младенческой круглостью и послушно открывал ротик. Снимали на две камеры — Алуда был вторым оператором. Иракли учил его, как резать кадр. Не хочется упускать подробности.
Фикося плевалась кабачком и хватала ложечку. Зеленоватое пюре стекало по листьям герани. Снято!
Второй сюжет тоже достоин описания.
— Я буду плавать во дворе! — торжественно объявил Иракли и скинул с себя надоевшие джинсы.
Тут важно заметить, что плавать в нашем Сагареджо решительно негде. Единственный водоем на всю округу был вырыт моим мужем по глубочайшему вдохновению и достигает в глубину 30 сантиметров — пруд для уток, устроенный во дворе. Наши утки продержались в нем четыре дня, потом их постигла тяжелая участь — быть съеденными какой-то нехорошей собакой. Но это уже фильм ужасов, а я пишу комедию.
В общем, во дворе тоскливо сох кусок полиэтилена. Довольный Иракли наполнял свой бассейн водой из шланга. И все-таки мне не верилось, что он нырнет в эту лужу. Но человек способен на многое, лишь бы не делать то, ради чего он оказался в данной точке пространства. Даже нырнуть в лужу.
Помню, однажды моя подружка Вика в походе по Краснодарскому краю легла в настоящую, глубокую и очень грязную лужу (с головой!) на спор с нашим приятелем. А спорили они на мороженое.
Я распахнула шторы и окно, как театральный занавес. На дальнем плане зашелестели бамбук, мушмула и инжир трех видов. Прежде чем сесть за сценарий, режиссер должен вырастить приличный лесосад!
Во дворе грустно лежал кусок полиэтилена, приложенный кирпичами. Внутри поблескивала водичка. Рядом с этой ванной стояли две бутыли из-под вина, символизирующие шампунь и гель для душа. И вот Иракли торжественно вошел в свою заводь и лег. Он плескался, тянул носок, делал ножкой и похлопывал себя по плечам. Если бы вы смотрели на этот спектакль из комнаты, вы бы увидели, что бутыли из-под вина 20-литровые.
— Может, ты все-таки начнешь работать, — робко спросила я, когда Иракли вернулся из своего дельфинария.
— Я буду писать, когда ты перестанешь об этом говорить, — гордо парировал он.
Прошло двадцать дней после нашего приезда в цветущее Сагареджо. В итоге, отчаявшись вдохновить своего домашнего гения на работу, я взялась написать роман. А почему бы нет, если куры разгуливают огромные, как динозавры, горы растут со всех сторон, и соседская корова ест наши грецкие орехи прямо с дерева и вместе с ветками.
В это время наш дедушка Анзор сидит на стульчике, качает коляску с Фикосей и вздыхает: «Старый я стал, ничего, кроме любви, уже ребенку дать не могу».
Тут я понимаю, что вся мировая поэзия и философия проседают.
— Агыыы, — поет Анзорик тихо, как птичка.
— Хрррры, — громко рычит на него Фикося.
— Ну ней, на нау, ну ней, — медитативно напевает Анзорик и весь светится. Ему семьдесят шесть, и он дожил до внучки.
Фикося издает вопли койота.
По дому плывет запах ткемали. Иракли месит ткемали в тазу, разбрызгивает его по веранде, которую мы уже никогда не отмоем, и непрестанно зовет меня:
— Учись, как надо готовить ткемали, я же не вечно буду жив!
Я предлагаю ему жить вечно, потому что отмывать бутылки и банки, поросшие вековой пылью, у меня уже нет никаких сил.
Иракли сам хватает ершик и трет голубоватые бутылки от боржоми. На чистых бутылках вырисовываются сияющие олени, как в сказке про серебряное копытце.
Чтобы жизнь была не совсем уж прозаичной, Иракли спрашивает с хитринкой:
— А хочешь стаканчик лимонада? Домашнего.
Конечно, хочу! Тогда он достает из холодильника холодной минералочки, наливает полчашки и добавляет только что сваренный ткемали. А дальше… Меня поймет только тот, кто это проделывал. Дальше начинается буря в стакане воды. Розовая минералка закипает, выходит из берегов, пена поднимается все выше, льется через край, в раковину, на пол, лимонад повсюду. Иракли дегустирует. Он счастлив. Отлично. Теперь он уделал не только веранду, но и кухню. Это чтобы мне было чем заняться, когда я покончу с творчеством.
— Эх, ноутбук тебе только мешает, — вздыхает Иракли. — Только я подумал, что из тебя к старости еще, может, выйдет приличная старуха, как ты опять что-то пишешь!
В ночи Иракли выходит с фонариком во двор и поливает свои деревья. Здесь кульминация и развязка. Потому что он ждет этого часа весь день, а иногда мне кажется, что всю жизнь.
— Когда человек поливает растения, он поддерживает жизнь на планете, — говорит Иракли.
Стрекочут цикады. Звезды огромные, как тарелки. Я смотрю в небо и пытаюсь опознать созвездия. Но сверху на меня смотрит не Млечный путь, и не Орион, а моя дорогая кастрюля, точная копия ковшика из нержавейки с длинной ручкой, только огромная-преогромная. У Вселенной хорошее чувство юмора.
Фикося спит. Мы с Анзориком пьем саперави.

Все включено
Дверь не поддавалась, сколько бы Софья ни билась плечом о коричневый дермантин и ни пыталась провернуть ключ. Замок снова заклинило.
— А свет ты кому гореть оставил? — буркнула она в дверь.
Измерив лестничную клетку шагами, сняв жиденькую паутину с перил, наслушавшись безответок, Софья присела. Сначала на корточки, а когда затекли ноги, подобрала полы пальто и уселась прямо на выцветший коврик в полоску. Из рабочей сумки с потертыми ручками торчала папка, а из пакета с пожамканным лого «Пятерочки» выглядывали любопытные картофелины. Одной рукой Софья перебирала связку ключей, а другой сжимала квитанцию за свет.
Хлопнула дверь в подъезд. По лестнице знакомо зашаркало.
— Чего развалилась? Домой не пускают? — Борис заулыбался, пытаясь неочевидным приветствием заставить жену забыть, что она собиралась ругаться. Потянулся к пакету, заглянул внутрь, но Софья ударила его по руке и поймала выкатившуюся из пакета картофелину.
— Где носит тебя? Почти час коврик нагреваю для соседской кошки.
— Мусор выносил. Устал дома сидеть. Прогуляться вышел. Газету принес. — Он подал было ее жене, но передумал — отлупит еще. Поди знай, в каком Софья настроении: боевом или поверженном.
Из газеты высунулся вкладыш.
— Смотри-ка, туры предлагают! Все включено. Египет. Греция. — Борис помахал цветастой брошюркой у самого носа жены. — И мы поедем когда-нибудь! А тут у нас что? Мальдивы! На Мальдивы и поедем! Решено!
— А чо не на Бали?
— Можно и на Бали… — Он протянул ей руку, помогая встать.
— Ты счет за электричество видел? А за воду? Свет кому горит? Еще и коммуналку подняли…
— Я нас, кстати, вычеркнул с листка должников. Замазал черным маркером! — Борис подмигнул.
— Лучше бы ты работу нашел. И замок починил. Сколько раз говорить? Мастера бы вызвал, если сам не можешь, — прошипела Софья.
— Так ведь я… — начал было он, но замолчал. Навалился на дверь, ввернул ключ. — Прошу, — раскланялся, пропуская жену вперед.
Софья подобрала валявшиеся у прихожей носки, поставила ровно мужнины кроссовки. Прошла на тесную кухню. Дверца шкафа встретила ее скрипом.
— Плазму сделай потише, — крикнула она, прибавляя звук на меленьком кухонном телевизоре. — Новостей не слышу.
Надела передник. Тут только заметила раковину, заваленную тарелками, а на столешнице — три чайные кружки с подсохшим пакетиком в каждой.
— Гости были?
— Шутишь, что ли? Какие гости? — проорал Борис в ответ из гостиной.
— А чашек чего три? Из одной и той же не пьется? Из одной тарелки не естся?
— Чего ты такая злая сегодня? С начальницей поскандалила?
Софья перемыла посуду. Вывалила в раковину картофелины, тщательно оттерла каждую. Приготовилась чистить. Открыла шкафчик под раковиной, поджала губы: из ведра торчал пакет. Пакет, распухший от мусора.
Закатав рукава водолазки, некогда черной, а теперь цвета облезлых мышей, Софья взяла ведро двумя руками. Стараясь ничего не выронить, донесла его до гостиной и поставила на журнальный столик, закрыв мужу обзор.
— Издеваешься? Ты же сказал, что выбросил мусор!
— Про этот забыл. — Борис заерзал на диване, пытаясь не пропустить ни гола, ни фола.
— Чем ты вообще весь день занимался? — Софья уперлась руками в бока. — Чем? Посуда не мыта, полы не пылесошены, растения от жажды изнывают. Чем ты занимался? Футбол смотрел? В приставку рубился?
Борис откинулся на спинку дивана.
— Работу я искал. Отправил резюме в двенадцать фирм.
— Целый день ушел на двенадцать кликов?
— В девять контор позвонил.
— И?
— Позвали на собеседование. В понедельник иду.
— Замечательно! Может, стоит готовиться начать?
— Я начал. Статьи читал, советы. Пишут, что внешний вид — залог успеха. Постричься бы мне. И костюм новый купить.
— Костюм тебе? Постричься тебе? Еще чего?
— Ботинки зимние не помешали бы. Завтра минус обещают. У тебя ведь сегодня была зарплата?
— А ничего, что я в парикмахерской полгода не была? Сама стригусь. Сама крашусь. Колготки штопаю. Костюм он захотел! И ботинки! Больше ничего не хочешь? Квитанции оплатить, например?
— Я же вычеркнул нас из списка должников. — Борис развел руками.
Софья принялась изучать потолок, собирая остатки терпения.
— Лампочка перегорела. — Она указала пальцем на люстру и, захватив ведро, вышла.
Пока варилась картошка, Софья щелкала пультом.
— Мечтали о кормильцах, а стали жертвами нахлебников. Сегодня мы поговорим с женщинами, которые не понаслышке знают о мужчинах-паразитах. Встречайте Зинаиду. Муж сидел у нее на шее шестнадцать лет. Устроил себе «все включено» в обычной хрущевке.
Запахло интригами и вареной картошкой. Пропищал таймер.
— Ужин готов, — крикнула Софья.
— А я знаю, чего ты такая злая. — Борис переключил канал. — «Инстаграмов» насмотрелась, да? Модельки на пляжах покоя не дают? Будет и у тебя пляж. Как работу найду, так сразу и поедем. Первая линия. Все включено. На неделю, а то и на две. Ты это, готовиться начинай…
— К чему?
— К чему, к чему? К морям. Чтобы по пляжу не стыдно было дефилировать. У Роналду, видела, жена какая?
Софья встала из-за стола.
— Ты куда?
— Пойду до помойки продефилирую, — сказала она, захватывая мусорный пакет и брошюрку.
— Может, поедим сперва?
Софья махнула рукой.
— Аппетит пропал.
— Пива, может, возьмешь? Если поторопишься, в магазин успеешь.
***
Софья швырнула пакет в контейнер. Звякнули бутылки, взвизгнула лакомившаяся объедками кошка. Взглянув напоследок на фото египетских пирамид, белых домиков Санторини и мальдивских бунгало, таких далеких и недосягаемых, как тело чертовой жены Роналду, Софья замахнулась было брошюркой в черное и вонючее нутро контейнера, но вдруг остановилась. Поднесла листок к самым глазам. Кривые, точно спьяну, цифры, местами смазанные, тянулись от «трех ночей в Санкт-Петербурге» к «пансионатам Подмосковья».
Картинки закружились у Софьи в голове, как первый снег в подсветке фонаря. Думала, он в пивнушке пропадал с друзьями своими никчемными, а он-то! Он-то! Домой ее, небось, привел! И чаем из кружки напоил! Специально из ее кружки, из Софьиной!
Чем дольше стояла она, дрожа от холода, тем мрачнее картины рисовало воображение. И тем большей дурой Софья чувствовала себя — этакой Зинаидой из репортажа, которая вместо того, чтобы каждое лето ездить на моря, кормила нахлебника и развлекала его, точно аниматорша из пятизвездочного отеля — шестнадцать лет без аплодисментов и чаевых.
— Хватит с меня! — Софья позволила слезе дотечь до самого подбородка и только потом смахнула ее рукавом. — Завтра же и улечу!
На лестничной клетке она принялась набирать цифры. Одну за другой, медленно, будто вынося мужу приговор — на выселение из затянувшегося на семь месяцев ол инклюзива.
За дверью смеялись. Смеялся Борис. Смеялся над ней. Над кем же еще?
Софья нажала на зеленый кружок. Включила громкую связь, чтобы не отвертелся. Резко потянула за ручку.
Гудки потонули в хохоте. Хохот смолк в противной мелодии.
— Секунду. — Небритый мужик подал отвертку Борису. — Видать, еще у кого дверь заклинило.
— Пиво где? — спросил тот одними губами, тыча пальцем то на мужика, то на дверь.
— Слушаю, — ответил слесарь в трубку.
— Слушаю, — повторил за ним Софьин айфон.

Дверь
Загремели ключи в вечернем ритуале: три поворота в верхнем замке, четыре в нижнем. Оксана перешагнула порог в темноту квартиры, сосредоточенно читая уведомления с телефона, захлопнула дверь и, не глядя, заперлась: один щелчок в верхнем замке, три с половиной громыхания связки ключей в нижнем. Последнее уведомление содержало список изменений в новом обновлении: наконец-то разблокировка экрана заработала в паре с часами и больше не придётся снимать очки или выискивать удачный ракурс, когда с утра телефон опять решит не узнавать отёкшее за ночь лицо. Пара нажатий, и настройка включена.
Переодевшись в домашнее и закинув телефон на диван, Оксана вдруг ощутила вибрацию на своём запястье: надпись на экране часов гласила «Телефон разблокирован этими часами. Заблокировать?». Оксана ухмыльнулась — новые функции часто подлагивали поначалу, ничего удивительного, — заблокировала телефон и положила экраном вниз.
На ходу распуская волосы, Оксана перешагнула порог ванной, и стойкий запах дегтярного мыла заполонил её лёгкие. Активировав защиту от воды на часах, она вошла под душ, включила горячую воду и погрузилась с головой в шум воды. Цветочный аромат шампуня и пар постепенно помогали расслабиться после долгих будней. И вдруг, когда колкая пена с волос была смыта, запястье вновь укололо привычной вибрацией. «Телефон разблокирован этими часами. Заблокировать?», — загорелось на экране часов. Оксана раздражённо прикоснулась к экрану часов, но кнопка блокировки не среагировала. Она коснулась ещё и ещё раз, и только когда предупреждение исчезло, вспомнила о защите часов от воды, поспешно сняла её и поняла, что с исчезновением уведомления удалённо заблокировать телефон не выйдет.
Сквозь весь жар Оксане вдруг стало холодно до мурашек: почему телефон вообще оказался разблокированным? Он же лежит на диване экраном вниз, переворачивать его некому — сквозняку такое не под силу, а ни сожителей, ни домашних животных в доме не водилось и заводиться не планировало. Оставалось два варианта: либо телефон всё так же покоится в комнате и предупреждение лишь ошибка последнего обновления, либо в квартире присутствовал кто-то ещё.
При мысли о постороннем Оксана тихо выругалась и поспешно зажала себе рот рукой: шум душа стал для неё столько ненавязчивым, что ненадолго ушёл на задние планы внимания. Разумеется, никто её не слышал и не мог услышать.
Оксана отодвинула шторку душа — дверь в ванную была не заперта. Навязчивая мысль пронзила сознание: запереться, срочно запереться! Конечно, при желании можно было бы легко сорвать с петель и выбить её, но тридцать миллиметров ДСП лучше, чем совсем ничего. Оксана медленно наступила на коврик, боясь поскользнуться и, если там, за дверью, кто-то действительно был, выдать этому ему не просто своё присутствие — свою осведомлённость о нём. Замок на двери издавал противный щелчок, слышимый на весь коридор, — Оксана узнала об этой мелочи, когда подруги были у неё на новоселье. Защёлка будто сопротивлялась медленному вращению, словно раньше она только казалась лёгкой и подвижной, а теперь, когда плавное закрытие по скорости и сосредоточенности больше напоминало взлом сейфов из фильмов, поворачивалась до боли тяжело. Раскрасневшиеся от пара пальцы побелели от напряжения и с каждой секундой поворота дрожали всё сильней. Невидимая тревога подгоняла Оксану: среди шума воды слышались шаги и было неясно, реальность это или ей просто кажется. Вдруг холодная мокрая защёлка выскользнула из онемевших пальцев и громко закрылась — словно уведомление «вас заметили».
Оксана отшатнулась от двери и оцепенела. Казалось, только сердце ещё живо в ней, отмеряя ударами время до… до чего? Тёплый свет лампочки, шум воды, смутные очертания в запотевшем зеркале — всё как обычно, ничего, совсем ничего не изменилось. Оксана робко прислонилась к двери, вжалась в неё ухом, сосредоточенно прислушиваясь. Только вода и затухающий в норму пульс, никаких посторонних, никакой опасности. Оксана выпрямилась и выдохнула: никто не смог бы проникнуть сквозь запертые двери, это просто неудачное стечение обстоятельств. Она подняла запястье — на здоровый сон осталось меньше времени, чем планировалось. Как долго её занимала такая глупость!
Смыв мыло с кожи, Оксана вытерлась полотенцем, промокнула им волосы и намотала на голову. Почистив зубы, она прикоснулась к защёлке и уже была готова отпереть дверь и выйти из ванной, как неясное беспокойство вернулось к ней. Желая унять остатки тревожности, Оксана решилась на последнюю проверку — подключиться с часов к камере телефона. Нет ничего более успокаивающего, чем увидеть, что телефон на месте, что он всё так же лежит на диване экраном вниз, а над ним только потолок комнаты и хрустальная люстра. Колёсико загрузки вертелось непривычно долго, Оксана уже была готова закрыть приложение и отправиться спать, как часы наконец-то подключились к камере телефона. Тревога никуда не ушла. Камера глядела на дверь в ванную.

Дед Иван
Каждый год 9 Мая дед Иван надевал все свои медали, белую летнюю шляпу «в дырочку» и шел в гости. Помню, как важно, с достоинством он заходил к нам во двор, садился на лавку под сливой, снимал шляпу, клал ее на колени, затем медленно разглаживал на исчерченному морщинами лбу жидкие серые волосы и говорил со значением:
— С праздником.
Тонкие запястья, впалые щеки, дряблая шея с крупным острым кадыком, прямая струной спина. Голос у деда был сипловат, слух снижен, в голове сидел военный осколок. Помню, как дед вынимает из внутреннего кармана пиджака клетчатый носовой платок, потом достает из глазницы вставной стеклянный глаз, неторопливо и бережно протирает его и ставит обратно. На неподготовленного собеседника это действо производило сильное впечатление, но не думаю, что деда это беспокоило. Его вообще не беспокоило мнение окружающих. Свои представления об устройстве мира и морали он считал истиной, сомнений и колебаний не знал.
Мой дед Иван родился в селе Бредуны Полтавской области. Его отец, мой прадед, звался Юхимом, имел доброе хозяйство, хороший дом и наемных сезонных работников. Нраву, говорят, прадед был крутого, но разумного, и на жену Мотрю, мою прабабку, без надобности не серчал. Детей у них было пятеро: трое сыновей и две дочери. Четвертым родился Иван. Когда революционные события докатились до села Бредуны, мой дед украл из дома ружье и сбежал в лес, — отстреливаться от продразверстки. Прадед деда в лесу отыскал, побил, забрал ружье и заставил вернуться. Хозяйство пришлось отдать, зато семья уцелела.
Система ценностей в течение жизни деда Ивана не менялась. Особенно он гордился грамотностью, — закончил церковно-приходскую школу и даже знал дроби, тайны коих были велики и в то время в селе Бредуны доступны единицам. Говорят, в семье долго хранился Псалтырь с дарственной подписью директора школы за отличную учебу. Дедов Псалтырь.
Сразу за ученостью в системе ценностей стояли хозяйственность и умение «работать руками». Дед был хорошим плотником, даже мебельщиком. Помню деревянный буфет с витиеватыми ушами, с ящичками и полочками, с резьбой на дверцах, темный, большой и скрипучий от времени. Дед его сделал своими руками. Говорили, что практически вся мебель в его доме была рукодельная. Из недр детской памяти возникает смутный образ — дед в рабочей застиранной рубашке, с рубанком, строгает толстую, свежую доску. Комнату память не сохранила, только ряд столярных инструментов — долото, уровень, тесло. И слова — названия этих инструментов. Мне кажется, я знала их всегда.
Дед женился в возрасте тридцати лет на Прасковье Климовне Шпортько, моей бабушке, которая была родом из села Шпортьки той же Полтавской области. Бабушка была очень тихая, добрая женщина, круглолицая и даже внешне какая-то мягкая и податливая. Она была почти безграмотная, и деду не перечила ни в чем. Их старший сын — мой отец, родился перед войной, в 1939 году, а в сорок первом дед Иван был мобилизован. Воевал исправно, под Будапештом был тяжело ранен и вернулся домой сразу после освобождения от немцев Полтавы. Вместо одного глаза зияла страшная дыра, вторым почти не видел, в результате контузии потерял слух, все тело было в осколочных ранениях. Осколок сидел и в голове, убирать его было слишком рискованно, дед мог бы не перенести операцию. Говорят, по двору ходил — на детей наступал — слепой, глухой, и характер, не приведи господь.
Зато были награды — целый иконостас орденов, медалей и разноцветных планок.
Несмотря на состояние здоровья деда Ивана после его демобилизации, в семье родились еще два сына. Выкройка дедовой худой, жилистой, прямой, как струна, фигуры лекалом легла на всех сыновей и так же четко обрисуется через много лет в моем двадцатилетнем сыне, его правнуке. Всех своих детей дед Иван «выучил на врачей», что ставил себе в заслугу и отчасти, думаю, был прав. Он был убежденным домостроевцем. Важные решения принимал единолично, разъясняя, впрочем, эти решения сыновьям на семейном совете, — собирал подросших пацанов за столом в большой комнате. Бабушка на эти советы не допускалась.
Такие иллюзорные понятия, как доброта и сострадание, по крайней мере, в нынешнем их понимании, не имели для деда большого значения. Дед ходил с ружьем на лис, сам снимал с домашних кроликов шкурки. По осени тушки животных висели во дворе за сараем, подвешенные в распорку за лапы, с шей и глаз стекала на землю черная кровь. Эта капающая кровь и то, как ловко, словно чулок с ноги, снимал дед Иван пушистые кроличьи шкуры, и запах уксуса, в котором потом дубил шкурки, остались в моей памяти ощущением взрослого необходимого действа, а вовсе не ужасом и детским страхом, как можно было бы предположить.
Смутно помню их с бабушкой дом в Бредунах. Помню, скорее, по ощущениям и запахам, чем визуально.
Прохлада… Большая темноватая комната, в ней тяжелая мебель, толстые, крепкие, как воздушные шары, подушки — горкой на кровати, прикрыты вязаными белыми кружевами.
Сыворотка… На веранде на самодельных деревянных рогатинах висят белоснежные марлевые мешки с домашним творогом, с них в большую железную миску капает сыворотка, она пахнет кислой сыростью.
Страх… В глубине сада темный деревянный крест. Это могила. Давняя, с войны. Чья — неизвестно, забыла. А взрослой уже — не спросила.
Тепло… Во дворе за кукурузой глиняная печь. Возле нее стоят две рогатины, бабушка ими вынимает из печи казанки. Так она готовит еду. Я думаю, газ в баллонах в доме был, но в глиняной печи — удобней, привычней и теплее. Ощущение мягкого тепла тихого украинского вечера, смешанного с теплом от глиняной печи, стоящей прямо во дворе, — это ощущения далекого детства, словно другой жизни, много лет назад прочитанной книги.
Когда мне было девять лет, бабушка умерла.
Погрустив положенный год, дед женился во второй раз, но вскоре развелся из-за несхожести характеров. Еще через полгода дед вновь женился. Новая “городская” жена приучила его носить белую летнюю шляпу и ходить на прогулки по набережной Днепра. На набережную выходили окна квартиры в многоэтажном доме, которую дед получил как ветеран войны и инвалид первой группы. Новую жену звали Векла, дед ласково звал ее Веточкой. Веточка совсем не была похожа на мою бабушку, а дед вел себя с ней совсем по-другому. Он гордился ею, что ли. Ее весёлым смешливым нравом, ее цветными светлыми платьями, ее крашеной сединой и городскими привычками к бессмысленным прогулкам, украшательству праздничных блюд петрушкой и умению говорить тосты за общим столом. Кажущаяся разница отношения деда к Веточке вовсе не означала перемен в самом деде Иване. Его взгляды и принципы остались верны идеям домостроя, но место и роль этой женщины дед видел по-другому.
Они прожили вместе семнадцать лет. К концу жизни дед стал ходить с медалями постоянно, его часто приглашали на уроки мужества в школы, где он любил рассказывать о том, как форсировал Днепр. С возрастом дед все больше увеличивал свою значимость в этом эпизоде военных действий, в конце концов, получилось, что форсирование произвели дед Бредун и Леонид Ильич Брежнев, чуть ли не вдвоем.
Умер дед Иван в возрасте почти девяносто четырех лет, от старости, на руках у Веточки. Я вспоминаю его без особой любви, но с уважением к силе и убежденности в своей правоте, к последовательности и верности принципам. Истоки его решений всегда были внутри, ничего извне не могло нарушить их ровное и уверенное течение. До конца дней своих дед давал ценные указания постаревшим сыновьям, ругался с невестками, учил жизни взрослых внуков и от всех, включая случайных прохожих, требовал послушания и кротости. И кто знает, может быть, он был абсолютно прав. Во всем.

День знаний
Репетиция музыкального ансамбля закончилась поздно, поэтому на предложение подруги переночевать в общежитии Анечка согласилась, не раздумывая. Первое, что увидела, когда проснулась, — серый, в пятнах, потолок, и не сразу вспомнила, где находится. Быстро встала, взяла полотенце и вышла в коридор. Подругу не будила: ей ко второй паре, пусть спит.
Коридор был пуст. Солнце упрямо пробивалось через мутное, в подтёках, окно в коридоре и освещало потёртый коричневый линолеум. Первая пара уже через час. Где все? Одна из дверей распахнулась, чуть не стукнув по лбу — в коридор вышел заспанный Витя.
— Привет, чуть не убил, — поздоровалась Анечка.
— Привет. На первую идешь?
— Иду. Психология. Экзамен скоро.
— На первом этаже встретимся, без нас не уходи, вместе пойдем. Генка тоже встал.
Витя, направлявшийся в душ, был с махровым полотенцем, перекинутым через плечо, в плюшевом полосатом халате и в пляжных шлёпках. Анечка удивилась, увидев его в таком виде. В институте, в одном и том же костюме-двойке, Витя, скорее, напоминал физика, чем скрипача, а аккуратная бородка и очки так умело скрывали тонкие эмоциональные оттенки на его лице, что никто никогда не знал, о чем Витя думает: в институте он был тихий, в общественную работу не лез и просто учился.
Через двадцать минут Анечка с Витей ждали Гену внизу. Анечка, навертевшая стильный хвост, подкрепленный яркой заколкой, без макияжа — с собой ничего не было, кроме помады, — сидела на облезлом голубом столе, болтая ногами, Витя стоял рядом. Они вполголоса обсуждали, какие у кого долги: в год Олимпиады сессию назначили в мае.
— Эй, стоять! — Гена свесился с перил. — Психологиня заболела, Сева из параллельной сказал. У них вчера занятий не было.
— Можно не ехать, что ли? А чего так рано собрались? Нам теперь только к двенадцати. — Анечка и Витя посмотрели друг на друга.
Вдруг Витя внёс предложение:
— Здесь рядом ВДНХ. Знаете ли вы, люди, витающие в облаках, жизнь простого человека? Знаете ли вы, что в павильоне «Виноделие» ежедневно проводят дегустации вин?
— Дегустации? Вот прямо с утра? То есть прямо в девять утра и проводят? — посыпались вопросы у Анечки.
Решили, что предложение вдохновляющее.
От общежития до главного входа ВДНХ прошли минут за тридцать. Было прохладно, но Анечка не сомневалась, что день будет по-летнему теплым. По пути ребята делали Анечке комплименты. В основном их делал Гена — его комплименты были красивыми и касались её внешности и джинсов. От такого напора Анечка даже терялась слегка. Гена был старше всех на курсе, к тому же делал карьеру по комсомольской линии и прошлым летом вместо Подмосковья отправился работать в летний лагерь в Венгрию. Оттуда он приехал в новых джинсах и с флюидами мужской сексуальности. Джинсы не были американскими, но тоже стояли торчком, как полагается.
Дошли до павильона «Космос», по пути обсуждая подготовку к экзаменам и предстоящую дегустацию. Боялись, что денег не хватит, но Витя сказал, что еды там не дают, а вина наливают так мало, что дорого это не стоит.
Павильон «Виноделие», запрятанный среди распустившейся майской листвы, с окнами-арками в восточном стиле и виноградной лозой по фасаду, был небольшой. На десятичасовом сеансе народу было немного. Подтянутая женщина с высоким бюстом, как объяснили — сомелье, объявила тему дегустации: Крымские вина. Всем раздали подносы, на которых стояло девять пузатых фужеров, на дне каждого плескалось вино. Сомелье бодро подняла первый фужер, взболтала его и начала рассказ о подвалах Судака, аккуратно держа фужер за тонкую ножку.
Рассказ сомелье лился плавно. Большое количество цифр и фактов незаметно погрузило в привычную атмосферу лекции, поэтому Анечка слушала внимательно: привыкла. После объяснения полагалось попробовать предложенный сорт вина и попытаться найти в нём нотки, перечисленные в лекции. С непривычки нотки находились не все, но Анечка не отступала. Витя с Геной тоже.
Атмосфера царила приятная. Постепенно выпили всё, что было в фужерах, попутно представляя, как лучи солнца превращаются в изысканное вино, а в зависимости от почвы, высоты над уровнем моря и произрастающих растений данного конкретного региона вино наполняется сладостью, кислинкой или даже терпкостью. После третьего сорта вина Анечка почувствовала, что очень хочется есть, но она терпела, хотя голова уже начала кружиться — и от выпитого, и от изысканности обстановки. Правда, на подносе лежали два тоненьких крекера, примостившись в правый угол подноса, в то место, где мог бы уместиться десятый фужер. Было понятно, что крекеры нужно беречь, растягивая до конца сеанса.
Анечка, Витя и Гена вышли из павильона «Виноделие» в приподнятом настроении, обогащенные знаниями: страна вдруг открылась с необычной, но очень притягательной стороны.
— Вы заметили, как Москва изменилась к Олимпиаде? Красота, ярко всё, — сказал Гена.
— А вы заметили, что в магазинах полно индийских товаров? Не Европа, конечно, но зато ассортимент, — поддержала Анечка.
— Вообще, я хочу сказать, у нас на факультете неплохая программа, во всяком случае и композиторов современных изучаем, и даже историю джаза, — добавил Витя.
Сержанту Каблукову было скучно. Он сидел на пассажирском сиденье милицейского уазика, патрулирующего улицы в районе ВДНХ, скрестив руки на животе. С тех пор как на въезд в Москву ввели пропуска, народу в ней сильно поубавилось.
«Время к полудню, а на улице — никого», — подумал сержант и вздохнул.
— А ну, Васёк, тормозни, — сказал вдруг сержант Каблуков, обращаясь к сидевшему за рулем рядовому Данилину, увидев трёх молодых людей, переходивших по зебре дорогу. Молодые люди болтали и смеялись.
— Сейчас мы тебе нарисуем — как из ничего конфетку сделать. Интеллигентики, — добавил он себе под нос, выпрыгивая из уазика.
— Всем пройти в машину, — скомандовал он негромко.
— В какую машину? Зачем? — нестройно, но одновременно спросили все трое.
«Милиционер, видимо, потерял дорогу, заехал не туда, сейчас всё выяснится», — подумала Анечка. Она ждала, что он задаст какой-нибудь вопрос, например, как проехать туда-то, мало ли какие вопросы могут быть — милиционер тоже человек.
Сержант Каблуков продолжил:
— Проезжую часть следует переходить под прямым углом, а вы отклонились на один метр влево.
Лишние движения ему делать было лень, но он стал слегка подталкивать к уазику всех троих.
«Вот, не надо было пить с утра», — подумала Анечка. В нелепой ситуации она старалась мыслить адекватно и по возможности трезво.
— Мы ничего не нарушали, — сказал Витя.
— Послушай, командир, дорога пустая, и перешли мы по зебре, — сказал Гена, пытаясь перехватить взгляд сержанта Каблукова.
Теперь сержант смотрел ему прямо в глаза, и Гена продолжил объяснения, размахивая руками. Голос его стал высоким.
На подмогу первому милиционеру из уазика вылез второй милиционер, помоложе. Смотрел он в сторону, но встал стеной рядом с первым, пытаясь затолкать ребят в машину.
— Не подпишете — отвезём в отделение и сообщим в институт.
«Меньше всего мне это нужно. Распределение на носу», — подумал Гена. «Тихо бы остаться в Москве и всё…». Гена первым залез в уазик и подписал протокол.
Анечка почувствовала, как от обиды глаза наполняются слезами. «Понятно же, что издеваются…» Она насупилась, но тоже подписала.
Молча подписал и Витя…
— Теперь кого-нибудь на обгоне или превышении тормознем, — довольно сказал сержант Каблуков рядовому Данилину, когда уазик тронулся. — А то так и план по протоколам не выполнишь.
Рядовой Данилин открыл левое боковое окно и выставил в него локоть: было по-летнему тепло.

Зачем?
Выйдя из машины, я не стал сразу смотреть вверх: и так знал, что он там — невысокий, едва до половины окна ростом, всматривается через стекло, ждет, как и всегда. Раньше, в дни наших приездов, они стояли так вдвоем: она на кухне, а он в комнате. Моя двоюродная бабка не родила детей и обожала нас, внучатых племянников. А он любил ее. Педант и чистюля, готов был терпеть любые наши шалости, шум, бардак после — лишь бы ей было радостно. А теперь… привык, наверное. Мы выросли и почти перестали приезжать, она умерла. Он, усохший почти до невесомости, гладко выбритый, неизменно опрятный, часами гулял в прибрежном парке. Теряя слух, он постепенно погружался в тишину — перестал включать телевизор, не доставал книг из своей большой библиотеки. В те редкие дни, когда мы приезжали в гости, я не мог понять — он радуется нашим визитам или терпит.
Махнул ему рукой и увидел, как он отвернулся — пошел открывать дверь.
Пили чай. Ножом, лезвие которого было сточено до узкой полоски, он аккуратно нарезал сыр с колбасой для бутербродов. Я заметил, что его лицо стало совсем гладким, словно волны времени прибоем постепенно стерли все, что было нажито: переживания, устремления, желания — оно стало молочно-прозрачного цвета и подсвечивалось изнутри чем-то нездешним. Непривычно для него я разглядел рассыпанную по щекам соль щетины. «Похоже, все», — мелькнула мысль. «Ну что, дед, как ты?» — спросил вслух. По губам поняв, что я что-то сказал, он улыбнулся: «бери сахар», и положил мне руку на плечо. Впервые, кажется.
На следующее утро его забрала скорая. «Похороны в среду», — написала мама через день.
Тяжелый, влажный снежок глухо чмокнул о стену морга. «Косой!». Молодые парни в одинаковых черных пальто с траурными повязками на рукаве, раскрасневшиеся, сильные, нараспашку, были не на шутку увлечены боем. Заметив нас, нехотя прекратили, отряхнулись и закурили. Рыжий здоровяк направился к нам, по пути, спохватившись, крикнул, обернувшись: «Леш, если пойдешь, возьми мне капучино» — а потом, состроив скорбную мину, представился: «Алексей, буду сопровождать вас сегодня. Примите мои соболезнования. Скоро начнем прощание». Сесть было некуда. Вчера выпавший снег подтаивал, и ногам становилось сыро, промозгло поеживаясь, мы стали ждать. «Интересно, дед был когда-нибудь в Питере? — подумал я. — Нравился ему этот мрачный город?» «Да опять сплошные социальные, — донеслось из группы черных пальто. — Старики мрут, пятерка за день если прилипнет — уже хорошо».
«Хоккей вчера смотрели?» — спросил отец.
Дверь зала распахнулась, и в сырость раннего апреля неожиданно пахнуло ладаном, из глубины с пением «Святый Божий» потекла оживленная толпа людей, они стали рассаживаться в автобус. Их лица были сосредоточены и торжественны. Парни в пальто метнулись внутрь, вынесли гроб и деловито загрузили в катафалк. Не теряя времени, машины тронулись, и площадка опустела. Вдруг из-за туч сверкнуло солнце, показалось, что даже стало как-то теплее, а на душе неуместно, по-весеннему радостно: будто пасха, кулич на кладбище и запах свежеокрашенной оградки.
«Савельевы? — Вышедший сотрудник в форменном костюме, оглядев нас, уточнил: Все, не ждем больше? Хорошо, сейчас запустим».
Он лежал на постаменте, не изменившийся с последней встречи. «Почти не пришлось ничего делать», — с уважением сказал санитар. Дверь закрылась, и повисла тишина. Дед не был крещен. Священник сидел в углу, просматривал записи и ждал следующую группу. Кадило, висевшее на ножке раскладного аналоя, холодно блестело. Мы неловко молчали. В гулко-просторном, холодном, сером зале, под светом ламп, было пусто, как в кузове разгруженного фургона: хотелось уже поскорее захлопнуть створки, чтобы не видеть наготы, хлопнуть ладонью по металлу и крикнуть водителю — «эй, езжай уже, закончили». Запахи, жизнь и распевы тех, что ушли перед нами, словно оседали, и что-то занимало их место; оно подступало к горлу, пробиралось ниже, к сердцу, и все как-то меркло, становилось тусклым. Мелькнула мысль: «Нас за дверьми солнце ждать не будет». «Ну что, Коля, отмучился», — сказала мама, и мы быстро по очереди поцеловали его холодный лоб.
Похороны прошли быстро и сыро. В ресторане неподалеку — я специально выбрал тот, где есть камин, — мы сели ужинать. «Когда хоронили бабушку, у меня на душе была радость, — сказал брат, — было ощущение, что она просто уезжает и мы еще увидимся. А сегодня… словно это конец всему. И думаешь: а зачем? Вот жил и умер. Сказать больше нечего. Ни следочка».
«Я предлагала ему креститься, исповедоваться, книжек приносила. Он отмахивался, мол, поздно мне уже, всю жизнь думал, что Бога нет, а теперь чего уж».
«Кто-то сказал, что ад — это место, где нет любви. Возможно, то как он жил после смерти бабушки, и там, где он теперь — все одно», — сказал я.
«Ну ты хватил, — возмутилась мама, — да и не нам судить, что мы о нем знаем-то».
«Пусть земля ему будет пухом, — выпил, не чокаясь, отец. — Кстати, что ты думаешь про нового премьера?»
Он пришел утром. Я лежал и не мог пошевельнуться от ужаса. Да, честно говоря, и не хотелось дать понять, что я проснулся. Я слышал мерное сопение жены, видел бледный отсвет фонаря на полу, слышал шум редких машин и чувствовал, — он стоит у изголовья и молчит. «Если снова положит руку на плечо, наверное, я тогда умру», — пронеслось в голове. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий…» — начал я, но не смог продвинуться дальше. Попробовал снова, и снова, и так несколько раз. «Дед! Что ты? Уходи, мне страшно!» — мысленно крикнул я, наконец. Стало легче, я дернулся, и на движение, не просыпаясь, жена повернулась и обняла меня. Ее тепло стало наполнять мое тело: сначала сердце, затем кончики пальцев, ноги, и наконец… «Ушел? — прислушался я. — Кажется, да. Зачем приходил?» Засыпая, в полудреме я услышал: «У Любви нет времени и барьеров. Она бесконечна, и смерть ей не помеха. А я любил. Я никогда не был один».
С утра я вспомнил, что давно не причащался.
Со дня похорон деда прошел год. Иногда я возвращаюсь в него мысленно. Удивляюсь той череде впечатлений и ощущений, что были вызваны смертью почти чужого мне человека. Не вижу в них смысла, связности, каких-то особых знаков и выводов. Но, кажется, я стал чаще звонить маме да крепче и дольше обнимать жену.

Зеркало правды
Милый Петр Петрович, или просто Петенька, как звала его ласково супруга, завязывая ему дешевый галстук, был человеком честным, но уж очень несчастным. Откуда это чувство произрастало в нем, он и сам понять не мог, но всё в его жизни не ладилось. Сначала он пытался с ним справиться, победить его самым честным способом — пошел к психологу. Там вспомнились ему давние обиды: несмотря на хорошие оценки в классе, его не любили, аттестат школы с отличием не помог поступить в лучший университет, коллеги над ним подшучивали, а начальник не повышал по службе, невзирая на его упорный труд и вовремя выполненную работу. Всё-то он делал в жизни правильно и всегда оказывался последним в очереди за счастьем. Одним словом — неудачник.
Увы, психолог не оправдал его надежд. Тогда Петр начал обращаться за помощью к астрологам и гадалкам, пугая при этом свою жену.
— Петенька, ты меня этим с ума сведешь, — говорила она ему.
И непонятно, сколько времени бы это все продолжалось и сколько денег было бы безвозвратно потеряно, если бы не один примечательный случай.
Как-то одним благоприятным субботним утром, когда его жена уехала в центр города за импортными сапогами, Петр Петрович отправился на удельный рынок — ему понадобились новые шнурки на потрепанные туфли, и он углубился в трущобы рынка, осматриваясь и не без любопытства поглядывая по сторонам, наслаждаясь свежим запахом весеннего утра. По тесным проходам бегали люди, а продавцы выкрикивали зазывалки и небывало низкие цены. Словом, торговля велась оживленно.
Неожиданно из узкой, тесной палатки выглянул мужчина лет шестидесяти с редкой седой бороденкой и в жеваной шляпе.
— Заходи, чего стоишь, — сказал он фамильярно и сам пошел вглубь магазина.
Петр Петрович недоверчиво взглянул внутрь. Там, среди баночек, скляночек, амулетов и талисманов висело на стене небольшое зеркало в золотой оправе.
— А! Вижу, что тебе нужно, — сказал старик с ухмылкой на лице.
— Да зеркало-то у меня есть, — ответил Петр Петрович и взглянул вопросительно.
— Ть… зеркало! Такого нет. Это говорящее зеркало.
— И что же оно говорит?
— Правду. Ну, заходи, чего стоишь.
Петр Петрович плюнул на землю. «Так много жулья развелось в Петербурге», — подумал он и отправился на поиски шнурков.
— Э, шнурки, — пробубнил мужик, копаясь в коробке с вещами, — сначала в ботинки, а потом на шею.
Эта фраза, непонятно зачем сказанная, удивила Петра Петровича, и он вернулся назад.
— Откуда ты знаешь про шнурки?
— Ничего я не знаю, — ответил тот, — продаю тут разные вещи, да и только. Так будешь пробовать зеркало или нет?
Постояв с полминуты, Петр Петрович рассудил, что старик неопасный, а ситуация очень интересная, и, опустив свои массивные густые брови, неуклюжей походкой подошел к зеркалу. Палатка была пустой, и звук улицы еле слышно доносился, сквозь восточную музыку в магазине. Пахло жасмином от дешевых благовоний. Петр Петрович решился.
— Скажи мне, зеркало, почему мне всегда не везет?
— Потому что ты слишком строгий и бескомпромиссный, — ответило его собственное отражение в зеркале.
Почему это Петр Петрович строгий и бескомпромиссный и как эти его качества характера связаны с везением, неясно, но брови у него опустились, и все лицо его стало одной большой улыбкой.
Последующие несколько месяцев Петр Петрович был сам не свой. В его жизни начались удивительные перемены! Ну, в первую очередь решил он устроить свою карьеру.
— Почему начальник меня не повышает? — спросил он у зеркала.
— Он боится твоего ума и настойчивости, — ответило оно.
Петр Петрович даже выпрямился и стал держать подбородок выше, а потом настолько осмелел, что первый раз в жизни попросил повышение! С коллегами он раньше не общался, держался в стороне, опасаясь, как бы они что-нибудь против него не замышляли. Зеркало сказало, что они его любят и уважают. Так Петр Петрович стал разговаривать с каждым и запомнил их имена!
Словом, наступил у Петра Петровича рай. Он начал носить красивый импортный галстук и приобрел новую модель телефона. Коллеги звали вместе пообедать и смеялись над его шутками. Пока однажды зеркало не сказало ему:
— Жена тебя не любит.
Петр Петрович так и застыл на месте, как гриб. Начал смотреть на неё недоверчиво, шпионить, смотреть переписку и устраивать скандалы.
— Что ты, Петенька, как я тебя, любимого, могу на другого променять, — говорила она ему в слезах.
А мудрый Петр Петрович завел себе красивую любовницу и успокоился.
Но постепенно всё начало меняться вокруг него, вот только он этого не замечал. С каждым днем становился на работе он всё нахальнее и развязнее. Мог позволить себе называть начальника на ты или не разбирать подолгу рабочие папки. Тогда уже его коллеги, в конце концов, брали её со стола и начинали делать его работу сами. Они тоже стали его сторониться: не звали на дни рождения, а он всё равно приходил и раздражал всех тем, что лез обниматься и придумывал обидные прозвища. Зеркало твердило ему:
— Начальник так тебя ценит! Скоро ты получишь его место.
— Коллеги так тебя любят, что стесняются звать куда-то, потому что считают себя недостойными дружбы с тобой!
Заподозрил он неладное, когда босс вызвал его в кабинет. Начальник даже встал из-за стола и начал ругаться самыми неприличными словами, изо рта его брызгали жирные слюни, а третий подбородок плавно колыхался из стороны в сторону.
Уволенный Петр Петрович решил устроить для коллег прощальную вечеринку. После работы он собственноручно надул голубые шары и развесил по периметру зала, таская за собой тяжеленную лестницу, купил несколько бутылок отличного красного вина, которое выбирал тщательно в течение часа, сильно зля нетерпеливого продавца. После взмокший и уставший сел за стол и стал смотреть на круглые часы, улыбаясь сквозь маленькие усики и слушая, как играет в колонках веселая заводная музыка. Она нелепо раздавалась в уголках большого пустого зала. Но никто так и не пришел.
Лицо его осунулось и стало какого-то серого цвета. Всё вино, купленное на двадцать человек, он выпил один и написал своей любовнице Наташе — высокой, стройной и пышногрудой любительнице дорогих машин и их обладателей:
«Нат.пша… Приещай. Меня уво7или».
Через три минуты он получил и ответ:
«Не пиши сюда больше. Ты мне противен».
Лицо его раскраснелось. Кулаки больно сжались.
— Мерзкий старик! — крикнул он и рванул бешено домой.
По сторонам мелькали фонари, окна, лавочки, балконы, деревья и мусорные баки. Феноменально быстро поднялся он по ступенькам, перешагивая сразу через три, к себе домой и, не застав жену, схватил со шкафа зеркало и с силой бросил его на пол.
Зеркало жалобно зазвенело и разделилось на две части, потеряв золотую рамку. Тогда он схватил его ещё раз и вдруг увидел на обороте надпись:
«Зеркало обмана. Данный товар является шуточным. Правила использования: задайте зеркалу вопрос, и оно ответит чистую неправду. Удачно повеселиться!»

И воздастся вам
Горьковатый запах нагретой солнцем хвои смешивался с манящим ароматом свежих булочек, шедшим из открытых дверей кондитерской на углу площади. Аромат будто бы жил собственной жизнью, он кружил и вовлекал в свой ликующий водоворот. Софи невольно замедлила шаг, даже теперь она не разучилась находить чудеса там, где другие видели лишь давно привычную повседневность. Но тут же вспомнила, где находится, стараясь скользнуть как можно незаметнее в приоткрытую дверь церкви. Подальше от любопытных глаз.
После яркого солнечного света в полутьме небольшого пространства Софи показалось, что она с разбегу нырнула в прохладную воду старого пруда. Если бы не поскрипывание рассохшейся двери, здесь царила бы полная тишина. Ради этой атмосферы покоя, в которой хотя бы ненадолго растворялись тоска и тихо скулящая боль, Софи и приходила сюда. Надо было только закрыть глаза, и она снова возвращалась в то время, когда жизнь была простой и понятной, и потому несказанно счастливой. К запаху воска от оплывающих свечей примешивался аромат белых цветов, оставшихся на алтаре после недавнего венчания, и какой-то другой, вызывавший тревогу запах. Ах да, так пахнет настой, которым старая Марта время от времени натирает деревянные скамьи, значит, она была здесь совсем недавно. Несмотря на то что у Марты безмерно доброе сердце, а может быть, именно поэтому, на глаза ей лучше не попадаться. Пока Софи раздумывала о более безопасном местечке, её внимание привлёк новый, вызывавший совсем другое настроение запах. Крепчайший кофе, трубочный табак, мятные леденцы и прогретая солнцем уличная пыль — так может пахнуть только отец Фабио, с ним у Софи давняя дружба.
— Ну, Софи, отчего же тебя так долго не было видно, я уже начал беспокоиться, — весёлой скороговоркой зазвучал молодой не по возрасту голос, и знакомые полосатые носки остановились перед самыми глазами. Тёплая рука коснулась рыжей вихрастой макушки, Софи с благодарностью лизнула протянутую ладонь, стараясь сдержать себя и не барабанить хвостом по гулким дубовым скамьям. Маленькая собачка не понимала многих вещей в этом сложном человеческом мире, но она прекрасно знала, что быть ей в этом месте не полагается.
Как часто ковыляла она следом за Хозяйкой к лестничным ступеням, провожала глазами до самых дверей церкви, а затем устраивалась поудобнее в тени или на солнышке, в зависимости от погоды. Каким бы ненастным ни был день, стоило в проёме двери появиться знакомой фигуре, в маленьком мире Софи начинало светить солнце и приятно щекотало в носу, как от душистого весеннего ветра.
Но однажды пришёл день, в который мир непоправимо испортился. Незнакомые люди в белых халатах, от которых остро пахло бедой, забрали Хозяйку, а Софи, как она ни старалась, не смогла им помешать. Хозяйкина племянница взяла собачку в свой дом, здесь хорошо кормили, и ласковые руки с готовностью чесали за лохматым ухом, но Софи терпеливо ждала возвращения той, без которой в мире было совсем нечего делать.
— Давай, Софи, устраивайся поудобнее и будь умницей, не подводи меня. — Отец Фабио постарался придать голосу нотку строгости, но это у него плохо получилось. Философски относиться к уходу из жизни прихожан и к вызванным этим страданиям он так и не научился.
Ритм удаляющихся шагов убаюкивал, и глаза закрылись сами собой, вот-вот она сможет вернуться туда, где всё ещё было хорошо. Плюх! Что-то влажное и тёплое резко толкнулось в бок, от неожиданности Софи даже подскочила. И не сразу поверила своим глазам. Большой породистый пёс стоял совсем рядом, его пристальный взгляд не казался угрожающим, но было во всей его фигуре что-то очень необычное, от чего холодок пробегал вдоль по загривку. Софи вспомнила: пёс был нарисован на старой картине, висевшей неподалёку на алтаре, рядом с ним была целая группа людей. Одному из них, как рассказывали старушки в церкви, пёс спас жизнь, тайно принося со стола хозяина краюшки хлеба. Собаку так и нарисовали — с огромным калачом в зубах. Запах свежего хлеба, казалось, заполнил всё окружающее пространство, рядом с ожившим псом лежал тот самый калач, и он тоже был настоящим. Как же объяснить этому неожиданному другу, что волны страдания, которые он так чутко уловил, вызваны не голодом? Всё дело в том, что Софи не умеет жить без своего человека и никогда не сможет этому научиться.
Лёгкий шорох шёлка, чуть заметное движение воздуха, и ни на что не похожий, вызывающий чувство необъяснимого блаженства, запах. Над Софи склонилась женщина, которая изображена на той же картине. Её обвивала дымка нежно-золотистого света, а выражение глаз было таким, что хотелось смотреть в них не отрываясь, долго-долго. Скорее всего, оттого что глаза эти очень напоминали глаза Хозяйки со старой фотографии, однако не было в них знакомой грусти, только тихая радость. Как хорошо, что женщина решила принести с собой и ребёнка, который был нарисован вместе с ней. Софи очень любила детей, а дети всегда это знали и отвечали взаимностью. Вот и сейчас малыш при виде маленькой рыжей собаки залился неожиданно звонким для церкви смехом. Софи опасливо огляделась по сторонам — вдруг кто-то заметит и прогонит? Но в следующее мгновение ей было уже не до этого. Пухлые, неожиданно крепкие ручки обвили её шею, и произошло что-то удивительное.
Нет больше тёмной церкви, нет призрачного света свечей, нет и давящего чувства тоски. Лапы Софи касаются бархатистой травы весеннего луга, солнечные лучи нежно оглаживают шёрстку, а внутри бьётся и спешит вырваться наружу восторг приближающегося счастья. Знакомой, слегка пригибающейся походкой, навстречу идёт Хозяйка.

Избавление Айшат
Господь наш! Выведи нас отсюда, и мы будем поступать праведно, а не так, как мы поступали прежде.
Айшат очнулась резко, как от толчка. На секунду ей показалось, что место какое-то незнакомое, но вот из полумрака проступила сначала картонная коробка из-под телевизора, потом стол с кучей неглаженного белья, закинутой белой скатертью, как сугроб. «Погладить надо», — решила Айшат и тут же споткнулась: у стола на полу лежало ничком ее собственное тело. «Значит, все, убил-таки, гад», — пронеслось в голове, и в следующий миг ее будто бы обдало ударной волной. Ноги, распростертые на полу, спружинили и подскочили так резко, что в голове зазвенело. Подступила нестерпимая тошнота, ее вырвало. Стоя на четвереньках и отплевываясь, она в ужасе обнаружила себя одетой в черную футболку своего мужа Эльмана с надписью Deaf Lepard, а самое главное, было совершенно ясно, что и волосатые руки со сбитыми костяшками пальцев, на которые она опиралась, и содрогающийся в рвотных позывах живот, и непомерно длинные ноги в черных мужниных же джинсах — все это было тоже его, Эльмана. Айшат, скуля, отползла в угол.
Дверь застонала, в комнату вошли двое — свекр и его младший брат, дядя Эдил. Не взглянув в ее сторону, они поспешили к телу и склонились над ним. По очереди подержали за запястье, развязали платок и ощупали шею. Дядя Эдил вытащил телефон, посипел неразборчиво в трубку, после чего объявил: «Так, на Ватутина надо, прямо сейчас. Тело сказали оставить как есть, от них приедут и заберут».
Айшат пришлось встать и следовать за мужчинами. Как на ходулях, доковыляла до дверей, голова с непривычки больно задела притолоку. Влажный ночной воздух облизнул лицо.
— Садись в машину, — гаркнул дядя Эдил, — в машину, тебе говорят!
Подгибающиеся ноги с трудом донесли до ворот, пришлось сложиться вдвое, чтобы протиснуться на заднее сиденье отцовского форда.
Пока машина кружила по серпантину, все молчали. Айшат хотелось сжаться в комок, пригнуть голову к коленям и закрыть руками уши. В голове истошно орало: «За что?!», во рту пересохло так, что сводило горло. Едкий запах мужского парфюма с примесью рвоты залезал в самое нутро.
«Убьют они тебя, убьют. Поймут все и прирежут, как барана». Стараясь не двигаться и не издавать звуков, в темноте салона она силилась рассмотреть свое лицо в зеркало заднего вида. «Хотя что тут убивать? Вот эти ноги-руки его, рожа эта небритая — тебе-то что за дело до них? Пускай… твое-то там валяется мертвое… В тюрьме будешь сидеть за него, пока не сдохнешь. Он и теперь над тобой насмехается, видишь?»
Машина сделала резкий поворот и покатила по шоссе. С пассажирского сиденья раздался глухой голос отца.
— Слушай меня внимательно. Ты сейчас зайдешь со мной в кабинет и напишешь бумагу, как я скажу. Слышишь? — Отец резко обернулся назад.
— Да слышит он. Посттравматический шок, что ты от него хочешь? — вступился дядя Эдил, не отрываясь от дороги.
— Напишешь, что у нее случился приступ эпилепсии, припадок, она упала и ударилась. Подпишешь и все. Понял?
«Эпилепсии? Да не было у меня сроду никакой эпилепсии!» Зубы сжались так, что заломило челюсть. «Ну нет, раз уж Аллаху угодно было засунуть меня сюда, я тебя слушать не стану, старый шакал. Что ты мне сделаешь, если я напишу все как было — один удар в лицо, второй в подбородок, третий в грудь — чертов боксер. Не отмажете! Так и напишу — травмы, несовместимые с жизнью, вину полностью признаю. Пусть люди знают — Эльман Сондухоев, сын Элмади Сондухоева, сидит за убийство жены».
Мышцы всего тела напряглись, жилы на шее вздулись, как перед боем.
Муж любил бокс. Ходил в местный клуб, тренировался. При его росте — под метр девяносто — было непросто, но он был юркий как змея, выносливый, как сам говорил, хорошо работал в челноке. Как-то раз привел ее на бой, давно, сразу после свадьбы. После не водил уже — говорил дома сидеть. Она тогда смотрела во все глаза, как он метался по рингу, голый по пояс, блестящий от пота. Ей нравилось, что он такой длинный, а главное — что худой, без пуза, не то что другие мужчины. Тогда, кажется, только и разглядела его как следует, потом взглянуть лишний раз боялась.
— Баба твоя была та еще…, все это знают. Я говорил тебе — не бери бабу, которая росла без отца. Ты не послушал. Ей теперь все равно, а тебе в тюрьму, понимаешь ты?
«Да что они знают про тюрьму. Быть женщиной в нашем городе — вот тюрьма так тюрьма. Принеси, подай, на глаза не показывайся. А как руку в первый раз поднял — с тех пор не останавливался. Все говорили — терпи, развод — это позор. А как терпеть? Собаке и то вольней жилось…»
Из темноты вынырнул встречный свет фар, выхватил каменный профиль свекра и тут же пропал. «У-у-у, — завыло в голове у Айшат, — теперь что, всю жизнь этого терпеть?» Больше мужа она боялась только отца мужа, кажется, за все время, что жила у них в доме, ни перемолвилась с ним ни одним словом. «Свободы хотела?.. Ну вот тебе твоя свобода — на, ешь! Не-ет, уж лучше в тюрьму, чем с ними… чем как они… Лучше бы уж он меня укокошил…»
Между тем новое тело Айшат укокошенным быть не желало и подавало вполне отчетливые позывные — в животе урчало и подсасывало. Муж пришел вечером злой и голодный, но к жижиг-галнашу, который она перед ним поставила, так и не притронулся, увидел купленный ею злополучный телевизор, и пошло-поехало.
«Из-за телевизора убить, это ж надо! Неужели жизнь моя так дешево стоит? Аллах всемогущий, как же ты это допустил? Я ж и не жила вовсе! Неужели не заслужила хоть немножко по-человечески? Хоть бы и так, в его шкуре…»
Она и не заметила, как въехали в город. Один за другим замелькали фонари, освещавшие подмерзшую грязь на тротуарах и вязкую жижу по краям дороги. Какая-то машина поравнялась с ними на светофоре, бородатый мужик бросил на нее сонный взгляд и отвернулся.
«Так, ладно. Пока что главное — себя не выдать. Старый хрыч дело говорит — тому куску мяса, которое было мной, уже все равно. А может, мне Аллах избавление послал, а я, неблагодарная, хочу все в грязь втоптать?»
— Ты там живой? — Голос отца разогнал морок. — Приедем сейчас.
— А-а-ага. — Онемевшие чужие связки со скрежетом разомкнулись и уже тверже повторили: — Ага, живой.
Звучало вполне привычно.
Она все еще боялась пошевелиться, но мысли внутри черепной коробки бросались то туда, то сюда, как взбесившийся воздушный шарик, фырча, носится по комнате и не может остановиться, пока весь воздух из него не выйдет.
«А ты ведь сдюжишь, Айшат… Да и откуда им узнать? Сначала сказать, что шок, отстанут, потом махнуть в Москву — там, глядишь, работа подвернется…»
«Нет, не смогу так жить… Руки на себя наложу… Квартиру надо снять… На бокс ходить, чтоб не лез никто… Детей не смогу родить, зачем тогда все?.. Найду девчонку, лучше из наших… или вообще парня?..»
За «парня» Айшат готова была надавать себе по губам, но ее несло дальше: «Интересно, а на кого потянет? Неужели на парней? Стыд-то какой… А плевать, как захочу, так и будет! Теперь все можно!»
Когда машина свернула на Ватутина и встала напротив обшарпанной двери отделения, в голове у Айшат было пусто, будто вымыто. Все трое вылезли наружу и гуськом поднялись по ступеням, заходя внутрь, пригнулись.
Посреди кабинета, пропахшего куревом, стояли металлический стол и два стула. Бумагу и ручку принес отец.
— Пиши все как я сказал. Подписать не забудь.
Через минуту, когда было готово, отец забрал бумагу, прочел, отодвинув подальше от глаз, пожевал губами. Потом опустился на стул. Казалось, он заснул.
Прошла вечность, прежде чем дверь отделилась от стены и в щель просунулась голова дяди Эдила.
— Элмади, там это… живая она. Из морга позвонили. Пока везли, пришла в сознание. Чуть в аварию не попали, истерика у нее, бред какой-то несет.
От жуткого утробного хохота Эльмана вздрогнули и отец, и дядя Эдил, и сама Айшат, затаившаяся внутри. Она хохотала и с удовольствием слушала, как мощный звук рождается где-то за солнечным сплетением, вылетает из горла, ударяется о стены, о потолок и возвращается обратно. Наконец, успокоилась, скомкала только что написанную бумагу и одним щелчком запустила по столу. Потянулась, сцепив пальцы за головой, хрустнула спиной. Потом выпрямилась и хлопнула кулаком в ладонь:
— Ну что вы хотите? Посттравматический шок. Ничего, пройдет. Домой поехали, там разберемся.

Как испортить Новый год, или Чудеса случаются
Сергей сверлил дырки, чтобы перевесить картину и добиться ровных линий еще в этом году. Маня, как обычно, формировала отчет по продажам и закрашивала светло-синим цветом клеточки в таблице для руководителей.
Елка сиротливо стояла в зале, ветки поникли в ожидании, пока их расправят. Лампочки лежали вперемешку с упаковками на столе, тумбе от телевизора, диване. Мишура припорошила стеклянные игрушки.
— Мань, пошли елку наряжать! — Сергей выглянул из комнаты и с улыбкой посмотрел на жену.
Она отмахнулась и не глядя ответила:
— Давай позже, мне нужно отчеты отправить. Еще пару дней, тридцатого нарядим.
Блеск в глазах мужчины исчез. Сергей снова спрятался в комнате и продолжил вешать картину. Он знал, как нравятся Мане гирлянды и тепло-желтые огоньки, заказал несколько штук. Но она не отвлекалась от отчетов.
У них недавно разговор был.
— Что-то у меня нет новогоднего настроения, — сказала Маня со вздохом. — А у тебя?
Голос ее был мирный и усталый.
— А что ты сделала, чтобы почувствовать Новый год? Можно же комнаты украсить, украшения заказать. В конце концов, за тебя никто праздник не почувствует.
В голосе Сергея слышались раздраженные нотки. Маня отвернулась и подумала, какой же он у нее мудрый. Но хотелось ей сочувствия, а не мудрости.
Потом был корпоратив, и она пришла поздно, потому что хотела сбросить напряжение от постоянных отчетов. Сергей с ней два дня не разговаривал. Маня пробовала приблизиться, но стена между ними была такой осязаемой, что у девушки бегали мурашки по коже.
Тридцатого декабря ее попросили исправить отчет — изменили прогнозные значения показателей. Маня вздохнула и налила пол-литровую чашку кофе, начала собирать данные. Иногда девушка бросала грустные взгляды на елку, но продолжала работать.
— Мань, пошли елку собирать? — Голос Сергея прозвучал просительно. Но Маня увлеченно переформировывала таблицы.
— Мань?
— Ммм.
Муж засобирался, не спеша зашнуровал ботинки.
— Мань, я пошел. Помогу друзьям дом украсить, они на даче живут. Ехать пятьсот километров от города, Новый год встречу у них, вернусь третьего января. С Новым годом!
Маня ошалело посмотрела на дверь.
— Сережа?
Но в квартире было пусто.
Не то чтобы Маню пугала перспектива встретить Новый год в одиночестве. Хотя как-то по умолчанию сложилась традиция делать «арбузную дольку» вместо оливье (гранат, виноград, курица — Сережа научил), запускать фейерверк во дворе. Мысль, что в этом году не будет «арбузной дольки», даже обрадовала и приободрила. Ужасный салат! Но Сереже нравилось, она готовила.
С решением подумать обо всем завтра Маня закончила отчет, отправила его и пошла спать.
Звонок подруги разбудил неожиданно.
— Мань, как ты еще спишь? Вставай! Что значит, ушел, придет третьего?
Она что-то промямлила, пытаясь понять, почему подруга такая бодрая.
— Все. Собирайся! Нечего тухнуть одной дома. Поехали к друзьям, познакомлю вас. Не хочешь? Ну ладно, мы сейчас на каток, а вечером — решай сама. Буду через час.
Ночной отчет пьянил рьянее водки. Час пролетел незаметно. Почти все это время Маня простояла под душем. Струи горячо текли по коже, расслабляя плечи девушки.
Как встретить Новый год? Сережа действительно не придет? Я ХОЧУ Новый год? Вопросы лились вслед за водой, оставляя пустоту.
Кофе пришлось делать самой. Обычно по утрам Сережа заваривал кофе для нее, хотя сам не пил. А Маня делала ему капучино к блинчикам по выходным. Маня вздохнула. Не так она представляла себе тридцать первое декабря. Она думала пройтись по магазинам с Сережей, купить фрукты, шампанское, скошенные бокалы из тонкого стекла с фиолетовой ножкой. Сходить в Дом кино, прогуляться по нарядным улочкам. Вернуться домой и приготовить «арбузную дольку». А потом в предпоследние пять минут собрать все второпях на стол и включить телевизор, традиционно опоздав на выступление президента.
Но в этом году что-то пошло не так. Отчеты… В сотый раз Маня возненавидела отчеты, поджарила тост, достала вишневое варенье. Правильной пищи не хотелось.
Телефон пропищал. Маня рванула к нему, но увидела сообщение от руководителя. Ощутив усталость, девушка настрочила, что чувствует себя плохо, ждет врача, а потом по внезапной необходимости уедет в деревню к бабушке, где не ловит телефон, и отключила интернет.
Выключить телефон она не решилась в надежде, что Сережа все-таки позвонит. Хотя сама виновата, не надо было вчера трогать отчет, надо было наряжать елку. И тогда все было бы — и прошлись по магазинам, и купили фрукты, и шампанское, и…
Телефон зазвонил. Нужно было ехать.
На катке подруга быстро перезнакомила ее со всеми и оставила одну. В компании очередной чашки кофе и имбирного человечка Маня сидела и смотрела на проезжающих мимо людей. Мороз медленно пробирался под колготки и захватывал пальцы рук. К счастью, каток прошел быстро и незаметно.
Маня купила фрукты и шампанское, отборный стейк из говядины, красное сухое, скошенные бокалы из тонкого стекла с фиолетовой ножкой. Чашки с двойными прозрачными стенками, елочками в центре и блестяшками между стеклами. Какао, молоко, маршмеллоу. Ведерко мороженого.
Девушка вспомнила, что в юношестве читала книгу, как стать стервой. Решила почувствовать себя героиней романа и встретить Новый год в ванной с пеной, бокалом красного сухого и при свечах.
Горячая вода согревала. Маня крутила в руках бокал вина и разглядывала жидкость внутри. Напиток был густой и терпкий, на стенках оставались прозрачные следы. Как получилось, что этот Новый год они встречают по отдельности? Она же давно решила, что семья на первом месте, почему отчеты снова оказались впереди? Девушка заплакала.
01:55. Он не позвонил. Она накинула халат и решила встретить — по… европейски? неважно, — и лечь спать.
В 02:00 затрезвонила дверь. На пороге стоял Сережа в красных варежках, колпаке Деда Мороза и с бутылкой шампанского.
— Вот, взял. Подумал, наверное, ты будешь с красным сухим. С Новым годом!
И он обнял Маню.
Девушка расплакалась.
— Прости, я не хотела… Я написала руководителю, что уехала к бабушке без интернета. Все выходные мы можем провести вместе, я не буду работать. Не уходи, пожалуйста.
Сережа ее поцеловал.
— Дурочка любимая. Никуда я не уйду. Застрял в пробке, когда ехал от друзей, не успел к двенадцати. Не смог у них остаться — хотел тебя увидеть.
Сережа снова поцеловал. Девушка наконец расслабилась — ее Новый год наступил.

Козлиная правда
Это была хорошо оборудованная ступа 22–200. Новая, гладкая, намытая дождем. У ломавших об нее челюсти еще долго в пасти был освежающий металлический привкус. Я наткнулся на нее, нелепо смотрящуюся из-за кустов весенней сирени. Ее припарковали, не спрашивая, прямо на молодую поросль. Хотя этого и следовало ожидать, когда собираешься выйти прогуляться по вечернему лесу и, залюбовавшись на переливавшуюся лунным серебром лужайку, не замечаешь, как пробегающие в прямо противоположную от тебя сторону звери округлили глаза, в разной степени закрытые шерстью. Незаметно поднялся легкий ветерок, я, привычно задирая голову, посмотрел на звезду — она была на месте, но в то же время перестала мерцать. Небо мертвой крышкой накрыло весь лес и его окрестности. Лужайка не дрожит росой, она выпукла, зелена, беспомощна под грузом топтавших ее копыт. Еще не до конца узнавая грязно-коричневые конечности с черными проплешинами грубой зернистой кожи, не различая гортанную «р», на стыке сознания мигнула догадка. На лужайке черти! Засуетившись, попеременно роняя то честь, то достоинство, я достал козлиный паспорт. Тоже новенький, пахнущий нагрудным карманом, заряженный молодым, энергичным сердцем на долгую службу. От вечерней влаги и бегущих мурашек шерсть предательски быстро кудрявилась на спине, запотевали очки, становилось мутно в глазах. Выжимая мох под копытцами, как мочалку, я невозмутимо начал пересекать лужайку.
«Молодой козел, можно вас на минуточку?» — обратился ко мне крайний черт, отклонившись перпендикулярно от черно-коричневой массы.
«Вы мне?» — зачем-то проблеял я, хотя уже достал документ.
Видимо, первый удар пришелся в плечо, второй догнал в голову, еще несколько встретили сбоку — повалившись под крики «задай этой морде!», я перестал их считать. Хруст, липкий ворот, глухие стуки ударов телепающейся головы, тушу кто-то яростно перетягивает огненными жгутами, хочется подглядеть, я разворачиваю голову — она грохочет еще сильнее, а в пасть набивается земля и мелкие камешки.
«Эй, разверни плешивого!» — слышу я чей-то окрик, и меня поднимают, со свистом швыряют на мягкую пирамиду туш, чтобы в последний раз моя голова, описав круг, встретилась с прохладной стенкой ступы.
Звезда, внезапно подмигнув, вдруг исчезла вовсе.
А я видел бабушкин сад, взмокший поутру от первого весеннего тепла. Кое-где на всходившем солнце проступали разваренной репой комья земли, а во впадинах прятался туман, из него торчали одинокие стебельки травы, молодые побеги деревьев и непобедимый сухостой. Я в новом сюртуке с надежно вшитым внутренним карманом (для важностей, настаивала бабушка) вылупился на продолговатый листок с надписью «студент первого курса академии звериных наук». Копытце невольно рыхлит песок, выстукивает беззаботные мотивы, чертит бессвязные сюжеты.
«Чего притих? — Бабушка, тяжело дыша, заканчивает утренний полив. — От счастья, что ли?»
«Не верится, Ба! Я студент! Первый из козлов!» Закрыв глаза, я представляю полки книг, пахнущие пылью времени, она щекочет морду, заставляя чихнуть на пару эпох.
Солнце встает резко, ослепляет, выжигает яркими всполохами, я щурюсь, морщусь, с трудом разлепляю губы, меня мучает жажда. От бабушкиного сада не осталось и следа. Морда уткнута в утоптанный пол, копыта вывернуты зигзагом. Розовой лентой тянется сукровичный ручеек. Я дергаюсь марионеточной куклой.
«Ты гляди, очнулся!» Надо мной склонились невыразительные морды. Баран, что повыше, с кудрявой челкой, чешет живот большим копытом. Двое курносых боевых петухов разом всплескивают крыльями от удивления. А крупный свин, потный, с выражением ужаса на морде, застыл в углу камеры.
«Воды», — еле блею я.
«Сейчас, сейчас! Ты, брат, извини, вся посуда грязная. Этим чертям все равно. Грязное на грязном не видать», — суетится баран.
«Да дай ты ему уже воды!» — визжит свин, вытирая лоб, озираясь на решетку и на приближающиеся звуки копыт.
Щелкнул замок, я едва успел сделать глоток, как грязные потрескавшиеся лапы двух рослых чертей потащили меня вглубь длинного коридора. Мелькали свежевыкрашенные двери, пахло плесенью и куревом, немытыми тушами, унижением.
Затем яркий свет кабинета, мягкий табурет, запах бумаги и чернил, дорогой соломы. Я щурюсь, очки где-то потеряны. Приятный голос предлагает: «Возьмите мои» — и протягивает пенсне. Я судорожно накидываю его на нос и наконец могу видеть четко. В кабинете четверо чертей, начальник и трое разномордных подчиненных, стоящих по углам.
«Мы вас надолго не задержим, — мягко обращается ко мне начальник. — Вы просто гуляли в лесу, а не собирались на студенческий пикет, как нам пояснил ваш будущий одногруппник. Мы ему, конечно, не поверили и сразу пригласили вас на беседу, как представителя молодого поколения, вы ведь первый козел, поступивший в академию, верно?»
«Да», — скрежещу я сквозь сломанные зубы.
«Это поразительно!» Начальник коричневеет от восторга. Подчиненные замерли. «Тогда к делу, мы хотим знать все, что происходит в академии, так сказать, от первой морды, и выбрали вас в качестве нашего союзника. Вы остаетесь первым козлом в академии, самым умным и сильным, что немаловажно, с нашей поддержкой. По копытам?»
«А зачем бить? Можно же было просто спросить?» — тихо блею я.
«Чтобы у вас появился выбор: либо сотрудничать с нами, либо сдохнуть», — улыбнулся начальник, жалея меня взглядом, как жеребенка.
Я поднял глаза, пенсне скатилось по морде вбок, так что портрет главного черта, висящий прямо над столом начальника, стал казаться правее, затем стал двоиться, троиться и четвериться, и не было конца внезапно возникшей галерее из главных чертей-близнецов, пока пенсне окончательно не скатилось и не упало на пол…
Я вывалился из управления звериных дел на весенний, нереальный пейзаж. Тушу саднило, я еле волок копыта через утоптанную полянку. На ней одна за другой ровными грядами стояли припаркованные ступы, сияющие уверенностью, железными правилами и чем-то непоправимым. Немолодой черт в фуражке скосил на меня свои пухлые безразличием зрачки. Я вдруг остановился и неестественно громко спросил, почти срываясь на блеющий крик:
«Эй, папаша, что это за цифры на ваших драконах?»
Черт размеренно начал: «Так известно ж, любезный… эээ, первые цифры — это год от Рождества Христова, а вторые… так ведь соревнования же у нас, у чертей. Это убитые ступой звери. Победитель, кажись, будет назначен Директором академии звериных наук вместо старого профессора. Давно пора его сменить, я всем говорю».
Я снова вижу бабушкин сад.
«Смотри, как бы тебе черти рога не обломали, лютуют в соседнем лесу, ну их, двоечников!» — и бабушка плюет на землю с чувством и кусочками молодой травы.
«Я и без рогов козлом останусь», — смеюсь я и приобнимаю бабушку, шерсть созвучно трется друг о дружку, становится жарко рядом, и мы расходимся в разные стороны.

Корабль
Просыпаться можно по-разному: от звона колокола Кельнского собора, жужжания мухи под ухом, ярких лучей утреннего солнца, пробивающихся сквозь ставни, от прикосновения жены, в конце концов… Но в этот раз Флориан проснулся от глухого удара и боли, которая, как молния, пронзила его висок. Трясясь, как в ознобе, он неуклюже поднялся на ноги и осмотрелся — деревянные, безрадостно серые стены, отполированный множеством ног пол и закопчённый потолок, низкая пузатая бочка, от которой тянуло подкисшим пивом, деревянный сундук с массивной, но перекошенной крышкой и апоплексическими жилками трещин на боках, дощатая загородка с грязно-серой холщовой занавесью, и — он обернулся — еще один широкий основательный сундук в углу у стены, тот, что был его постелью. Боль в виске волнами то накатывала, то отпускала его, словно сытая кошка в амбаре, играющая ради удовольствия с обезумевшей от страха мышью. Флориана нещадно качало и, сделав пару неуверенных шагов, он нашел в себе силы опереться о стену. Придя в себя, он понял, что качает не только его — вероятно, он на судне…
Сумбурный ход его мыслей внезапно был прерван — холщовая занавеска приподнялась, и Флориан оказался лицом к лицу с высоким, худощавым господином с веселыми черными глазами, острыми скулами, эспаньолкой, угольно-черными волосами, лишь на левом виске виднелась изморозь проседи. Господин изучающе посмотрел на Флориана, затем расплылся в улыбке, резким движением распахнул объятия и то ли проговорил, то ли прокричал:
— Милостивый государь! Как же приятно встретить хотя бы одного приличного человека на этом судне, вокруг одни шельмы и ловкачи! Разрешите представиться: меня зовут Георг Иоганн, для вас, впрочем, просто Георг! — сказал он уже тише.
— Я Ф-ф-флориан, р-р-рад знакомству, — заикаясь от неожиданности, проговорил Флориан.
— Вот и хорошо, вот и замечательно, пойдемте же скорее на палубу, сколько можно сидеть в этой затхлой каюте, друг мой! — вскричал Георг, подталкивая Флориана к выходу.
Яркое солнце ударило Флориану в глаза, да так, что пришлось прикрыть их согнутой в локте рукой. Свежий речной воздух наполнил легкие, отгоняя тревогу и морок. Постепенно глаза привыкли к свету, и он увидел палубу, пику мачты и трепещущие полотнища парусов. Завороженный видом, Флориан подошел к краю палубы — вокруг струилась полноводная река, по берегам которой примостились деревушки разного размера, слышалось отдаленное унылое коровье мычание…
Георг стоял чуть поодаль и рассматривал Флориана — длинные, до плеч, с обильной проседью и стальным блеском, волосы развевались на ветру, напоминая бьющую крыльями чайку, пытающуюся защитить яйцо высокого, бугристого, чуть с залысиной лба. Глаза его, голубые, но укрывшиеся серой, словно кисейной, пеленой лет с близоруким прищуром смотрели вдаль. Вокруг носа виднелась мелкая россыпь оспинок, сам же нос его был горбат и имел ямочку на кончике, которая замечательно гармонировала с такой же ямочкой на подбородке, будто бы лицо это составили из двух половинок, но незадачливый мастер забыл убрать все швы. В свойственной многим высоким людям манере он сутулился, словно стесняясь своего высокого роста. Так старой сосной нависал он над бортом судна…
Внезапно за спиной Георга раздался шум, и из утробы трюма выпростался невысокого роста матрос в засаленной робе с жирными пятнами, который быстрым шагом шел в направлении Флориана и зыркал за борт, как будто что-то высматривая. На Георга пахнуло запахом солонины, лука и пива.
Проходя мимо Флориана, матрос с такой силой оттолкнул его, что Флориан отлетел от борта и врезался в лестницу, ведущую на мостик.
Георг стремглав бросился к Флориану.
— Господи, Флориан, что с тобой?! — воскликнул Георг.
— Помоги мне встать, по мне будто телега старьёвщика проехала, — простонал Флориан.
— Вставай, дружище, вот так, вот так… Ты же не придворная дама, соберись! Но, должен признать, сил у этого матроса, как у быка во время гона…
— Ради всего святого, Георг, скажи, за что он меня так двинул? Мы ведь даже не знакомы… — проговорил Флориан, потирая ушибленное плечо.
— Эх, Флориан-Флориан, до старости дожил, а такие вопросы задаешь. У каждого за душой грешок-то есть… А ты что же, святее Папы Римского? — с нескрываемой иронией проговорил Георг.
— Георг, ты решил изобразить деревенского пастора, может, и проповедь припас? Тогда нос тебе нужен побольше да покраснее и стакан шнапса, — огрызнулся Флориан, отряхивая одежду.
— Будь я пастором — рассказал бы тебе о воздаянии, спасении и геенне огненной, а для этакого разговора одного стакана шнапса мало, — хохотнул Георг. — Что же, зря тебя обидели, бедненького? — уже более серьезным тоном спросил он.
— Какая муха тебя укусила, Георг? Твоему товарищу чуть не проломили башку, а ты лезешь с дурацкими расспросами!
— Ну хорошо-хорошо, не распаляйся, ты аж покраснел. Я искренне рад, другой мой, что ты цел и невредим и не оставишь свою супругу вдовой. Кстати, она бы очень печалилась, случись с тобой что? Вы, поди, редко виделись — ты весь в своих торговых делах, а она дома на хозяйстве, да с детьми? — останавливаясь и полностью поворачиваясь к Флориану, произнес Георг.
— Же-же-на, Г-г-г-ретта… Она бы, да, она расстроилась бы, — промямлил Флориан и тоже остановился. — Мы очень любим друг друга и наших детей — сорванца Карла и озорницу Лотту…
— Я был бы счастлив познакомиться с твоим семейством, мой дорогой Флориан! Может, на обратном пути ты позволишь мне погостить у вас? Представишь меня своей женушке и детям…
— Я был бы очень рад тебе, но давай не в этот раз. Моя Гретта гостит у родителей вместе с детьми… В другой раз… Как-нибудь… — медленно проговорил Флориан, будто припоминая что-то.
— Ну, в другой раз так в другой раз, не судьба, как говорится. Мне тут в таверне, в Эссене, один местный торговец занятную историю за кружкой пива рассказал, про какую-то Гретту, тоже из Кельна, кстати.
— Прошу, Георг, не продолжай! — булькающим голосом произнес Флориан.
— Отчего же, история же презабавная — муж той фрау, тоже купец, семью другую где-то в Ревеле завел. Нет бы просто беса тешить, а там все серьезно было. Вот какой-то доброжелатель с купеческого корабля ей все и рассказал. А фрау решительная оказалась, детей оставила, ушла от него и пешком до Эссенского монастыря добралась, послушание приняла…
— Нет, нет, нет… глупость какая-то, байка… Гретта… Монастырь… Ревель. — Лицо Флориана исказилось гримасой боли от воспоминания. Не обращая уже внимания на Георга, Флориан побрел вдоль палубы.
Тем временем погода начала меняться — ветер затих, от воды стал подниматься туман, густой, как дым трубки старого Петера из пивной на Хохштрассе, и влажный, как холка взмокшей от галопа лошади.
Туман медленно, словно нехотя, проглатывал корабль, скрывая его от мира со всеми страхами и обидами…
Новгородский купец Никита Афанасьевич Широкий, дородный мужчина с окладистой, чуть рыжеватой бородой и умными цепкими глазами, попал на этот корабль случайно — его судно с мехами и пенькой встало под разгрузку в Кельне, он же решил не тратить время и встретиться с купцами в Майнце, чтобы договориться о поставках столь нужной на Руси серы. Его не смутило ни назначение судна, ни возможные попутчики. Сейчас он широкими гулкими шагами поднимался на палубу, но тихий протяжный стон из-за перегородки заставил его остановиться. Он заглянул в зазор между досками и увидел ту же картину, что и во все предыдущие дни — длинный, худой мужчина с шишковатым лбом и почти полностью седой, с сероватой, испещрённой морщинами кожей, лежал на постели. Никита Афанасьевич сокрушенно покачал большой головой — этот бедняга не приходил в себя с того самого времени, как оказался на судне. Он видел, как дочь этого господина договаривалась с капитаном, чтобы ему дали отдельный закуток. Так тот и лежит на постели, не вставая и, кажется, находясь в бреду или дреме… Никита Афанасьевич широко перекрестился и продолжил свой путь на палубу.
Лотта проснулась от щебета птиц под окном, потянулась, поставила ноги на пол — день обещал быть замечательным. Еще один полный приятных хлопот день! Она с нежностью погладила свой слегка уже округлившийся животик. Но тут лицо ее омрачилось, светлые, почти неразличимые брови сдвинулись — она вспомнила то, о чем так усердно пыталась не думать… Отец-отец, после бегства матери ему становилось все хуже — веселый и статный мужчина превратился чудаковатого старика меньше чем за год. Лотта терпела как могла, но потом соседи стали делать ей замечания, требовали прекратить это, а потом все дошло и до магистрата…
Раной на ее юном сердце будет память о вчерашнем дне — дне, когда, пробираясь через гомонящую разноязыкую толпу торговых людей и зевак на пристани Кельна, посадила она отца на этот корабль, Корабль Дураков, где его судьба, как и судьбы других скорбных умом, в руках Девы Марии и Провидения…

Красные носки
Самое трудное, это возвращаться после долгого отсутствия. Например, когда приходишь в школу после затяжной болезни, где друзья уже успели завести себе других друзей, и в первые дни чувствуешь себя немного растерянным. Или чего хуже, возвращаться на работу после смерти близкого человека. Тогда к неловкости добавляются любопытные взгляды сочувствующих коллег.
Вот уже несколько дней Алексей готовился к походу в офис. Его отсутствие затянулось слишком сильно, и письма от начальства стали приходить все чаще. В субботу он устроил большую стирку. За несколько месяцев вещей собралось как на целую семью, он и представить не мог, что это всё носит только он один. Конечно же, в стирку попали красные носки его теперь уже покойной жены и оставили невыводимые воспоминания на его рубашках. Алексей стоял у машинки и долго смотрел в корзину только что постиранного белья. Он практически слышал её голос: «Лёш, сколько раз тебе говорила проверять машинку перед запуском!» «А сколько раз я говорил тебе не бросать свои вещи в неё?» — произнес он почти вслух.
В воскресенье Алексей готовил себе обед на понедельник. Салат, цельнозерновые макароны с сыром и небольшой кусочек рыбы. Всё должно быть сбалансировано, как она учила, иначе все её труды исчезнут вместе с ней. Он вытащил из нижнего шкафа контейнер для обеда, на нем уже был наклеен стикер с её почерком: «С любовью к твоей язве!» Он обнаружил, что и остальные контейнеры были заранее помечены: «Твоя поджелудочная скажет спасибо!», «Романтический обед для тебя и твоего кишечника!» Она всё делала заранее. Даже умерла раньше срока.
Проспав всего пару часов, он решил отгладить рубашку в бело-розовых пятнах, сложил обед в сумку, принял душ, побрился, включил радио и заварил черный крепкий чай, ожидая, пока взойдёт солнце. Он достал две чашки, добавил в каждую дольку лимона и по одной ложке сахара без горки. Замер. Хотел было вторую вылить, но рука застыла над раковиной.
Он сел за стол и устало обхватил голову руками.
— Кажется, я схожу с ума…
— Ну, если ты собрался идти на работу в такой рубашке, то, вероятно, да.
Напротив него стояла его жена и пила чай из своей любимой кружки.
— Какой чай вкусный.
Она села напротив него, облокотила голову о ладонь и стала его разглядывать.
— Марина?.. — еле прошептал Алексей.
В голове крутились сотни мыслей и вопросов, но на душе впервые за долгое время было спокойно. Алексей завороженно смотрел, как его жена, его лёгкая и смешливая Марина, спокойно пила чай на кухне, сидя напротив него как в самый обычный день их счастливой жизни. Почему-то она была одета в своё домашнее трикотажное синее платье, а вовсе не в то, в котором он видел её последний раз. Марина рассматривала рукав когда-то белой рубашки, и улыбка уже зарождалась на её лице.
— Что случилось с твоей рубашкой?
— Что? — Он посмотрел на свою рубашку, словно видел её первый раз. — А, это… Кажется, у неё случился роман с твоими носками…
Он пытался подобрать слова, но в итоге ничего не находил, всё казалось абсолютно неважным.
— Я так рад тебя видеть, так рад! — Его свежевыбритые щеки щипали слёзы.
— Глупый… — Марина подошла к мужу и прижала его к себе. — Ты правда думал, что я тебя брошу?
Она водила пальцами по его отросшим волосам, попутно расчесывая их. Алексей замер на какое-то время с закрытыми глазами и почти не дышал. Когда он открыл глаза, на кухне, кроме него, были только лучи восходящего солнца.
На работу он решил не идти. «Вдруг она опять появится, а меня не будет?» Он переоделся в домашнее, рубашку и брюки аккуратно повесил в шкаф и стал продумывать каждую фразу, которую он скажет ей на этот раз. Но Марина в тот день больше не приходила.
На следующее утро он повторил то же самое: надел рубашку, брюки, сел за кухонный стол. По радио пела Nina Simon Don’t let me be misunderstood.
— Моя любимая. — Марина стояла у окна спиной к нему и смотрела, как солнце пробирается сквозь темноту.
— Почему ты вчера больше не появлялась? — Алексей подошел и осторожно обнял жену за плечи. — Ты еще долго сможешь ко мне приходить, или у этого есть лимит?
— Лёш, ты должен вернуться на работу.
— Я могу работать из дома.
— Нет, ты должен выйти из дома и пойти на работу. Так больше нельзя. Нельзя каждый раз собираться на работу и оставаться тут.
— Я должен был остаться, Марин. Я обещал быть рядом… Я выйду, и опять что-то страшное случится.
— Лёша. — Она повернулась к нему и положила ладонь на его щеку. — Самое страшное уже произошло.
— Я не могу еще раз потерять тебя…
— И не надейся. Я теперь как твоя язва. Всегда буду с тобой.
Он закрыл глаза и уткнулся носом в её коротко стриженные рыжеватые волосы, пытаясь нащупать знакомый аромат бергамота и груши, но не почувствовал ничего. Он поцеловал её в холодный лоб, потом в щеку, хотел найти губы, но надоедливое солнце уже щекотало его нос. Он медленно открыл глаза, щурясь от света, и с досадой задернул занавеску.
Позже, сидя на кухне, он впервые за много месяцев открыл папку с фотографиями в телефоне. Утром он вышел на работу. Из-под ворота куртки проглядывала хорошо отглаженная белая рубашка в розовых пятнах.

Крылья
— Туалет дальше по коридору, — не отрываясь от монитора, монотонно ответила Ася. Незнакомый мужчина на секунду замешкался в дверях, одернул руку от ширинки и исчез.
Маленькое мансардное окно мягко светило прямо на девушку, оставляя большую часть комнаты в полумраке. Она задрала голову навстречу солнцу, представляя, будто сидит на дне пересохшего колодца. Проблема с вентиляцией дополняла фантазию запахом сырости.
Из мебели в комнате было четыре рабочих стола, захламленный шкаф с образцами бумаг и тумба, которая использовалась одновременно как сейф и буфет. Самым ценным имуществом был кулер — он единственный исправно работал и не мечтал об увольнении.
На тумбе стояло радио. Лучик металлической антенны обреченно тянулся к приоткрытому мансардному окну. Ася ему сочувствовала. Возможно, если бы антенне хватило длины, она бы зацепилась за край окна, втянулась и сбежала из офисной темницы… Вместо этого динамик тихо плакал песней «Мне бы в небо».
Ася повернулась в сторону новенькой. Две недели назад, когда та только пришла, шеф поручил Асе все ей показать.
— Вот тут у нас степлер…
— А какой пароль от вайфая?
На этом показ был окончен. Новенькая проявляла признаки жизни только с приходом шефа: начинала активно задавать вопросы — «А где у вас степлер?» — и отвлекать от работы. В остальное время, зашторив лицо волосами, горбато нависала над телефоном. Под столом ноги ее чуть пританцовывали, давая понять, что она залипает в тиктоке.
Напротив сидел Леша. Ася то и дело чувствовала на себе его вороватый взгляд — это он проверял, видно ли по его лицу, что он смотрит мемы? Леша — расторопный дизайнер с орфографической слепотой. Макеты он делал быстро, но всегда с ошибками. У Аси как раз был открыт очередной мейл с извинениями их постоянному клиенту Сопякину, которому Леша добавил в фамилию лишнюю «л». Человек три недели раздавал визитки бизнес-партнерам от лица неуловимого — телефон был тоже с ошибкой — Соплякина, пока не заметил опечатку.
— Дальше по коридору, — сказала Ася в сторону приоткрывшейся двери. Человек за дверью раздражительно цокнул, видимо, не понимая, почему такое укромное помещение занято бестолковым офисом. Сюда бы уборную!
Девушка невольно задумалась: сколько зарабатывает уборщица в туалете? Судя по потоку людей, который туда стремится, больше нее. Асе стало жалко себя: пять лет в университете — без пяти минут уборщица.
Шеф опять задерживал зарплату и почти не появлялся в офисе, чтобы, оправдываясь, не запутаться в собственных отмазках. Ася ему только что опять звонила с вопросом о деньгах, на что он бессовестным голосом ответил:«Будут, как только заработаешь». Так он мог сказать только по телефону. На фоне был слышен фит Дани Милохина с Басковым. Для человека, до сих пор заправляющего джинсы в высокие ботинки, его плейлист был слишком современным. Ася положила трубку.
Она представила, как при следующей встрече с шефом говорит, что увольняется. Он хочет возразить, но она обрывает его речь ладонью. Ноги́ ее здесь больше не будет! Ася, как Брюс Уэйн, оказалась на дне колодца, но это закалило ее и превратило в бесстрашного Бэтмена. И теперь она готова расправить крылья и лететь навстречу неизвестности. И степлер забирает с собой.
Шеф бы ее, конечно, отговаривал, ведь только она пишет мейлы без ошибок и знает все настройки принтера. Обещал бы повысить зарплату, не ставить грязные чашки на стол и не звонить во время отпуска. «Не звони мне никогда», — ответила бы она, выпрыгнула в мансардное окно и улетела…
— Дальше по коридору, — не поворачивая головы, процедила Ася.
— А я уже… — Это был офисный охранник — неряшливый мужичок в помятой серой форме и с вечно растрепанными волосами. Ничего в нем не было примечательного, кроме ушей. Они так сильно оттопыривались от головы, что когда Ася на них смотрела, уши таращились на нее в ответ.
Свою небогатую на события работу охранник воспринимал очень серьезно. Кроме ворон, растаскивающих мусорку во дворе офиса, бороться было особенно не с кем. Зато с воронами он воевал по-крупному: однажды залез в мусорный бак и выпрыгнул на них с лаем. После этого птицы совсем перестали его уважать и ходили за ним по пятам в ожидании новых зрелищ.
Все, включая ворон, знали, что охранник к Асе неравнодушен. Внимание с его стороны делало Асин рабочий день еще более невыносимым. Охранник всегда искал повод, чтобы с ней заговорить.
— Вы опять не там велосипед припарковали. Украдут же.
— Он на цепи, привязан к ограде.
— Это я знаю, я пытался его передвинуть.
Ася вздохнула. Если охранник крутился возле ее велосипеда, значит, после работы она найдет на сидушке несколько белых вороньих клякс.
Больше сказать ему было нечего. Он еще несколько секунд помялся в дверях и ушел. Ворона, следившая за охранником через мансардное окно, процокала по стеклу и улетела.
А может, эта работа, охранник, заставленный чужими чашками стол — и есть то, чего Ася заслуживает? Девушка уже несколько месяцев смотрела вакансии и сомневалась в своей компетентности. Чему она вообще научилась за два года в офисе? Письменно извиняться за чужие косяки, печатать на принтере в любом формате, направлять людей в уборную. Значит, можно смотреть в сторону вакансий копирайтера, инженера или логиста. Ася хмыкнула себе под нос. Кого она обманывает, никогда она отсюда не уйдет со своей нерешительностью. Да и до пенсии осталось всего тридцать восемь лет. Чуть-чуть потерпеть, и заживут они с ее охранником в уютном вороньем гнездышке…
Никогда она отсюда не уйдет. Если не решится прямо сейчас.
— Дальше по коридору! — решительно отрезала Ася и повернула голову на вошедшего. В дверях стоял шеф. Он подошел к ее столу и с довольным видом неандертальца-добытчика положил на стол пять тысяч рублей — лишь часть ее зарплаты.
Ася подняла глаза к мансардному окну. В стеклянном квадрате бледнел ранний вечер. Она встала, взяла деньги, сдернула с кресла куртку цвета вороньего крыла и направилась к выходу.
— Ты куда? Еще только шесть тридцать, — спросил шеф.
Ася ничего не ответила и вышла.
Слышно было, как во дворе большая птица гулко взмахнула крыльями и улетела.

Кузьма Яковлевич
1.
Кузьма Яковлевич, пожилой русский эмигрант, больше всего на свете ненавидел три вещи: шум, суету и собак. Возможно, поэтому он жил в тихой квартире с видом на парк в небольшом немецком городе. Его соседка Саша полностью ему подходила: университетская работа означала, что большую часть дня ее не было дома, а неспешный бюрократический процесс развода с бывшим мужем делал скорое появление в доме детей или собак маловероятным.
Когда началась пандемия, повлекшая за собой ограничения и удалённую работу, Кузьма испытывал сложные чувства. С одной стороны, он терпеть не мог, когда кто-то или что-то мешало его планам, а уж такое грубое вмешательство в свою жизнь он не мог простить даже пандемии. Ведь Саша теперь весь день торчала дома и громко там жила и работала, что было совершенно неприемлемо.
Однако философски он торжествовал, так как мир наконец-то пришел в гармонию с ним. Он всегда считал, что истинная жизнь не в бесконечных делах и разговорах, а в созерцании, спокойствии и внимательном изучении себя. Ему было любопытно наблюдать, как такие несложные, привычные ему процессы сводят других с ума.
Вечерами Саша часами говорила по телефону со своим новым мужчиной. Она то много смеялась, крутилась на стуле и отбрасывала назад длинные темные пряди волос, то морщила лоб, что-то чертила на листочках и собирала волосы в тугой пучок, фиксируя его ручкой.
Этот роман с самого начала казался Кузьме Яковлевичу невозможным, поэтому он уже полгода терпеливо ждал его завершения. И Саше, и Максиму за тридцать, они живут в разных странах, в мире бушует вирус, препятствующий путешествиям, у него маленькая дочь, у нее незавершённый развод. Люди в таких ситуациях остаются добрыми приятелями, а не говорят слова любви и не планируют пожениться. Вишенкой на торте была его отвратительная собака по кличке Индульгенция, или просто Дуля, чей любопытный нос постоянно норовил влезть в разговоры Саши и Максима по видеосвязи и одним своим видом раздражал проходящего мимо Кузьму. При мысли о появлении Дули в его жизни даже железный занавес уже не казался ему такой уж плохой задумкой.
2.
Дело — дрянь. Они, кажется, тут надолго. Еще и эта детдомовка с ними. Ладно бы просто их тапки портила и лужи на ковре оставляла, так нет! Она постоянно норовит у меня из-под носа еду стащить или того хуже — лезет ко мне обниматься, хотя знает, что я этого на дух не переношу. Сколько раз намекал, показывал этим двум и хоть бы хны. Конечно, кому есть дело до бед полоумного старика. Все же тут умные, лучше знают.
Раз такие умные, вот пусть мне расскажут, что мне теперь делать? Средства у меня скромные. Все родные давно померли или живут у черта на рогах. Куда податься-то? Есть, конечно, одна соседка пожилая, давно на меня глаз положила. Я, может, и не тот, что раньше — усы роскошные, глаза с озорным блеском, плавная походка — но многим молодым еще фору дам. Она сама только старовата. Боюсь, что на тот свет раньше меня отправится, а мне потом снова приют искать.
Может, в путешествие махнуть? Пойду куда глаза глядят. Всегда хотел мир посмотреть, но боялся как-то, вдруг что. Эти двое и их блохастая даже и не хватятся меня сразу, а как хватятся, то поздно уже будет — меня и след простыл. Потом будут руки заламывать, переживать, ну и поделом им. Уважительнее надо было к старости относиться.
Ох, что-то подурнело и тошнит. Не успею уже до ванной дойти, что же делать? Надо бы прибрать, но сил нет, да и желания тоже. Пусть знают, сколько они мне страданий приносят. Они вроде в кино два часа назад ушли, так что где-то через час явятся. Прилягу пока на диван, тут меня точно заметят. Лишь бы эта с ее мокрым носом от меня отвязалась.
3.
Максим, если разобраться, не так плох, как кажется на первый взгляд. В больницу меня отвез, выхаживал. Саша бы одна, может, и растерялась, а вдвоем они быстро справились. Сначала Дулю ко мне в комнату не пускали, а потом она потихоньку ночью стала пробираться и аккуратно мне под бок ложиться. Я в своем сумеречном состоянии даже протестовать толком не мог, а потом как-то привык в тепле засыпать и сейчас сам её вечерами жду.
Прежней тишины, конечно, в квартире уже никогда не будет. Максим и Саша теперь вместе из дома работают, Дуля лает, когда почтальон приходит, гости у них часто бывают, а Сашу недавно стало мутить по утрам, что вряд ли сулит мне покой в ближайшее время.
Я бы даже хотел поворчать и позлиться, что, мол, не спросили меня, без уважения отнеслись, но во-первых, мне странно и хорошо в этом шумном доме, полном жизни, а во-вторых, как им мой ответ понять, если я — кот?

Куриный бок
Мар носила на шее камушек. Она называла его «куриный бок», и так же она называла наш тонущий остров. Сине-зеленая гладь озера темнела по вечерам, а мы забирались на холм и смотрели, как вода пожирает берега. Говорили, что раньше это было маленькое озеро в самом центре острова. Вода в нем всегда была соленой. Но оно не менялось в размерах, и никто не боялся его. Вокруг стояли села и города. Пока не случилась буря, заставившая озеро выйти из берегов. С тех пор оно начало расти — стремительно, но спокойно, съедая одно село за другим. По подсчетам ученых до полного затопления оставалась пара лет.
Мар было пять, когда на землю острова рухнули все ветры разом. Её родители, моряки, пропали без вести в море после сильнейшего шторма. Пришлось деревенскому дедушке забрать ее к себе. Он жил в маленьком селе у озера, ловил рыбу и не знал ни городской суеты, ни ее благ. Внучку он водил к ведьме Марфе — и лечиться, и учиться.
Дедушка умер, и Мар осталась одна. Ведьма ей помогала, но отказывалась подсобить в главном: спасти остров, который был единственным домом для пятнадцатилетней девочки.
Я случайно ее узнал. Видел, как она бродит по острову, плача. Глаза у нее всегда были как две маленькие рыбки кои — едва уловимые, с красными веками-плавниками.
Я пошел за ней. Она показала мне морошковые холмы, место, где озеро однажды сольётся с океаном, и собственную бледную хижину на возвышенности.
— Ты не отсюда, но волосы у тебя — как лен. Я люблю шить изо льна, хочется их коснуться.
Простая, она касалась чуть влажными от волнения руками, спускалась до лица — простого мальчишеского, еще гладкого, и я ей позволял.
Остров не был моим домом. Мать привезла меня туда, чтобы заработать. Мы водили экскурсии, рассказывали сказки и пугали туристов, но не так, чтобы им стало плохо от страха, а так, чтобы они ужаснулись, а потом отправились есть вкусную рыбу. И поэтому я не верил в чудеса. А Мар верила. Она одна на свете не боялась своих сомнений.
— Есть ли боже, есть ли духи, слышат ли меня?— иногда она повторяла.
— Зачем ты сомневаешься? — спрашивал я. Она тускнела и пускалась в слова, ища ответа. Речь ее вёл ветер:
— Разве не хорошо, чтобы никто не имел права ни одним из чувств, кроме шестого, почти несуществующего — догадываться, что рядом есть штуки совсем необъяснимые, свободные и не алчущие власти? Движение их может быть помощью или вредом, и его можно при большом желании повторить. Сомнения — их защита и покой, потому в них ничего нет плохого.
В тот год, когда от острова остались только края и почти все жители его покинули, переехав в пластиковые домики посреди Сибири, подаренные государством, Мар стала одержима идеей спасти умирающую землю. Все птицы уже улетели, а она все равно ходила к ведьме Марфе и вымаливала рецепты ритуалов для обращения к древним местным богам.
Марфа сжалилась и рассказала о предсказаниях древних:
— Смотри и не перечь провидице: «О том было писано еще три сотни лет назад. Вода точит наш остров изнутри. Океан хочет, чтобы он ушёл под воду. Когда заберёт нашу землю, даст другую. Таков закон».
Мар не сдавалась.
— Я прошу вас. Все могут уехать, а я? Мои родные в этой земле. Я жизни другой не знаю.
Ведьма открещивалась. Нету, мол, ни у тебя, ни у меня той силы, чтоб землю со дна подымать. Останешься с нами тонуть. И Мар плакала, что снова ее не услышат те, в кого она верит.
Я просил маму взять Мар с собой, когда мы будем уезжать. Она говорила, что Мар — плохое развлечение и страшная островная дурь. Покури и брось. В волшебство она не верила и смеялась, что Мар ходит и ищет ответов у ведьмы.
Однажды старая Марфа все-таки дала нам ритуалы. Что-то ее толкнуло,она вручила листок и заклокотала: иди, попробуй! Легче легкого: рыбу-то с юнцом твоим поймать сможете. В том древнем ритуале, отыскала я, плакались местному богу Кайну, и рыбу эту громадную ели, пели песню. Я тебе в уголке написала. Готовить нужно на самом высоком холме, что над озером. А в рот рыбе камень положи — куриный бок. Как тот, что на груди у тебя. Духи услышат.
Я упросил рыбаков дать мне донку, потому что кайнова рыба водилась на большой глубине — редкость. Весь день мы просидели посреди воды, доставая то одну, то другую рыбу, да все не та. Мар улыбалась, опускала ладони в воду и ругала ее: «Какая ты темная, какая ты тут лишняя, уйдешь?» Иногда она вглядывалась в берег и говорила: «Там столько людей… смотри. Все ходят по берегу. Плохо их вижу, но — странные. Чего пришли?!» Я никого не мог разглядеть.
Закатилось солнце, и я выудил кайнову рыбу. Мар гладила ее, гигантскую, с птичьими крыльями вместо плавников. «Прости. Это для них, не для нас. Ты их, наверное, знаешь». С трудом мы дотащили скользкую тушу до вершины холма. Я почти плакал от тяжести, а Мар смеялась.
Она развела костёр и отогнала меня. Пришёптывала что-то, чему ее научили еще колдуньи, полуплясала и часто пела небу, пока готовила. Мне казалось, на нас кто-то смотрит и смеётся, я слышал шептания, но ничего не видел. Я думал, духи уже пришли. И мне было стыдно за них: пусть говорят громче.
Когда туша была готова, Мар торжественно сунула ей в рот куриный бок со своей груди и закричала что-то — с надеждой.
— Попрошу всех сохранять тишину и спокойствие, — громом рухнул на нас голос. — Сейчас мы наблюдаем один из шаманских ритуалов, последние годы проводимых на острове. Так называемые колдуны пытаются отогнать наступающую катастрофу. — Я знал этот голос.
Мар тоже услышала. Она упала на землю, прикрыв рыбу своим телом.
— Кто здесь? — крикнул я.
— Теперь, думаю, мы можем подойти ближе. Коренное местное население — добрый народ. Они поделятся с нами кусочками диковинной рыбы, обитающей в озере.
И из темноты вышла моя мать, а позади нее группа туристов, удивленных и завороженных наблюдаемым в ночи зрелищем.
— Уходите! — крикнул я. — Это не для чужих глаз, мама! Это ритуал!
Но мама прошла мимо меня. Она подошла к Мар и наклонилась к ней.
— Девочка, это богачи, — шепнула она ей. — Они заплатили за эту экскурсию столько, сколько ты не будешь иметь за всю жизнь свою. Дай им этой рыбы, не жадничай. Твой ритуал — обман. Это я Марфу подначила, никакая рыба тебе не поможет. Просто держи нож и отрезай всем по кусочку.
Мар бросила мне один только взгляд. Она резала рыбу и давала туристам куски грязными холодными руками. Они болтали, говорили ерунду и восхищались сохранением древних верований, а потом неловко ушли в свою обычную жизнь. Мама осталась и, направляясь к нам, брошенным и вмиг одичалым, двигалась изломано собственными своими сомнениями.
— Зато… зато я могу теперь вас обоих отсюда увезти… — сказала она, и я ей не поверил.
— Мы как-нибудь сами. — Я не мог на нее смотреть, а Мар, сил которой всегда хватало, чтобы гневом на кого-нибудь рушиться, свернулась в холодный камушек безответности. — До встречи, мам.
Я остался один сидеть на холме, ничего не чувствуя. Мар убежала домой. Мама куда-то вдаль скользнула.
Темная вода зловеще поднималась по склонам. Это была уже не природа. Думаю, духи все-таки услышали нас. Они все — наивные дети, рубят сплеча.
Вместе с той ритуальной рыбиной съели нашу надежду. И все детское, что доселе во мне оставалось, я спрятал в пятки и решил собираться в путь. Надо уплывать, забрав Мар. К утру вода достанет и ей до пяток.
Мар проснулась и, спустив ноги с кровати, оказалась в океане. Плеск воды. Пар. Покой. «Я умерла?» Подол ночной рубашки намочился и путал ей шаг. Она плача открыла окно.
Я из лодки смотрел, как распахнулись ставни. Как она призраком села на подоконник. Она видела перед собой только мирную гладь, легшую бронированным стеклом на многовековую жизнь целой земли, до которой Мар было какое-то дело.
Она прыгнула в воду и доплыла до лодки. Я втащил ее на борт, взял сжатые в кулаки руки и стал палец за пальцем открывать их. Внутри кулака лежал куриный бок. Она забрала его у рыбы. Я отщипнул кусок от попавшейся под руку веревки и повесил камень на шею Мар.
— Поплыли отсюда. Хорошо, что сохранила камень. Пусть будет твоим вторым сердцем — вместо разбитого.

Мальвина
Поначалу Паша болел аккуратно, даже красиво. Через полгода болезнь поползла через пораженный желудок и облепила безысходностью стены и потолки тесной однушки. В первое время Мила оживляла пространство полезной и бесполезной суетой, смешила, смеялась, отгоняла тяжелые мысли. Паша наполнял их мирок верой в завтра, смешил, смеялся, отгонял тяжелые мысли. Прошли месяцы. Мила стала забывать, каким был Паша до болезни, какой была она сама. Их кораблик с разноцветными гирляндами застрял, потух и разлагался в сточной трубе, она так чувствовала, так она видела в мимолетных снах. Полдня она была сиделкой, санитаркой, кухаркой. Вечером ее заменяла соседка теть Надя. Мечта сыграть булгаковскую Маргариту растаяла, как исхудавшее тело Паши. Нужны были деньги, и уже несколько месяцев Мила их зарабатывала.
Похожий на крота директор в черной рубашке, отложив в сторону резюме, оглядел ее с ног до головы, остановился на аккуратной короткой стрижке:
— Перекрасишь волосы в голубой цвет?
Пока Мила соображала, он придумал все сам.
— Парик наденем, волосы у тебя никудышные, зато вон какие глазища, наградила матушка, ну, или не знаю кто. Мальвина ты, милочка. Безволосая, но Мальвина.
— Может, есть что-нибудь посерьезнее? Понимаете, я — актриса, может…
— Аниматор, по-твоему, кто? Космонавт, что ли? Все вы так, актрисы погорелого… У нас, между прочим, тоже зрители, не простые зрители. Думаешь, легко их развлечь? Так что… Как говорится, лучше клиент в кармане, чем роль недодали.
— Только я никогда на таких мероприятиях… Хорошо, я согласна, но все-таки…
Директор не дослушал и громко позвал: «Настенька!. Колыхающаяся, как сливочное желе, грудь остановилась у порога кабинета, похожего на временную контору риелтора. Милу передернуло от вибрирующего сладострастием тона организатора мероприятий.
— На-астенька, передаю тебе Мальвину, через два дня она на дне рождения у Соломиных.
Как раз в то время, когда день рождения превратился в пьяный сабантуй, Мила с облегчением посмотрела на время. Попрощаться с хозяевами и завершить, наконец, свой первый рабочий день оказалось не так легко. Среди вращающейся на танцполе разноцветной массы она то находила, то теряла их. Навязчивый ритм скрутил мозг в напряженный узелок. В темноте мигали неоновые лица. Взгляд вцепился в ускользающую фигуру хозяйки праздника, девушка попыталась пробраться к ней. Не успела. Грохочущая волна накрыла нутро и с корнем вырвала ее из толпы, затошнило — правая ягодица горела от разжатых тисков наглых мужских пальцев. Согнувшись над мраморным умывальником в туалете, она уговорила Мальвину успокоиться.
Мальвина запоминалась. Исходящая от нее красота несовместимости — ее нежный голубой и потухший красный притягивали. Каждый день она возвращалась домой, закрывала дверь за теть Надей, смывала с себя Мальвину и готовилась к новой роли. Мила появлялась в комнате с улыбкой и с «Пашенька, я здесь». Паша шевелил пальцами, ища ее тепло, она аккуратно ложилась рядом на узкую полоску у стены и уходила в беспокойный сон.
Муж встречал и провожал Милу взглядом сквозь щелочку между опухшими веками. Она скрывала от него Мальвину, для него ее приняли в театр. Не должен он был догадаться, что его талантливая девочка забила на мечту и бегает из одной подработки на другую.
— Мила, Олег Алексеевич звонил. Дочурка его счастлива, все понравилось, хочет тебя лично поблагодарить. Короче, вот адресок. В субботу в 20:00 тебя ждет. Не делай такие глаза, умоляю, деньги большие. И не дури, это не тот вариант, чтоб хвостом вилять. Так что брей ножки и вперед. — Настенька протянула бумагу.
Мила спокойно выбросила адрес в урну за дверью, вышла из здания, сделала несколько шагов, остановилась. Со всех сторон на нее надвигалась армия цифр и множеств «надо» — ценники на лекарствах, жировки за коммуналку, долги за кредиты. Не успев осознать, что делает, она вернулась, сфотографировала на телефон клочок бумаги и выкинула его обратно.
Суббота наступала долго. Июльское утро открылось для Милы набатным звоном — Пашка не дотянет до осени. Она уставилась в экран телевизора, там беззвучно мигали картинки. Мила вздрогнула от еле слышного голоса мужа: «Я буду скучать по тебе». Окаменевший сгусток непрожитых слез навалился всей тяжестью и не дал произнести ни слова. Мила прошла на кухню, села на табуретку и завыла, закрыв лицо ладонями. Ей так нужно было увидеть старого Пашку, поговорить с ним по душам. Она выудила из кармана свой телефон. Там были фотографии, там была жизнь и история, которая заканчивалась. Мила открыла заметки и написала:
«Сегодня твой доктор сказал, что тебя скоро не станет. Именно сегодня впервые за семь дней я вновь услышала твой голос. Лучше бы не слышала. Твое “буду скучать” слишком живое, слишком мучительное. Я запомню, буду сходить с ума, ты будешь скучать… там. Там? Боже! Паша, что я буду делать одна в этом доме, на этой кухне… Что мне делать, Паша? У меня же нет никого, только ты. Был. Нет, ты не можешь так. Ведь мы… ведь в горе и в радости. У меня горе, слышишь? Ты больше ничего про меня не знаешь. Я — Мальвина. Кукла с голубыми волосами. Как тебе? Ты предатель, Паша. Пашааа, люблю тебя, скажи, что все это не по-настоящему, обними меня, прижми к груди — самому лучшему месту на земле, скажи как раньше: “Милота моя, не думай ни о чем, двигай попкой, нас ждут приключения”. Как ты мог, Паша? Ты… мой родной, мой красивый, моя семья. Как больно, Паша, как больно! Мне больно от твоей боли, нашей боли. Ненавижу твою болезнь! Сладкими речами не выманила ее из тебя, украсть и спрятать тебя от нее не смогла. Отняла, сволочь. Отняла моего Пашу…».
Мила выронила телефон из рук, сорвалась с места, вбежала в комнату, взобралась на кровать. Рука Паши дрогнула под ее рукой. Она целовала его нежно, жадно, неистово, жгуче. Она уткнулась в его шею, запоминая вкус его слез и лекарственный запах потемневшей кожи.
Вечером Мила дождалась теть Надю и в наряде Мальвины с париком в руках выскочила из дома. Вечерняя набережная, как огромная лодка, покачивалась под ногами, ускорялась и плыла вперед, оставляя за ее спиной чужие запахи, голоса и шаги. Желтый свет фонарей равномерно делил тянущуюся вдоль берега балюстраду на кадры. На одном из них широкая спина мужчины закрыла фигуру девушки, ее пышные волосы одуванчиком светились вокруг его головы. Мила отвела взгляд от пары. Она услышала свое бормотание, и ей захотелось выкрикивать так, чтоб слышала вся улица, весь город, все уши мира, громче, громче, еще громче: «…Не кукла я вам, актриса я, Мила я. В задницу все ваши деньги… никто не посмеет, никто… обойдемся, справимся, Пашенька, не подведу нас… я — Мила, твоя Мила».
Слезы размазали грим по всему лицу, она вытерла сопли париком, повесила его на дорожный указатель и попрощалась с Мальвиной навсегда.

Митенька
Митенька приболел. Предчувствие нездоровья жило в нём уже несколько дней, а в горле першило. Неуместно большими и тяжёлыми стали собственные ноги и руки. Голова наполнилась пушистыми комками хлопковой ваты, в которых мысли вязли и путались, а иногда замирали, едва появившись. Опять же, жена. Большая, уютная женщина-жена со знакомым именем Света на ту самую Свету стала не очень похожа. Слишком серьёзная, слишком придавленная ворохом дел и забот, так что лица толком не разглядеть. Дел её Митенька тоже не мог теперь понять — с ватой в голове немудрено. «Это всё потому, что я заболеваю. А ещё, наверное, телевизора насмотрелся», — успокаивал себя он. Память отказывалась объяснить хоть что-нибудь про Свету, а зеркало издевалось. Из равнодушного прямоугольника над раковиной на Митеньку смотрело длинное морщинистое лицо. Увеличившийся нос и карикатурно большие уши с тяжёлыми обвисшими мочками пугали Митеньку больше всего. «Разве это я?».
Когда Митенька понял, что наступил понедельник, ноги сами понесли его на работу. Это было очень кстати, потому что считать ступени и перешагивать швы, разделявшие плитку на знакомых станциях метро, было спокойно и радостно, несмотря на ухудшающееся самочувствие. На некоторых станциях плитка блестящая и квадратная, а где-то прямоугольная, как будто шершавая и совсем не блестит. Трогать Митенька, разумеется, не стал, чтобы не сочли психом. Длинный, почти бесконечный вагон на Кольцевой линии завораживал и пугал. Будто сидишь в брюхе гигантского питона, а люди добровольно и беспечно в него заходят. Впрочем, и выходят они беспрепятственно. Хвост змеи то вилял и загибался на поворотах, закрывая Митеньке обзор, то снова вытягивался во всю длину, выходя на прямой отрезок туннеля.
Когда метропитон выплюнул Митеньку на нужной станции, он понял, что температурит, а угрюмое здание с большими буквами ВНИИ над деревянными дверьми — это и есть его работа. Мысль о работе вызвала подобие застарелой зубной боли, но тут же увязла в вате Митенькиной болезни, за что он был даже благодарен. В здании творилась какая-то чертовщина. Во-первых, Митенька долго блуждал по одинаковым коридорам и не мог найти нужный. Он уже начал представлять себя усатым дядькой из фильма «Чародеи», но точно знал, что свой кабинет у него должен быть. Стоило ему действительно найтись, как явилась приторно-мерзкая круглая Надежда Петровна и попросила освободить помещение. Митенька, разумеется, отказался сдавать с трудом найденный кабинет просто так и вступил в переговоры. В результате пришлось обменять кабинет на пачку бумаги и пятилетний фикус по имени Иннокентий в солидном коричневом горшке. К тому времени озноб колотил Митеньку так, что думать о равноценности обмена было невозможно, пришлось поверить Надежде Петровне на слово и отправиться домой.
На обратном пути порядком разросшийся Иннокентий то и дело цеплялся за пассажиров, а дурацкий горшок оттягивал несчастные руки Митеньки и норовил выскользнуть и испортить чистоту блестящей плитки, чего допустить было никак нельзя.
Дома Митенька, наконец, смог лечь. Света молча смотрела на него круглыми шоколадными глазами, а потом подсунула градусник и принесла жаропонижающее.
Замерзая под одеялом, Митенька почему-то думал о детстве. Так хотелось, чтобы именно мама, а не Света, была сейчас рядом, привычным жестом приземлила на лоб свою большую прохладную ладонь, прикоснулась мягкими суховатыми губами, поохала, куда без этого. А потом дала липкий и неизбежный сироп, воду в эмалированной кружке с крошечным сколом на гладком боку. Митенька мечтал о полотенце. Пожалуйста, мокрое и только на лоб. Не то, чтобы лоб был измучен сильнее остального тела, просто лоб с благодарностью принимал холодный, идеальной полоской сложенный дар. Весь остальной организм сжимался и ненавидел, когда у него отбирали заслуженное по праву больного одеяло, вскрывали пышущий жаром, обманчиво безопасный кокон и обтирали этой мокрой тряпкой, к тому же воняющей уксусом.
Света принесла вожделенное полотенце, красное и странно знакомое.
— У меня похожее было, — успел пролепетать Митенька, перед тем как на него плюхнулся холодный свёрток. Ничем, конечно, не пахнет: Света не знает про уксус, а может, не верит в него. Митенька успел поймать руку женщины-жены, и наконец-то прохладная ладонь её показалась приятно знакомой и ласковой, впервые за сколько-то дней.
Удалось провалиться в сон. Снилась мама. Ему снова десять. То самое красное вафельное полотенчико с аккуратно вышитой белыми нитками мулине буквой М, и даже мерещится уксусный дух. Мама во сне быстро и взволнованно с ним говорила, а потом больно ущипнула предплечье и стала трясти. Тряска становилась всё сильнее, но покидать вязкий сон Митенька не хотел. Всеми силами он уцепился за безопасный и любимый мир, отказываясь возвращаться туда, где всё теперь было ему непонятным и чужим. Мама не сдавалась, и сон отступил. Митенька разлепил ресницы.
— Митя, наконец-то! — запричитала мама, из её круглых карих глаз катились слёзы. В комнате помимо мамы были ещё две незнакомые женщины в одинаковых синих безразмерных куртках. К синим курткам, видимо, полагались одинаково усталые лица. Рядом с кроватью стоял распахнутый пластиковый контейнер с ячейками, полными волнующих блестящих ампул и каких-то штук в стерильных упаковках. Женщины обрадовались, что Митя проснулся, одна стала давать маме рекомендации, а другая — дозваниваться диспетчеру, чтобы ехать дальше.
Пару дней спустя Митенька был почти здоров. Осталась лишь слабость, приходящая после болезни. Руки и ноги стали послушнее, пушистые ватные комочки, наконец, покинули голову, а мысли прояснились. Митя снова стал лёгким и беспечным, как раньше, стал собой. На улицу, правда, его всё ещё не пускали, зато телек смотреть можно было сколько угодно. Осколки странного сна, где он был другим, где было ужасное ВНИИ, и жена, и фикус, поблёкли. И только красное полотенце беспокоило и злило Митеньку так, что маме пришлось спрятать его подальше в шкаф. Буквы М, вышитой белыми нитками, на нём не было.

Море волнуется
Егор любил море так, как его может любить только коренной житель российских степей, который встречается с ним не чаще двух раз в год. Каждое лето, приезжая к бабушке на Балтику, Егор первым делом бежал здороваться с морем, обнимать его прохладные волны и дышать хвойно-сладким воздухом. Вот и сегодня, после бессонной ночи в поезде и получасовой тряски на такси, он оставил чемодан в бабушкином доме и, даже не переодевшись, побежал на пляж. Несмотря на календарный июль, воздух остановился на отметке в восемнадцать градусов, и немногочисленные отдыхающие, поеживаясь, кутались в ветровки на берегу, не решаясь заходить в воду. Сосны, высокой стеной окружившие пляж, местами подступали очень плотно к воде и отражались в ней — длинные сумрачные тени в серо-синей ряби. А море, обычно ленивое, словно стоячее болото, сегодня бурлило, кружило, разбивалось волнами о берег, оставляя соленые следы на шершавых черных камнях. Совсем как пятнадцать лет назад.
Тем летом Егор впервые за долгое время приехал к бабушке Наде не один. Вместе с ним приехала тетя Оля — новая жена отца — и ее дочка. Тетя Оля была одногруппницей его дяди и помогала организовать похороны матери Егора. На поминках отец молча пил водку, дядя принимал соболезнования друзей и родственников, а дядина жена с Олей бесконечно готовили и курсировали между кухней и гостиной. Сам Егор, отупевший от горя и задыхающийся от жалости, которой его душили даже малознакомые люди, вышел в сад и сел в тени липы. Это было его укромное место — его и мамы. Мама много занималась садом — она пыталась скопировать сады Сучжоу, куда они ездили с отцом в свадебное путешествие, и смеялась над тем, что Егор не мог отличить пион от ее любимой магнолии. Он не помнил, сколько просидел в оцепенении, когда рядом послышались голоса. Какие-то женщины — в одной из них Егор с трудом узнал Юлию Сергеевну, начальницу отца — обсуждали его родителей и его самого. Юлия Сергеевна чуть высокомерно пожалела его мать, которая умерла так рано, его, оставшегося сиротой в двенадцать лет, и саркастично заметила, никакого смысла нет в красоте. Все равно, если тяжело заболеешь, муж загуляет вместо того, чтобы заботиться. Первым порывом Егора было встать, вцепиться в Юлию Сергеевну и потребовать объяснений. Но мама бы не одобрила такое поведение. Она всегда говорила, что человек должен вести себя сдержанно и достойно. И Егор начал дышать — как учила мама — на три вдох, на четыре задержать дыхание, на восемь — выдох. Спустя минут десять кровь перестала стучать в ушах и он, спотыкаясь, проковылял к дому. А в гостиной тетя Оля, улыбаясь, подкладывала отцу закуски. Увидев эту улыбку, такую красивую и такую неуместную на поминках, Егор развернулся и ушел в детскую. Спустя пару месяцев отец официально познакомил его с тетей Олей и ее десятилетней дочерью Аленой, смущенно уверяя Егора, что не знал Ольгу до поминок матери, а тетя Оля обещала заботиться о нем, как о родном. Егор молча кивнул и, сославшись на загрузку в школе, пошел делать уроки. А ночью вышел в сад и долго стоял у куста магнолии.
На поездке в деревню к бабушке настоял отец. Сам он был занят на работе, но ему не терпелось познакомить мать с новой женой, поэтому он отправил тетю Олю с Аленкой к бабушке Наде. А вместе с ними и Егора, проводника в незнакомом для мачехи и новой сестры месте. Егор с отцом не спорил. Он вообще с ним почти не разговаривал с поминок, а отец и не настаивал, полностью погруженный в личное счастье.
Бабушка встретила их радушно. Она днями напролет шутила с Ольгой, твердила Аленке, что всю жизнь мечтала о внучке, и пекла ее любимые блины. Аленка от этой заботы смущалась и пыталась вовлечь в разговор Егора, на что тот отвечал парой фраз и уходил. А когда Аленка попросилась покататься с ним на велосипедах, Егор заявил, что для укрепления здоровья надо выезжать на рассвете, не позже шести утра. Аленка, известная сова, после этого от него отстала.
За пару дней до отъезда в город Егор ушел с ночевкой к другу, однако у того резко заболела собака, и они всей семьей поехали к ветеринару. В итоге Егору пришлось вернуться домой. Дома его уже никто не ждал, и все с удобствами разместились в гостиной. Тетя Оля штопала Аленкины колготки, бабушка вязала ей новый шарф — непременно голубой, к Аленкиным глазам, а сама Аленка ела блинчик, хотя Егору та же самая бабушка жестко запрещала есть где-либо кроме кухни. Егор долго стоял в коридоре, прежде чем его увидела Аленка и начала ему махать. Понимая, что и бабушка, и тетя Оля его заметили, он развернулся и вылетел из дома. Бег помогал скрыть слезы — казалось, что он плачет от ветра, а не от того, что кто-то положил холодную бетонную плиту на его сердце и давит — давит изо всех сил. Он мчался по узкой, шершавой асфальтированной дорожке мимо нарядных домов и остановился, только добежав до пляжа и увязнув кроссовками в чуть влажном песке. Отдышавшись, Егор как был, полностью одетым, зашел в воду. Море волновалось, бурлило, ошпаривало его руки и плечи ледяными волнами, щипало глаза, смывая слезы и оставляя соленые следы на губах. Еще несколько шагов, и море накроет его с головой. И тогда он, наконец, увидит маму. Погрузившись в свои мысли, Егор не сразу почувствовал, что его дергают за рукав. Сзади стояла Аленка, как и он, насквозь промокшая. Она была ниже Егора, и волны накрывали ее с головой. За их шумом Егор не мог разобрать ее слов, но в целом ему и не надо было их слышать — она весьма красноречиво вцепилась в рукав и тянула его к берегу. Егор отпихнул ее, сделал еще пару шагов, но потом вспомнил, что мама учила его быть джентльменом. А джентльмены не толкают девочек. Обернувшись, он не увидел Аленку и, судорожно вздохнув, стал ее звать. Но она не отзывалась. Дрожащими руками Егор протер глаза и, вздохнув поглубже, нырнул. Он нырял три раза, но мутная серо-коричневая взвесь застилала глаза, мешая увидеть дно. Егор решил нырнуть в последний раз и, если ничего не получится, бежать за подмогой. Продвигаясь вперед и шаря руками вокруг себя, он боковым зрением увидел ее платье. Крепко схватив его, Егор вытащил Аленку из воды, положил аккуратно на землю и попытался ей помочь, как учила мама. Спустя несколько напряженных минут Аленка закашлялась и начала дышать. А отдышавшись, она его обняла. Это объятие было неожиданным для Егора — после смерти матери его никто не обнимал. Даже бабушка, вроде бы любившая его, ограничивалась похлопыванием по спине и поцелуем в щеку. Аленка не размыкала объятий, и Егор начал дрожать и всхлипывать. А потом и совсем разрыдался — громко и со всхлипами. Отец запрещал ему плакать, утверждая, что это не по-мужски, и даже на похоронах матери Егор давил в себе слезы, плача по ночам в подушку — но очень тихо, чтобы отец не услышал. Аленка еще крепче его обняла и начала гладить — по спине, по голове, по рукам. От этой ласки, первой за полгода, прошедшие после смерти матери, Егор почувствовал, что тиски, сдавливающие его сердце, ослабили свою хватку. Аленка тоже плакала и сквозь слезы обещала стать ему настоящей сестрой, любить его — не как мама, но как сестра, и остаться его другом, даже если их родители разойдутся.

Морская фигура, замри
Обычно к концу августа жара спадает, и даже в самые солнечные часы можно спокойно плавать или лежать в тени, а не под кондиционером в номере. Тридцать первое августа, Средиземное море, холостой отпуск по стандартной моей схеме All inclusive. Отдыхать одному удобно, каждый день можно интересно проводить время, новые встречи с курортницами из разных стран, хотя я больше предпочитаю наших — отечественных. Согласно моей теории, для знакомства необходимо следующее. Первое — привлечь внимание, второе — сделать комплимент, третье — рассмешить, четвёртое — дать понять, что она единственная девушка на этой летней планете. Дальше приятный вечер, ужин, прогулка, объятия, поцелуи, кульминация, прощание. Единственное правило, которое для себя вывел — не встречаться с замужними. Дело даже не в том, что можно создать проблемы себе и другим, это больше принципиальный момент, ценностный.
Вот она: белая кепка, белый купальник, загорелое спортивное тело. Три раза поймал на себе её взгляд. Пристально смотрела серыми глазами, не пытаясь скрыть свою заинтересованность, когда вместе с дочкой заходила в море. Было сильное ощущение, что я её знаю. Если не ошибаюсь, то это называется ошибкой казуальной атрибуции. На курсе социальной психологии в университете говорили, что это такой эффект, когда мы приписываем человеку черты и поведение другого. Я видел в ней свою одноклассницу Лену.
Привлекать внимание уже не требовалось, но все равно по привычке, надев очки, стартанул дельфином, оставляя за собой расползающуюся дорожку волн. На пляже, кроме меня, в этот день никто так не плавал, конечно, она заметила. Технику плавания я поставил за время обучения в аспирантуре, когда посещал секцию, а разряды так и не заработал, мне удобно быть в физкультурниках любителях. Поднимаясь над водой, чтобы глотнуть воздух, и ударяя руками перед собой, вспомнил, как Лена выходила к школьной доске на русском языке, держа в левой руке дневник в желтой обложке. Эти воспоминания выплыли откуда-то из прошлого, им как минимум пятнадцать лет.
Проплыл чуть дальше буйков, вернулся к берегу. Моя Лена, теперь я её так называю, учила дочку плавать. Складывалось ощущение, что это не молодая мама, а подружка, такая же веселая и беззаботная. Они смеялись, брызгались, и дочка лет шести ныряла, зажимая нос пальцами, пытаясь кувыркнуться под водой.
— У тебя красивая и весёлая мама, — улыбаясь, сказал я, подходя ближе.
— Я знаю, — ответила девочка и снова, убирая мокрые волосы назад, готовилась нырнуть.
— Мы знакомы? — спросила Лена, слегка опустив подбородок вправо.
— Скорее, нет, но есть предчувствие, что да, — ответил я.
— И у меня такое же ощущение, что мы могли раньше встречаться, — поправив купальник на правом плече, сказала Лена.
— Я из небольшого городка в Сибири, сейчас живу в Москве, — чтобы прояснить возможные точки встреч, сказал я.
— А я из Петрозаводска, двенадцать лет в Питере, сначала училась, теперь живу и работаю.
— Мама, пойдем плавать и нырять. — Девочка, взяв Лену за руку, уводила за собой.
— Мы с Софией вечерами гуляем возле пирса, приходите, составите компанию, пока наш папа в отъезде, — неожиданно для меня предложила Лена.
— Спасибо, обязательно приду, во сколько?
— Ближе к восьми, — ответила Лена и легла спиной на воду.
— Хорошо, — прополоскав в воде очки для плавания, сказал я.
Лена пришла одна. Черное вечернее платье обтягивало её крупные бедра и высокую грудь. Прямые длинные волосы подчеркивали женственность, а серые глаза хотели что-то сказать, что не успели когда-то в прошлом.
— А думал, вы не придёте. — Я не удержался и почти выкрикнул это на расстоянии.
— Я тоже так думала, — мягко сказала она, подойдя ближе, — а потом решила, что можно нарушить правило, сделать исключение, пойти прогуляться с незнакомым мужчиной.
— Вы можете не беспокоиться, я совсем не опасный, разве что когда плаваю больше трех часов и у меня появляются жабры, — неудачно пошутил я.
— А борода обрастает чешуёй, — улыбнулась Лена.
— Да, правда, откуда вы знаете? — спросил я.
— Я о вас многое знаю, — сказала она, повернулась направо и повела меня за собой вдоль берега. Я вас очень хорошо знаю, — продолжала Лена, — мы учились в одном вузе, я по направлению «Спортивной гимнастики», а вы пловец, мастер спорта международного класса, известный под прозвищем «Дельфин». Так вас прозвали не только из-за стиля, который также называют баттерфляй, а все потому, что сильно вам нравилось творчество одноименного исполнителя. Из чёрной девятки даже с закрытыми дверями слышно было, как играет трек «Надежда», особенно громко звучали басы в проигрышах. Я помню ваши глаза, они такие же, как сейчас, глубокие, карие, смотрят пристально и уверенно. Тогда, в машине около моего дома, вы говорили мне в такт музыке «буду всегда с тобой, стану собакой твоей, чтоб о тебе с тоской скулить у закрытых дверей…» — это было романтично, сентиментально и странно. Вы влюбились, а мне нужно было учиться, тренироваться и всё делать обязательно на отлично. У нас ничего не вышло тогда. — Лена остановилась и повернулась. Я не хочу знать, как вас зовут, вы для меня Саша.
Та ночь не была изменой моим принципам, она не нарушала своих правил, мы провели её с людьми, которых давно и хорошо знали. Психологи советуют закрывать гештальты. Мы с Леной друг для друга оказались чужими образами несостоявшихся событий. «Завершать любовь с другими людьми» — хорошая тема для разговора с психотерапевтом, жаль, что никогда не обращался, может, ещё предстоит.
Она улетала через несколько дней, мы условились, что больше никогда не встретимся. Вечером пятого сентября, когда, сидя на балконе, смотрел шторм на море, мне с неизвестного номера пришло сообщение:
«София мне напомнила о детской игре.
Мы с тобой её доиграли.
Море волнуется раз,
море волнуется два,
море волнуется три.
Морская фигура, замри».
На фото я, бросающий руки перед собой, а брызги летят в разные стороны.
«Прощай, мой Дельфин», — написала она.
«Прощай, Лена», — ответил я.
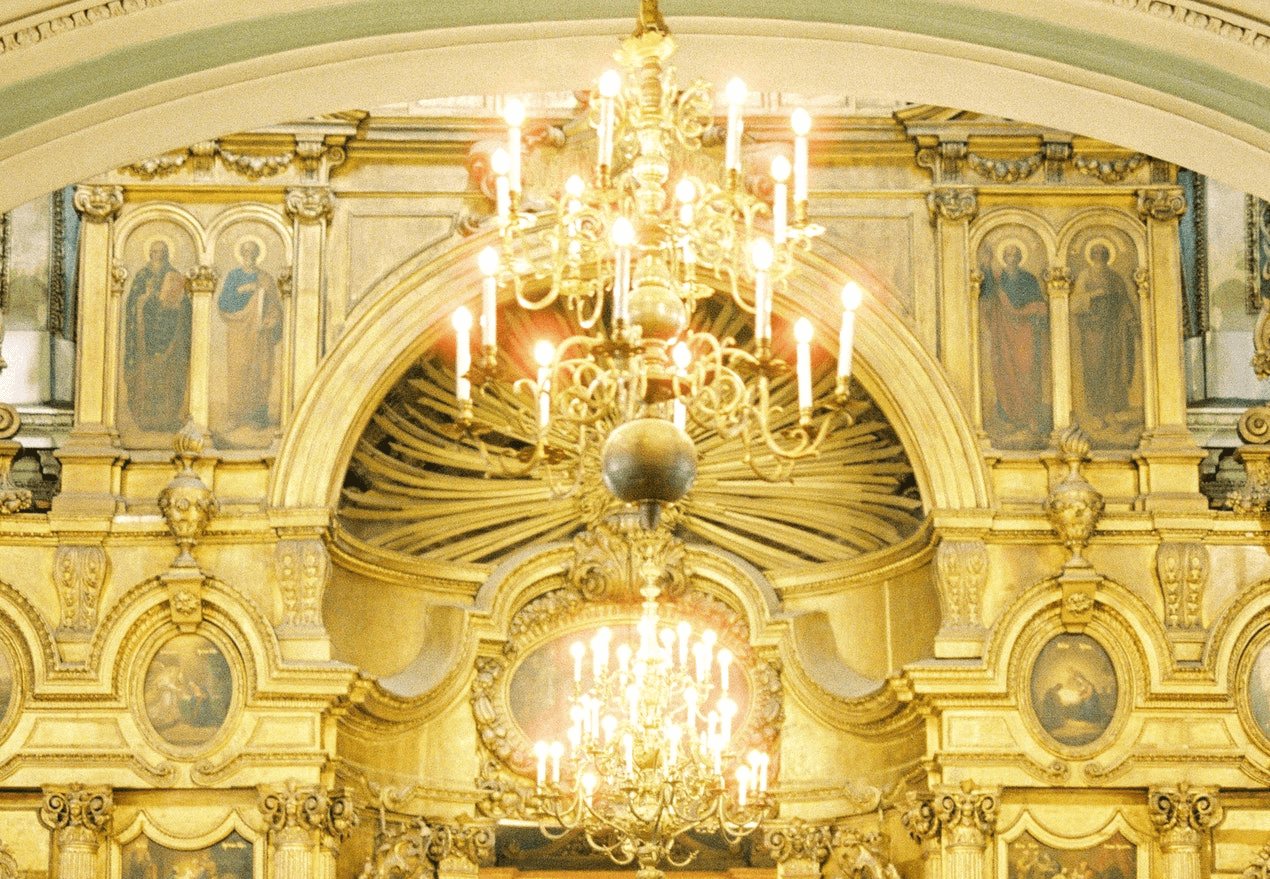
Он был зачат в Великий пост
Он был зачат в Великий пост. Татьяна долго отказывалась верить признакам беременности — задержки бывали и ранее, а утренняя тошнота, по ее мнению, была закономерным результатом того, что после поста она дала волю чревоугодию и распустила себя скоромной пищей. Когда беременность стала очевидной, она молила Бога об одном — чтобы простил ей, грешной бабе, преступное невоздержание в Страстную Седмицу и даровал ребенку внутри нее легкую смерть. Татьяне было хорошо известно, что женщины, не соблюдавшие постные дни, а также прелюбодействовавшие и рукоблудные, умирают родами или рожают тяжелобольных младенцев. Такого позора ей было не снести.
Татьяна заподозрила подмену, когда крикливого, розовощекого, перевязанного пухлыми складочками младенца вывалили ей на грудь после скоротечных, ничем не осложненных родов. «Дьявол», — подумала она, взглянув на ребенка, и, оформив все необходимые для отказа документы, ушла из роддома на следующий после освобождения от бремени день. Роддом не спал всю ночь — сын звал ее: от крика лицо младенца покрывалось синевой, и как бы туго его ни пеленали, крупные ножки и ручки высвобождались, и сильные кулачки колотили по стенкам кювеза. «Настырный, — заключала санитарка, шуруя шваброй под кроваткой орущего младенца, в то время как тот раскачивался из стороны в сторону, пытаясь повернуться на бок. — Ишь, какой богатырь!» Еще спустя сутки наступила тишина — ребенка забрали.
С новыми родителями Игорю повезло — его любили. В школе он был послушным и ответственным ребенком, любимчиком учителей. Кроме того, он обладал недюжинной силой и выносливостью, и в десятом классе к гордости родителей, дедушек и бабушек стал чемпионом области по классическому многоборью. По совету психолога, от него не стали скрывать, как он появился в семье, и даже пошли дальше — когда Игорь начал задавать вопросы, родители, перечитав десяток книг и заручившись поддержкой грамотных специалистов, приняли решение: искать Татьяну.
Игорь приходил ненадолго с пакетами продуктов. Он смотрел на лицо матери, пытаясь уловить родные черты, что-либо знакомое в ее движениях. Говорил он мало, ждал, когда Татьяна почувствует себя в безопасности, потеряет бдительность и сама расскажет о детстве в деревне, своих родителях или (этого ему хотелось больше всего) о его настоящем отце.
Однажды, надевая ботинки у выхода, Игорь опустил ногу во что-то мокрое. Резкий запах кошачьей мочи ударил в нос. Одним пинком Игорь запустил кота из прихожей в комнату. Кот перевернулся в воздухе, шмякнулся об пол возле своей хозяйки, вскочил, ощетинился, зафыркал.
На несколько секунд лицо Татьяны выразило недоумение, затем помрачнело, губы беззвучно зашевелились. Татьяна перекрестилась и крикнула дрожащим от волнения голосом: «Уходите! Не дождетесь моей смерти! Квартиру я уже завещала, не надейтесь! Милиция!» — руками она держала дверь в свою комнату, и из щели был виден только один быстро моргающий глаз с расширенным от страха зрачком.
«Я не хотел», — шептал Игорь, когда гремели дверные цепочки, разнокалиберные ключи спешно проворачивались в замочных скважинах. Дверь перед ним захлопнулась навсегда.
Рассказывали, что у Татьяны дела шли неплохо: в храме она была на хорошем счету — продавала свечи в церковной лавке, по выходным помогала в приходской школе. Денег за работу не просила — батюшка сам назначил жалование. В праздники ее видели танцующей в парке или в окружении птиц у пруда. Однажды Игорь тоже пришел в городской парк и смотрел из-за дерева, как его мать читает стихи со сцены, но подойти не решился. Он украдкой рассматривал ее, прислушиваясь к тому, что происходит у него внутри.
Игорь женился. На свет появилась Леночка. На службе Игоря ценили и через три года повысили до начальника отдела. Когда на работе отмечали юбилей коллеги, Игорь дал слабину и под всеобщее улюлюканье выпил грамм двести водки. Оказалось, чтобы тебя заметили, совсем необязательно хорошо учиться, регулярно посещать тренировки и каждый день вовремя приходить на работу — достаточно перестать быть для всех хорошим и начать жить в свое удовольствие. Игорю никогда не приходило в голову, что можно говорить и делать все, что захочется — между делом признаться коллеге, что от нее воняет, рассказывать матерные анекдоты и громко над ними хохотать, щупать замужнюю секретаршу Ларису или при всех заявить директору, что его презирает весь отдел. Через месяц, забрав ребенка, к матери уехала жена, а еще через неделю после этого Игоря рассчитали. Его нашли в овраге у дома.
О дате похорон сообщили и матери — на всякий случай. Татьяна пришла не из скорби, скорее, из любопытства. Она миновала чугунные ворота, протиснулась между ограждениями заросших сорняком неухоженных могил. Медленно и осторожно Татьяна прошла мимо зияющих черных прямоугольников, остановилась. Она стояла, всматриваясь в лицо покойника, казавшееся совсем чужим, и замирала, когда ветер шевелил волосы на его голове. Склонившись над гробом, рыдали две женщины в черном — одна пожилая, другая — моложе, а за их спинами неподвижно стояла девочка — по-видимому, его дочь, о которой Татьяна когда-то слышала, но встретиться им не доводилось.
Пришло время прощаться — гроб на тросах опустили в могильную яму. Люди из ближайшего круга наклонялись, бросали на крышку гроба землю. Ветер усилился, тучи заволокли небо. Татьяна повернула голову — на соседней могиле грязная черная кошка жадно ела вареное яйцо, урча от удовольствия. Покончив с добычей, она подошла к Татьяне, взглянула на нее слипшимися от гноя глазами, замяукала и потерлась о юбку. Пришлось отодвинуть кошку ногой — та угрожающе зашипела. Татьяна оцепенела. Голова начала кружиться, подступило удушье, явственно заурчало в животе. Пока Татьяна еще была способна шевелиться и чувствовала в себе силы идти, она направилась к воротам, помня, что нельзя оглядываться, старательно обходя чужие следы.
Ветер кружил сухую листву, пыль летела в глаза. На пригорке, за деревьями раздался хриплый петушиный крик, а прямо перед Татьяной на узкой тропинке возникла фигура женщины. В ее руке позвякивало пустое алюминиевое ведро.
Выйдя за ворота, Татьяна остановилась перед узкой деревянной будкой с надписью: «М/Ж». До остановки идти было с полчаса, потом еще минут сорок ехать на автобусе.
Зажав нос, Татьяна устроилась на скользких подгнивших досках, с трудом удерживая равновесие. Не успела она как следует расслабиться, как доски под ней зашевелились, а вертикальные швы на стенах поменяли направление.
Татьяна вскрикнула и обрушилась вниз. Она летела, пытаясь ухватиться за торчащие из среза земли длинные корни. Руки скользили, холодная жижа забивалась под ногти. Густой первородный бульон принял ее, хлынул внутрь, заполнил легкие и желудок. Татьяна попыталась вспомнить хотя бы одну молитву, но какая-то необъяснимая сила заставила позабыть все слова. Сковывающий страх полностью завладел ей, но не было в этом страхе ничего нового — она испытывала его много раз, всю свою жизнь, как будто сам дьявол, не Бог, всю жизнь стоял за ее плечом.

Перевал
Санные прицепы с топливом были едва видны сквозь пургу. Митяй захлопнул дверь кабины вездехода и, проваливаясь почти по колено в снег, заторопился к желтым размытым пятнам окон заправочной станции. Стажер Витек встречал Митяя, приоткрыв дверь; он вытаращил глаза и махал руками, как вертолёт, а его рокерские засаленные патлы подскакивали в такт.
Митяй прижал поднятый воротник к подбородку.
Угораздило же попасть в буран в последний рейс перед отпуском, да еще этот руками машет…
Похоже, не придется спокойно попить кипяточку, слиться и вернуться на базу паковать чемоданы.
— Олег застрял за перевалом! — выпалил Витек.
Митяй замер в проеме.
— Да заходи скорей!
Сзади бухнуло и отсекло вой вьюги. Сквозняк качнул тусклую лампочку и взволновал тени на плотно закрытой двери в радиорубку.
— Как давно? — Митяй стянул ушанку и продолжал стоять.
— С утра. Он еще вчера вечером с тягачом пошел за автобусом.
Митяй начал медленно оборачиваться к Витьку, но остановил взгляд на окне. За ним будто плескались чернила, из которых очередями стреляла снежная крупа.
— Не пробились, стали где-то на полдороги. У них топлива на три часа.
— Спасатели уже выехали?
— Да, но у их тягача движок умирает. Щас Петро тебе все скажет. Сегодня он старший смены.
— А на рации кто?
— Даша.
Буран.
Сколько лет прошло? Четырнадцать?
Как все-таки любит жизнь возвращать в ту же точку, из которой пытаешься убежать.
Когда хлопнула входная дверь, когда он шестилетним пацаном смотрел через окно в белую кашу, как уезжает отец. Когда исчезали красные фонари до боли знакомого уазика.
Или два года?
Когда Киров Олег так же в буран ушел с тягачом к застрявшему каравану геодезистов. Когда они долго не могли пробиться через заносы, сожгли все топливо и надо было кому-то встретить их на полпути с соляркой.
Поехать сквозь буран через перевал.
Олег передал по рации, что знает, что это очень трудно, но единственный шанс — это если Митяй выйдет им навстречу. А Митяй — еще зеленый юнец, первый год за рычагами вездехода, — оказался один у перевала…
Тогда на связь вышел спецназ горнострелкового подразделения, проводившего учения неподалеку, и Митяю дали отбой.
Дверь радиорубки открылась, и, качнувшись, вышел осунувшийся, небритый Петро. Пристально посмотрел воспаленными глазами на Витька:
— Спасательный вездеход сдох. — Перевел взгляд на Митяя. — Больше никого.
Митяй принял из рук Петро мешок и небольшую сумку.
— Так, вот тут еще медикаменты, мазь от обморожения.
Витек подскочил с литровым термосом с нарисованными красными маками, неуместно веселыми сейчас, и целлофановым кульком.
— Вот, извини, чая нет, кипяток и конфеты.
Митяй кивнул, спрятал все в мешок, затянул узел. Руки дрожали.
Из радиорубки вышла Даша. Вокруг ее обычно смеющихся глаз залегли тени, лицо было бледным, челка лежала набок, не скрывая глубокой складки над переносицей. Покачала головой:
— Не отвечает.
Подошла к Митяю и машинально подергала застежку на сумке, внимательно посмотрела в глаза:
— Митя, ты как?
— Нормально.
— Все будет хорошо. — Ее голос был тихий, усталый.
Или неуверенный?
— Да он уже знает этот перевал! — успокоил ее Витек.
Петро смотрел в сторону.
Даша коснулась руки Митяя, которую тот положил на мешок:
— Я буду все время на связи. Все будет хорошо.
Два года назад именно она была на рации в том караване. И все было хорошо.
Митяй кивнул Даше.
Петро протянул руку, все так же не глядя в глаза:
— Ну давай, с богом!
Буран не ослабевал.
Вездеход упрямо тащил за собой одни из оставленных саней с баком, забирая все выше к перевалу. Фары натыкались на стену летящего снега прямо перед капотом, и Митяй ориентировался только на сугробы по бокам, засыпавшие бетонные блоки ограждения. На развилке — прямо.
«Прямо пойдешь…» — вспомнилось Митяю.
Митяй всегда хотел быть как отец. Как он, ни перед чем не отступать.
Когда на следующий день объявили, что тот погиб, Митяй все-таки вырвался и убежал во все не отступающий буран. Ветер позади рвал крик матери: «Куда?! Он сгинул, и ты сгинешь!» Митяй очнулся в больнице. Сквозь щели в повязке на обмороженном лице был виден белый потолок, забинтованные руки, ноги… Мать была рядом. Заметила, что он пришел в себя, заголосила. И на годы вбила в голову, как ударом молота: «Он сгинул, и ты захотел?!».
Вот и перевал. На этом самом месте он стоял два года назад, когда должен был встретиться с Олегом.
Когда никто не видел, как Митяй орал в голос и размазывал слезы, не в силах выдержать вид черного ничто, плюющего снегом в лобовое стекло, и поставить рычаг на ход…
«Он сгинул, и ты сгинешь!»
Снова та самая точка, метель, тьма.
И он сгинет. Об этом известно всем. Даже Петро не смотрел в глаза.
Буран не выпустит его. Как отца.
Что остается?
Принять. Как отец. Пойти в этот мрак.
«Отец сгинул, и ты сгинешь!»
Митяй сжал рычаги и скрипнул зубами. Значит, как отец. Как он, не отступить.
Тогда, два года назад, на крайнем сеансе связи Олег сказал ему: «Встретимся на полпути. Ты справишься».
Но ведь он знал про горных стрелков. Он сказал это просто так. Он бы никогда не поехал, не рискнул людьми, если бы не знал, что кто-то еще, кроме Митяя, может помочь.
Рация зашипела. Через помехи пробился голос Даши:
— Заправщик, ответьте Второму!
— На связи.
— Синоптики дали прогноз. Буран скоро стихнет! Скоро будет полегче.
— Принял.
Рация смотрела на Митяя, потрескивая и шипя.
— Ты как, Митя?
— Все отлично. — Он наклонился чуть ниже, где дворники лучше счищали снег с лобового, и до хруста сжал рычаги.
Дизель тарахтел на холостых, ветер свистел и выл вокруг кабины. Что-то стукнуло в борт, качнув машину.
«Отец сгинул, и ты сгинешь!»
Фары будто вспыхнули чуть ярче.
«Ты справишься!»
Мотор чихнул и сбойнул.
«Тьма тебя сожрет, она проглотит тебя и больше не выпустит!»
Митяй поддал газу, и пятьсот лошадей снова ровно побежали под капотом.
«Ты сможешь, встретимся на полпути».
А ведь Даша была там. Она говорила с Олегом…
Она тоже ехала ему навстречу…
Митяй нажал на вызов:
— Второй, заправщику!
— Второй на связи!
Митяй медлил.
— Второй на связи, Митя, прием!
Митяй снял микрофон и прижал к губам холодную металлическую сетку:
— Скажи, Даш, а если бы вояки не вышли тогда на связь, если бы Олег тогда не знал про них, выехал бы он мне навстречу?
Шипение усилилось, и вдруг на секунду повисла тишина; потом отчетливо:
— А он и не знал. Рация только в моей машине работала, а мы ни разу не остановились. Он шел навстречу тебе. — Даша подчеркнула последнее слово.
Митяй отнял от губ рацию:
— Принято, второй. Конец связи.
Он ощутил, что улыбается. Покой. Вьюга отдалилась, ее вой превратился в поскуливание.
Митяй включил скорость и двинулся вперед, на тьму. И тьма отступила. И так она пятилась от него, скалясь и рыча, пока впереди не показался свет фар и не появился силуэт. Открылась дверь, дохнув морозом, и Олег заскочил в кабину, блеснув сосульками в бороде:
— Чё так долго? Околели уже тут!
— Да за грибами заехать решил!
Они по-медвежьи схватили друг друга за плечи.
— Рад, что ты наконец доехал.

По вере вашей
— …ну, будет вам, Галина Петровна. — Настоятель нетерпеливо переступил с ноги на ногу и посмотрел на ризницу. Литургия только что закончилась, и ему хотелось поскорее снять тяжёлое облачение, уединившись со стаканом сладкого чая.
— Да-да, конечно, но ведь не все же? — Коренастая старушка вновь перехватила его на полпути. — Ведь и правила есть, заповеди. Я, вон, все соблюдаю. — Она поправила сбившуюся косынку и снисходительно покосилась на мужчину, тянувшегося щепотью от живота к левому плечу. — А грешники, безбожники всякие почему должны спастись, по какому праву? — Маленькой рукой со старческими веснушками она робко, но цепко потянула отвлёкшегося настоятеля за рукав. — Ведь не должны же, отец Сергий?
Вместо ответа, он сложил щепоткой три пальца и трижды нарисовал в пропитанном ладаном воздухе крест, незаметно высвободив рукав.
Галина Петровна служила при храме второй месяц и прикладывала равное рвение к чистоте мозаичного пола и вниманию настоятеля. Грешников и безбожников она тоже не любила второй месяц. Безбожников даже чуть меньше, поскольку те в храм не ходили и неправоверную свою грязь на вымытые ею полы не таскали. В минуты отдыха настоятеля Галина Петровна добровольно брала на себя функцию надзора за пол топчущими. Она с удовлетворением отмечала каждый забытый поклон, каждую неверную последовательность и направление крестного знамения, которым осеняли себя прихожане. В её смену пол храма непрерывно чернел от влаги, а под душными сводами то и дело разносился лязг оцинкованного ведра, без устали устремлявшегося к каждому невежественному прихожанину. С назидательным шипением она сырой тряпкой ловко отрезала несчастному грешнику все пути к отступлению.
Со шваброй Галина управлялась профессионально, тридцать лет стажа за ссутуленными плечами вполне уполномочивали её, по собственному заключению, на роль старшей. Кроме неё, закапанный воском пол приходила мыть ещё одна пожилая женщина, бывшая хоть и старше Галины Петровны, но никогда не высказывавшаяся против этой самоорганизации. В церкви обеим ничего не платили. Галине вполне хватало на жизнь повышенной пенсии, которую удалось выбить в СОБЕСе после мужниной смерти. Что толкнуло сюда её немую компаньонку, она не знала, вопросов ей новоиспечённая послушница не задавала. Все вопросы Галина Петровна сберегала для настоятеля, в чьём особом к себе расположении не сомневалась благодаря своей собственной логике.
Старательно протирая своё отражение в тусклых стёклах икон, она нарабатывала новый стаж, и «свой» человек, как во всякой организации, был здесь абсолютно необходим. Галина Петровна твёрдо усвоила это ещё по СОБЕСу.
Свои зыбкие религиозные воззрения она черпала в брошюрах из букинистического через дорогу. Духовному чувству в немалой степени способствовали перечёркнутые, лимонно-желтые ценники. Для увесистых томов не было ни охоты, ни полок.
Тёмная иконка Николая Чудотворца, оставшаяся от бабушки, стояла над телевизором. Прикрытая первомайской открыткой, она была единственным предметом культа за всю жизнь Галины Петровны (не считая усатого фотопортрета в металлической раме), не особенно интересовавшейся чудесами. Молитв она благоразумно не знала, зато отлично знала Интернационал. Школьные уроки не предусматривали изучения «опиума для народа», а дальше восьми классов Галина не стала учиться. Мать не удосужилась отговорить её от поездки в колхоз, где на сборе картошки она заработала первые деньги, да так и осталась на год, устроившись дояркой. Непримечательного мужа она встретила там же, на картошке, год спустя. С приметным плечистым трактористом пришлось через месяц расстаться. Белая рубашка скучного веснушчатого инженера имела большие перспективы, чем промасленная гимнастёрка, от которой зимой шёл пар.
Тридцать лет брака не принесли радости, зато принесли жилплощадь. Двадцатиметровая комната досталась им по распределению от завода и располагалась в старом доходном доме в центре города. Ликвидных метров, впрочем, не было достаточно, по мнению Галины, чтобы заводить на них детей. Она с содроганием вспоминала каморку, что делила с младшими братьями в детстве. Беспомощных бездельников мать и тогда больше любила.
Галина не была против детей. Она и аборт-то делала только раз в жизни, убедившись, что механизмы мужа исправны. Вслух она часто пеняла насчет его инженерных способностей, когда на заводе задерживали зарплату, и еду в дом приносила она одна. Когда на пятидесятом году главный механизм вдруг дал сбой, она искренне изумилась, но быстро освоилась с ролью вдовы. В отличие от мужа, профессиональная деятельность Галины Петровны была куда более практичной. Она никогда не обслуживала столики, не подавала номерки и позже не мыла полы в заведениях, откуда нельзя было бы вынести списанный хлеб, неучтённые макароны, а то и масло с икрой. Когда кончился Советский Союз, Галину Петровну не брали в кафе и буфеты уже несколько лет. Ненавистный капитализм лишил её икры и любимой работы.
Капиталисты же захватили все комнаты в доме, ловко переделав их в студии. Новые жильцы без конца сменяли друг друга, и никто не считал нужным здороваться с Галиной Петровной или выключать в коридоре свет. У неё хоть и был персональный счетчик, в растрате казенного электричества её никто бы не смог упрекнуть. Никто, впрочем, и не пытался. Она сама осторожно выговаривала наименее угрожающего вида соседям, поджидая их вечерами. В остальное время праведное негодование выслушивал телевизор. Галина Петровна часто засыпала в продавленном кресле, осененная голубым светом экрана, работавшим до утра.
Днём, когда она просыпалась, редко показывали что-то стоящее. Скучающий, близорукий взгляд соскальзывал с экрана и двигался по выцветшим обоям, желтеющим фотографиям, по вырезкам репродукций, приколотых кнопками. С полочки на неё смотрела пыльная первомайская единица и портрет в рамке. Галина отодвигала открытку и подолгу всматривалась в неизвестного ей Николая и в другого — усатого. От обоих веяло суровостью и справедливостью. Кто-то из них был в ответе за прошедшие семьдесят восемь лет.
Повязывая к вечерней платок, Галина Петровна точно знала, где безнаказанно теперь можно было спросить.
— Ведь правда же, отец, Сергий?

Последнее чудо
Карлос толкал перед собой старую тачку. В тачке глухо подпрыгивали строительные инструменты, завернутые в тряпку. Рядом шел Педро. На обоих были выцветшие майки и потертые шорты. Но изношенная одежда только сильнее подчеркивала молодую загорелую кожу и хорошо сложенные фигуры. Карлос был пониже и как настоящий бразилец говорил много и эмоционально:
— Дело верное, эта больница уже два года стоит пустая, там вроде хозяин обанкротился. Понятно, что сотрудники унесли все, что смогли, оставили барахло всякое. Спирт наверняка первым делом вывезли. — Он засмеялся.
— А нам, глядишь, и барахло сгодится, десяточек килограмм сдадим. А если повезет, медь попадется.
Педро не отвечал, он давно уже привык, что друга достаточно благодарно слушать. Они выросли вместе в бедном районе города. В армию их не взяли, в картель не попали. Что-то их уберегло. И теперь промышляли время от времени, когда не сильно были заняты приятным ничегонеделанием.
Наконец они дошли. На калитке привычным движением скрутили навесной замок, затолкали тележку во двор и прикрыли за собой дверцу. Двухэтажное здание клиники отстраненно смотрело на них мутными стеклами. Стеклянная вывеска рядом со входом треснула. Замок на двери был заклеен бумагой, была видна печать. Педро хотел прочитать, что там было написано, но Карлос уже сорвал бумагу и просунул ломик в щель между дверью и косяком. Раздался натужный стон дерева, потом короткий хлопок, и замок откровенно выставил свою железную внутренность напоказ. Дверь распахнулась.
Они вошли в полутемное помещение, на полу местами валялись куски штукатурки. Пахло горячей пылью. Под подошвами вьетнамок хрустело. В кабинетах оставалась еще какая-то мебель, столы, кушетки. За очередной дверью оказалось помещение без окон. В сумраке Карлос разглядел что-то, похожее на подъемник в автомастерской, как будто однорукий богатырь-великан держит свою голову на вытянутой руке. Карлос постучал по нему ломиком — раздался металлический звук:
— А это, похоже, то, что нужно. Наверняка внутри цветной металл.
Он забрался на кушетку, которая стояло ровно под головой великана, и стал искать, за что зацепиться ломиком, чтобы вскрыть крышку. Вставить край ломика в узкие пазы не удавалось, и Карлос стал пробовать другие инструменты. Педро обошел остальные комнаты и вернулся ни с чем.
— Еще чуть-чуть, и вырежу эту крышку, — кряхтел Карлос и большими ножницами кромсал цинковый лист. Наконец крышка отлетела, и взломщик нащупал в открывшемся туннеле прямоугольный металлический предмет. Карлосу не удавалось выдвинуть его в проем, и Педро залез на кушетку, чтобы помочь товарищу. Вдвоем они кое-как вытянули ящик и практически уронили его под ноги.
— Педро, заживем, неделю богатеями будем ходить, тут килограмм пятьдесят, не меньше!
Какое-то время переводили дух. Потом оттащили добычу к выходу и погрузили в тележку.
Дома сообщники выгрузили трофей под навесом. Карлос принес зубило и молоток. И они по очереди стали долбить ящик, пытаясь разобрать его на составляющие. К вечеру с большим трудом удалось снять несколько свинцовых пластин. Карлос радовался удаче, свинец стоил дороже алюминия, а тут его было много. Он вслух мечтал о том, на что они с Педро потратят вырученные деньги, в то время как Педро пытался отделить от ящика очередную пластину. Вдруг он замолчал, издал характерный гортанный звук, и его вырвало прямо на настил.
— Похоже, надорвался я, полцентнера все-таки. Ладно, давай по домам и спать, завтра продолжим.
На следующее утро Педро не пришел. Карлос принялся за работу один. Наконец, ближе к обеду он отковырял все свинцовые пластины и увидел внутри трубку. Она светилась необычным красивым синим цветом. Он вставил отвертку в трубку и черпнул немного светящегося вещества. «Может, это порох?» — подумал он. Принес спички и поджег, но порох не горел. Не зная, какую пользу можно извлечь из этой находки, он покрутил ее в руках и положил в карман. Собрал свинцовые плитки в тележку и повез сдавать знакомому приемщику металлолома.
На обратном пути он зашел к брату. На пороге его встретила племянница:
— Дядя Карлос! Дядя Карлос пришел! Дядя Карлос, покатай на тачке!
Девочка прыгала вокруг него, и черные кудри пружинками плясали вокруг детского лица. Как будто что-то вспомнив, она побежала в дом и вернулась с еще теплым вареным яйцом. Есть не хотелось, со вчерашнего вечера мутило и подташнивало, но Карлос взял яйцо и сказал:
— Спасибо, Лурочка! Как ты любишь своего дядю. И дядя тебя очень любит, он принес тебе подарок, посмотри-ка! — Карлос достал из кармана трубочку со светящимся порошком.
— Смотри, какие волшебные звездочки! Вечером перед сном посыпь ими вокруг и будешь спать среди звезд!
Девочка застыла от изумления. Из рук дяди исходил магический синий свет! Ничего подобного она раньше не видела. Она завороженно взяла трубку. Очнулась, обняла дядю и побежала с подарком в дом.
Лурдес играла с волшебным порошком весь день, а вечером после захода солнца устроила для родителей представление. Она нарисовала светящиеся узоры на теле и танцевала, напевая мотивы, которые слышала по радио. Мать и отец, сидя на полу грязной хибары, не видели обшарпанных стен, заплесневелого потолка, а только сияющего божественным светом ангела, танцующего в темноте среди синих крохотных звездочек и поющего тоненьким голоском свою ангельскую песню.
Прошел месяц. Карлос лежал в больничной палате и читал газету. На первой странице под заголовком «Шестилетняя девочка умерла от радиоактивного облучения» он увидел фотографию Лурдес. Он машинально приблизил к себе страницу, чтобы лучше разглядеть лицо племянницы, но лист сложился пополам. Ему захотелось расправить его второй рукой, но от этого движения больно резануло ниже бинтов, там, где руки уже не было. Карлос бросил газету и заплакал. Ведь он раньше даже не догадывался, что такое дьявольски красивое и смертельно опасное может существовать в мире.
Как не догадывался об этом и прокурор, который арестовал имущество обанкротившейся клиники. Прошение о немедленной передаче части арестованного имущества в какую-то государственную комиссию он принял за желание бывших владельцев навариться на банкротстве.
Как не догадывались люди, приходившие посмотреть на волшебное сияние порошка и взять себе немного, о том, что это будет последнее чудо в их жизни.

Призрак
Я умер полчаса назад.
Точнее, полчаса назад я узнал, что умер. Будь сегодня среда, пятница, да и любой другой рабочий день, я понял бы это раньше: помогла бы привычка лезть в соцсети ещё до того, как разлепишь глаза. Но сегодня чёртова суббота…
Уже пару лет я устраиваю себе цифровой детокс по выходным. В нашем мире, где твой аккаунт в соцсети живёт насыщеннее, чем ты сам, просто нужно иногда отвлекаться на реальность. Я просыпаюсь не по будильнику, запускаю что-то из классики на виниле и наслаждаюсь ароматным кофе и сливочной начинкой хрустящего круассана. И только после тыкаю в холодную кнопку питания на компьютере и погружаюсь во внешний мир с его радостями и бедами.
В сегодняшнюю новость я влетел лбом, на полной скорости, как манекен в стену во время краш-теста.
Вместо моей страницы в соцсети с экрана смотрела аскетичная надпись: «Доступ к аккаунту заблокирован в связи со смертью владельца».
Я поморгал. Подёргал мышкой. Постучал ею по столу. В общем, сделал всё, что делает любой нормальный человек, когда ничего не понимает. Эту надпись я видел много раз: в аккаунтах умерших знаменитостей, старших родственников и даже пары знакомых. Но ещё никогда не слышал о подобном глюке.
Поморщившись экрану ещё минут пять, я ткнул кнопку перезагрузки. Ничего не изменилось. Почти. Только рядом с надписью я заметил серую надпись: «Проблемы со входом?»
Да! Именно! Ряды буковок-инструкций бежали по экрану, но толком не проникали в мозг. Всё заслонила одна паническая мысль: если мой аккаунт действительно заблокировали, то будет ли у меня доступ хоть к чему-то из моей прошлой жизни?
На третьей странице глаз выхватил обнадеживающее: «…восстановить доступ к аккаунту, заблокированному согласно пунктам 7.1, 7.2, 7.3…» Ага, вот! «…необходимо подать жалобу через вашу страницу на Госуслугах…»
Я ринулся на сайт, заполнил все нужные формы и нажал на ввод… «Спасибо за обращение! Срок рассмотрения заявления — 3-5 рабочих дней». Зараза! Сегодня же суббота. С их скоростью мне ещё неделю сидеть в покойниках!
«…также жалобу можно направить по телефону 8(495)…»
Когда пальцы набирали номер, я уже чувствовал, что обломаюсь. Уже лет сто мы живём в эпохе тотальной цифровизации, и все системы синхронизируются с аккаунтом человека в соцсети: и телефон, и мобильный банк. И если система всерьёз считает меня умершим…
«В случае невозможности подать заявку онлайн, Вы можете лично прийти в паспортный стол по месту прописки».
Я выдохнул, как боксер, когда рефери поднимает руку соперника. Прописан я у родителей, за тысячу километров отсюда. Моя банковская карта, разумеется, разделила судьбу всех аккаунтов. Я даже не смогу купить билет домой — наличку запретили ещё во времена моей бабушки.
Я вышел на кухню, набрал воды прямо из-под крана. Махнул стакан залпом. Умылся. Ситуация, однако! Я не могу никому позвонить, не могу написать, не могу прийти в офис к этим умникам и посмотреть в глаза тому, по чьей милости все мои друзья и родные теперь считают меня умершим…
В комнате вдруг пискнул сигнал оповещения. Я метнулся компьютеру, ожидая чудесного «воскрешения», признаний в дурацком розыгрыше или звонка от друзей, которые решили проверить новость. Но вместо этого на экране горело уведомление: «Согласно настройкам аккаунта, включена услуга “Последнее прости”. Публичный доступ к странице будет включён на три дня».
А я и забыл, что поставил галочку напротив этой штуки… «Последнее прости» — свежая разработка. Любой желающий может написать на странице усопшего слова скорби и прощания. А главное — получить ответ. Его генерирует нейросеть на основе переписок, искусно копируя стиль умершего.
Говорят, людям легче отпустить близкого, если они успели сказать что-то самое главное, пусть даже не ему, а его цифровой копии. Но я радовался другому: теперь я хотя бы видел свою страницу — пусть и не мог ничего с ней сделать.
Первая запись не заставила себя ждать. «Горе-то какое! Такой молодой мальчик! Какие надежды подавал! — неожиданно, первой писала моя (когда-то) классный руководитель. — Нужно сделать мемориальную доску в его честь, я подниму вопрос на собрании».
Старая стерва! Всю школу пинала меня, повторяла, что стану бомжевать на теплотрассе из-за её гребаной географии, а теперь…
Под надписью вдруг появился ответ. «Подруга дней моих суровых, любезная Зинаида Ивановна! Не печальтесь о мертвых, помогайте живым. Спасибо за добрые слова обо мне!»
Я хрюкнул. Серьёзно? Бот не придумал ничего лучше? Впрочем, я и сам хорош: при встрече с этой мымрой только улыбался и кивал. Будь у меня шанс ответить ей так, как я не решался при жизни, она бы такого о себе услышала!
Страница снова мигнула и выдала: «Дружище, как же так?!! Это шок. Ты был мне ближе родного брата, и вот тебя нет. Земля пухом…»
Брата! Я сжал кулаки и чуть не перевернул стол вместе с монитором. Брат, как же! Разве братья уводят друг у друга девушек? Грязный ты козёл, Дэн, а не брат!
Я выругался и снова застучал мышкой, как будто это могло чем-то помочь. Вскочил и грохнул стаканом об пол. Тварь! Лицемерная гнида! Какого чёрта я не дал тебе в морду ещё тогда?
«Братишка, все там будем. Не торопись и много не греши — даст Бог, свидимся!» — засветилось в ответ от моего имени.
Я присвистнул. Этот чёртов бот — просто Омар Хайям какой-то! Окей, обращения мои, но смысл — он же сочится благодатью, как рождественский пирог!
Следующие пару часов я наблюдал, как лицемеры всех мастей, мои близкие и дальние знакомые, получали отпущение грехов направо и налево. Просто цирк, только попкорна не хватало! Я злился, ржал в голос, фейспалмил пару раз, пока не поймал внезапный дзен.
А может и правда — ну его, а? Откажусь от восстановления, останусь для всех мудрым и понимающим призраком, а не злобным реальным человеком. Доживу свой век в деревне у родителей, а интернет — да к чёрту!
Я уже занёс палец над кнопкой завершения работы, как звякнуло новое уведомление. Анонимное. Впервые за день.
«Здравствуй. Прости, что не написала тебе при жизни. И что сейчас пишу вот так. Но ты ведь всё видишь оттуда, да?
Знаешь, я так не плакала, даже когда от меня ушёл муж. Сама не ожидала. А сегодня утром увидела чёрную ленту на твоей аватарке — и как прорвало…
Набирала сообщение раз сто и стирала. Но если бы могла сказать тебе только одно — то… Спасибо за ту прогулку. Кленовый листик до сих пор лежит у меня в дневнике. А у нас и правда могло получиться. Только я не решилась сказать, что ты мне тоже нравишься. Жаль, что теперь поздно».
Алиса… Я узнал автора даже без подписи. И понял, что мне неважно, останется ли в сети мой аккаунт.
Я умер сегодня утром. От прошлой жизни у меня осталось только три вещи: умение ездить зайцем в электричках. Адрес первой любви. И решимость исправить одну ошибку. Главную в моей прошлой жизни.

Просто посидим
В моём календаре среди дней рождений, совещаний и прочих стоматологов примерно раз в три месяца появляется пометка «М. С.» и восклицательный знак. Юбилей тётушки можно пропустить, собрание — прогулять, можно забить на врачей и отменить доставку, хотя себе дороже, но эти встречи неприкосновенны. Ни дождь, ни град, ни ковид, ни новогодний корпоратив не могут им помешать. Мы с Маришей ходим в кафе.
Просто посидеть. Никаких совместных проектов и деловых разговоров. Встреча подружек детства, ничего серьёзного. Мы заказываем капучино с десертом, может, салатик. Клюём потихоньку и чирикаем обо всём подряд до закрытия. Потом ещё часик провожаем друг друга и разбегаемся копить новости и забавные случаи из жизни до следующего раза.
Эти посиделки выматывают, как смена в забое, и вычерпывают до самого донышка. Я отдыхаю от Мариши неделями, гуляю, читаю, хожу на все выставки и концерты, которые только могу себе позволить, заряжаюсь людьми, эмоциями, воздухом, музыкой, чтобы от энергии внутри просто распирало. И когда я уже совсем свечусь, как гирлянда на ёлке, я пишу Марише: «Ну что? Соберёмся в пятницу?»
Почему я?
Мариша — воплощение пассивного залога. Она не действует, с нею случается. Её приглашают, ей предлагают, её принимают. Хотя чаще так: её забывают, её пропускают. Сама она о себе напомнить не в состоянии. «Ну как это я тебя позову? А вдруг ты будешь занята?» И глаза на мокром месте.
В кафе она долго изучает меню, с первой страницы до последней, но заказывает в итоге то же, что и я. Ей трудно решать самой. Объяснить официанту, что салат без лука, а в кофе нужно добавить сироп, для неё и вовсе непосильный труд.
Она носит не то, что нравится, а то, что налезает.
Любые бытовые проблемы вгоняют её в глухую тоску. Ей было проще лично раскрутить кран, чем вызвать сантехника. «Ну как это я оставлю заявку? Я не умею с ними разговаривать». Впрочем, чтобы собрать кран обратно, ей не хватило силы, и приходилось неделями перекрывать в доме воду, уходя на работу.
Она давно и безнадёжно застряла в бюджетной конторе, отбывает повинность с девяти до шести и даже не замахивается на большее. «Повышение», «прибавка зарплаты», «карьерный рост» для неё звучат, словно на иностранном языке. Она уже мечтает о пенсии.
Как из самоуверенной девчонки по прозвищу Том Сойер получилось такое желе? Я не знаю.
Мы дружили в детстве, но во взрослой жизни не особо близко общались, так, держали друг друга в поле зрения. Насколько мне известно, последней каплей для неё стала неудачная покупка машины и вроде ещё поговаривали про сложный роман и какие-то трения с родителями, но сколько их всего было, этих неверных шагов, которые накрепко убедили Маришу в собственной житейской бездарности? Отчаяние копилось несколько лет, пока — фух! — не произошёл переход количества в качество. Была царевна-королевна, стала лягушка в анабиозе.
Я не самый альтруистичный человек в мире. Я встречаюсь с Маришей и для себя тоже. Это немного похоже на то, как сходить в кино на ужастик — и нервы пощекотать, и вздохнуть с облегчением, что ты-то в безопасности. Но всё-таки в глубине души я надеюсь, что наши встречи помогают и ей.
Мариша впервые поздравила меня с Новым годом. Сама позвонила! Сегодня в кафе первой выбрала — не кофе, а чай. Мятный.
Может, оживёт потихоньку.

Радуйся, Николае!
Тогда его придется утопить, решила среди ночи баба Настя.
Он ссал и метил везде, где хотел: у входной двери, перед холодильником, в кровать, в обувь, сумки и даже шапки. Баба Настя перепробовала разные средства из Интернета: помазать уксусом или нашатырным спиртом, натереть лимоном или горчицей. Все углы, пороги и емкости были много раз перемыты, натерты и намазаны, но кот не прекращал. Кроме того, он все время орал без повода, воровал еду, едва отвернешься, больно кусал за ноги, мстя за любые попытки его воспитать, и имел неприятную привычку, наклонив голову набок, долго и пристально смотреть исподлобья своими желто-зелеными глазами.
Кота звали Палпатин. Егор, сын бабы Насти, подобрал его год назад на улице — черного, худого, грязного, жалкого, с гниющими глазами и ушами, с проплешинами на спине. Он так и не отъелся, остался худым и долговязым, во всем походя на Егора. Они обожали друг друга: большую часть времени Палпатин проводил у него на коленях, в ногах на диване или у монитора на столе, когда тот играл в компьютере. Только когда Егор, взяв приготовленные матерью жареную картошку и котлеты в контейнере, уходил на дежурство в отделение полиции, кот начинал орать и безобразничать. Вот как сейчас.
Бабу Настю мучила бессонница. Она посмотрела на иконку Николая Чудотворца на подоконнике — ей нравился батюшка Николай своей аккуратной кудрявой бородой, большим лбом умника и добрыми глазами. По утрам и вечерам она просила у него помощи, чтобы днем меньше болела спина, а ночью — побыстрее уснуть. И еще просила внуков — сын давно вырос, неизрасходованные запасы любви в ее душе никак не находили выхода.
Егор не был женат, несмотря на свои тридцать семь лет, но полгода назад обнаружилось, что у него есть девушка — Олеся. Вскоре стало известно, что она беременна. Баба Настя боялась поверить своему счастью, прибралась, освободила полки в шкафу и постелила новое белье на диван, когда девушка решила перебраться к ним. Молчаливая и худенькая, с острым носиком и торчащими ключицами, она была из многодетной семьи, работала на кассе в «Пятерочке».
Олеся продержалась почти весь декабрь, хотя кот развязал позиционную войну в первый же день, испортив лучшие олесины кроссовки. Неделю назад Олеся твердо заявила, что ей надоело наступать везде на мокрые газеты, что кот изгадил все ее вещи, им провонял весь дом, а Егор даже дверь в комнату от него не разрешает закрывать, что ей и будущему ребенку такое вредно терпеть. Посмотрела на Егора ясными серыми глазами и предложила выбрать: или она, или кот.
Егор выбрал кота.
Олеся собрала пожитки, заблокировала Егора и бабу Настю в телефоне и исчезла, решительно взмахнув напоследок хвостом крашеных белых волос.
Сначала баба Настя отвезла кота за город, на пустырь, где конечная четвертого автобуса. И оставила там в застегнутой сумке. Но он нашел дорогу домой — к большой радости Егора, который стыдил мать, что она не уследила за котом, и каждый день ходил искать его по помойкам.
«Но сегодня все, точно все», — то ли подумала, то ли произнесла вслух баба Настя, глядя на кота, замершего в выжидательной позе на выступе серванта, напротив ее кровати, тонкий хвост животного выписывал в воздухе буквы неизвестного алфавита.
Баба Настя надела пальто, натянула берет на наспех сделанный пучок, засунула кота в хозяйственную сумку. Палпатин не сопротивлялся.
Она не заметила, как дошла до берега Волги.
До Нового года оставалась неделя. Река схватилась, но не замерзла окончательно, лед у берега был совсем тонкий, прозрачный, сквозь льдинки проглядывала черная вода. Дул сильный ветер, стоял такой треск, что, казалось, воздух рвется, как ткань. Сопротивляться ветру, стоя на бетонном парапете, было трудно. Нечего и думать утопить кота здесь, на мелководье среди льдин он не утонет, а идти дальше по неверному льду да еще в такой ветер было страшно.
Баба Настя побрела в сторону дома, постоянно озираясь, ей мерещилось, что кто-то следит за ней из темных кустов. Ветер порывисто толкал ее в воротник пальто. Кот в сумке сидел тихо.
Железный лязг двери в подъезде вывел ее из оцепенения. У нее же есть топор, в кладовке.
В их доме балконы между этажами на запасной лестнице были переоборудованы в кладовки — по одной на четыре квартиры. У них с Егором было много барахла, среди прочего — строительный и садовый инвентарь, который они боялись оставлять на зиму в старом деревенском доме.
Ключ от кладовки оказался с остальными ключами на общей связке.
Пустой подъезд умножал все звуки: и бодрое урчание лифта, и еле слышное шарканье бабы Настьиных сапог по лестнице. Ключ повернулся в замке легко. Топор оказался на нижней полке прямо на виду — как будто его кто-то приготовил. Баба Настя встала на колени, положила на пол доску, которую кто-то очень кстати прислонил тут к стене, положила сверху кота и, придерживая его левой рукой за теплый дышащий бок, взяла топор в правую. Кот, не мигая, смотрел на нее. От него отчетливо пахло мочой. В щели балкона задувал холодный ветер. Баба Настя отложила топор и накинула на морду кота сумку. Подумала и поправила так, чтобы сумка не приходилась на его шею. Взяла топор, перехватила деревянную рукоятку поудобнее и замахнулась.
— Настасья, что же ты делаешь? — раздался голос за спиной.
Баба Настя вздрогнула и выронила топор, тот громко звякнул о кафель, эхо ушло в пролеты лестницы. Кот выпрыгнул из-под сумки, сел и обвил себя хвостом.
Баба Настя обернулась — в проеме двери стоял Николай Чудотворец, точно такой, с бородой и внимательными глазами, как на иконе, только почему-то в телогрейке вместо облачения, и скорбно качал головой.
Баба Настя открыла глаза — кот молча сидел на серванте напротив, обернув вокруг себя хвост.
У нее вспотели затылок и шея, сердце колотилось где-то в горле, рука скрючилась, все еще чувствуя деревянную рукоятку топора. Баба Настя села и спустила ноги на пол. Отметила, что вонючей лужи у кровати, как обычно бывало, сегодня почему-то нет.
Надо было выйти на воздух. Натягивая берет на пучок, она снова почувствовала себя будто во сне. Часы в коридоре показывали 9 — оказывается, давно наступило утро.
Порыв холодного ветра у подъезда бросил ей в лицо пригоршню мокрого снега и опять напомнил о сновидении. Выбирая, куда повернуть, она почувствовала смутный стыд за свои ночные похождения и двинулась в противоположную от реки сторону. Баба Настя быстро дошла до центральной улицы: тут раскачивались на ветру разноцветные огоньки между деревьев сквера и торопились родители с детьми на первую елку. Она тоже зашла погреться в кинотеатр. Купила мороженое, пломбир в вафельном стаканчике, и присела у гардероба между раздевающихся детей, наблюдая, как в дверях встречает новых гостей Дед Мороз. Было сладко, тепло и шумно.
Голос Дед Мороза показался ей знакомым, и когда он обернулся, баба Настя увидела под шапкой большой лоб, аккуратную кудрявую бороду и те самые глаза. Чудотворец улыбнулся и подмигнул ей. Удивляться чему-то сегодня у бабы Насти уже не было сил, и она просто кивнула в ответ. Подол красной шубы святого обтирал черный худой кот.

Русалочка
Море волнуется раз…
— Помни, — сказала ведьма, — однажды приняв человеческий облик, тебе уж не стать вновь русалкой! Каждый шаг будет причинять невероятную боль. И никогда не увидишь ты ни отца, ни сестер, ни подруг. А если не сумеешь завоевать принца и стать его женой, ты погибнешь; сердце твое разорвется на части, и станешь ты пеной морской! А твой чудный голос я возьму в качестве оплаты…
Русалочка вздрогнула, но все же решительно ответила:
— Пусть так. Я люблю его, и мы будем вместе!
— Да что ты нашла в этом пустобрехе? — не стерпела ведьма. — У него уже есть невеста! Голову он тебе морочит, и ничего больше!
Но Русалочка уже выхватила зелье из рук Урсулы, крепко зажмурилась и выпила все до последней капли. Закричала. Крик перешёл в хрип, а хрип сменился молчаливым ужасом. Она не могла произнести ни звука, лёгкие жгло от нехватки воздуха. Из последних сил Русалочка рванулась вверх и, почти теряя сознание, увидела на поверхности лодку. В глазах окончательно потемнело, но она успела почувствовать, как сильные руки втаскивают ее на борт.
Море волнуется два…
Солнечные зайчики упрямо прыгали на веки, куда бы она ни отворачивала голову. Рядом раздался смех, и жеманный девичий голос произнес:
— Жак! Хватит уже смотреть на нее!
— Но она недурна, к тому же именно эта девушка спасла меня в ту ужасную штормовую ночь. Не понимаю только, как можно было справиться с такими волнами… А ведь она боролась не только за свою жизнь.
— Хм, тогда неудивительно, что от нее так несёт рыбой! Я почти уверена, там у нее хвост!
Принц рассмеялся над удачной шуткой и отвернул краешек покрывала, словно и правда проверяя наличие хвоста.
Русалочка распахнула глаза, поднялась над пышными подушками, щедро разложенными у изголовья, и неловко подтянула одеяло к груди, нервно сминая отделанный кружевом край.
— Ну, чего молчишь? Ты кто такая и зачем устроила этот спектакль с утоплением? — Незнакомка явно чувствовала себя хозяйкой в этом доме и, судя по сжатому хлысту в холеных ручках, была настроена воинственно.
Русалочка подобрала ноги, натягивая одеяло до самого подбородка, и умоляюще посмотрела на принца. Но тот лишь поднял руки в примиряющем жесте, показывая, что не собирается ссориться с подругой.
— Воды в рот набрала, что ли? — хмыкнула та.
Русалочка попыталась произнести хоть слово, но из груди вырвался только печальный вздох.
— Нема как рыба, — удовлетворенно произнесла спутница принца. И, потеряв к бедняжке интерес, продолжила:
— Жак, ты спас девчонку, и довольно с нее. Пусть убирается, как только придет в себя. Пойдем скорее на свежий воздух, прокатимся верхом!
Взяв принца под руку, она решительно потащила его к выходу.
— В конце концов, это наш последний день в роли жениха и невесты. И я хочу провести его с тобой наедине.
Русалочка откинула покрывало, вскочила на ноги. Сделав пару шагов, рухнула на пол, с горестным стоном цепляясь за полы праздничного камзола принца. Тысяча маленьких иголочек пронзали ее ступни неимоверной болью.
— Себастиан! — Раздосадованный заминкой принц позвал своего помощника и друга. — Позаботься о ней. Узнай откуда. Накорми и… помой. — Он брезгливо сморщился и скрылся за огромными резными дверями.
Море волнуется три…
— Себастиан! — Громкий пьяный шепот был хорошо слышен всем вокруг. — Самое главное, что она и слова поперек не скажет! — Принц покачнулся, но вовремя схватился за рукав товарища и остался в вертикальном положении. — Доставать её одно удовольствие! Смотри сам!
— Душа моя, — обратился принц к Русалочке, еле сдерживая рвущийся наружу смех, — спойте мне!
Русалочка холодно посмотрела на Жака и отвернулась. Это был не первый раз, когда захмелевший принц приставал к ней со своими дурацкими шутками.
— Ну что же вы, милая, молчите? Стесняетесь моего друга? Право, не нужно! — Он с наигранной нежностью опустился к ногам Русалочки. — Родная моя, у вас такой нежный голос… Эй! Музыканты! Подыграйте моей жене!
Девушка отложила в сторону шитье, поднялась с кресла и гордо направилась к выходу из зала.
— Постой, любимая! Ты разве не скажешь, куда идешь? — Принц уже смеялся во весь голос, с трудом сохраняя равновесие.
— Не слишком ли ты суров с ней? — попытался вступиться за Русалочку друг принца.
— Кто, я? Вовсе нет! Она обманом вышла за меня замуж! Сначала заманила мой корабль на скалы прекрасным пением, раззадорила меня разговорами о подводном мире, проникла в мой дворец, расстроила свадьбу! Замечу, прекрасная партия была! И с тех пор не сказала ни слова. Не знаю, что за игру она ведёт, но я выведу ее на чистую воду!
Морская фигура, на месте замри…
— Ну-ну, все позади, — Урсула баюкала на руках Русалочку и нежно целовала ее в макушку, — действие зелья закончилось, ты снова дома…
— К-к-как он м-мог со мной т-так поступить? — Русалочка заикалась от рыданий. — Я ведь все для него делала! Все терпела! Уберегла его от женитьбы на этой мымре! Ни один из его кораблей никогда больше не попадал в шторм! Благодаря моим советам, он преуспел в морской торговле… — Её хвост яростно дёргался из стороны в сторону, показывая крайнюю степень недовольства.
— Ну все, ну все, — приговаривала ведьма, поглаживая Русалочку по голове. — Не пристало королевской дочери лить слезы по какому-то человечишке. Надень-ка диадему и плыви к отцу. Теперь ты знаешь, насколько мелко человеческое сердце. И душа твоя не будет больше страдать по нему…
Море волнуется…
— Простите, вы Жак Кусто? — Любопытный загорелый мальчишка присел рядом, прерывая его размышления.
— Да, это я, — не поворачиваясь, ответил принц и продолжил кидать мелкие камушки в воду. — Тот самый Жак Ив Кусто?
Устало пожав плечами, принц швырнул ещё один камень.
— Я знаю, что не первый, кто спрашивает. — Детское обожание билось о непроницаемую угрюмую стену и не желало сдаваться. — Скажите, как вы придумали акваланг?
Жак с тоской вглядывался в набегающие волны. Затем повернулся к мальчишке и грустно улыбнулся.
— Я просто хотел попросить прощения…

Схватка
Лис жалобно потявкивает, поднимая острую морду, и крутит ею по сторонам. Подруга не отзывается. Они двое суток уходили от наступавшего жара и остановились в подлеске, измотанные вконец. Между сосен вдали проглядывали коньки крыш и ощущалось людское хозяйство, грубо пахнущее скотиной и мерзко — собаками. Далеко позади осталась родная нора, тяжко отбитая у барсука — уютная, покрытая мягкими листьями, обустроенная хитроумным запасным ходом. И хотя желудок надрывно зудел, идти в деревню побоялись, решили отлежаться, набраться сил на случай засады. Бегло осмотрев место, они задремали, упав на ноющие лапы и пряча носы от идущей издали гари. Но скоро проснулись, снова чувствуя жар.
Ярко-рыжее пламя, ломающее хребты деревьев с жутким хрустом, шагало за ними, скрыв небо в клубах грязной сажи и оставляя после себя тлеющую серым дымом черноту, в которой мигали горячие угли. В отчаянии побежали и разминулись возле домов. Он юркнул меж досок забора и едва не сбил подпрыгнувшего от неожиданности кота. Тот сидел посреди двора и растерянно соображал, куда все подевались. Даже ненавистный пес — и тот словно сгинул, оставив лишь лязгающую железом цепь. Но лису нет дела до шипящего и вставшего дугою кота. Равнодушно глянув, он спешит к собачьей конуре. Возле нее опрокинута кастрюля с бурым варевом, и лис жадно хватает рассыпанную еду. Вкус терпкий, мясо вперемешку с землей и незнакомыми овощами, но нет сил перебирать, с идущего следом огненного вала все ближе падают свистящие головешки. Лис поднимает морду, вынюхивая любимую, но нос заполняет лишь горклый удушливый дым. Он снова и снова вдыхает, и ему кажется, откуда-то справа едва различимо тянет сухой травой и спасительной влагой. Если им суждено встретиться, то только выйдя к воде.
Лис семенит дальше вдоль заборов покинутых домов. С пригорка в конце деревни уже видна по-летнему маловодная, но широкая река, обтекающая камни с ленивым спокойствием, удивительным, если вспомнить про стоящую до неба черноту. Он торопливо спускается и лакает прохладную воду, щурясь от удовольствия. С щенячьим задором резво прыгает по камням, проваливаясь в реку при неудачном прыжке, и, соскользнув с мокрого валуна, добирается до берега вплавь. И на той стороне долго отряхивает с редкой шерсти воду, пока не ловит манящий аромат. Лис бросается сквозь сухую траву и, едва вцепившись в жирный мясной кусок, слышит и даже чувствует мокрым хвостом чиркающий звук металла. Он пятится назад, тычет мордой по сторонам и вверх, пытается грызть железные прутья и рыть землю под ними, но везде упирается в загадочную преграду. Выхода нет, и если придёт огонь — его участь решена.
Но вместо огня утром пришел человек в высоких резиновых сапогах, с небольшой вертлявой собакой, охрипшей от лая. Лис скалился и злобно фыркал, пытаясь их напугать, но человек только пнул ловушку ногой, раскидал ломаные ветки и отнес ее в кузов. И уже вечером машина привезла их на станцию.
Клетки на притравочной станции стояли рядами, в них сидели и взрослые лисы, и молодые лисята, подобранные после пожара. Были в загородках и барсуки, надутые и тучные, словно медведи с узкими полосатыми мордами. За несколько дней лис начал привыкать к своему заключению, перестал суетливо метаться и большую часть времени лежал на опилках, набираясь сил. Но пасмурным утром, как раз перед кормежкой, двор стал наполняться хриплыми голосами людей и гулким лаем собак.
И его первого бросили в туннель.
Лис стоял в нем, словно вросший в землю, широко расставив лапы и наклонив голову. В туннеле держался теплый запах крови и тяжелый, удушливый запах схватки. Он сосредоточенно глядел в темноту, откуда вместе с тряской доносился заливистый лай. Пес приближался, и лис, прижав уши, оскалился, припал брюхом к полу и утробно заурчал, с похрюкиванием наполняя легкие воздухом, а кровь — адреналином. И через мгновение из темноты вынырнула слюнявая пасть, ищущая, куда уцепиться клыками. Собака кидалась рывками и с угрожающим лаем толкала его по туннелю. Но он понимал — заходить в тупик нельзя. В один из выпадов пес прикусил ему ухо и, крутя головой, начал трепать, почувствовав в пасти теплую кровь. Теперь лис хватал зубами воздух и наконец, извернувшись, поймал собачью лапу. Пес взвыл и пропустил новый бросок — лис мощно дернулся и вцепился в нос. Собака отчаянно завизжала и стала пятиться, волоча на себе повисшего зверя, но внезапно в тоннеле открылся люк и лиса вытащили на свет, разжимая палкой челюсти.
— Тварь, нос Блэку оторвал. — Человек разъярённо трясет им, словно драной шапкой. — Убью падлу!
Лис в ответ хрипит окровавленной пастью и, изгибаясь, щелкает клыками, пытаясь вцепиться в руку, но снова оказывается в клетке. В тоннель, как в топку, кидают новое животное, где-то рядом ревут зажатые в углу барсуки, но в его глазах огонь тухнет, словно угли сгоревшего леса, и лис проваливается в темноту.
Он приходит в себя забинтованный, под тихий и приятный голос, напоминающий звук лесного ручья, и жалобно скулит. В одной руке женщины остроносый шприц, в другой кусок сахара. На столе между ветеринарных книг с фиолетовыми печатями, пузатых коричневых флаконов и надорванных упаковок — лист с неразборчивой записью: «Спасен волонтерами с притравочной станции “Лесное озеро”. Множество рваных ран. Разрыв уха, повреждение челюсти…»
После вялой борьбы и укола, под особо баюкающий голос-ручей, лиса охватывает тягучая дрема, и воспоминания несутся по кругу — треск древесных хребтов, подвизгивающее тявканье в пустоту и отчаянная схватка за жизнь. Но внезапно над рекой, полной прохлады, он слышит знакомый призыв и что есть сил бежит за ним по воде, визжа от восторга.
Доктор задумчиво смотрит на перебирающего воздух лапами лиса и дописывает в блокноте: «Жизнь вне опасности. Будет отвезен в лес после выздоровления». Минуту поколебавшись, она ставит вопросительный знак в конце предложения.

Таба
Навстречу по гребню песчаного бархана несется маленькая Айта — низ хлопкового платьица трепещет над загорелыми коленками, в сандалиях — жгучий песок. Кричит, улыбается. Ветер относит назад две черные косы, помогает двигаться сквозь раскаленный воздух.
Слева от бархана, испещренного змейками песочных узоров — прохладная гладь Лены. Отражается в оборках белых всплесков облаков в синеве — доброй, другой. Справа — шумные верхушки вековых кедров и пихт, темные перекаты смарагдового моря.
Айта машет руками. Кричит что-то — теперь обеспокоенно, изо всех сил. Показывает вперед. Там нет ничего. Только песок, вода и тайга.
— Туох? Туох? — Не слышит.
Падает на колени. Вскакивает. Совсем близко, сейчас добежит.
Тут Клава проснулась. Убогая мебель, скамейки со старыми одеялами, грязные занавески. А за ними — решетки.
Вообще-то, звали ее не Клавой, а сложным величавым именем Олээне.
— Как-как? Да не, угораешь, что ли? Клава недавно сбежала.
Теперь она была бабой Клавой. Уже третий год. Вставала в темной мороси московской ночи, разминала застывшие суставы, грела на облупленной плите, от которой на кухне всегда стоял душный запах газа, чайник с водой. Одевалась в потрепанное пальто с чужого плеча, брала в руки сумку с картонкой и шла к глубокому зеву подземки, где она проведет и этот день. Доезжала до своей станции, выходила. Привычно клала сумку у колонны посреди пустого перехода, доставала картонку и садилась. «Кэм».
В Москву приехала, как и все — на заработки. Удивилась своему везению, когда почти сразу на вокзале к ней подскочил паренек в кожанке: «Работу надо?» Надо. «Всё чувствуют», — это она теперь знала.
По коридору потекли первые пассажиры, мрачные и сонные. Как стадо дурных после зимы таба, ищущих жидкую траву. Бегающие недобрые взгляды, стылые от раннего подъема глаза, за которыми — боль и злость. Но в шесть утра это редкость. Злость — позже. В шесть утра — одни таба.
Ближе к восьми толпа становилась живее — бабушки, спешащие с тележками на рынок, офисные работники, утомленные своей жизнью, обреченные школьники с рюкзаками — пасмурные, но как-то по-другому, по-детски, когда нелицеприятность бытия еще терпима и с ней легко мириться. Начали подавать.
Мужчина в кашемировом пальто и очках в тонкой оправе наклонился, чтобы положить мелочь, заглянул в лицо. Не таба. Клава дернулась, хотела сказать, да так и замерла под сочувственным взглядом. Больше она не сможет.
Тело тяжело заныло от воспоминания досок, которыми ее били на заднем дворе после той попытки сбежать. Привычной острой болью пронзило переломленное запястье, а потом еще. Наполнило страхом влажные стариковские глаза с прозрачным льдистым дном. А потом ушли, так и бросили не смеющую издать ни звука Клаву на заднем дворе с разрывающимся от крика телом. Знали — теперь не сбежит.
Поначалу она часто пыталась. Говорила с людьми в метро, рассказывала свою историю. Просила помочь. Кто-то откликался, звонил в полицию, покупал билеты или пробовал приютить на пару дней. И всякий раз находили, возвращали, снимали с поездов — та же полиция. И били — уже другие, на заднем дворе, постепенно наполняя старческое тело холодом — целиком, под завязку. Пока не сможет двинуться.
Били за все — за маленькую «выручку», опоздание к вечернему «расчету», пролитый неловкими руками на кухне кипяток.
По вечерам Клава часто застывала перед облупленным боком старого эмалированного чайника, на котором был изображен олень. Широкие рога, белая шея. Закинул голову и смотрит куда-то вдаль. Уродливое черное пятно отколовшейся эмали не давало видеть дальше.
— Уставилась опять куда-то.
— На оленя своего смотрит, болезная. Ну, пусть-пусть.
Это был парень-двухлетка, не важенка — рога слишком большие. У важенок тоже есть, нужны для защиты выкопанного из-под снега корма от более сильных особей, но с рождением деток отпадают. Мохнатый черный нос, широкие ноздри, расходящаяся стрелка белесых волос на лбу. Свалявшаяся от влаги и снега шерсть на груди и две янтарные капли у самых глаз. Будто солнечные блики кто уронил. И Олээнэ начала собираться.
Сволокла в сумку пожитки, которые удалось накопить за три года: несколько дешевых платков — дарили на Новый год, пара свитеров, дырявые шерстяные носки — еще из старой жизни, замусоленная открытка от внучки Айты: «Ты меня там, баба, не забывай. Я тебя жду». Денег не было, как и паспорта. Деньги отбирали.
От привычного рабочего места сегодня не тошнило. «Кэм». Шестичасовые таба, знакомый восьмичасовой набор из школьников, бабушек и офисников. Баба Клава не стала садиться, так и стояла в переходе, рассказывая людям, что едет к внучке, что надо сегодня, а денег нет, пока не заныли ноги. А в водянистых глазах с точеной синей окаемкой по краю плескалось что-то новое, давно забытое. Как у оленя, пережившего зиму.
Самый чудной народ выбирался к часу-двум дня. Молодые избалованные жены стучат каблучками — «куруускалар», компании крикливых полупьяных подростков, которым вечно не надо в школу. По переходу шествовал панк с высоким желтым ирокезом на голове:
— А при коммунизме все будет заебись,
Он наступит скоро, нужно только подождать,
Там всё будет бесплатно, там всё будет в кайф.
Нагло разнеслось по переходу.
— Там, наверное, вообще не надо будет умирать.
Я проснулся среди ночи и понял,
Что всё идет по плану.
«А ведь стар ты для этого касатик, нет? Устал, поди, без человеческого». «Касатик» приблизил лицо к смотревшей ему в упор бабе Клаве. Одутловатые складки на щеках тридцатилетнего человека, бесчувственная сталь глаз.
— Прорвемся, бабуль, прорвемся! — В лицо дохнуло утренним перегаром.
— Мне бы на билет до внучки, родной, на билет.
— Сколько?
Потом было мучительное выворачивание карманов. Звонки друзьям. Ругань в трубку. Когда они подошли к кассе и Коля узнал, что паспорта у бабы Клавы нет, выругался.
— Бабуль, ты чо? Вчера родилась?
Пошли договариваться с проводницей. Через час, когда баба Клава сидела на нижней полке плацкартного вагона, от глаз продолжали стремиться длинные прозрачные дорожки — как Лена, как Олээне. Она махала рукой желтоволосому Коле, который немного застенчиво переминался с ноги на ногу на перроне. Из внутреннего кармана кожанки торчала потрепанная открытка от внучки. Поезд тронулся, Коля заметался вдоль вагона — почувствовал, что вместе с этой неприбранной старушкой из его жизни уезжает важное.
— Бабуль, как тебя зовут? — прокричал сколько было голоса в окно.
«Олээне, Олээне».
Перед глазами замелькали придорожные столбы — длинные ноги весенних таба. Почуяли тепло и несутся вдоль перелеска вперед, в синеву. А им навстречу — маленькая Айта. Раскинула руки в стороны и кричит что-то, кричит. Смеется.
«Я сейчас. Я уже скоро».

Упырь
— Куда прёшь, упырь? Не видишь, люди сидят! — Зычный голос мгновенно заполняет собой маршрутку. От каждого окрика старенький ржавый ПАЗик еще сильнее подпрыгивает на деревенских ухабах.
Упырь… Показал бы я тебе упыря. Твоё счастье, дура, что я женщин не трогаю. Да я вообще никого не трогаю. А стоило бы, для разнообразия.
На туше комбез и линялая футболка, седые волосы клочьями торчат в разные стороны, падают на лоб, закрывают опухшие глазёнки. Осторожно огибаю тушу (кажется, всё же мужская), пробираюсь к выходу из автобуса. Прочь с шоссе, по неприметной тропинке, и вглубь, в чащу, где никого.
Пришлые грибники иногда находят эту дорожку и, охотясь за подосиновиками, добредают едва не до самой моей берлоги. Я предпочитаю их не замечать, они, по счастью, отвечают мне тем же. А местным путь сюда заказан со времён моего Старика, если не раньше. Хотя если спросить любого в деревне «почему» — наверное, и объяснить не смогут.
Почему-почему… Потому что! Не положено, не принято, не надо, нельзя. Дурная чаща, гиблое место. Да что угодно придумывайте, любую чушь, только ко мне не ходите. Я вас не трогаю, и вы меня не трожьте. Не на того напали. А нападёте — отвечу. За всё сразу, а первым делом — за Старика.
Сто лет уже прошло, а я не простил. Ни самого Старика — но это наши с ним дела — ни людей, которые убили его давным-давно, как дикого зверя, на окраине своей деревни. Поэтому, наверное, мне так скверно каждый раз, когда приходится ездить в сельпо, неважно, за инструментом или новой одеждой. Вот как сейчас паршиво. И пока не дойду до дома, не забьюсь в берлогу — не отпустит.
Но ничего, скоро уже. Лес всё гуще, осины сменяются ельником, солнечные опушки всё реже и реже. Разом перемахнуть через канаву в два человечьих прыжка и чавкающее болото, покрытое клюквой, как каплями крови, и вот он — дом, милый дом. Дорогая моя берлога. Каждую кочку здесь знаю, каждый поворот засыпанной еловыми иголками тропинки.
Вот только девчонка на последней опушке — явно лишняя.
Она стоит в коротком, на бретельках, платье в горошек и ёжится под сентябрьским, но по-прежнему нестерпимо ярким солнцем, и трёт свои голые исцарапанные ветками колени. Откуда взялась? Зачем здесь? Мистика какая-то.
Пройду мимо — не заметит, проверенный способ. Всегда срабатывает. Со взрослыми. Но девчонка уже уцепилась за меня взглядом, смотрит, не отрываясь. Заметила. Значит, придётся…
— Дядя… А ты кто?
— Дед Пихто.
— Нет, ты молодой, дед такой не бывает.
— Ты что тут делаешь? Иди отсюда. Где живёшь? Туда и иди. — Я машу ей руками в сторону деревни, откуда только что пришёл сам, но она не трогается с места. Как я и думал.
— Я гуляла.
— Одна?
— С дядей Вале’ой.
— А тебя как зовут?
— Ма’инка.
— Малинка? На тебе клюквы, Малинка. И иди домой.
— Не Малинка, Ма’инка! — Девчонка сердито топнула ножкой в буром сандалике. Но клюкву с моей протянутой ладони взяла, запихала в рот. Жуёт.
— Где твой дядя Валера?
— Не знаю.
— Потерялся?
Она пожала тощими плечиками. Проглотила клюкву. Скорчила гримасу.
— Кислая.
— Да ты тоже, смотрю, не сахар.
— Не сахал, — подтвердила девчонка и очень убедительно помотала головой.
Сколько ей? Пять? Шесть? Никогда не понимал возраст, тем более детей.
— Отведёшь меня домой?
Угу. Домой. Вон мой дом, всего ничего осталось. Только тебе там не понравится. А может, понравится, через много-много лет. Мне же понравилось. Что бы я там ни говорил своему Старику.
— Пошли. — Она взяла меня за руку.
И правда, видно, замёрзла, пальцы тонкие, хрупкие, как голые веточки в ноябре. Сожми чуть сильнее, и хрустнут. Кожа почти прозрачная. Вены на запястье насквозь видны…
— Так тебя как зовут?
— Чёрт с тобой, пошли в деревню.
Резко поворачиваюсь и тащу её обратно к тропинке.
— Как тебя зовут? — подскакивая на каждом слове, не унимается девчонка. Еле поспевает за моими широкими шагами, но не сдаётся.
— Упырь. Так своим и передай, чтобы ко мне не ходили.
— Дядя Упый, а ты в лесу живешь?
— В лесу.
— А зачем?
— Затем. Чтобы не видеть вас никого.
— Ты людей не любишь?
— Нет.
— А кого любишь?
— Зверей.
— Есть?
— И есть тоже.
— А почему людей не любишь?
— Невкусные.
Девчонка хохочет.
Вдруг останавливается, высвобождает руку, показывает пальцем далеко вперёд на тропинку:
— Вон! Дядя Вале’а!
И точно, дядя. Целых трое. В телогрейках, несмотря на жаркий день, жёваных трениках и кирзачах. С охотничьими ружьями и злыми рожами.
— Маринка! Пошла сюда, быстро, твою так! — Вот этот, наверное, и есть Валера. И дружки ему под стать, уже бегут ко мне навстречу. — А ты, урод, стой! Стой, тебе говорят!
Они думают, я буду бежать. Как будто мне это надо. Как будто я зверь, а они охотники, и их ружья им чем-то помогут.
— Маринка, отойди от него! Ко мне бегом!
Как будто она их собака и должна слушаться приказа.
Рывком опускаюсь перед ней на корточки. Смотрю прямо в глаза, зелёные в крапинку, в них ещё поблескивает недавний хохот. Обнимаю на прощание. Чувствую кожей, как пульсируют вены в её маленьком тельце. Прижимаюсь колючей щетиной к макушке, тощим плечикам, тонкой шее…
— Ай! Не кусайся! Больно же!
Девчонка убегает не попрощавшись. А трое мужиков уже возвышаются надо мной, так и оставшимся сидеть на корточках. Окружили со всех сторон, тычут дулами ружей, дышат на меня перегаром и мерзкой чесночной вонью. Думают, что поймали.
А я готовлюсь к прыжку. Жду только, когда девчонка убежит подальше. Ни к чему ей видеть то, что будет дальше.
Но девчонка почему-то вдруг поворачивает и бежит обратно ко мне.
— Дядя Упый! Спасибо! — радостно вопит она, с разбегу чуть не сбивая с ног и без того не вполне устойчивых мужиков. Счастливая, улыбается во весь рот, а губы перемазаны чем-то красным. Кажется, ей всё-таки понравилась клюква?..

Ферромагнитные наночастицы
— А что, тебе Карышев не звонит больше? — Странный Алёнкин вопрос вернул Ивана к разговору.
На Машином лице выразилось явное неудовольствие.
— Да нет, я же его тогда ещё, три года назад, в блок поставила, — ответила она.
Алёнка фыркнула и, повернувшись к Ивану, пояснила:
— Ты не думай, Карышев — это её научный руководитель, а не поклонник какой. Маша у нас была звездой курса. Такими исследованиями занималась, все гранты её были. И это в магистратуре!
— Серьёзно? — Иван удивленно посмотрел на Машу. Ему всегда казалось, что в университет она ходила так же, как и он, для галочки и диплома.
— Да, а как узнал, что она в аспирантуру не идёт, стал названивать каждый день, никак не мог успокоиться.
— Ой, Ваня, да не слушай её. — Маша встала и начала убирать со стола тарелки. — А что ты, Алёнка, с кем-то из группы поддерживаешь связь?
И прежде чем Иван успел спросить что-то ещё, их разговор вернулся в прежнее русло обсуждения общих знакомых и недавних путешествий.
Любопытство не оставляло Ивана. Маша на все его вопросы только отмахивалась, и в итоге ему пришлось провести собственное расследование. Ему повезло не сразу. Но когда он догадался добавить к её имени название университета, то нашёл несколько научных статей и длинное интервью в студенческой газете, к которому прилагались фотографии юной всклокоченной Маши в лабораторном халате. На второй странице поиска оказались ссылки на конференции, где она выступала с докладом вместе с тем самым А. А. Карышевым. Применение ферромагнитных наночастиц в диагностике рака поджелудочной железы. Ничего себе.
Эти находки поразили Ивана. Он никак не мог сопоставить свою уютную домашнюю Машу, которая ходит на обычную работу и бегает на пробежки, и вот эту новую старую Машу, которая проводит исследования в области рака и выступает на конференциях перед учеными из Оксфорда и Стэнфорда. Как же она променяла всё это на рекламные кампании и пресс-релизы? Как вообще может человек перестать исследовать рак, когда это может спасти столько жизней?
Задать эти вопросы Маше Ивану никак не удавалось, и они снова затронули эту тему только через пару недель, сидя в кафе пятничным ноябрьским вечером.
— Помнишь Олю, девушку Макса? — Иван отодвинул от себя пустую тарелку и отклонился на спинку стула, — Оказывается, она в детстве серьезно занималась балетом.
— Да? Оля? Кто бы мог подумать. — Маша отвлеклась от попыток поймать вилкой последнюю оливку и посмотрела на Ивана. В прагматичной тусклой Оле, шедшей в довесок к балагуру Максу, лучшему другу Ивана, никак нельзя было угадать бывшую хрупкую девочку, мечтающую о пуантах и пачке.
— Да, она даже училась четыре года в балетном училище, но потом стала расти, что-то стало не так с фигурой, и ей пришлось уйти оттуда, наверстывать школьную программу, поступать в университет.
— Ну, у неё неплохо получилось.
— Не знаю. Юридический отдел — это не сцена Большого театра. — Иван убрал упавшую на глаза челку. — Я так понял, в свободное время она до сих пор ведет занятия балетом для детей. Немного грустно.
— Было бы гораздо грустнее, если бы она окончила училище, а в итоге всё равно вела занятия для детей. Потому что не попала в Большой театр.
— Думаешь, для этого нужен особый талант?
— Думаю, для этого нужно особое везение.
— Поэтому ты перестала заниматься наукой?
Маша подняла брови, и на её щеках проступили красные пятна. Она допила вино и, поставив бокал, посмотрела прямо на Ивана.
— Я перестала заниматься наукой, — спокойно проговорила она, — потому что плакала через день от усталости.
А потом, удовлетворенная его растерянностью, добавила:
— Попроси счёт, пожалуйста.
Они заплатили и пошли в сторону метро. На улице моросил дождь, и было приятно вдыхать прохладный и влажный уличный воздух после душного натопленного воздуха кафе. Какое-то время они шли молча, но потом Маша, глядя вперед, сказала:
— Ты знаешь, иногда я думаю об этом. Ну, о предназначении и прочем. Что раз уж мне что-то такое было дано, то я не имею права этим не пользоваться. Даже совесть иногда мучает. Но мне кажется, я счастлива вот так, как сейчас.
Иван остановился и притянул Машу к себе, положив подбородок на её мокрую макушку.
— Ну, к счастью, в твоё балетное училище никогда не поздно вернуться.
Письмо он увидел случайно, когда они вместе выбирали отели на майские. Маша ушла на кухню за яблоком, и Иван, переключаясь с одной вкладки с отелем на другую, наткнулся на её электронную почту. Письмо было из только что открывшегося центра изучения рака. Одно из направлений, которое они собирались развивать, было тесно связано с прежними Машиными исследованиями, и они были рады предложить ей работу.
Иван так увлёкся чтением, что не заметил, как Маша вернулась, и теперь она стояла у него за спиной, чуть нахмурив брови и опустив так и не откушенное яблоко. Он повернулся на стуле и взял её за руку.
— Ты же согласишься, да?
Отели были забыты, и следующие три дня, переходя с объятий на крик и обратно на объятия, они обсуждали все за и против. Сошлись в итоге на том, что Маша согласится, а Иван будет поддерживать её и следить, чтобы она не забывала есть и спать, ходила на свои пробежки, встречалась с друзьями и не работала по выходным.
Спустя два месяца Маша, морщась на непривычно ярком апрельском солнце, стояла перед входом в новый исследовательский центр. Рубашка собралась складками в рукавах её пальто и неприятно жала в локтях. Маша толкнула дверь и вошла. Холл был отделан белым и глянцевым, напротив входа возвышалась стойка, за которой сидели две приветливые на вид девушки. Всё было как в голливудском фильме. Только запах был такой же, как в старой университетской лаборатории. Слабый, но тот самый сладковато-горький запах, Маша его сразу узнала. Вспомнился Карышев. Вспомнились поздние вечера в лаборатории. Чувство тяжелой ответственности и шаткой неуверенности в своих силах. У неё закружилась голова. Девушки за стойкой чуть подернулись и поплыли перед глазами.
«Упасть в обморок в первый рабочий день, какая чушь», — только и успела подумать Маша.
Первым, что она увидела, когда очнулась, было изножье кровати. Краска на углу облупилась, и сквозь неё виднелось неприглядное металлическое нутро. Рядом с кроватью на стуле сидел Иван и бесцельно тыкал что-то в телефоне. Маша дотронулась до его коленки, он вздрогнул и посмотрел на неё.
— Маша! Прости меня, пожалуйста, — растерянно начал он, но тут к ним подошел врач, худой носатый мужчина с больничными бумажками в руках.
Врач спросил Машу, как она себя чувствует, глупо пошутил и, заключив, что это был обычный нервный обморок, отправил их обоих домой.
Дома было очень красиво от заливающего все комнаты солнечного света. Иван пошёл делать чай, а Маша подошла к окну, подставила лицо солнцу, набрала номер и, не давая собеседнику вставить ни слова, сказала:
— Никита, привет! Вы как, на моё место уже нашли кого? Возьмёте меня обратно?

Фотография
Фотография била наотмашь. На заднем плане на фоне летнего ночного неба возвышался невысокий холм. Плоская вершина холма была полностью заполнена людьми. Они напряженно следили за происходившим внизу, на трех полосах проезжей части. На переднем плане застыл парень в белой майке с золотисто-соломенными волосами до плеч. Его лицо было отрешенным и одновременно бросало вызов кому-то за левым краем кадра. По щеке была размазана кровь. Руки были выпрямлены и разведены в стороны ладонями вверх, как на распятии. Так же стояли остальные — в шахматном порядке на всей проезжей части, насколько хватало камеры, замерли распятые на невидимых крестах. Яна глухо ахнула и закрыла рот ладонью. Мир резко сузился до комнаты, до самой Яны, до фотографии, стих на мгновение и с грохотом раскололся на боль, страх, беспомощную злость. «Нет, этого не может быть! Это не мой Город! Это не по-настоящему!» Вглядываясь в лица, Яна заметила во втором ряду человека, похожего на Марка. Сердце заколотилось в груди, в горле, в ушах, гулкие частые удары, казалось, отдаются в каждой клеточке. Короткая стрижка, синие джинсы, серые кроссовки и, главное, надетый спереди черный, с характерными красными элементами рюкзак. Внутренности Яны стянуло в жалкий комок, словно огромный удав обвил ее и начал неотступно сдавливать. «Если это он…» Дальше думать не хотелось. Хотелось дернуться всем телом и проснуться, сбросить с себя эту безумную иллюстрацию «Реквиема». Определить однозначно, был ли это Марк, не удавалось — оставленный вне фокуса второй план при увеличении превращал лицо человека в набор пятен. «Пусть это будет не он! Надо ему позвонить. Два часа ночи. А если он спит? Я никогда не звонила ему вне работы. Это будет в каком-то смысле признанием. И что? И может помешать работе. Какая сейчас разница? Но если он не придет на работу, я и так все пойму. А если это он, то будет потеряно время. Пусть это будет не он… И что я могу сейчас сделать? Надо дождаться утра. Да, дождаться утра».
***
Яна стелила постель, она предвкушала чтение перед сном — сегодня «Скотный двор». В комнате горела лишь лампа над кроватью и маленькая круглая свечка без запаха на подоконнике. На Яне была пижама с короткими рукавами и толстые шерстяные носки вместо тапок. Волосы, небрежно собранные в высокий пучок, напоминали ракушку улитки. Яна расправляла простынь, когда услышала далекие глухие взрывы. Она остановилась. «Почему опять? Какой сегодня день?» Взрывы повторились. «Ничего же не объявляли. Обычная суббота». Вслед за потоком хаотичных мыслей в голове Яны вспыхнула догадка, что это салют в честь дня Города. Но было уже поздно. Скованная ощущением полной беззащитности и гнетущей неопределенности, Яна стремительно вязла в кошмарных воспоминаниях. Она оставила не расправленным дальний угол простыни и поплелась на кухню.
Один год и один месяц назад Яна слышала такие же взрывы. Это были светошумовые гранаты. Они ознаменовали для нее начало протестов. Потом были выстрелы на поражение, колючая проволока в центре Города, разбитые окна кафе, шокированные врачи — такие травмы они не видели со времен Последней войны, старушка, сидящая на остановке с иконой в треть ее роста, женщина, простоявшая девять часов на коленях перед памятником Победы, наполняющийся кипящей кровью вопрос «ты за кого?», оранжевые списки арестованных, черные — убитых, серые — пропавших без вести. Страна висела на волоске от гражданской войны, очередной в истории человечества войны за веру. И в эпицентре — «распятие» и Марк. Сейчас, спустя столько времени и событий, переживания о звонке Марку казались Яне нелепыми. Марк. Марк умел легко рассмешить Яну. Его голос обволакивал ее, особенно воспринимался в трубке телефона или в наушниках — проникал вглубь организма, и она выпадала на миг из реальности. Ей даже приходилось переспрашивать на совещаниях. Марк был как море в штиль — тысячелетняя сила, скрытая под безмятежностью поверхности. Иногда Яне хотелось, чтобы это море было только для нее, чтобы другие коллеги исчезли. Она позвонила ему тем утром. Длинные ровные гудки прервало сонное «алло». Нет, это был не он. Да, все в порядке.
Яна устроилась на табурете-пуфике, подложив под себя левую ногу. Перед ней на кухонном столе стояла дымящаяся чашка черного чая, рядом лежал телефон. В чашке квадратик цедры апельсина мчался за продолговатой чаинкой. Дождавшись финала гонки, Яна сделала осторожный глоток. Горячий напиток согрел горло, продолжился приятным жаром в груди, во всем теле, возвращая Яну в настоящее. Она открыла чат с Марком, пробежалась глазами по знакомому наизусть тексту и, выключив экран, отложила телефон. Последние сообщения датировались годом ранее.
— Счастливого пути, Марк!
— Да, спасибо! Будем на связи.

Ханука
Думаю, ты, бабушка, поняла бы мои чувства, узнай, что я всё чаще стыжусь своей национальности. Ещё год назад для меня бордовая жидкость в сосудах человека не значила ровным счетом ничего, но сейчас я между двух огней и способна лишь отшучиваться о своей родословной, оттягивая неприятный момент выбора стороны. В любом случае моё отношение к людям изменится если не на все 180 градусов, то повернётся на 90. Не усидишь же разом на стульях бонов, антисемитов и правоверных иудеев.
Да, я предельно чётко осознаю, что связалась не с той компанией, но почему-то меня к ним тянет. Их идеи сначала кажутся бесчеловечными, но, обдумав пару дней, рациональными и самыми верными — они правые. В этом есть какое-то запретное удовольствие, как в чёрном юморе.
Всего нас человек пятнадцать, и почти у каждого есть забавные клички: настоящие имена не нужны, они стираются из памяти, а у него дурацкая — Лимон, из-за токсичности, соломенных бровей и жёлтого дождевика. Впервые мы встретились с ним в Приэльбрусье, и через две недели, вернувшись из похода, я познакомилась с его компанией. Таким образом он ввёл в мою жизнь скинхедов, националистов и безнравственные поступки. Каждый знакомый мне человек оставлял в душе крохотное изменение, пусть даже незаметное, Лимон же произвёл в ней капитальный ремонт. После того как он однажды ночью приехал и в бешенстве избил меня арматурой, я завела деревянную биту и привычку ежечасно нервно перекуривать. Я кричу вслух, как ненавижу его, но уже давно накрепко привязалась и не могу расстаться даже в мыслях. Чтобы сохранить наш союз и свою безопасность, я пойду на самое отчаянное, и поэтому неудивительно, что я вчера согласилась на эту аферу с избиением еврейского парня с другого конца города.
План был предельно прост. Этот жид стал чересчур подозрительным и аккуратным после того, как наши ребята угрожали выждать его у подъезда и оформить всё лицо, включая нос шестёркой и не пожалеть чёрные курчавые пейсы. Мне надо было всего лишь завести фейковый профиль в Инстаграме и лайкнуть, как будто невзначай, все его посты, тем самым привлечь к себе внимание. Я так и поступила, а когда он наконец написал мне, ответила, что совершенно случайно наткнулась на его аккаунт и он понравился мне. Мы вели активную переписку днями и ночами в течение двух недель. Еврей казался мне воспитанным и образованным молодым человеком по имени Исаак, а я представилась чужим именем — Алисой, студенткой юридического университета. Сначала он показался мне занудным ботаником, не читавшим в своей жизни ничего занимательнее Торы, и отвечала я ему сухо, время от времени вкидывая в переписку строчки песен. Так и выяснилось, что у нас похожие музыкальные и читательские вкусы. Мы с жаром разбирали друг с другом книги Оруэлла и Замятина, делились догадками о новом альбоме Оксимирона и зачитывали в голосовых сообщениях тексты Кровостока или матерные стихотворения Маяковского. Но я не забыла свою первоначальную задачу, и момент, который поджидала вся банда скинхедов во главе с Лимоном, настал. Откровенно признаться, я утаивала большую часть наших переписок от их глаз, потому что они бы не так восприняли, а Лимон мог бы просто порвать со мной, посчитав за измену. В один из холодных дней, болтая со мной по телефону, Исаак вспомнил песню Янки «По трамвайным рельсам» и в шутку спросил: «А мы пойдём гулять по трамвайным рельсам?»
Мои руки похолодели, а на щеках защипало и пробежались мурашки от волны сомнений. Мне ни в коем случае нельзя было выдать тревогу в голосе, но я колебалась. Ведь если я пойду на встречу втайне от Лимона, то предам его компанию и наши отношения, а если расскажу, то заслужу его уважение, но навсегда потеряю этого симпатичного и приятного в общении парня, обманув его светлые чувства. Я ответила: «Да, только не на этой неделе».
Я оттягивала момент встречи в надежде, что наше общение просто угаснет само собой, сочиняя целый месяц отговорки про сессии, низкое давление и головные боли. Мерзкое предчувствие, будто я совершаю неправильный выбор, закралось в желудок и скручивалось там периодическими спазмами. В конце ноября Лимон надавил на меня и заявил, что пора бы уже вывести жида на прогулку, а то он уже подозревает, не влюбилась ли я. Ночью он забрал мой телефон и пролистал наши переписки, не знаю, сколько он успел прочитать, чтобы выйти из себя, но в четыре часа утра я проснулась от удара по лицу и его гневных криков. Кажется, Лимон рассчитывал увидеть грубые подкаты в сообщениях со стороны Исаака, но вместо этого заметил взаимное неравнодушие. Мы договорились о встрече на следующий день. Не подозревая, в какой опасности находится, Исаак с радостью поехал к моему дому.
В это время в подъезде уже собрались все районные скинхеды: некоторые пришли просто поглазеть на драку, а некоторые — с намерениями её устроить и победить. Но Лимон приказал всем сидеть неподвижно на местах и не влезать, а сам, надев берцы с белыми шнурками и отобрав мою биту, выбежал во двор, по правилам я поплелась за ним. Не помню точно, сколько раз я наблюдала за тем, как калечат людей, но тогда они были незнакомы и я почему-то считала, что они обязательно получают за дело. Сегодня всё было по-другому. Он пришёл ко мне. Он не сделал ничего аморального или противозаконного. Он просто пришёл ко мне.
Лимон ударил его по голове прежде, чем Исаак успел сообразить и увернуться. Он упал. Лимон без жалости, со страшной ненавистью бил его по всему телу. Мне кажется, бита проломила все ребра, ключицу и точно снесла челюсть. Я вроде всё видела, но при этом глаза отключились от мозга, так что остались два пустых зеркала без трансляций. А в голове только одна заблудшая мысль: «Сегодня ведь Ханука».

Хроника одного убийства
Прозрачно-безмятежное ленивое утро неспешно заполняет собой городок. Редкие лужи на бульваре, оставшиеся от ночного стремительного ливня, уже пестрят солнечными зайчиками, звонкие трамваи на соседней улице соревнуются своей трелью с громким птичьим щебетом в кронах цветущих лип. Но здесь, на окраине, вдали от жилых домов, в тени сплошного кирпичного забора в два человеческих роста, оценить по достоинству прелесть наступающего дня может только единственный прохожий. Он быстро шагает вдоль ограды, чуть улыбаясь своим мыслям и едва слышно насвистывая популярный мотивчик. Уверенной походкой он движется к городской тюрьме.
Из личных заметок журналиста А. Б.:
Тюрьма! Наконец-то тюрьма! Какой журналист не мечтает об этом?! Достойное место, чтобы написать свой лучший репортаж о доселе невиданном деле — убийстве!
Как любит повторять наш Бургомистр, кто владеет информацией, владеет миром. И верно: дай людям понять, что ты в курсе чего-то важного, и тебя будут уважать, узнаешь о тайной угрозе — и тебя уже боятся. А если избавишь людей от опасности — станешь героем. Нет, я не ставлю себя выше других, просто рассказывать людям новости — это моя профессия. Я должен делать её хорошо, как и любой другой житель нашего городка: Булочник, Доктор, Учитель, Пожарный, Бургомистр — каждый в меру сил играет свою роль в обществе. Вот и Убийца, до сих пор именовавшийся Садовником, свою партию исполнил блестяще. Все знают, что он Убийца, но никто до сих пор не разгадал имя жертвы. Я справлюсь? Кто знает. Но для начала надо справиться с новой моделью диктофона, который станет моим верным помощником в этом непростом деле…
Из расшифровки диктофонной записи, интервью с Инспектором полиции:
— …только разберусь, как работает эта штука… Да, запись идёт! Так о чём мы?
— Если сорок лет в городке не было ни одного убийства — это ещё ничего не значит! Раз убийств так долго нет, значит, что-то вот-вот должно случиться! Так что мы как раз готовы были, камеру одиночную подмели, решётки новые поставили.
— А кто он?
— Убийца? Садовник, конечно! Молодой человек, вы-то, при вашей профессии, обязаны это знать! Каждый Садовник в душе Убийца. Испокон веков так повелось.
— То есть все Садовники — убийцы?
— А как же! Отцу нынешнего с дедом просто убить никого не довелось. А так-то да! Все как один. Но теперь всё, конец их шайке. С садовниками в нашем городе покончено навсегда!
— А детей у него нет?
— Есть, дочка! Но вряд ли она пойдёт по стопам отца. После всего-то, что мы про него ещё выясним!
— А кого же он убил?
— А вот это мы и выясним!..
Из протокола изъятия орудия преступления:
Садовые ножницы — небольшие, но массивные, лезвия тупые, короткие. Примерное время службы ножниц на момент изъятия — от 100 до 150 лет. Исторической ценности не представляют, считаются семейной реликвией Садовников. На рукоятках кольца под слоновую кость, поверх одного из колец накручен лейкопластырь для предотвращения появления мозолей при работе в саду.
Орудие преступления завёрнуто в зелёный шейный платок с бахромой, принадлежащий обвиняемому. На платке сбоку вышивка контрастными красными нитками: «Папачке» (оригинальная орфография сохранена).
Из расшифровки диктофонной записи, интервью с Садовницей:
— Скажите, а вы когда познакомились с ним, сразу знали, что он Убийца?
— Ну! А как не знать, господин Журналист! Он же и сам мне всё рассказал, перед тем как замуж звать. Как будто у нас в городе кто-то не в курсе, что, случись что, кто убийца? Садовник убийца!
— Так а что же случилось?
— Ну как что случилось, убийство это проклятое случилось! Вот если б не случилось… Эх, кабы не случилось!
— А кого он убил?
— Да почём я знаю, да разве это важно? И Инспектор так говорит, и Бургомистр говорит, и Пастор на воскресной службе. Все об этом твердят, все его, подлеца, клеймят… Сам, дурак, виноват!
— Потерпевший?
— Ну да какой потерпевший, муж мой! Если садовника завсегда убийцей признают, и сам садовник это понимает, и все вокруг, на кой тебе становится садовником? Ну? Господин Журналист, вы спросите там кого-нибудь, а?
— Про что?
— Ну, вообще. Спросите. Пожалуйста.
— Да про что же, госпожа Садовница?
— Может, отпустят его? Вдруг он…
— Раскаялся?
— Ну да. И вообще…
— Говорите, не бойтесь.
— Вдруг он… я не знаю даже. Не могут же все-все-все ошибаться? Нет, ну, ясное дело. Виноват он, конечно, кругом виноват. Только…
— Что?
— А вдруг, — (далее шёпотом, невнятно) — вдруг он и не убивал никого, а?
Из расшифровки диктофонной записи, опрос горожан на улице:
— Кого убил Садовник?
— Приезжего!
— Вы его видели?
— Нет, но я слышал речь Бургомистра, что это был очень тихий и скромный человек, к великому сожалению, не успевший ничего сделать во благо нашего прекрасного города.
— А почему Садовника судят, не знаете?
— Кто ж не знает! За убийство, конечно! Так ему, душегубу, и надо! Хотя Садовник из него был хороший.
— А он точно виноват, вы уверены?
— А вы почему сомневаетесь? Вы с ним не заодно ли?…
— Вы не боитесь, что в нашем городе ещё будут происходить убийства?
— Будут. Обязательно будут. Но теперь ещё очень не скоро. И я не боюсь, спасибо властям нашего города, которым удалось так быстро и решительно изловить преступника!
Из личных заметок журналиста А. Б.:
«Пока что обвинение не выдерживает критики. Где доказательства? Где свидетели? Где, в конце концов, труп? Ни одного аргумента в пользу версии следствия. Нет ли в этом ошибки? Я должен докопаться до истины! Пусть моя статья откроет людям правду. Ведь нет ничего хуже напрасного обвинения».
Из расшифровки диктофонных записей, интервью с Садовником-Убийцей:
— Скажите честно, вы кого-то убили?
— Я Садовник, мне положено.
— В смысле, вредителей садовых убивать положено?
— И их тоже.
— А человека вы убивали? То, в чём вас обвиняют, делали?
— Вот этого не помню.
— Значит, не делали?
— И этого не помню.
— Так нет или да?
— Не мучайте меня, господин Журналист, я и сам уже столько дней мучаюсь. Все говорят, что я виноват, а никто же не скажет, в чём? Помогите хоть вы мне… Пожалуйста!
Из личных записей палача Ю. Я.:
Молодчина этот Журналист! Знает своё дело! Когда я читал его статью, плакал! И судья плакал, и вслух на суде газету читал! И инспектор рыдал! Да и сам обвиняемый! А присяжные — так те рукоплескали! Блестящий разбор преступления, неопровержимые доказательства, тонкая психология, а какая интрига! Жаль, нам так и не раскрылось имя убитого, но зато вина Убийцы была доказана, а значит, и моя работа на этом свете кому-то нужна! Пригожусь ещё! Пригожусь!..
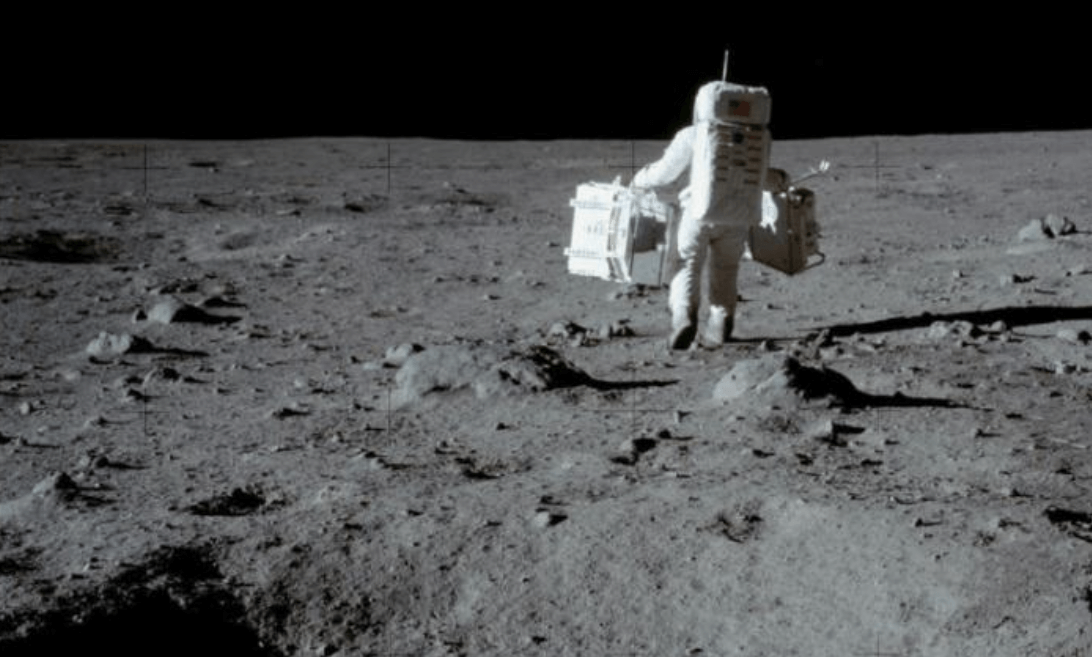
Человек на Луне
Говорят, Нил Армстронг был первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Это не так, первым был я.
Я родился в небольшой деревне в Куйбышевской области. Мое будущее было предрешено в день моего рождения: окончить школу, выучиться на тракториста, жениться на однокласснице, всю жизнь работать в поле, а после выйти на пенсию и жить в свое удовольствие. Все изменилось 12 апреля 1961 года. Помню, как забежал в наш класс заместитель председателя колхоза, отдышался немного, собрался и без запинки прокричал:
— Товарищи, только что сообщили, наш советский гражданин стал первым в мире человеком, который полетел в космос. Представляете, товарищи, человек в космосе!
— Это там, что ли? — спросил его кто-то из класса, показывая пальцем в потолок.
— Да, товарищи, там! — бойко ответил заместитель.
Помню, в тот момент я встал, облокотился руками на парту, да так и простоял несколько минут. А потом сорвался с места и побежал через всю деревню, крича как сумасшедший: «Человек в космосе! Человек в космосе!» Люди смотрели на меня, как на полоумного: кто-то крутил пальцем у виска, кто-то стыдливо отводил взгляд. А мне все равно было. Весь мир тогда перевернулся, все стало неважным. Какой трактор, какое поле, какая семья? Зачем все это, когда человек в космосе? Зачем все это, когда мы можем все? Я тоже теперь могу полететь в космос, на Луну, на Марс, на Юпитер и дальше, к звездам! Бегал я так, пока не обессилел, а после вернулся домой, лег на кровать и пролежал всю ночь, глядя в потолок.
Через два месяца, сразу как окончил школу, собрал вещи и поехал в город, прямиком в летное училище. Родителям своим на кухне оставил записку: «Спасибо за все, до встречи на Луне».
***
Я попал в отряд космонавтов, когда Советский Союз терпел одну неудачу за другой. Мрачное тогда было у всех настроение. Помню, ходили все с опущенными головами, работали как бы с неохотой. Было так вплоть до 1968 года, когда неожиданно для всех американцы отправили астронавтов к Луне. Главного конструктора тогда срочно вызвали в Москву. Вернувшись через несколько дней, он собрал всех в актовом зале и объявил, что Партией поставлена задача через год отправить человека на Луну. Сказал, что любой ценой мы должны быть первыми. А после назвал имя главного кандидата, которым был я.
***
В день старта главный конструктор то и дело подходил ко мне, протягивал руку, как будто хотел что-то поправить, но потом резко отдергивал и уходил прочь.
За час до старта я занял свое место в ракете, и началась монотонная подготовка к запуску. В наушнике раздавалась очередная команда, я нажимал на кнопки, переключал тумблеры и докладывал о результате. Делал я все это на полном автомате, так же как и предыдущие сто раз на тренажере. За две минуты до старта наступила долгожданная тишина, которую прервал лишь начавшийся отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, старт! Двигатели взревели, ракета содрогнулась и медленно, как бы неохотно, поползла вверх. «Поехали», — проговорил я про себя легендарные слова первого космонавта.
***
Сигнал о включении тормозного двигателя поступил с Земли через четыре дня, когда я уже несколько часов находился на орбите Луны. В посадочном модуле не было ручного управления, и все, что мне оставалось — сидеть и смотреть. Сначала мне казалось, что лунная поверхность — это огромные равнины и гигантские кратеры. Но чем ближе я приближался к поверхности, тем больше убеждался, что вся она изранена следами постоянных бомбардировок, как будто являясь живым доказательством бесконечной жестокости космоса.
Поверхность приближалась. Когда до посадки оставалось несколько секунд, раздался удар, посадочный модуль накренило и с силой ударило о поверхность. Двигатель взревел, протащил корабль несколько сотен метров и заглох навсегда. Придя в себя после жесткой посадки, я посмотрел на приборы: давление падало, и воздуха оставалось на несколько минут. У меня не было ни единого шанса улететь домой. Выйдя из посадочного модуля, я сделал первый шаг. Нога погрузилась в лунный грунт на несколько сантиметров. «Здесь никогда не было следов человека, а теперь есть», — промелькнула мысль в моей голове. Я сделал еще несколько шагов. Шаги давались на удивление легко. Немного подумав, я слегка подпрыгнул, подлетев ввысь на добрых полтора метра. Это было действительно забавно! Следующие несколько минут я дурачился, прыгая вверх, стараясь перепрыгнуть посадочный модуль. Погуляв по округе, я вернулся назад и присел отдохнуть. Прямо надо мной пролетел американский посадочный модуль и приземлился в нескольких километрах. Кислорода в моем скафандре оставалось на полчаса.
«А было бы забавно сейчас поздороваться с американцами. Представляю картину: открывается люк, из него выходит человек в скафандре, готовится сказать какую-то важную речь, а тут я выпрыгиваю и кричу: “Сюрприз!” Вот смеху было бы! Хотя глупости все это. Ну, выпрыгну я, а дальше что? Привет, я лишние сто килограммов, подбросьте до Земли, обещаю много не дышать? Не будут они миссией рисковать. Да и я не стану рисковать их жизнями. А какие у меня вообще варианты-то есть? Остаться сидеть — помру в одиночестве. Попросить о помощи — помру в компании и друзей с собой захвачу. Лишние килограммы — это не шутка. Либо не взлетим из-за перегруза, либо задохнемся. Попробовать забрать модуль силой? Не ровен час, третью мировую развяжу. Что ни вариант, то катастрофа, один хуже другого. В общем, как ни крути, мне конец. Так что оставлю парней в покое, пусть думают, что у них все получилось. В конце концов, знал же на что шел, знал, что не вернусь, знал, что лечу за мечтой».
Люк открылся, и из американского посадочного модуля вышел человек. Завтра каждый житель земли будет знать его как первого человека, ступившего на поверхность Луны. Мое же имя засекретят на долгие годы, а о сегодняшних событиях будет напоминать только запись в личном деле: «Дата и место смерти: 21 июля 1969 года, Луна».
Я лег на поверхность, раскинул руки в стороны и молча смотрел на небо. Оно было совершенно черным. Ни одной звезды. Ни одного огонька. Совершенная пустота. Идеальное место для меня. Закрыв глаза, я расслабился и стал ждать. Через несколько минут я умер.

Черная вода
Он сидел у стены деревянного сруба. Тяжелые морщинистые руки, привычные к труду, неподвижно свисали с колен. Фигура была слегка наклонена, словно он собирался встать, но теперь забыл об этом. Прозрачные живые глаза в плотной сетке морщин смотрели вдаль, где не могли уже разглядеть ничего земного. Едва заметная улыбка блуждала по лицу. Будто он знал что-то важное, но молчал до поры.
Из окна избы спрыгнула пестрая старая кошка. В зубах — поникший комок перьев. Прошлась по скамье, остановила блестящий травяной взгляд на хозяине. Он повернул голову, очерченную вязью длинных седых волос. Кошка сделала еще несколько шагов и замерла.
— Кормлю тебя плохо?
Старик протянул руку, кошка нырнула в нее. Шерсть, похожая на изношенную плюшевую игрушку, коснулась заскорузлой ладони. Дед, было, приласкал старушку и хотел усадить на колени, но кошка спрыгнула со скамьи. На треснувших досках остался лежать сгусток ржавых перьев.
Старик тяжело поднялся. Припадая на одну сторону, пошел вдоль избы и свернул за угол, к колодцу. Здесь рядом с ведром стояла железная кружка с мятым боком, заранее наполненная водой. Старик взялся за нее, и, расплёскивая холодную влагу, поднес ко рту. В калитку постучали.
— Добрый день! Двенадцатый дом не подскажете? — Стройная девушка в легком простом платье заглядывала через калитку. Смотрела, как дед тяжко, в несколько шагов разворачивается, бредет к ней. Потом отперла калитку сама и пошла навстречу.
Плавный шаг, спокойные руки, приятный голос. Только волнение пробегало временами по ее лицу, заставляло брови сдвигаться, образовывая между собой едва заметную складку. Как будто думала что-то и никак не могла закончить.
— Двенадцатого нет. И не было никогда. — Дед улыбнулся, словно извиняясь.
— Как же это возможно. — Девушка озадаченно склонила голову. Немного помедлила. — Я могу зарядить у вас телефон?
Электричество деду Кузьме провели несколько лет назад сыновья. Пользовался он им по мелочи — кипятильник включить, разогреть двухкомфорную плитку, когда на печь не хватало сил. Телевизор отроду не смотрел — времени не было — да так и привык. Телефон в хозяйстве тоже имелся, но гостья не помнила номера.
— Один тут живете? — вежливо спросила Лида, когда они сели на скамейку у дома. Кузьма рассказал про троих сыновей, что приезжали почти каждые выходные, а на праздники — с семьями. Про внуков, которые копошились на лужайке, сводя с ума старую кошку.
— В остальное время сам справляюсь. Звали к себе в город, да я не иду. Здесь к природе ближе. — Кузьма посмотрел на собеседницу.
Взгляд Лиды блуждал по деревьям на участке, потом по ссыпчатым берегам извилистой речки за полем. И куда бы ни был обращен, будто смотрел вовнутрь, где не мог чего-то отыскать. Руки Лиды, все в мелких царапинах, с короткими ногтями, резко выделялись на подоле белого платья.
Кузьме было жаль ее блуждающего взгляда. Он завел разговор издалека. Спросил о профессии — Лида собирала букеты — потом о семье.
— У мамы с папой все хорошо, спасибо.
— Жених-то есть? — по-старчески невинно начал Кузьма, хитро щуря, как и подобает в таких случаях, светлые стариковские глаза.
Лида отвернулась. Потом стала быстро и сбивчиво рассказывать про учебу, про то, что родители хотят перебраться в деревню, а сейчас она едет к бабушке. Через несколько минут Кузьма перестал следить за ходом мысли Лиды и повернул к ней голову. По щеке девушки текла слеза.
— Ну, не умер же? — невпопад спросил Кузьма.
Лида остановилась, глянула ошарашенно, но поняла.
— Не умер, — посмотрела снизу вверх.
Кузьма встал и пошел к колодцу. Вода в кружке закончилась. Он поднял тяжелую деревянную крышку и заглянул в длинное темное, на дне которого видно было черную воду. Мысли ухнули вниз, вязко потонули в ее густоте — не забрать.
Агафью Кузьма схоронил три года назад. Опасный весенний лед как-то вдруг провалился, когда она шла полоскать белье к проруби. Он прибежал как успел. Уже искали. Дергаными рывками двигался по льду, даром что кричали, что за женой уйдет. Растаскивал снежное колючее крошево руками по ледяному стеклу, силясь разглядеть в черной воде человеческую фигуру. Когда достали, белую и неживую, отскочил в сторону, упал на колени, вскочил на ноги снова. Долгим неподвижным взглядом смотрел на жену, потом на черную бездну проруби. Подбежал и со всей силы ударил по жесткой черной воде кулаком. Оттащили.
Непрожитая смерть жены уродливо отразилась в Кузьме. И теперь всякий раз, открывая колодец, он видел все ту же ненавистную черноту на дне и не мог оторваться. Сыновья приспособили к колодцу железную кружку, сказали: «Набирай про запас, не гляди». Он и не глядел, когда мог.
Лида обернулась на шарканье дедовых шагов. Он подошел к ней, протянул кружку с водой. Кому и от чего вода должна помогать в такие моменты, Кузьма не знал. Но всякий раз, не понимая, чем успокоить жену, приносил ей воды — в знак по-детски наивной заботы. И она принимала.
Кузьма сел рядом с Лидой на скамью, поднял глаза вверх. Вечер незаметно превратился в ночь, и на небе можно было увидеть первые звезды — случайные прорехи в другой мир.
— Коли не умер, это не черное еще, — задумчиво сказал Кузьма, не опуская головы. Потом твердо посмотрел на девушку. — Живы все.
И замолк. Ему казалась важной эта добытая в жизни мысль.
Лида не двигалась, молчала. Блуждающий взгляд замер. Может, нашел что.
Девушка вскоре уехала. Позвонила бабушке и заказала такси — оказалось, перепутала деревню. Кузьма остался один. Побрел зачем-то в сарай. Забыл свечку — фонари Кузьма не любил, со свечами было уютней, хоть и грозились, что погорит. Дверь захлопнулась сзади, погрузив Кузьму в шуршащую влажную черноту. Глаза ничего не могли разглядеть.
Кузьма постоял пару минут в легком забытьи и сам не заметил, как перед ним стали вырисовываться ведро дном кверху, старая лопата с отломленным черенком, валенки на зиму. Вспоминая, зачем пришел, Кузьма огляделся по сторонам. Когда снова смотрел вперед, через щель меж досками опустился тонкий пласт пыльного лунного света. Через секунду еще один — проскользнул в следующую щель, нарезая темь на куски. За ним третий.
Кузьма постоял так, потом взял ведро — так ли важно, за чем приходил? — и вышел за дверь.

Чужестранка
Глядя в окно на пустую улицу и клочки зелёной травы в середине января, я вспоминаю мой Харьков. Как за день до отъезда я гуляла по заснеженной Сумской, под моими сапогами хрустел снег, а мороз нежно щипал мой нос и щёки. Деревья и старинные здания светились в огнях гирлянд. Вокруг царило оживление, люди весело щебетали и смеялись. На площади ещё стояла новогодняя ёлка, и манящие ароматы завлекали в палатки ярмарки. Мне невыносимо хочется туда, где жизнь мчится бурным потоком, подхватывает тебя и несёт-несёт-несёт.
Я никогда не думала о переезде. Это было для других людей, другого статуса и склада характера. Моя жизнь была вполне определённой и понятной: найти работу, выйти замуж, родить ребёнка и снова выйти на работу. Решение переехать было необдуманным, поспешным. И всё же оно казалось правильным, словно обналичить выигрышный лотерейный билет.
На момент прибытия в Германию наш семейный бюджет составлял 100 евро, а вся наша жизнь уместилась в шести коробках 100*100 см и двух средних чемоданах. Спустя месяц государство нас снабдило всем необходимым: небольшой трёхкомнатной квартирой, мебелью, техникой и деньгами на жизнь. Наша харьковская однушка с расшатанной советской мебелью, тараканами, матрацем на голом полу в качестве кровати и судорожный подсчет денег вспоминались как страшный сон.
В первые полгода мои глаза горели любопытством, сердце было преисполнено надежд. Немецкий мир увлекал и затягивал меня. Пенсионеры катались на велосипедах, ездили на кабриолетах. На улицах незнакомые приветливые лица произносили своё тёплое нараспев «Hallo!». Улицы ухожены, дворы и балконы обязательно обильно украшены цветами и разномастными фигурками. Жизнь текла ровно и спокойно.
Я готовилась к экзамену по немецкому, когда в комнату зашёл Рома с довольным лицом.
— Это тебе. — сказал он и опустил передо мной стопку бланков. — Дополнительная мотивация получить сертификат.
— Ром, скажу прямо — мотивационный коучинг не твоё.
— Это ты так сейчас говоришь. Ты же ещё не посмотрела, что это, — таинственно протянул Рома. — Я узнал, что после экзамена ты можешь подавать заявление на гражданство. Наконец-то и ты сможешь стать немкой.
— А что, от украинки ты устал?
— И не говори! – широко улыбнувшись, Рома постучал себе по выпуклому животу. — Эта хохлушка так закормила своего Гензеля борщами с пампушками, что он скоро в печку не пролезет. А если серьёзно, не вижу смысла ходить с украинским паспортом.
— Ну, не знаю… Опять заполнять бланки. Они мне уже в кошмарах снятся! — громко выдохнув, сказала я. — В жизни столько документов не заполняла. Тошно уже.
Хотя немецкая бюрократия и раздражала меня, дело было не в ней. Мне не хотелось становиться немкой. Ещё в самом начале, на курсах немецкого, где почти все были из разных стран, мы много говорили о культуре и традициях. Я не знала, как объяснить парой предложений, какая Украина. Ведь она такая многоликая. Она как молодая девушка — прекрасная, энергичная и дикая. Я впервые задумалась о себе как украинке. Раньше это было неважно, я просто была.
— Представляешь, как было бы классно в Харькове?
Мой вопрос привёл подвижное лицо Ромы, не умеющее скрывать эмоций, в действие, и он вопросительно уставился на меня, нахмурив лоб.
— Вместо бесконечной учёбы я бы работала… И в сентябре вновь бы стала для кого-то первым учителем, — продолжала мечтать я. — Ходила бы с девчонками в сауну, караоке и на пикники, а не сидела, как Рапунцель в башне. Свободно и без стыда общалась бы с людьми, при этом выглядела бы грамотным человеком. Жила… — на миг я перестала дышать, — как всегда мечтала.
— В бедности и нужде, учитывая зарплату учителей в Украине, — неутешительно закончил Рома. — Да и шпрехаешь ты нормально, — после недолгой паузы продолжил он. — У тебя с самооценкой бедулька. Будь посмелее, и будет тебе КУДА и с КЕМ пойти.
— Неужели ты совсем не скучаешь?
— Неа. Мне и здесь хорошо. А друзья всегда могут в гости приехать.
Последний раз я была в Харькове летом, ещё до пандемии. Я приехала на пару недель навестить родных и друзей. По пути в родительский дом я заново знакомилась с городом. В метро объявляли новые станции, на улицах появились велосипедисты, заброшенные ранее места облагородили и обустроили. В некоторых местах пахло свежеуложенным асфальтом. На Северной Салтовке, где стоял родительский дом, пахло по-прежнему — пыльно и сухо. Туда рука любимого мэра ещё не добралась, и все ямки до единой остались невредимыми. Наверное, таксисты всё так же громко ругаются, неосторожно угодив в самую глубокую из них. Так радостно было гулять в местах, где я выросла. В саду Шевченко, будучи детьми, мы с сестрой носились вокруг фонтана, пока родители болтали на лавочке с друзьями. Теперь там стоит фонтан обезьян, вокруг него бегала моя племяшка, ловя брызги своим довольным розовощёким лицом. Лучами солнца расходились до дыр знакомые дорожки: центральная вела к Зоопарку, правая — к метро и площади, левая — к оперному театру. Если идти долго-долго, то можно выйти к обновлённой Набережной, где мы с девчонками частенько нежились на ухоженном газоне, болтая о только нам понятных вещах. Появилось много новых декораций, но улицы всё ещё пахли воспоминаниями. Это был мой родной Харьков, мой дом.
За окном начался типичный для немецкой зимы снежный дождь. Зелёная трава ненадолго покроется подобием снега, даря жалкую иллюзию зимы.
— У тебя есть ромашка?
Брови Ромы удивлённо, по-кошачьи, выгнули свои спинки.
— Погадать хочу.
Сердце колотится. Можно ли найти подходящие слова?
— РОМА…шка есть.
Я буду скучать по этой улыбке.
— Только ничего вырывать мне не нужно. Я тебе и так скажу — ЛЮБИТ. А что же мне откроет моя ромашка?
Свора разъярённых кошек, когтями царапала меня изнутри. Горло оцепенело, голос звучит отстранённо и тихо.
— Уезжает…
Рома тяжёлым движением назад убирает свои отросшие за время волосы, обнажая своё честное лицо. В нём боль и отчаянье.
— Надолго? — Его бессильный взгляд прожигает меня. В моих глазах предательски появляются слёзы. — Когда?
— Выезжаю 22 февраля. Рано утром 24 буду уже дома.

Впечатлительный
12 марта
Из плеча моего ночью выросла ветка. Я даже не сразу заметил — только когда попытался одеться. Не получилось. Ветка эта чуть не оборвалась и рубашку проткнула. Школу пропустил — мама вошла в положение, но пообещал, что завтра точно пойду.
13 марта
Новые ветки выросли из другого плеча. Пришлось в рубашке прорезать дырочки. Все в школе смотрели так, будто я им что-то сделал. Неодобрительно смотрели. Разочарованно.
17 марта
Утром в автобусе пристала бабка, говорила что-то вроде «ууу лохмааатый ты какоооой». Я отошёл, а она за мной и продолжает своё: «Хоть бы листочки подстриг, а? Вот у меня знакомый есть, сосед по даче, садовник — так стрижёт, что все кусты довольны, к нему б тебе». Ушёл от неё в конец автобуса, но вот пишу это и не знаю — может, реально надо было номер взять? Листья эти отросли сильно, на подушке спать неудобно, приходится всю ночь в кресле сидеть.
21 марта
Вот уже неделю я становлюсь деревом. На плечах уже нет места, где бы ни было какой-нибудь ветки; пальцы становятся тоньше, вместо волос теперь листья, а кожа медленно покрывается корой. Я сначала не особо серьёзно к этому отнёсся, потому что сейчас расскажу почему.
На днях Жарский опять начал ржать надо мной, не помню уже из-за чего, а я молчал и не говорил ничего, потому что он дурак, что с ним сделать, а учитель биологии сказал: «Эх, Дубин, вроде Дубин, а коры нет. Коры бы тебе, Дубин, да потолще».
А я впечатлительный. Мама с детства говорила, что я должен быть самым умным — и вот я отличник, а учитель сказал про кору — и вот я дерево. Ну впечатлительный я, внушаемый, даже не удивился веткам сначала, махнул рукой на проблему, а щас уже и не махну, руки — ветки, и не знаю, что делать. Просил маму внушить мне, что я — это я, но она отказалась: «Илюша, учителю виднее». А учитель биологии, как назло, в отпуск ушёл. Одноклассники просто от меня шарахаются. Сегодня решил от безысходности попробовать помочь себе сам, но подошёл к зеркалу — и всё. Увидел своё отражение. Понял, что назад дороги нет. Неудивительно, что одноклассники меня избегают. Прежними остались лишь лицо и ладони, да и те уже корой начинают покрываться. Остальное всё лиственное и деревянное. Из глаз течет что-то липкое и оранжевое, пока пишу это. От нервов листья облетать начали, весь пол шуршит, мама постоянно пылесосить заставляет. И самое страшное, что сам виноват. Сам. Да что уже, ничего не сделаешь. Может, учитель был прав и мне так будет лучше.
27 марта
Шёл в школу и возле дома услышал голоса — нечеловеческие. Деревья обсуждали друг с другом, у кого почки лучше. И они поняли, что я слышу. Когда возвращался из школы домой, они сразу ветками ко мне потянулись, решили, что я сынок ихний. Капец. Пришёл домой — как будто в бане побывал: всё лицо расцарапано. Деревья вообще нормальные, но плохо, что только о почках своих говорят, хвастаются. А мне хвастаться нечем, у меня почки только две. Хотя, наверное, потом побольше будет. Вот ещё один плюс.
30 марта
Не пошёл в школу. И вряд ли пойду когда-нибудь. Утром попытался встать и понял, что не могу вытащить ноги — то есть корни — из цветочных горшков. И писать становится всё труднее, пальцы не двигаются почти — чтобы написать это, пришлось ждать хорошего ветра. Эх.
2 апреля
Сегодня со мной заговорил мой деревянный шкаф. Заорал и начал ругаться, когда я случайно стукнулся о его угол ветками. Ему ответил комод, попросил замолчать и дать ему выспаться. Шкаф накричал и на него тоже. Стол попытался их помирить. Я стоял молча, слушал, привыкал — но они скоро поняли, что я их слышу, и подобрели сразу. Сказали, что давно меня ждали. Рассказывали, как хорошо им жилось в лесу, и советовали поскорее туда уходить, пока меня не разрубили на доски для мебели. Дома хорошо, но, наверное, так и сделаю — им виднее.
5 мая
Полмесяца жил я деревом в нашем городском парке. По мне бегали белочки, на мне гнездились птички, рядом со мной стояли мои братья-деревья, и чувствовал я себя на своём месте.
Потому что я всё понял. Весь мир состоит из деревьев. Всё — деревья. Люди — деревья. Корнями они прикованы к земле, но ветками и листьями тянутся к свету, к небу, к недостижимой вышине. И я благодарил судьбу за открытие этой тайны жизни, за то, что обрёл истинного себя.
Но вот однажды я увидел своего учителя по биологии.
Он меня тоже узнал, подбежал, спрашивает: «Дубин, ты?», я в ответ только ветками махнул, чтоб он шёл куда хотел, а он начал говорить, что давно меня ищет, уже и не надеялся найти. Спрашивает опять: «Ну как? Кора крепкая? Хочешь снова человеком быть?». А я нет, думаю, весь мир есть дерево, и я есть дерево тоже, но ему не сказал, только ветками опять махнул. А он мне: «Правильно, Дубин! Пятёрку тебе в четверти поставлю». И ушёл. А я впечатлительный, это во мне не изменилось. Он мне про пятерку сказал — и вот я опять Илья Дубин. Через две недели совсем очеловечился, пришёл домой, мама от радости обнимала меня долго, последние веточки с плеч обломала. Плохо мне без коры, правда плохо.

Мальчик из рассола
После трёхмесячного отдыха в Ялте Яшка стал огурцом. Огурец, к счастью, из него получился компактный. Он свободно помещался в баночке с рассолом на подоконнике, рядом с моей партой.
Яшка страдал от сильной близорукости.
— А огурцы тоже плохо видят? — спросила я своего окулиста в тот вечер, когда увидела, что Яшка стал огурцом.
— О чём ты, милая? — посмеялся окулист. — Огурцы — это огурцы, а люди — это люди. Если кто-то плохо видит, ему всего лишь нужны очки и правильное местоположение.
Поэтому я пересела на первую парту со второй и посадила баночку с Яшкой рядом с собой, поближе к доске. Яшка приник к стеклу с той стороны. Я дотронулась пальцем до стекла с этой.
— А где этот твой, толстенький? — спросила Анюта из старшего класса, подойдя на перемене. — Ещё не приехал или по углам шкерится опять?
— Тихо, — сказала я и посмотрела строго. — Не говори при Яшке слова, начинающиеся на «толстый». Приехал он, вон, сидит.
Анюта взглянула на баночку.
— Да ну тебя совсем, — сказала она. — Ты ещё на салат шляпку надень. С огурцами она возится.
— Превратится Яшка в салат — и надену, — сказала я.
Анюта закатила глаза и отошла, поправляя рукавчики. Я подлила в Яшкину банку из бутылочки с водой, и он забулькал облегчённо. Раньше он сидел, сгорбившись, уткнувшись носом в парту, а теперь ему всё, должно быть, хорошо было видно.
На пятом уроке ко мне подсел Витя. Меня не спросил, сел, развалившись. Опасный поступок, почти самоубийство — Витя и первая парта.
— Уйди, — сказала я. — Тут Яшка сидит.
— Не, — ответил он. — Пускай сидит. Он же много места не занимает. А мне тоже плохо видно, вот.
Мы с Яшкой насупились и уставились на доску.
Шёл урок. Я клевала глазом, склоняясь на парту. Разбудил меня тихий бульк. Я вскочила и увидела, как Витя чумазыми пальцами лезет в Яшкину банку.
— Сгинь, нечисть! — заорала я. У доски вздрогнула учительница.
Я прижала банку к себе и вылетела из класса. Яшка вжался в дно и весь был покрыт пузырьками от страха.
Мы пошли по коридорам и вдруг наткнулись на Анюту. Она выходила из уборной, покачиваясь на длинных ногах.
— Ты чего это гуляешь, урока нет? — зевая, спросила она лениво.
— Нет, — сказала я. — Яшку чуть Витёк не сожрал.
— О, точно, ты же всё с этим огурцом, — заметила Анюта. — Не надоело?
Я закрыла рукой горлышко банки, чтоб Яшка не слышал Анютиных слов, и ответила:
— Не надоело.
Анюта прошагала мимо коридорного зеркала, остановилась, поправила юбки, подтянула банты на хвостиках.
— А знаешь, что? — сказала вдруг она. — А дай-ка мне сюда твоего Яшку.
— Это зачем ещё? — Я вцепилась в банку.
Анюта рассматривала меня, покручивая на пальце кудряшку.
— Ну, чего ему всё огурцом ходить? Это некрасиво. Зелёный такой, даже не зелёный, скорее, болотный, как будто его тошнит. А я чего-нибудь поколдую, на человека хоть будет похож.
Тут мои руки расслабились, и я протянула Анюте банку. Анюта взяла её четырьмя длинными пальцами, большими и указательными, и поплыла в конец коридора.
— Анют! Анюта! — крикнула я вдруг. — Только ты его не ешь. Если ты его съешь, то я… То я больше никогда…
— Не съем, — откликнулась Анюта. — У меня диета.
Через полчаса мы сидели под лестницей на лавочке. Анюта ревела, утирая нос. Мы с Яшкой — по обе стороны от неё — молчали. Яшка изредка побулькивал рассолом.
— Анют, подумаешь, не вышел фокус, — сказала я, когда она чуть поутихла. — Магия — это же штука такая, ну, не то чтобы очень надёжная.
— Да при чём тут магия! — завыла Анюта. — Я ж хотела его… А он вообще… И ни туда, и ни сюда, и вообще никак! Корнишон несчастный!
— Чего сразу несчастный? — сказал Яшка.
Мы уставились на него. Анюта распахнула большие накрашенные глаза. Верно, она никогда не видела говорящих огурцов.
— Всё-таки заработало, кажется, — сказала я.
— Да… — выдохнула Анюта.
Я взяла банку на колени и посмотрела Яшке в самые пупырышки.
И Яшка рассказал. Рассказал про ялтинского торговца, обвешанного амулетами с разноцветными голубиными перьями, с длинными изумрудными серьгами и одним глазом, поблёскивающим из-под старенькой турецкой кепки.
— Он говорил, что всего за сорок тугриков уставит меня на путь истинный, что это самое выгодное вложение в себя, которое только могёт осуществить пятиклассник.
— Неужели ты поверил ему? — сказала я.
— Куда подозрительней, когда человек носит изумрудные серьги? — вмешалась и Анюта. — Они идут только совсем безмозглым.
— Он так по-доброму улыбался, был очень вежливый, — захныкал Яшка, и в банке кверху пошли порции пузырей. — Сказал, что откроет мне все общевствейные пороки, и мои собственные тоже. На плакате у него было написано, что он способен поставить всех на то место в жизни, которое им предназначено.
Мы помолчали. Яшка сказал:
— Ну вот. Собственно, вот я теперь и огурец…
— Ну как, много пороков общественных нашёл? — сказала Анюта.
— Пока ни одного, — вздохнул Яшка. — Только понял, что огурцы, в отличие от пятиклассников, не имеют лишнего веса.
И поставила я Яшку, вернувшись в класс, снова на первую парту. Сказала учителю, что теперь он может отвечать на вопросы. Яшка сказал, что я его подставляю, потому что у огурцов память ещё короче, чем у рыбок.
В столовой я выпросила крышку от другой огуречной банки и проделала в ней зубами дырку. Чтоб и Витьки не лезли всякие, и Яшка не задохся. На следующей перемене Анюта прибежала с пакетиком поваренной соли, и в женском туалете мы вместе готовили Яшке питательную среду — заливали водой соль прямо в пакетике.
Так закончился понедельник. Затем прошла и вся неделя. А в следующий понедельник Яшка пришёл в школу уже на своих двоих. Причём изрядно схуднувший.
Анюта снова вылупилась на него.
— Объяснись, — сказала она.
— А чего тут объясняться, — развёл Яшка человеческими руками. — Как будто я сам понимаю, как это всё регулируется…
— И всё ты понимаешь, — сказала Анюта.
— Неправда, — ответил Яшка.
Он повернулся ко мне, довольно виновато. Я взяла его за руку, сжала. От его свитера ещё пахло рассолом.

