Ноябрь 2022
Без хозяев. Фрагмент книги-очерка «Поминки»
Роман Лилии Волковой «Изнанка»
Мастерская «Память, говори!»
Мастерская «Пишем первую пьесу»
Мастерская Веры Мильчиной «Художественный перевод с французского»
Мастерская Дарьи Синицыной «Перевод с испанского»
Мастерская Дениса Банникова «Литмастерство: жанры»
Мастерская Игоря Мокина «Как переводить нон-фикшн»
Мастерская Ольги Лаврентьевой «Комикс: от идеи до воплощения»
Мастерская Ольги Славниковой «Проза для начинающих»
Мастерская Ольги Славниковой «Проза для продолжающих»
«Божья дудка». Все не так, как кажется
Без Христа
Букет для психотерапевта
Вера
Витраж
Время колокольчиков
Глубина
Еще одна попытка рассказать
Запах жасмина
Когда во всех дверях исчезли замки
Корни
Лабораторное утро
Лучшее время в жизни. Ночь
Люси
Мамина гордость
Настино счастье
Наташа
Ниточки
Ожидание и реальность
Остепененная
Паспорт
Плесень
Последний вагон для старого орангутанга
Пятно
Рождение Раи
Сверток
Снежок
Снимок
Сны итальянца
Сокольники
Степа
Тайна
Тайна креста
Ты и так все знаешь
Умирать в двадцать два — легко
Хвойный сахар
Чай с бубличками
9D
Аукцион
Дневник одного дня
Лучше, чем я
Новый сосед
Француженка
Что бы ты сказал

Исторический обзор писательских движений
В сознании современного человека словосочетание «писательский клуб», как кажется, может вызвать довольно непредсказуемый круг ассоциаций. Кому-то представится унылое сборище анонимных графоманов, толкующих о безуспешных попытках завязать с этим делом, кому-то вообразится что-то наподобие декадентской опиумной оргии, кому-то — смутные очертания людей во фраках и белых перчатках, переписывающих друг другу в альбомы непонятные французские каламбуры. Разумеется, за каждым из этих вариантов, равно как и за любыми другими, стоит какой-то архетипический образ, хранящийся в сокровищнице мифов русской/европейской/американской культуры о самой себе.
С чего все начиналось
Если попытаться обрисовать круг наиболее значимых писательских организаций, вокруг которых и образовались устойчивые мифологемы, нам, как это часто случается, следует обратиться к античности. Архетипической моделью практически для любого «клуба» гуманитарной направленности служит школа Сократа, тот тип дискуссии, который был запечатлен Платоном в его «Диалогах». Идет ли речь о чисто философских вопросах или сиюминутных политических, культурных явлениях или даже о литературе, которую, к слову, Сократ, мягко говоря, недолюбливал — обсуждающие, задавая друг другу вопросы, затевая споры, неминуемо уподобляются древнегреческим мудрецам и их ученикам.
Философские школы античности на долгие столетия стали прообразом организаций, созданных для проведения интеллектуальных дискуссий. Разумеется, со временем происходило постепенное дробление, такие сообщества становились все более профильными и, соответственно, профессионально ориентированными. Если в эпоху Возрождения Леон Баттиста Альберти устраивал на своей вилле вечеринки, на которых обсуждались проблемы, кажется, всех видов искусств и наук (как сам Альберти, так и его друзья не ограничивались ни литературой, ни архитектурой, ни философией — равно как и другие «люди эпохи Возрождения»), то уже к XVII веку появляются первые литературоцентричные общества. Отметим, что это вовсе не значит, что в таких «клубах» речь шла исключительно о литературе, однако в силу профессиональных интересов участников именно ей было посвящено наиболее пристальное внимание.
Первые клубы
Неудивительно, что первые такие организации появились в Англии, где культура клубов (профессиональных, политических, университетских) сохраняется и процветает по сей день. Так называемые «поэты-кавалеры», вышедшие из роялистских кругов, были объединены как общими стилистическими и тематическими идеалами, так и, что гораздо важнее, общей политической позицией и социальным статусом придворных. Тем самым, «кавалеров» нельзя назвать в полном смысле «клубом» — неясно, существовала ли бы их «группа», не объедини их двор. Тем любопытнее, что некоторые из них — Ричард Лавлейс, Джон Саклинг, Томас Кэрью, — именовали себя «Племенем Бена», явно намекая на действительно существовавшую в первой половине XVII века и, что существенно, вполне самоорганизованную группу драматургов, учеников Бена Джонсона, «Сыновей Бена» (Бром, Давенант, Мармион и т. д.). Любопытно, что у «Сыновей Бена» был даже собственный свод правил, написанный рукой самого Джонсона на табличке, установленной в месте постоянных заседаний «клуба» — в лондонской «Таверне Дьявола».
Поклонники творчества Джонсона в истории английской литературы противостоят последователям Джона Донна, которых с легкой руки Самюэля Джонсона (писателя и критика, организовавшего знаменитый «Литературный клуб» или «The Club» — по сути, скорее философско-политический, чем писательский) называют «поэтами-метафизиками». В отличие от «Сыновей Бена», основной формой общения «метафизиков», судя по всему, были в большом количестве сохранившиеся стихотворные письма. Таким образом, уже на примере английских литературных групп XVII века вырисовываются основные параметры существования писательского клуба: форма организации (клуб может иметь институциональное происхождение или базироваться на принципах самоорганизации); иерархия (клуб может быть персоналистской «школой» или равноправным объединением); способы коммуникации (клуб может подразумевать регулярные личные встречи или существовать эфемерно, в эпистолярии); внутренние законы (клуб может иметь в той или иной мере серьезный свод правил, ритуалы и тому подобное); цели и задачи (к примеру, клуб может ставить своей целью регуляцию творчества членов в соответствии с каким-нибудь политическим или эстетическим курсом или изучение наследия какого-то автора, или формирование нового литературного направления, или просто — приятное времяпрепровождение в компании коллег).

В зависимости от целей и задач писательский клуб или литературная группировка может быть в большей или меньшей степени публичной. В XVIII веке одно из наиболее знаменитых и влиятельных литературных движений в истории, «Буря и натиск», начало свое существование манифестом-сборником «О немецком характере и искусстве», изданным Гёте и Гердером. Манифесты, декларации, сборники — надолго станут основополагающим способом групп/клубов/объединений заявить о себе (к чему английские предшественники не всегда стремились). Причастность к «Буре и натиску» молодых Гете и Шиллера сделает это движение бессмертным. При этом «Sturm und Drang», как и абсолютное большинство литературных объединений, по крайней мере, до XX века, в немалой степени — плод фантазий историков литературы, стремящихся к упрощению литературных процессов. Точно так же произошло со следующей, знаменитейшей «группой» — «Озерной школой» (нач. XIX в.), получившей свое название «со стороны» и, как это часто бывает, в изначально уничижительном контексте. Нельзя сказать, что члены «Озерной школы» (Вордсворт, Кольридж, Саути и др.) образовывали единую школу или оформленное объединение — даже в меньшей степени, чем члены «Бури и натиска».
С другой стороны, в то же самое время возникают уже совершенно оформленные литературные общества, существование которых определяется не прихотью историков литературы. Более того, в отличие от большинства уже упомянутых нами обществ, некоторые из объединений, возникших на рубеже XVIII—XIX веков и позже не носили «персоналистский характер» (срок их существования не ограничивался сроком жизни или заинтересованности в них основателей) и продолжают существовать по сей день. К примеру, к таковым относится нюрнбергский Пегницкий Блюменорден, стремящийся к сохранению немецкого языка от заимствований, или не несущее такой ясной и постоянной программы, но и по сей день престижное Королевское литературное общество (созданное в Англии в 1820 году королем Георгом IV).
Писатели в России
В Российской империи в то же самое время литературные салоны также начинают превращаться во вполне организованные литературные объединения. Так произошло с «салоном» Гаврилы Державина, в 1811 году оформившимся в «Беседу любителей русского слова». Это сообщество, имевшее, как принято считать, консервативную направленность (в группу входила знаменитая «угрюмая тройка певцов — Шихматов, Шаховской, Шишков», наряду с Хвостовым, Гнедичем, Крыловым и т. д.), не только проводило регулярные чтения, но и печатало периодическое издание. Несмотря на то, что «Беседа» как раз не пережила своего основателя (и фактически распалась в 1816 г. со смертью Державина), она оказала серьезное влияние на следующее поколение литераторов. С одной стороны, она воспитала так называемых «младоархаистов» (Грибоедова, Катенина, Раевского и т. д.), с другой, открытое нападение Шаховского на Жуковского в пьесе «Липецкие воды» (где автор «Светланы» сатирически выводится в одном из персонажей, угрюмом поэте Фиалкине) привело к созданию второго важнейшего литературного объединения начала XIX века — «Арзамасского общества безвестных людей».
Хотя «Арзамас» просуществовал еще меньше «Беседы» (всего три года, с 1815 по 1818 годы), именно это общество оказало наибольшее влияние на формирование мифов о «писательских клубах» в сознании русскоязычной публики вплоть до сегодняшнего дня. В противовес формализованным, торжественным собраниям «Беседы», встречи арзамасцев носили откровенно пародийный, шутливый характер. Свидетельством тому служат сохранившиеся протоколы заседаний (к примеру, один из первых заканчивается фразой: «По окончании заседания члены приступили к трапезе и, кушая раковой суп, нежно вздыхали о потрохе арзамасском…»), которые вел сам Жуковский, принявший на себя прозвище Светлана. Собственно, помимо Жуковского и Батюшкова, неувядающую славу «Арзамасу» как архетипическому примеру русского литературного общества принес, конечно, Пушкин, появляющийся в протоколах под именем Сверчок.
Постоянная ирония и самоирония, пародийность «Арзамаса» отличали его от множества других кружков и обществ, организованных и сгинувших в первой половине XIX века. Сложно сказать, насколько эти традиции продолжала «Зеленая лампа» (в членах которой также числился Пушкин), но едва ли упомянутые качества можно разглядеть в наследии «Вольного общества любителей русской словесности» (1811, среди членов: Рылеев, Глинка, Бестужев, Кюхельбекер и т. д.), «Дружеского общества любителей изящного» (1801—1825, Языков, Измайлов, Пнин и т. д.) или, тем более, «Кружка Станкевича» (1831—1839, Аксаков, Белинский, Бакунин и т. д.). Постепенно, собственно литературные, художественные общества политизировались, и во второй половине XIX века центрами русской литературной жизни оказались уже не «клубы», кружки или объединения, а редакции крупных журналов, таких как «Современник».
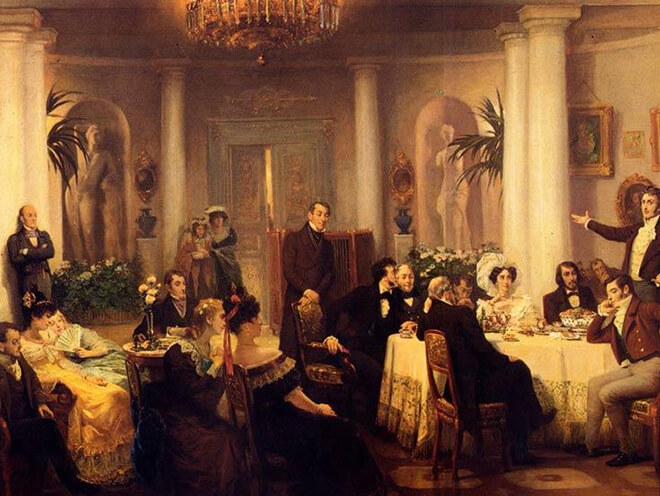
Бум литературных обществ
Тем не менее, «салонная» культура продолжала воздействовать на литературную жизнь России. «Пятницы» Полонского, впоследствии ставшие «пятницами» Случевского, видывали на своих встречах поэтов совершенно нового поколения, в частности, Гумилева. Уже в XX веке своеобразный «клуб» составляли посетители «сред» Вячеслава Иванова (проходивших в его знаменитой «башне»), на которых часто встречались Блок, Белый, Соллогуб. Новое литературное направление, возникшее во Франции под именем символизма и захватившее русскую литературную жизнь больше чем на десятилетие, как ни странно, не породило значимых и организованных групп или обществ. Тем закономернее, что течения, возникавшие в противовес символизму, нуждались в организациях, которые позволяли бы вести борьбу с мейнстримом и конкурирующими группировками более эффективно. Так, в 1910—20-х годах в России происходит бум литературных обществ.
В 1911 году, вследствие пронесенного сквозь всю жизнь желания Гумилева руководить чем-нибудь, был создан «Цех поэтов», в который входили Ахматова, Мандельштам и многие другие. Так начинается история акмеизма, во многом довоображенная литературоведами. Яркими представителями нарождающегося в России футуризма становится группа «Гилея» (куда входили Маяковский, Хлебников, Бурлюк, Крученых). Несколько более непохожим на итальянские оригиналы выглядит «футуризм», декларировавшийся группой «Центрифуга» (куда входили Пастернак, Асеев и др.), созданной в 1913 году. В 1918 году создается «Орден имажинистов» (куда входили Есенин, Мариенгоф, Шершеневич), возможно, отдаленно связанный с английским имажинизмом (Паунд, Эллиот, Хьюм и т. д.). В 1921 году создается общество «Серапионовы братья», куда входили Зощенко, Каверин, Федин и т. д.
Отнюдь не все из перечисленных обществ этой эпохи (а перечислены лишь самые известные) подразумевали строгую организацию, постоянные встречи, единую программу или наличие собственного журнала/издательства. Тем не менее, почти все к этому стремились, и было написано несчетное количество манифестов, деклараций и тому подобных публичных заявлений о создании новых и новых литературных группировок (самое известное из которых, пожалуй, «Пощечина общественному вкусу», опубликованная «Гилеей»). Разумеется, похожие процессы в то же самое время происходили в Европе. В 1907 году впервые собрался «Блумсберийский кружок» (Вирджиния Вулф, Эдвард Форстер и др.), продолжавший свое существование вплоть до второй половины 1930-х годов. Начиная с 1909 года возникают группировки итальянских футуристов (Маринетти, Боччони и др.), в 1910-х появляются клубы немецких экспрессионистов (такие как «Неопатетическое кабаре», куда ходили Гейм, Хиллер и др.), после Первой мировой войны активничают дадаисты (Тцара, Балль и др.), в 1920-х формируются кружки сюрреалистов (Бретон, Луи Арагон и др.). В 1920-х в известном парижском магазине «Шекспир и компания» начинает собираться общество «Стратфорд-на-Одеоне», куда входили Хемингуэй, Джойс, Фицджеральд. Тогда же, в Нью-Йорке зарождается традиция «Алгонкинских круглых столов», в которых участвовали Роберт Бенчли, Дороти Паркер, Эдна Фербер.
Новое советское государство
После октябрьского переворота 1917 года деятельность литературных кружков и объединений в России постепенно попадает в фокус внимания нового советского государства. Совершенно легальными и даже поощряемыми остаются лишь группировки, декларирующие создание новой, революционной литературы — такие, как «ЛЕФ» (Левый фронт искусств) Маяковского и созданный позже «РАПП» (Российская ассоциация пролетарских писателей, куда входили Фадеев, Ставский, Авербах и др.). К концу 1920-х годов, в русле общего огосударствления всей культурной жизни, после разгрома Замятина и Пильняка за публикации за границей, все литературные объединения, кроме РАППа, продержавшегося до 1932 г., были уничтожены.
В 1934 году был создан Союз писателей СССР под формальным руководством Горького. Этот орган, постепенно обрастающий дополнительными инстанциями (впоследствии объединяющий союзы писателей отдельных республик СССР), контролировал литературную жизнь страны вплоть до распада советского государства. Его очевидная функция — регулирование — осуществлялась посредством тотального контроля над средствами печати, «пряниками» (дачами, путевками, гонорарами и т. д.) и «кнутами» (печатные постановления-осуждения, фактически выполнявшие роль доносов в органы госбезопасности).
В то время как в Европе и Америке писательские клубы и кружки продолжали существовать — яркий пример чему оксфордское сообщество «Инклингов», собиравшееся в 1930—40-х годах и включавшее в себя Толкина, Льюиса и др., — в России культура независимых писательских объединений надолго оказалась под запретом.

Мастера Creative Writing School об ошибках начинающих авторов
Каковы главные ошибки начинающего писателя и как их избежать? Это один из самых частых вопросов, который волнует авторов в начале творческого пути. Мастера Creative Writing School слышат этот вопрос на вебинарах и занятиях. Мы собрали несколько мнений рецензентов онлайн-курсов CWS, через чьи руки проходят тысячи этюдов и рассказов авторов, которые делают в писательстве свои первые шаги.

Литературный критик, писатель Валерия Пустовая
Опаснее всего — не верить в своего читателя и в своего героя. Недоверие проявляется в том, что я бы назвала рационализацией, или «объяснялками». Не доверяя читателю, автор предлагает подпорки для воображения. Называет чувства героев, проговаривает причины поступков, выявляет логические связи. Не доверяя герою, автор подпирает его образ логикой — и снова доказывает, что герой не мог поступить иначе, потому что есть очевидные обстоятельства и неизбежные следствия. Этот анализ вместо музыки, доказательство вместо пластического этюда, убеждение вместо вовлечения для меня знак потери контакта. И прежде всего — контакта автора с собой.
Художественное парадоксально, иррационально. В произведении должна проявиться прочная связь между героями, событиями, но связь эта глубже прямой логики и часто против логики. Творчество — способ дознаться до неизвестного, раскрыть спрятанное. Творчество — это открытие, прежде всего для того, кто творит.

Редактор, журналист и писатель Наталия Ким
За четыре года работы в CWS я написала больше тысячи рецензий. Хотела бы выделить три главные ошибки, присущие начинающим.
Во-первых, отсутствие критического взгляда на собственные произведения (именно это я бы назвала «графоманией»), такое довольно редко, но все же встречается.
Во-вторых, как другая крайность — чересчур критическое отношение ко всему, что человек пишет. Заклинаю! Мы же учимся, никто не требует от первого же «разогревного» задания великих художественных открытий.
И третья распространенная штука — когда студенты слишком увлекаются выразительными средствами, начинают громоздить метафоры на гиперболы, писать километровыми предложениями. Этого надо избегать, сперва пробовать писать проще — это же не означает «скучнее»!

Писатель Роман Сенчин
Основные ошибки следующие. Во-первых, оформление текста. Часто нет ни имени и фамилии, ни названия. Почти никто не выделяет абзацы красной строкой, а каждый абзац отделен от другого интервалом. Я обращаю на это внимание потому, что многие придут к моменту, когда им потребуется увидеть свои рассказы и повести опубликованными. А редакторы журналов тексты без указания авторства отправляют в корзину.
Во-вторых, многие пишут для того, чтобы уйти от действительности. Это неплохо, но фантазировать в прозе нужно со знанием предмета. Должна быть достоверность. Немало авторов пишут о загранице, нередко абстрактной, но сразу видно, что они не то что не бывали за пределами России, а не потрудились почитать, как там, не поискали соответствующую лексику.
В-третьих, далеко не все перечитывают свои этюды и рассказы. Отсюда масса опечаток, описок, стилистических ошибок. Работа над текстом не менее важна, чем само написание.

Литературный критик Михаил Эдельштейн
Питерский критик Никита Елисеев как-то заметил, что литература устроена странно: в ней интересно получается чаще всего про какие-то мелочи, вроде Каштанки или Холстомера, а про крупных животных и великих людей — не очень. Писатели — увы, далеко не только начинающие, — нередко поддаются соблазну поговорить о возвышенном, порассуждать о судьбах мира. И это почти всегда (если вы, конечно, не Лев Толстой, но вы не он) производит комическое впечатление.
Литература состоит из конкретных наблюдений, едва заметных нюансов, умения увидеть какой-то кусочек мира по-новому или найти неожиданные слова для, казалось бы, очевидного.
«А что речи нужна позарез подоплека идей / И нешуточный повод — так это тебя обманули», как пишет Сергей Гандлевский. Не старайтесь встать на табуретку и, подняв руку, сказать Окончательные Слова о Самом Главном. Лучше пристальнее смотрите по сторонам и внутрь себя.

Литературный критик и писатель Станислав Секретов
«Девушка с голубыми, как небо, глазами и мраморно-белой кожей в восемнадцать лет обрела долгожданную свободу от родителей и начала трудовую деятельность в комплексе “Москва-сити”. С высоты город выглядел игрушечным, словно собранным из конструктора “Лего”…»
Всё это уже было до вас. Много-много раз. Не увлекайтесь ненужными «красивостями», не пытайтесь изобрести велосипед. Не придумывайте разговор, а говорите. Не придумывайте жизнь, а живите. И не забывайте о чувствах.

Критик и редактор Варвара Глебова
Боюсь, это штамп, но главной ошибкой начинающих писателей остаются штампы. Мне кажется, виновато представление, что язык литературы должен отличаться от слов, которыми мы общаемся в жизни и в сети. На ум приходят красивые и яркие образы, и думаешь: «Вот, это оно, именно так пишутся книги!». Логично, но литература устроена иначе.
Похожая ошибка — излишний пафос: риторические вопросы («За что мне это!?») и восторженные восклицания («Ради тебя я готов на все!!!»).
Такие фразы раздражают, как и герой, что, «прижавшись лбом к холодному стеклу», «полной грудью вдыхает свежий весенний воздух».

Писатель Денис Гуцко
Пожалуй, самая распространённая ошибка начинающего автора в рассказе — начало затянуто, финал скомкан.
Автор долго раскачивается, знакомит читателя со своим героем, накидывает кучу деталей, без которых не решается пуститься в путешествие — как педант без чемодана мелочей на все случаи жизни.
Наконец, долгожданная завязка, герой окунается в водоворот событий. И вдруг финал, и автор быстренько досказывает, чем там дело кончилось.
Не делай так, автор, делай наоборот — по крайней мере, если пишешь короткий рассказ: быстро приступай к делу, а в финале не суетись, выходи не спеша, наслаждайся произведённым эффектом.

Писатель Алексей Евдокимов
Если говорить о «детских болезнях» авторов, то одна из типичных, — это, как ни банально, стремление «говорить красиво». Раз уж ты пишешь художественный текст, хочется сделать его максимально художественным, показать все богатство своего ассоциативного мышления, способность завернуть метафору, какую и Набокову не потянуть. Но хороший текст — не сложный, вычурный, изысканный, а лаконичный и точный.
Что же касается других характерных признаков неопытности, то тут могу назвать «позу бога». Когда рассказчик, заведомо всезнающий, смотрит на героев откуда-то сверху, когда он сообщает, что на уме у одного персонажа, потом тут же оказывается в голове у другого.
Мастеровитый автор умеет поставить себя и читателя на место того или иного персонажа, умеет последовательно «вести трансляцию» от его лица, не меняет часто и без нужды точку зрения и не лезет лишний раз в текст сам, в своей всезнающей, вещающей свысока ипостаси.

Без хозяев. Фрагмент книги-очерка «Поминки»
Трава, трава…
Сколько я уже писал о ней — самому тошно. Но как не писать, когда она лезет и лезет, непобедимая, неистребимая. Ничто ее не берет, даже, теперь убедился, химия.
В прошлый приезд, в начале мая, купил на рынке в городе несколько банок «Торнадо», пульверизатор. Развел, опрыскал то, что успело проклюнуться на картофельном поле (понимал, что картошку в этом году не буду сажать), в проходах меж грядок. И вот — никакого эффекта. Зеленая стена. Высокая вообще-то теплица выглядывает из-за стены лишь верхушкой. Будто не ухаживали за этой землей тридцать лет, не нагибались за каждым сорняком, не относили сначала курам, а потом, когда кур не стало, в дальний угол огорода, чтоб не высыпала она на поле, на грядки свои семена.
Впервые с похорон мамы закипает в горле.
— Да, вот так оно, — голос Лены, ангела-хранителя моих родителей последние лет десять, — без хозяев моментом дичает.
Примерно те же слова сказал нам, только купившим этот участок, старик Мациевский из дома напротив. Заметил, как мы оглядываем избушку с разбитыми стеклами и сползший с крыши лист шифера, обвалившийся дровяник, упавший забор, и сказал. Было это ровно двадцать девять лет назад. В июне девяносто третьего…
Потом эти слова я вставил в одну из первых своих повестей, а теперь услышал их вновь.
Некрасиво кряхчу, давя рыдание, достаю сигарету. Ответить Лене нечего. Вздохнуть разве что.
— Ну, поеду я, — говорит Лена так, словно разрешения просит.
— А чай?
— В следующий раз. Отдохни с дороги.
Не настаиваю:
— Да.
Возвращаемся во двор.
— Спасибо, Лена, что привезли. А! — вспоминаю. — Луку возьмите, а то издрябнет.
Мама произносила это слово, теперь вот я.
Лена не отказывается — мы заранее условились, что возьмет. Мама много его наростила, просушила, я осенью спустил в подпол в плоских ящиках, а весной достал…
Открываю времянку. Сюда в мае перенес лук, чеснок, уцелевшую от мороза и крыс картошку.
— Картошку не предлагаю — почти вся в парше.
Хочу добавить, что надо заменить семенную, в другом месте посадить, а то на этом поле столько лет подряд, но не добавляю. Какая посадка… Всё теперь по-другому…
Лук хороший. Крупный, твердый. Торопливо накладываю в пакет.
— Хватит, — говорит Лена, — достаточно.
— Да куда его… Мне и пары штук хватит. И чесноку вот… Вещи я постараюсь собрать в ближайшие дни. И позвоню.
Договорились, что я отберу родительскую одежду, какая получше, а Лена отвезет куда-то для малоимущих.
— Хорошо, звони. Ты сильно духом-то не падай. — Лена наверняка слышит в моем голосе что-то, что ее тревожит. — Приезжай, если здесь станет плохо совсем. Одному. Я помню, как это без родителей…
Киваю. Прощаемся. Белый «ниссанчик» скрывается за углом забора. Так же скрывались «скорые» прошлой осенью и в декабре, увозя то маму, то отца, то снова маму…
Вместо того чтобы идти в дом, поесть и потом, может быть, подремать — устал ведь, действительно, перелет четыре часа, смена часовых поясов, — или хотя бы переодеться в рабочее, возвращаюсь в огород.
Это уже давно больше, чем привычка — приезжая к родителям, делать обход хозяйства, смотреть, как что растет, какая предстоит на ближайшие недели работа. Из городского человека во время этого обхода я превращаюсь в деревенского. А у большинства деревенских главная забота с апреля до октября — огородные посадки. Их нужно спасать от душащих сорняков, поливать, удобрять, иначе ничего не наберешь, не накопаешь. Даже картошка требует заботы.
На нашей улице два дома купили небедные люди из Абакана. Не для постоянного проживания, а под дачи. Автомобили у них отличные — минут сорок, и они здесь.
Поначалу говорили: «Засеем газоном, овощей и на рынке полно». А потом, смотришь — изгороди у них современные, европейские, всё видно — одну грядку вскопали, засеяли чем-то, потом другую, вот мотокультиватор купили, делянку под картошку вскапывают. Кажется, самой земле скучно газон питать…
И все эти годы, приезжая сюда, я первым делом, даже сумки в дом не занеся, направлялся в огород. Раньше вместе с родителями, а потом, когда они стали ходить медленно и тяжело, один. Если приезжал летом, мама обязательно спрашивала: «Что, сильно мы запустили?» Я неизменно отвечал: «Отлично всё, чисто». Но мама сразу определяла, если говорил это не совсем искренне, а так, чтобы их успокоить. «Да что тут отличного… Зарос огород, зарос неприлично».
Ох, разве у родителей зарастал? Вот сейчас — зарос.
Трава по пояс. Как в песне.
Усмехаюсь такой аналогии, замечаю, что усмехнулся. Становится неловко, точно я играю. Наверно, играю, но ничего не могу с собой поделать — часто у меня такое чувство, что за мной наблюдают. И надо играть.
В хороших туфлях, чистых джинсах шагаю в траву, начинаю ее выдергивать.
Не очень-то поддается. Крепкая, с толстыми стеблями, совсем не огородная. Да и не трава это в привычном смысле — не длинные и плоские листья у нее, как, например, у пырея, осоки, а небольшие, напоминающие древесные; скорее, не стебли, а — если дать волю дорасти до зрелости — настоящие стволья. Марь, подсвекольник, желтушник, осот… Их десятки, таких сорняков. По ним, как лианы, ползет вьюн, под ними мхом стелется мокрец.
Травяной лес какой-то.
Конечно, любой мало-мальски знакомый с ботаникой может фыркнуть от сравнения с лесом, но пусть сам посмотрит… Недавно я прочитал, что есть регионы, где наблюдается гигантизм трав — они способны вырастать выше двух метров. Нашел карту этих регионов, и один из них как раз здесь — в отрогах Западного Саяна…
А одуванчиков не вижу. Хорошо. В мае я их выкорчевывал лопатой, носил в ведрах на край участка.
Да, одной рукой травины не одолеть. Берусь за стебель-ствол обеими. Дергаю… И корни мощные у таких трав, похожие на корни деревьев.
Выдергиваю одну, другую, третью. Оббиваю землю с корней… Нет, так я все двенадцать дней потрачу. На дерганье этой мари и ей подобного сора. Хотя ведь нет, кажется, ни одной по-настоящему сорной травы, каждая чем-нибудь полезна. Одна от головной боли, из другой салат полезный, третья давление понижает, четвертая снимает изжогу…
Впрочем, об этом я уже писал. И не раз. Но как только начинаю бороться с сорняками, злясь на них, вспоминаю. Что полезны. Они ведь не виноваты, что человек выбрал и окультурил другие травы.
Прошлым летом мы купили бензиновый триммер. Косилку то есть. Мама настояла. «Не сами, без тебя если, так кого из соседей будем просить, — сказала. — У всех есть, и мы можем позволить».
Четыре года назад мама взялась за обустройство усадебки. И до этого они с отцом много делали, но в основном старались сохранить от разрушения, а тут — строительство, дорогие покупки.
Во-первых, баня.
С девяносто третьего, как переехали сюда, и родители, и сестра моя, и я, и мои дочки, жены мылись в старой, оставшейся от прежних хозяев — крошечной, без предбанника, с железной печкой. Разговоры о том, что надо новую баню, сначала заводились, а потом перестали. Сестра умерла, я бывал по месяцу летом и по неделе, и то изредка, весной или осенью, часто без семьи. В общем, и этой как-то хватало споласкиваться.
Как моются в ней родители зимой, как вообще переживают зимы — не думал. Вернее, старался не думать.
А весной восемнадцатого мама вдруг решила твердо — надо строить. Отправила меня в соседнее село, в Знаменку, где есть лесопилки, торгуют досками, брусом, и я заказал материал; там же мне порекомендовали строительную бригаду. И через год появилась просторная — парилка, мойка, предбанник размером с приличную комнату, — баня. Теперь я и моя нынешняя жена, приезжая сюда, живем в ней, а не во времянке, которая, кажется, старее избы.
Да, перед баней появились ворота. Железные, удобные вместо просевших деревянных. А после бани мама наняла рабочих, которые сняли шифер на крыше избы и положили металлочерепицу, стены обшили сайдингом, вставили в окна стеклопакеты.
А этой осенью отремонтировали счетчик, обновили часть проводки, деревянный электрический столб заменили бетонным.
Теперь я понимаю, почему она так активно занялась строительством и серьезным ремонтом. Чтобы мне жальче было продавать участок. Одно дело, если всё ветхое и старое, пригодное лишь на дрова, а другое, когда только что поставленное, свежее, во что вложены большие деньги.
На это была израсходована большая часть их сбережений. И несколько раз мама в последние месяцы просила меня: «Не продавай, пожалуйста. Пусть так стоит, пусть, ладно, лазят, но не продавай. Земля лишней не будет».
Именно — землю ей было жалко терять. Важно было знать, что после ее смерти земля останется нашей. А обшитый дом, новая баня, триммер, это как дополнение. Чтобы удобней было жить при земле.

Роман Лилии Волковой «Изнанка»
Лилия Волкова — писатель, драматург, выпускница мастерских Марины Степновой и Дмитрия Данилова в Creative Writing School. Недавно в издательстве «Эксмо» у Лилии вышел дебютный роман «Изнанка», который Шамиль Идиатуллин описал как «умный внимательный и страшно увлекательный роман, образцовая противоположность сентиментальный семейной саге».
Мы поговорили с Лилией Волковой о романе, подростковой литературе и драматургии, а также о том, как писателю не бояться критики и как начинающему автору дописать свой текст.
Также предлагаем прочитать фрагмент романа.
Расскажите о своем романе «Изнанка». Один из читателей книги написал: «Под видом любовного романа скрывается история о людях — таких, какие они есть, со всеми их недостатками и странностями характеров». О чем же ваша книга и как появилась идея?
— Роман «Изнанка» родился из идеи рассказа, довольно незамысловатого рассказа о любви. О том, как почти случайно встретились два человека, очень разных, почти ни в чем не похожих, и о том, чем эта встреча — предсказуемо — закончилась. Потом мне захотелось понять, что было в жизни героев до, простите за пафос, судьбоносной встречи и как складывались их жизни после расставания. Текст рос вширь и вглубь и превратился в роман. О чем он — сформулировать и просто, и сложно. Для каждого прочитавшего — о своём, наверное. Но если пойти по пути составления книжной аннотации, то получится примерно так: «Это книга о таланте и поиске себя; о дружбе и соперничестве, о любви во всех её проявлениях; о преданности и предательстве; о выборе, который делает каждый из нас в каждый момент времени; о благородстве и подлости и том, как трудно бывает отличить одно от другого».
Что было самым трудным в работе над текстом?

— Отвечу почти серьёзно: закончить роман, дописать его до конца, до последней точки. Это вообще самое сложное в работе над любым большим текстом. Ты в своей голове придумал историю до самого её завершения, уже всё знаешь о героях, прошёл вместе с ними и взлёты, и падения. И осталось только всё это записать! Тебе уже не так интересно, как в начале работы, а потому непросто. Ещё одна трудность для меня, причём почти физическая — рассказывать о сложных ситуациях в жизни героев. Героиня болеет гриппом, я пишу об этом — и меня лихорадит почти по-настоящему. Героя избивают, я пишу об этом — мне страшно и даже больно. Приходится искать в себе силы, чтоб начать работать над таким эпизодом. И чтоб дописать его.
Были ли у героев прототипы? Как складывались их образы?
— Героев я всегда, во всех своих текстах, «собираю» по принципу «с мира по нитке». У одного встреченного мною в жизни человека беру внешность (иногда только деталь — например, падающая на лоб прядь волос), у другого — характерный жест или любимую фразу, у третьего — любимое блюдо. Многое придумываю. Так было и с героями «Изнанки». Ядро их характеров, внутренняя суть возникли сразу, родились вместе с идеей. Другие качества стали явными позже, во время работы над текстом. Иногда герои говорили или делали то, чего я не ожидала. Это, конечно, поразительно, как вдруг проявляется в действиях и словах персонажей придуманная тобой черта характера или привычка. Не перестаю удивляться этому.
Как вы относитесь к своим героям?
— Я ко всем своим героям привязана. Люблю не всех, со многими не смогла бы дружить, если бы они вдруг стали живыми и настоящими, но привязана ко всем. Как к родным людям. И одними из самых приятных слов, сказанных мне читателями, стали такие: «Я всем сочувствовала, даже тем, кто меня бесил». Был и такой отзыв: «Я не понимаю, как относиться к этому герою. Вроде бы он подлец, но его всё равно почему-то жалко». Мне кажется, это очень лестные для автора слова. Не люблю одномерности, однозначности. Рафинированные злодеи и безупречные благородные рыцари — персонажи сказок или жанровой прозы, да и то не очень хорошей.
Многие читатели узнают в героях самих себя, и этот эффект узнавания кажется одним их важнейших в литературе вообще. Как, на ваш взгляд, его добиться?
— Могу ошибаться, но, кажется, добиться этого сознательно, с помощью неких приёмов, невозможно. Но тут приходит на помощь один факт: список человеческих потребностей, страхов, желаний конечен. То есть мы все, конечно, разные, но и одинаковые во многом и очень во многом. (Не будь это так, не существовало бы, например, психологии как науки). Упомянутый факт может стать неприятным открытием для того, кто считает себя уникальным, исключительным, не похожим ни на кого и ни в чём. Но это отличная новость для пишущего человека. Если он, пишущий, сумеет достоверно, глубоко, без лукавства и лишнего пафоса описать чувства своего героя (по факту — свои), то обязательно найдётся кто-то, кто испытывал то же самое по похожему (или совершенно другому) поводу. И — вуаля! — возникает тот самый момент узнавания. Я, кстати, согласна, что это едва ли не главное в литературе. В последние годы я стала без сожаления откладывать книгу, если после прочитанной трети или половины ни на секунду не смогла ассоциировать себя с персонажем (не по внешним признакам, конечно, и не по жизненным обстоятельствам, а по, скажем так, движениям души).
Вы работает и над прозой, и над драматургией, и над подростковой литературой. Как к вам приходит идея произведения? В какой форме вам проще/интереснее работать?
— Идеи приходят по-разному. Иногда это ситуация из собственной жизни — прошлой или нынешней. Иногда — будто картинка в голове (однажды я представила: девочка с собакой стоит и смотрит, как мама за руку уводит мальчика, и из этого выросла повесть «Под созвездием Бродячих Псов»). Иногда — из одной фразы. Пьеса «Тёрка» появилась именно так: я шла по улице и услышала, как ребёнок лет пяти кричит: «Мама, не надо!» В «Тёрке» нет ни детей, ни похожей ситуации, но эта фраза — есть.
Ответить на вопрос, что проще, я вряд ли смогу. А интереснее? Пожалуй, всё примерно одинаково. Форму диктует содержание. История, где главные герои ещё не достигли совершеннолетия, станет, скорее всего, повестью для подростков. Из истории о взрослой жизни — трагической, нелепой или на первый взгляд ничем не примечательной — вырастет роман. История, суть которой лучше всего проявится во взаимодействии персонажей, в их столкновении, в их прямой речи, сама захочет обернуться пьесой.
Как вы начали писать?
— Пишу я, кажется, всю жизнь. Первую пьесу написала лет в одиннадцать (это довольно смешная история, я иногда рассказываю её на встречах с читателями). Когда была подростком, писала стихи, ужасающе плохие (хорошо, что ничего не сохранилось). В студенческие годы участвовала в создании сценариев для капустников (и играла в них). А ещё мы с друзьями по университету написали пьесу «За двадцать минут до…» — о грядущем ядерном апокалипсисе (это было давно, но, увы, тема и сейчас не потеряла актуальности). После я много лет проработала на телевидении, где писала сценарии информационно-развлекательных передач и программ о путешествиях. Но писателем не мечтала быть никогда, была уверена, что мне это не по зубам, что писатели — это такие особенные люди, почти небожители. Да и некогда, по правде говоря, было: работа, двое детей, дом… А потом почти случайно я попала в CWS на курс Марины Степновой: выполнила творческое задание, отправила его и почти забыла об этом. И вдруг — выиграла бесплатное место на обучение! Честно говоря, сейчас я не представляю, как сложилась бы моя жизнь без этого счастливого случая. Если на свете бывают чудеса — это, видимо, одно из них.
Расскажите о своих подростковых повестях. Первая из них — «Под созвездием Бродячих Псов» — получила премию «Книгуру». Какие еще повести были опубликованы?
— Совсем скоро выйдет из печати повесть «Театр «Хамелеон», которая стала лауреатом премии «Книгуру» в 2020 году. Чуть позже появится продолжение книги «Под созвездием Бродячих Псов», с теми же героями. Оно называется «Братство рыжих».
И ещё похвастаюсь немного: повесть «Всем выйти из кадра!» (вошедшая в шорт-лист премии «Книгуру» в 2019 году и ставшая книгой в начале 2022-го) недавно вошла в составленную Министерством просвещения примерную программу по литературе для 7 класса. Очень странно видеть свою фамилию и название своей книги рядом с известными, знаменитыми, гениальными авторами и произведениями. Но, безусловно, приятно.
У вас уже есть и драматургический опыт. Чем, на ваш взгляд, драматург отличается от писателя-прозаика?
— Пьес у меня немного, всего три, и относительно известна читателям только одна — «Тёрка» (в прошлом году она стала дипломантом Международного конкурса современной драматургии «Исходное событие — XXI век»). Так что я очень-очень начинающий драматург. Но мне нравится писать пьесы — в первую очередь потому, что это представляется мне интереснейшей творческой задачей. Инструментарий драматурга гораздо скромнее, чем набор для работы прозаика. Диалог, монолог, предполагаемое сценическое действие — вот и всё, что есть у тебя, чтоб рассказать историю, сделать придуманных тобой людей живыми. После работы над пьесой прозу писать даже немного странно: как? можно словами рассказать, что творится у героя в голове, что он чувствует, о чём вспоминает, не проговаривая это вслух?! удивительно! С другой стороны, я и в прозе стараюсь не злоупотреблять описаниями внутреннего состояния героя. У меня есть ощущение, что, как и в жизни, в литературном произведении человека лучше всего характеризуют поступки и взаимодействие с окружающими.
Есть ли у вас ориентиры в литературе — среди современных писателей или классиков?
— Пожалуй, нет. У меня вообще странное, саму меня удивляющее отношение к авторитетам, в том числе, литературным. У меня нет любимого писателя, нет любимой книги (как нет любимой песни, или картины, художника или композитора). Я многое прочитала за свою жизнь (филологическое образование помогло) и сейчас стараюсь не сбавлять темп и объём. Но каждый раз я оцениваю заново каждый новый прочитанный мною текст — вне зависимости от его авторства. Не знаю, хорошо ли это. Может, и не очень.
Как начинающему писателю не бояться критики?
— Мне кажется, научиться не бояться критики можно только одним способом: суметь критику полюбить. И попробовать быть за неё благодарным. Ну в самом деле: некто потратил как минимум время (и деньги, если купил книгу) на то, чтоб прочитать ваш текст, а потом написать отзыв. Разве это не повод сказать человеку «спасибо»? Если критика умная и справедливая, то повод вдвойне. Если, кроме критики, в отзыве есть похвала (а такое бывает нередко) — это вообще замечательно. А если отзыв — сплошная ругань, да ещё с переходом на личности, то тем более не стоит ни бояться, ни расстраиваться. Такой отзыв просто не стоит вашего внимания.
Я не могу сказать, что меня совсем не волнуют критические замечания. Мне бывает неприятно и обидно. Иногда я удивляюсь: как в моём тексте кто-то смог вычитать это, это и это? Справиться с эмоциями помогают несколько вещей. Понимание, что далеко не к каждому мнению я готова прислушиваться. Умение разглядеть за критикой собственные реальные ошибки и желание их не повторять. И ещё я всегда помню, что и мне нравятся далеко не все книги, в том числе, из признанных и расхваленных.
Для кого-то писательство — терапия, для кого-то — своеобразный эскапизм. Что такое писательство для вас?
— Почти всерьёз скажу, что это, пожалуй, вредная привычка. Если ты привык видеть мир сквозь призму слов, предложений, историй; если эти истории сами, без спроса, возникают у тебя в голове; если их герои настойчиво просятся стать живыми и реальными, невозможно противиться искушению писать. А уж если хоть кто-то и хоть раз сказал, что это у тебя это неплохо получается…
Но писательство и терапия тоже, с этим соглашусь. Несколько очень тяжелых моментов из собственной жизни (о тяжёлой болезни сына и о смерти собаки) я смогла «отпустить» после того, как написала об этом рассказы. Текст родился — и освободил меня. Я помню эти моменты, но они уже не доставляют такой острой боли, как раньше.
Над чем вы сейчас работаете?
— Почти закончена работа над подростковой повестью — в новом для меня жанре, с фантастическим допущением (раньше я писала только реалистические тексты). В работе и ещё один большой текст, взрослый роман, который по разным причинам пишется гораздо медленнее и тяжелее, чем мне бы хотелось. С вашего позволения, подробности раскрывать не буду. Надо бы сначала закончить. Будет чем похвастаться — похвастаюсь.
Ваш совет тем, кто только находится в начале писательского пути.
— Начинающим писателям я бы посоветовала писать — как можно больше и чаще. В идеале — каждый день, хотя бы понемногу. Читать известных и знаменитых, стараться понять, как сделаны их тексты — и делать по-своему. Относиться к своим текстам строже, чем к любым другим, но продолжать верить в себя. Написанное — публиковать (в конце концов, все мы пишем для того, чтоб наш текст кто-то прочитал). Не пугаться и не унывать из-за отказов издательств — это неприятно, но есть множество примеров, доказывающих, что дорогу освоит идущий, дорогу в литературу — в том числе. К тому же, мы живём в замечательное, счастливое для пишущих время. Вашу книгу не берёт издательство? Да и ладно: есть сервисы самиздата, сайты, куда можно выложить текст — бесплатно или за небольшие деньги. И когда вы добьётесь успеха, когда благодарные читатели каждый день начнут проверять, не написали ли вы чего-нибудь новенького, издательства раскаются, прибегут, предложат публикацию, аванс и пиар-поддержку. Удачи!
Изнанка. Фрагмент
Отделение дизайна было, конечно, коммерческое, но платить не пришлось. Ректор их полутворческого вуза оказался не только новатором, но и либералом, и расщедрился на несколько бесплатных мест «для своих». Из-за творческого конкурса пришлось поволноваться: эскизы Катя переделывала три раза, рычала на маму, которая выудила из мусора истерзанные листы и попыталась убедить дочь, что «это не только прекрасно, но, возможно, лучшее из всего, что ты хоть когда-то рисовала». Но всё закончилось хорошо, и её имя оказалось в числе принятых: «Глажина Екатерина», почти в самом начале списка. И пусть он был по алфавиту, всё равно Кате было приятно, как будто она заняла одно из призовых мест.
«На дизайнера» она перевелась с потерей года, но это не расстраивало и не пугало, даже наоборот, радовало: продлить беззаботную студенческую жизнь — чем плохо?
И в том, что с Ленкой они теперь учились не вместе, тоже не было ничего страшного. Институтская кофейня никуда не делась, студенческие там не проверяли и зачетки не спрашивали. Приходи, плати, тусуйся, жуй пирожки с ливером и трубочки с кремом, пей из казённых чашек и стаканов мутный чай, горький кофе, а порой и что покрепче (горячительное приносили из магазина напротив и разливали под столиками всё в те же ёмкости).
Курс подобрался пестрый. Вчерашние выпускницы. Редакционные секретарши, способные по запаху отличить копеечную газету от «глянца», а простецкую «Крестьянку» — от изысканной «Мэри Клэр». Неудавшиеся художники, мечтающие за бешеные баксы рисовать вывески и сайты. Программисты, уверенные, что смогут составить конкуренцию художникам. И он — Андрей Барганов. Тот самый, чья фамилия была в списке первой.
Злые языки утверждали, что буква «г» в его фамилии появилась благодаря жадной до денег паспортистке, но Кате фамилия нравилась. В ней слышался и сухой речитатив горячего песка, и вибрирующий гул экзотического инструмента. Она влюбилась с размаха. Смотрела на него во все глаза, звенела смехом, играла пальцами в пушистых волосах: все говорили, что у неё красивые волосы. Феромонами от неё шибало метров за десять, так что однокурсники дурели и по очереди пытали счастья. Безуспешно. Ей нужен был только Андрей.
В один из дней октября он подошел после лекций, взял Катю за руку и спросил: «Пойдем?» И она пошла. В метро он поставил её в угол у выхода, подошёл очень близко, по-хозяйски обежал взглядом её лицо:
— Это ничего, что я маленький. Зато мне удобно смотреть в глаза.
Они были на середине перегона, так что Катя скорее прочитала слова по губам, чем услышала. И растерялась. После секундной паузы закивала; кажется, попала носом ему в глаз; смутилась, чуть не расплакалась. Но Андрей улыбнулся, и неловкость исчезла, раздробленная вагонными колесами, развеянная беспокойными сквозняками.
Следующие шестьдесят три дня состояли из часов и минут оглушительного счастья. Оно, глупое, не испугалось ни отсутствия у Андрея московской прописки, ни его странного обиталища — старой котельной на окраине. В огромном помещении с высоченными потолками было холодно и гулко, но там имелось всё, в чем нуждались их жадные до жизни молодые тела. Грохочущий пузатый холодильник, где дуэт из изящной бутылки «Алиготе» и массивной двухлитровой пепси остывал мгновенно. Усталый диван, стонущий от почти космических перегрузок. Узкий санузел, огороженный листами кровельного железа. Катя заходила внутрь и поворотом крана включала грозу: капли бронебойно барабанили по металлу, стены дрожали, вода с рёвом уносилась в квадрат слива. Едва вытершись, она бежала босиком в противоположный угол. Андрей поднимал край одеяла, и она проскальзывала в их общий мир, пахнущий вином, потом и спермой.
Вне постели Андрей был сдержан. О любви не говорил, не обнимал в транспорте, не старался каждую минуту держать Катю в поле зрения. Но подсолнух и не ждёт, что солнце будет поворачиваться вслед за ним. Ему хватает одного существования солнечных лучей.
За первый месяц Катя провела без Андрея всего пару вечеров. После лекций он вдруг исчезал, не утруждая себя объяснениями ни до, ни после. Она объяснений и не требовала, боясь неосторожным словом повредить тонкую материю отношений, смётанных на скорую руку. Зато в институте они почти не расставались; после лекций, если не убегали сразу в свой котельный рай, часами торчали с друзьями в институтской кофейне.
Однажды Ленка пришла туда в новом платье. Лазурный трикотаж обжимал Ленкины телеса с такой страстью, будто хотел раздавить. Увидев подругу, Катя на секунду зажмурилась: от эстетического шока и чувства вины. Ленка не меньше месяца канючила: «Кать, хочется новенького чего-нибудь! Новый год скоро и вообще. Съездишь со мной на Черкизон? Хоть со стороны на меня посмотришь, а то потом опять будешь ворчать, что купила не то. У тебя вкус и вообще, а из меня ж дизайнер, как из говна пуля!». Что правда, то правда: Ленкино чувство стиля было обратно пропорционально её весу. Неохватной груди, арбузному заду и ногам штангистки новое платье было противопоказано, как марафон инфарктнику, но Ленка была счастлива, жмурилась от удовольствия и лыбилась, как Лагутенко. Девчонки, пряча глаза, похвалили обновку, парни деликатно промолчали. Все, кроме Андрея.
— Лен, что за дерьмо ты на себя надела? — громко спросил он. — Ты похожа на голубую свиноматку.
— Ну, ты… блин… даёшь, Барганов, — произнёс с паузами чей-то ошарашенный бас.
Хлюдова, стоявшая к Андрею спиной, медленно повернулась. Вместо глаз и рта на её лице было три черных дыры.
— У тебя дома швейная машинка есть? — продолжил Барганов. — Можем сейчас к тебе поехать? Ненадолго, часа на три-четыре.
— Дда, — ответила Ленка. Её потряхивало. — А ззачем?
— Потом узнаешь, поехали. Пока, малыш, — он встал, мазнул ладонью по Катиной щеке и пошёл к выходу.
Катя уперлась глазами в две удаляющиеся фигуры. Толстый и Тонкий. Слон и Моська. Он размахивал руками и что-то быстро говорил, она шла молча и только кивала, кивала.
Весь оставшийся вечер Катя хохотала, как русалка, травила анекдоты, с генеральскими интонациями возглашала: «Ну, за дизайн!» и в результате выпила палёного коньяка в три раза больше, чем стоило бы. Домой добралась на такси, а утром, конечно, проспала и явилась в институт только к обеденному перерыву. В кофейне было шумно и суетно, как всегда, но в тот день обычная круговерть имела исходную точку.
Глазом урагана оказалась Ленка, стоящая в позе начинающей манекенщицы. Казалось, что со вчерашнего дня она потеряла килограммов пятнадцать, не меньше. Причиной тому очевидно было надетое на Хлюдовой платье немыслимого покроя: полосы и лоскуты десяти оттенков зеленого затейливым образом пересекались и перетекали друг в друга, не давая взгляду задержаться на выдающихся Ленкиных формах. Девчонки восхищались, ахали, щупали «матерьяльчик». Удивление мужчин было молчаливым, но явным. Умей Ленка читать мысли, она бы удивилась количеству желающих провести с ней пару часов наедине.

Мастерская «Память, говори!»
Летом 2022 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую Марины Степновой и Александры Степановой «Память, говори!».
Конкурсное задание
Написать эссе на тему: событие, которое меня изменило. Постарайтесь уделить внимание не только действию, но и описанию: используйте все органы чувств, чтобы погрузить читателя в атмосферу происходящего.
Мария Баженова
Никому не говори
Мне было пять лет. Ему сорок пять. Дядя Коля. Сосед по даче. Это история о дружбе. Маленькая девочка, которая часто ссорится с другими детьми, прическа каре, доверчивый взгляд — это я. Смурной, тихий, неулыбчивый — дядя Коля.
Для пятилетнего ребенка он выглядел гигантом. Думаю, взрослые, опираясь на свой жизненный опыт, подмечают отщепенцев. После очередной ссоры с подругами я играла в спасение мира. Сколько себя помню, мне никогда не хотелось, чтобы спасали меня. Я мечтала быть героем: не принцессой в розовых рюшечках, а великолепным рыцарем в сияющих доспехах.
— Что ты такая грустная? — спросил дядя Коля через забор.
И я честно ответила:
— Я не грустная, просто девочки не хотят со мной дружить сегодня.
— Если они не хотят с тобой дружить, значит, они — дуры! — безапелляционно заявил дядя Коля. Так мы стали понемногу общаться.
Дети бессмертны. Все плохое либо случилось до них. Либо случится после них. Дети не думают о бессмертии, дети в нем уверены.
В тот день бабушка перебирала клубнику на кухне. Пока бабушка не умерла, на огороде водились и огурцы, и помидоры, и картошка.
Наша синяя облупленная деревянная калитка не запиралась.
И дядя Коля попал на участок без препятствий. К дому вела дорожка с плиткой. Через плитку пробивались ростки травы.
Он вежливо постучался в дверь, но зашел без приглашения. Дверной косяк был низким. Дядя Коля наклонился, стоя в проходе на кухню, вытер пот со лба.
— Раиса Ивановна, можно Маше со мной прогуляться до лагеря? У меня там дела. Надо в кочегарку заглянуть.
И моя бабушка, наблюдательная, заботливая, умная, Раиса Ивановна, разрешила.
Как же я была счастлива!
До лагеря было идти пару километров. Раньше в Сиверской, где находилась дача, функционировало множество лагерей, но после развала союза подавляющее большинство забросили.
Лагерь «Кировец», в который шли мы, эта печальная участь не постигла.
В конце нашего переулка дядя Коля предложил посадить меня на свои широкие плечи.
— Не бойся, Маша.
— Только вы не уроните меня, дядя Коля!
— Маша, я же просил тебя называть меня на «ты».
Рядом с лагерем протекала речка Оредеж. После выполнения дел мы пошли посидеть на берегу. Берег со всех сторон обступили ели. Их иголки смешались с песком и землей.
Дядя Коля закурил Беломор. Повращал в руках спичечный коробок.
— Эх, погода хорошая. Вода теплая! Маша, хочешь искупаться?
— Но мне не в чем.
— А я тебе свою футболку дам, ты только всю одежду сними, чтобы бабушка не узнала, что ты купалась.
И я переоделась в его черную футболку. Дядя Коля обещал не подглядывать.
Футболка пахла мужским запахом, а под футболкой на мне ничего не было.
Чтобы бабушка не узнала. Чтобы свою одежду не намочить.
Тайны приятны. Безобидные общие тайны. Когда можно тихонько искупаться и никому об этом не говорить.
Вечером я взахлеб рассказывала сестре, какой у меня новый друг.
Взрослый и настоящий. Но самое главное: козырь!
О чем можно разговаривать с тем, с кем у вас такая разница в возрасте?
Все просто.
Дети впечатлительны. Дети всему удивляются. Детей можно легко обмануть.
А у дяди Коли в багаже историй были совершенно потрясающие, жуткие истории.
Что в колодце живет водяной, что, если на улице тебя остановит странная старуха и спросит «Сколько времени?», никогда не отвечай! Это старушка-времечко! Она проклянет тебя, и ты серьезно заболеешь!
А еще существуют люди, в полнолуние превращающиеся в оборотней.
Дядя Коля сам видел такого.
— Я клянусь тебе, Маша. Это правда. Ты знаешь, что нельзя говорить «клянусь», если врешь?
Ко мне вернулись подруги, потому что теперь у меня были истории.
И эти истории пополнялись.
Бабушка продолжала отпускать меня на прогулки с дядей Колей.
Однажды у магазина, на котором сейчас нарисованы уродливые граффити, потому что магазин закрыт уже много лет, мы встретили знакомых дяди Коли: женщин с мальчиком.
А с ними большую лохматую собаку. Собака явно испугалась дядю Колю, спряталась за женщиной, одетой в платье в цветочек.
— Ее хозяин часто бил, она теперь всех мужчин боится.
Меня до безумия пугают собаки, любые, даже добрые, но эту тогда я погладила.
Все закончилось неожиданно. Одним днем. Утром того дня я радостно подбежала к забору поздороваться с другом. Но дядя Коля мне не ответил.
Рядом пропалывала грядки его жена тетя Тамара.
Дядя Коля зло нахмурился и ушел в дом. Тетя Тамара выпрямилась и с пониманием на меня посмотрела.
— Твоя бабушка сегодня с Колей что-то обсуждала.
Я в волнении нашла бабушку на улице за мытьем посуды.
— Бабушка, что ты сказала дяде Коле?
Бабушка молчала. Она не сердилась. Она думала.
— Бабушка, что ты сказала дяде Коле? — повторила я с требовательным отчаянием. Бабушка сполоснула тарелки горячей водой, чтобы убрать с них запах чистящего средства.
— Ты последнее время слишком часто просишь на ночь валерьянку. Я всего лишь уточнила у него, чем таким вы там занимаетесь.
Дети впечатлительны. Некоторые дети впечатлительны вдвойне. Я была ребенком впечатлительным втройне. Меня пугали истории дяди Коли. И мне снились кошмары.
Я просила прощения. Дядя Коля был непреклонен.
«Ты не должна была никому ничего рассказывать».
Сколько прошло лет с тех пор, как я решила никому ничего и правда не рассказывать?
И когда закончился этот срок? Потому что, конечно, я рассказываю. И, конечно, не все и не обо всем. Но я хочу помнить. И хочу делиться историями. Как понять, что можно рассказывать, а что нельзя? Каждый решает сам для себя.
Потом дядя Коля пропал. И я его больше никогда не видела.
Ходили слухи, что он устроился работать слесарем.
В одной семье у него не оказалось с собой гаечного ключа. И он его потребовал. Ему отказали, потому что у слесарей должны быть свои гаечные ключи.
Тогда он достал нож и пырнул одного из жителей семьи ножом.
Его посадили. Это был рецидив. Дядя Коля уже оступался.
В тридцать лет он не просто кого-то пырнул ножом.
Он убил. Он убил священника.
Дядя Коля говорил, что Бог есть.
Что он точно знает, что Бог есть.
— Клянусь, Маша.
— А вы точно уверены?
— Я же сказал: «Клянусь» и не называй меня на «вы». Сколько раз тебе еще это повторять?

Мастерская «Пишем первую пьесу»
Летом 2022 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую «Пишем первую пьесу» Дмитрия Данилова.
Конкурсное задание
Написать сценку: 20-летний сын миллиардера, входящего в российский список Forbes, знакомит с отцом девушку, на которой вскоре собирается жениться. Избранница сына — грузная, слегка опухшая женщина хорошо за сорок с печатью алкоголизма на сероватом лице. В ходе разговора выясняется, что у девушки трое детей (один из них тяжёлый инвалид) от двух предыдущих мужей, в прошлом имеется судимость (телесные повреждения, нанесённые одному из бывших спутников жизни в ходе ссоры). Работает раздатчицей в рабочей столовой в небольшом подмосковном городке, живёт в общежитии. Отец горячо одобряет выбор сына, оказывает его избраннице недвусмысленные знаки внимания и говорит, что видит её в недалёком будущем на одной из ключевых должностей в его холдинге.
Опишите их разговор (можно добавить других персонажей), постарайтесь мотивировать решение отца.
Елена Щетинина
Действующие лица:
Виктор Петрович
Димочка
Снежана
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ (говорит по телефону): Да, Игорь, да… Ну какие наши годы… Черт, у меня так дед говорил… Да чо, деду-то тогда восьмой десяток шел, а мне и пятидесяти нет! Тьфу! …в общем, не парься, через пару лет в «Форбс» уже в пятерке будем, а не в десятке. Ну у меня цементный завод мощностей прибавит — и еще три миллиарда недостающих накачается… А у тебя шинный, да…
ДИМОЧКА(открывая дверь широким жестом): Вот, Снежаночка, это мой шалаш, в котором тебя ожидает рай!
СНЕЖАНА: Офигеть!
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ (в телефон): Погоди-ка, Игорек. Повиси-ка. (Сыну). Дима, это что такое?
ДИМОЧКА: Не что, а кто. Это моя невеста, Снежана!
Виктор Петрович долго смотрит на Снежану. Снежана на него.
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: И где, осмелюсь спросить, ты ее… раздобыл?
СНЕЖАНА (хрипло): Где раздобыл — там уже нет.
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Логично. Позвольте представиться, эээ… Снежана, Виктор Петрович, отец этого оболтуса. А вы, как я понимаю, его невеста?
СНЕЖАНА: Ага.
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Так много вопросов, так мало ответов.
ДИМОЧКА: Папа, я не буду слушать возражений. Снежана — моя невеста!
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Ты бы хоть что-то слушал. Тогда бы понял, что о том, что это твоя невеста, я уже в курсе.
ДИМОЧКА (проводя Снежану в комнату, Виктор Петрович следует за ними): Снежаночка, половина этого дома моя. Так что не волнуйся, тебя никто не выгонит.
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Разумеется. Снежаночка, а вы кем работаете?
СНЕЖАНА: Это… я в столовке. Раздатчица.
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Хм. Столовая номер один, на Арбате?
СНЕЖАНА: Не… в Королеве. Норм место, хавчик халявный, и место в общаге есть.
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: О? Действительно, норм.
ДИМОЧКА: Папа, ты издеваешься?
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Отнюдь. Я прекрасно помню, что такое простые радости жизни. Снежаночка, вы как к бренди относитесь?
СНЕЖАНА: Весьма положительно.
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Ну я так и понял (идет к бару, достает и откупоривает бутылку).
ДИМОЧКА:Папа! Ты же говорил, что это только на особый случай! Ты говорил, что мне голову открутишь, если я…
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ (наливая только себе и Снежане): А это и есть особый случай. Мой сын женится! Знаете, Снежана, я так хочу внуков!
СНЕЖАНА (выпивая): Ну я не знаю… Так-то у меня трое. Девочка и два мальчика. От первого козла и от… второго козла. У Пети ножки не ходят и головка совсем тупая. Ему десять уже, а он только лежит и слюну пускает.
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ (наливая еще): Ничего, вылечим Петеньку. Вы такая молодая, а уже трое…
СНЕЖАНА (хихикая): Да будет вам. Мне-то уже сороковник.
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Да вы что? Никогда бы не подумал (гладит Снежану украдкой по колену).
ДИМОЧКА: Папа! Что ты делаешь!
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Знаете, Снежана… я всегда говорил своему сыну, что он может полюбить кого угодно. Что я приму любую девушку (убирает руку и улыбается Снежане). Но сейчас я даже раскаиваюсь в этом…
ДИМОЧКА: Что?
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Потому что я бы сам, Снежана… эх… Так как вы встретились? Вы же из несколько разных социальных слоев?
ДИМОЧКА: Папа, а ты помнишь, что говорил, что главное, чтобы девушка полюбила мою душу? Так вот, я прикинулся бедным студентом, который подрабатывает ночным охранником… и…
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: О, какая романтика! Снежана, вы невероятно благородны… Как вы смотрите на то, чтобы работать у меня?
СНЕЖАНА: Не, уборщицей я не буду. Я при хавчике хочу.
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: У нас для руководства открытая карта в ресторане на первом этаже.
СНЕЖАНА: Чо?
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Я вижу умную женщину, простую, но удивительно… эээ… земную. Мне как раз нужен вице-президент. Снежана, выходите завтра на работу в мой холдинг.
ДИМОЧКА: Папа, ты что? Ты меня не пускал, говорил, что я… что мне… Ты что несешь?
СНЕЖАНА: Я не могу. Я сидела. Тяжкие телесные. Второму козлу бошку проломила.
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Вот! Вот такая женщина мне нужна! Дима! Если ты, падла, на ней не женишься, ты сам станешь тем козлом, которому я лично бошку проломлю!
ДИМОЧКА: Снежана, он долбанулся. Пошли, в кафе посидим.
СНЕЖАНА: Ага.
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ (провожая до двери и целуя Снежане руку): Дорогая, я не шутил! Я жду тебя!
Дверь закрывается, Виктор Петрович достает телефон.
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ: Да, Игорь, да… мой придурок невесту привел. Ну какая… моя ровесница, четыре зуба, три ребенка, судимость, раздатчица в столовке… Как говорится, все самое лучшее в люди надела. Я не спросил, но уверен, что у нее и СПИД бы обнаружился… Мне вот интересно, кто еще из наших ходил на этот сраный тренинг «Пусть полюбят за твою душу». Ладно Димка, которому я видео показал, прикинулся студентом-ночным охранником, ему пойдет… но, твою мать, Кумандаева, восьмая в «Форбсе»! Пять миллиардов! Какого хрена она под зэкулю косит? Это ж надо такое комбо из сериалов «России-1» в себе собрать! Моего-то придурка она не узнала, он в прессе не мелькает… А он вообще слепошарый, не признал бы и меня с наклеенными усами… Ой, да и совет и любовь, если так. Она баба умная. И актриса неплохая… Игорь! Игорь, не вздумай! Игорь, ты только если бегемотом сможешь прикинуться! Игорь, никто не полюбит бегемота за его душу! ИГОРЬ!!!

Мастерская Веры Мильчиной «Художественный перевод с французского»
Летом 2022 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую Веры Мильчиной «Художественный перевод с французского».
Конкурсное задание
On fait d’énormes traités sur une foule de graves questions, sur l’immortalité de l’âme et sur la dentition des poules, sur la perfectibilité humaine et sur l’amélioration des coquelicots ; il n’est point de science, d’art ou de métier qui n’ait sa bibliothèque de traités spéciaux, depuis l’astronomie qui mesure presque l’infini, jusqu’aux comptes d’intérêts, autre espèce d’infini tout à fait incommensurable ; depuis l‘art de prendre les villes jusqu’à l’art de pêcher les goujons ; depuis le métier de diplomate jusqu’à celui de taupier ; il y a des traités sur la meilleure manière de gouverner les peuples et de tondre les moutons ; des traités qui enseignent à faire de grands hommes avec des petits enfants, et des anguilles avec de la farine ; des traités qui démontrent jusqu’à l’évidence la nécessite du numéraire dans un Е́tat, et des traités qui prouvent invinciblement son inutilité ; nous avons des traités sur la poésie épique et sur les chansons, sur l’histoire et sur les contes de revenants, sur le style et sur l’écriture, sur la joie que procure le travail et sur le bonheur que donne la paresse ; il existe enfin des traités sur toutes choses au monde, excepté sur la chose du monde la plus usuelle et par conséquent la plus importante.
Cette chose si usuelle, et par conséquent si importante, ne tient pourtant pas essentiellement aux règles générales par lesquelles les moralistes prétendent régenter la vie humaine. Ainsi, l’on peut faire un sage emploi de sa fortune et de son temps, cette seconde fortune ; on peut être bon citoyen, ce qui est facile ; bon mari, ce qui est si malaisé ; bon fils, ce qui est si rare ; bon père, ce qui est si commun ; on peut avoir toutes les vertus que la mort fait pousser sur la tombe, et dont les héritiers font inscrire sur la pierre tumulaire une nomenclature en proportion assez exacte avec les rôles de l’inventaire estimatif de l’héritage ; on peut, dis-je, être doué par le ciel de toutes les qualités estimables, et cependant éprouver tous les insuccès et toutes les infortunes possibles.
Je vais plus loin, et je dis qu’on peut être encore mieux partagé par le sort pour réussir, c’est-à-dire qu’on peut avoir toutes les mauvaises passions et tous les vices aimables, et cependant n’arriver à rien. Que manque-t-il donc à ces existences pour être complètes ? Il leur manque : 1) l’art de dire non ; 2) l’art de dire oui ; 3) l’art de ne dire ni oui ni non, ce qui est bien différent de dire oui et non, car ne dire ni oui ni non, c’est de l’adresse, de la prudence, de la fermeté ; dire oui et non, c’est de la gaucherie, de l’imprévoyance, de la faiblesse. Richelieu ne disait ni oui ni non à personne ; Louis XIII disait oui et non à tout le monde.
Валентина Лоева
Создаются огромные трактаты о множестве важных вопросов, о бессмертии души и о манере свиста у ракообразных, о совершенствовании человека и о разведении мака; не существует вовсе науки, искусства или занятия, которые не обладали бы целым сводом специальных трактатов, от астрономии, измеряющей практически бесконечное, до расчета ссудных процентов, другого, совершенно неизмеримого, рода бесконечного; от искусства брать города до искусства удить пескарей; от профессии дипломата до ремесла кротолова. Есть научные труды о наилучшем способе править народами и стричь баранов; трактаты, наставляющие, как выковать великих людей из малых детей и вылепить угрей из муки; трактаты, которые убедительно доказывают необходимость наличных денег в государстве, и трактаты, которые столь же неопровержимо свидетельствуют об их непригодности; есть тома об эпической поэзии и об уличных песнях, об истории и о баснях о привидениях, о слоге и о почерке, о радостях мирного труда и о неге, которую дарит праздность; наконец, существуют трактаты обо всем на свете, за исключением некоего предмета, самого обиходного и следовательно, самого важного.
Это нечто, настолько привычное, и стало быть, настолько важное, не вписывается, однако, по существу в те общие рамки, в которые моралисты намереваются втиснуть человеческую жизнь. Так, можно найти мудрое применение своему богатству и его другой разновидности — своему времени; можно быть хорошим гражданином, что легко; хорошим мужем, что так обременительно; хорошим сыном, что так редко; хорошим отцом, что так заурядно; можно обладать всеми достоинствами, которыми смерть украшает могилу и перечень которых наследники могут выбить на надгробном камне в строгом соответствии с предварительной описью наследства; можно, говорю я, получить от небес в дар все достойные уважения качества и, тем не менее, испытать все неудачи и всевозможные несчастья.
Скажу более, можно быть наделенным судьбой еще лучшим для преуспеяния даром, то бишь обладать всеми дурными страстями и всеми милыми сердцу пороками, и между тем, не добиться ничего. Чего же не хватает в этих укладах жизни, чтобы быть совершенными? Им недостает: 1) искусства говорить нет; 2) искусства говорить да; 3) искусства не говорить ни да, ни нет, что разительно отличается от обыкновения говорить и да, и нет, потому что не говорить ни да, ни нет — это сноровка, благоразумие, стойкость; говорить и да, и нет — это неловкость, легкомыслие, малодушие. Ришелье не говорил ни да, ни нет никому; Людовик XIII говорил да и нет всякому.

Мастерская Дарьи Синицыной «Перевод с испанского»
Летом 2022 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую Дарьи Синицыной «Перевод с испанского».
Конкурсное задание
Перевести небольшой текст.
Héctor Ezguerra regresó al rancho de su padre cuando ya hacía varios meses que don Leopoldo había sido enterrado. En Baltimore, los jesuitas que habían protegido a los héroes de la Independencia hacía menos de veinte años le habían enseñado que a Dios se le ora también reproduciendo riqueza, así que llegó a Janos en plan de aplicar con tenacidad de insecto sus conocimientos sobre la ciencia, según él exacta, de la Agronomía. Desde su primera mañana en Chihuahua se empeñó en emplear a los peones de su padre en faenas concentradas, como si lo que estuviera administrando fuera un dispensario y no un peladero.
Héctor llegó en un coche militar, cuando todavía no terminaba de caer el sol de un día de abril demoledoramente caliente. Iba sentado en el pescante, junto al oficial que llevó las riendas del carro hasta la puerta misma de la casa del rancho. A Camila le inquietó que, en esas condiciones, el nuevo dueño llevara el saco de lana puesto y abotonado. Era un hombre alto y un poco pasado de peso, que se vestía como catrín de ciudad y no como el vaquero que iba a ser de entonces en adelante: llevaba sombrero de fieltro, leontina, corbata de lazo. No usaba bigote – a Camila la pareció un pésimo agüero que se viera como niño: nunca había visto a un hombre sin pelo en la cara.
….
Nadie se acercó al cuarto de Camila, así que cuando escuchó el raspar de platos y cubiertos cruzó el patio rumbo al comedor, que encontró vacío. Fue a la cocina. Ahí encontró a la nueva familia comiendo no solo en la mesa de las criadas, sino con las criadas. La escandalizó que en el centro del tablón hubiera una olla con comida y un cucharón, pero sobre todo que entre los platos y la madera no hubiera mantel. ¿Se nos une?, le preguntó Héctor. Se sentó, confundida, junto a la cocinera. Si no se trae su plato y su tenedor no va a tener cómo comer, le dijo el nuevo jefe con una sonrisa condescendiente que mostraba que el gesto era educativo. Camila se levantó por su servicio y se volvió a sentar. Adelantó su plato y la nueva señora le señaló con la mirada que lo correcto ahora era que se sirviera ella misma. Lo hizo y notó con alivio que era cerdo en salsa verde con verdolagas: la gringa no había cocinado. Lo hice sin chile, le murmuró la cocinera, que hasta ese día había comido toda la vida auxiliada con una tortilla y encontraba impráctico pescar los trozos de cerdo con el tenedor.
Ольга Рогожина
Эктор Эсгерра вернулся на отцовское ранчо через несколько месяцев после похорон дона Леопольдо. Балтиморские иезуиты, меньше двадцати лет тому назад помогавшие героям войны за независимость, учили его, что Господа можно славить и умножением богатств, а потому в Ханос он явился, намереваясь со всем усердием применять свои познания в агрономии — науке, по его мнению, точнейшей. С первого же дня в Чиуауа он принялся раздавать отцовским рабочим такие сложные поручения, словно распоряжался больницей, а не куском бросовой земли.
Эктор приехал на военной двуколке на исходе одного сокрушительно жаркого апрельского дня, когда солнце уже почти скрылось за горизонтом. Он сидел на козлах рядом с офицером, который остановил экипаж у самых дверей в хозяйский дом. Камила встревожилась, заметив, что даже в такую жару новый сеньор явился в застегнутом на все пуговицы шерстяном пиджаке. Он оказался высок и слегка полноват, а одет был щегольски, по-городскому — вовсе не так, как подобает ранчеро, каковым он намеревался стать: фетровая шляпа, часы с цепочкой, на шее бабочка. И усов нет — Камила почла эту мальчишескую гладкость за дурной знак: она сроду не видала мужчины без растительности на лице.
***
За Камилой не послали, а потому, услыхав звон тарелок и приборов, она сама пересекла двор и зашла в столовую, где никого не оказалось. Она отправилась на кухню. И там обнаружила новых хозяев, сидевших не просто за столом для прислуги, а вместе с прислугой. Камилу возмутила полная кастрюля с половником внутри, стоявшая прямо посреди стола, и, что еще хуже, голая, не покрытая скатертью столешница.
— Поужинаете с нами? — спросил ее Эктор.
Сбитая с толку, она села подле кухарки.
— Как же вы собираетесь есть, если не взяли ни тарелки, ни вилки? — поинтересовался новый хозяин со снисходительной улыбкой, явно намереваясь преподать ей урок.
Камила поднялась, сделала, что от нее требовалось, и вернулась за стол. А когда протянула вперед тарелку, новая сеньора взглядом показала, что ей следует самой себя обслужить. Камила подчинилась, с облегчением увидев в кастрюле свинину с портулаком в зеленом соусе — хоть в готовку гринга не совалась.
— Я без чили сделала, — прошептала ей на ухо кухарка, которая всю свою кухарочью жизнь зачерпывала еду тортильей, и тяготилась необходимостью ловить куски мяса вилкой.

Мастерская Дениса Банникова «Литмастерство: жанры»
Летом 2022 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую Дениса Банникова «Литмастерство: жанры».
Конкурсное задание
Написать этюд на тему: «Мама мыла раму». Ну, мыла и мыла, а что было дальше? что было до? чья это мама? зачем она моет раму? Возьмите эту фразу за основу и напишите отрывок в одном из трех жанров: ужасы, фантастика или эротика. Важное условие: фраза должна стать не просто отправной точкой, а центральным сюжетом вашего текста.
Дарья Андреева
Сквозняк хряснул дверью, наподдав бедняге чемодану, которого и так излупило за месяц в багажных отсеках. Тянуло из кухни, хотя, уезжая, я оставляла квартиру задраенной. Цокнув колесиками через порог, я пошла сквозняку навстречу.
Окно было распахнуто в самые верхушки каштанов, на полу кляксами дрожала вода. Мама мыла раму: скомкав газету, терла белый пластик смятыми лицами и растекшимися историями.
— Ты как здесь? — изумилась я.
Мама отмахнулась от мух, роившихся в окне.
— Совсем замучили, — проворчала она. — Сетку ставить надо! Но тебе ж всё некогда!
Она стояла на табуретке не по-хозяйственному опрятная: темные юбка и блузка, подобранные лентой седые волосы.
— Ты прямо с поезда, что ли? — недоумевала я. — Почему не предупредила?
— Да тебе ж не дозвониться! Мать хоть пропади!
Тут я вспомнила, что так и не поменяла симку на российскую. Пока телефон искал сеть, слышен был лишь скрип газеты по стеклу. Через секунду посыпались сообщения — джингл, заикающийся на полуноте. Но все накрыл звонок. Двоюродная сестра.
— …СМС, что ты в сети… обыскались… хоть бы номер заграничный оставила…
Не для того уезжаешь за тридевять земель от дорогих и близких, чтобы оставлять номер. Я принюхалась к кастрюле, душисто кипящей на плите.
— …к маме твоей заехала… пришлось МЧС… завтра девять дней…
В черепной коробке тоже стало закипать. Я подняла глаза на маму, разрывающую газетный заголовок: «Женщина найдена ме…» Черная юбка задралась, обнажив лиловые синяки на голенях.
— Супу-то поешь, уважь мать!
В кастрюле бурлили полуразварившиеся лепестки и какая-то палка. Обжигая пальцы, я выловила пластмассовую розу с вылинявшим бутоном.
— Чем у соседей разжилась, из того и сварила…
Я шагнула к табуретке. Под подошвой хлюпнуло. Лента на мамином лбу была бумажная, с иконками.
Я толкнула ее — она вцепилась, забилась — под черной блузкой что-то безобразно смялось и лопнуло — тошнотная вонь, мушиный визг, глянцевый от воды подоконник — каштаны опрокинулись и рванулись вверх…
На фоне неба парила вываренная пластмассовая роза.

Мастерская Игоря Мокина «Как переводить нон-фикшн»
Летом 2022 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую Игоря Мокина «Как переводить нон-фикшн».
Конкурсное задание
Перевести небольшой текст.
Ada Palmer
Vasari, the Palazzo Vecchio and the History of Florence
Once upon a time the Roman Empire ended, and with it the network of roads and trade and safety that had strung cities together into a web of economy and culture. Small, unsteady kingdoms followed, but in Northern Italy at least, while cities formally passed from prince to distant prince, the absence of real central infrastructure and enforcement left them virtually alone. Italy’s cities became citystates, ruled by remote powers, pope or Emperor, in name only, while in reality they governed themselves, walled islands of population and production, independent and, at first at least, many republican. They had Rome as their model, an elite voting population and elected offices, not quite the same as the old republic but close enough to breed patriots as proud as Cicero. But these little city republics, like Rome’s, weren’t stable. Faction fighting bred civil war, brought on partly by ambitious families but more often by that Hobbesian principle that anyone powerful or rich enough to be envied by his neighbors can never sleep safe at night until he has deprived said neighbors (through subjugation or execution) of the ability to kill him in his sleep. Winners became rulers and one-by-one the city republics became the seats of lords and dukes and counts and other-titled princes. (This is all oversimplified, of course, but the romantic narrative is more important than the gritty details when our purpose is to understand what the Palazzo Vecchio means as a symbol of what was.)
Florence held out longest of the great cities (excepting Venice; we must in all things except Venice, since Venice is that special), Florence the stubborn, free, fractious, strange Republic. Over and over it nearly fell, as ambitious nobles and entrenched vendettas (think Montagues and Capulets) made the streets stream with blood and the road with exiles, Dante among them. From a pure body-count perspective there is no way around admitting that the surrounding cities that did turn to monarchies were better off, stable, efficient, comparatively immune to faction fighting, but free Florentines would never sacrifice liberty and dignity for ease and calm—and this includes the vast, disenfranchised majority who were not members of the voting elite but still took pride in their Republic.
After one near-tyrant too many, the Florentines decided to create a system of government which could never, ever let anyone gain enough power to take over, and so conceived the Signoria, a system so bizarre that if someone made it up in fiction no reader would think it plausible. The Florentines had long since exiled, killed or at least banned from government all their nobility. The private towers of the powerful families, which had once turned Florence into a forest of tiny battle-ready fortresses, were knocked down, their palaces burned, and a new law forbid any private citizen from building tall towers which could be used as private forts to defend elite families as their goons battled in the streets below. What remained as the elite were members of the merchant guilds, the great trade families who controlled cloth production, oil, wine, medicine, bureaucracy and, that great Italian invention, banking.
Мария Якушева
Ада Палмер
Коридор Вазари, Палаццо Веккьо и история Флоренции
Когда-то давным-давно прекратила свое существование Римская империя, а вместе с ней — и сеть дорог для путешественников, торговых караванов и войск, соединявшая города империи в единый организм с хозяйственными и культурными связями. На смену империи пришла череда маленьких неустойчивых королевств, однако по крайней мере в Северной Италии, хотя формально города и переходили от одного князя к другому, из-за отсутствия действующей централизованной инфраструктуры и вертикали власти они фактически были автономными. Города Италии стали городами-государствами, которыми номинально правили далекие князья, папа или император, однако же в действительности они представляли собой независимые, самоуправляемые, укрепленные поселения с развитым производством, часто — по крайней мере изначально — имевшие форму республик. Они многое унаследовали от Рима, например, право голоса для привилегированных групп населения и выборные должности, что повторяло бывшую республику не в точности, но в достаточной степени, чтобы порождать таких же, как Цицерон, гордых патриотов. Вместе с тем эти маленькие города-республики, так же, как и Рим, существовали в условиях нестабильности. Борьба политических группировок приводила к гражданским войнам, отчасти из-за честолюбия знатных семей, но еще чаще в силу действия принципа Томаса Гоббса, согласно которому любой человек, достаточно могущественный или богатый, чтобы ему завидовали соседи, не может спокойно спать по ночам, пока не лишит этих соседей (путем подчинения или казни) возможности убить его во сне. Победители получали статус правителей, и один за другим города-республики становились резиденциями владык, герцогов, графов и прочих видов титулованных государей. (Конечно, это слишком упрощенно, однако, если наша цель — понять, какую роль играет Палаццо Веккьо в качестве символа истории, художественная канва повествования берет верх над сухими деталями.)
Дольше всех великих городов удерживала позиции Флоренция (за исключением Венеции; Венеция будет исключением во всех примерах — настолько она уникальна) — непокорная, свободная, непостоянная, необыкновенная Флорентийская республика. Не раз ее существование было под угрозой, так как честолюбие знати и традиция вендетты (вспомните Монтекки и Капулетти) приводили к ожесточенному кровопролитию на городских улицах и отправляли в изгнание сотни жителей, среди которых был и Данте. Даже если просто подсчитать людские потери, нельзя не признать, что близлежащие города, где всё же установилась монархия, были богаче, спокойнее, продуктивнее, почти не страдали от борьбы группировок, но свободные флорентийцы никогда бы не пожертвовали возможностью волеизъявления и достоинством ради легкости и спокойствия, это касалось в том числе абсолютного большинства жителей, которые были лишены гражданских прав, не имели привилегии права голоса, но все равно гордилось своей республикой.
После избавления города от власти человека, известного своими тираническими наклонностями, флорентийцы решили создать такую систему правления, которая никогда и никому не позволила бы сосредоточить всю власть в одних руках, и так возникла синьория — система настолько причудливая, что, будь она частью сюжета книги, любой читатель усомнился бы в ее правдоподобности. С тех пор флорентийцы изгнали, убили или по крайней мере отстранили от власти всех представителей знати. Принадлежавшие влиятельным семьям башни, благодаря которым город некогда был похож на лес из крошечных, готовых к обороне крепостей, были снесены, дворцы сожжены, а новый закон запрещал частным лицам возводить высокие крепости, где могли бы укрываться богатые семьи, пока их наемники сражаются на улицах города под стенами башни. Привилегированное положение теперь сохранялось за членами торговых гильдий, знаменитыми купеческими семьями, которые контролировали производство тканей, масла, вина, лекарств, административные структуры и банки — великое итальянское изобретение.

Мастерская Ольги Лаврентьевой «Комикс: от идеи до воплощения»
Летом 2022 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую Ольги Лаврентьевой «Комикс: от идеи до воплощения».
Конкурсное задание
Сделать одностраничный комикс формата А4, вертикальный, в любой технике, цветной или черно-белый.
Женя Буше


Мастерская Ольги Славниковой «Проза для начинающих»
Летом 2022 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую Ольги Славниковой «Проза для начинающих».
Конкурсное задание
Написать рассказ на тему «Письмо из прошлого».
Павел Уколов
— Мам, мне сорок три! Когда, как не сейчас?
— Брось, детка, внуков мне не видать, это факт. А бабушкина квартира останется. Меня когда-нибудь не станет — будет и на твоей улице праздник! — тогда ты вспомнишь мать. «А мамка была права!» — С пренебрежением старушка перекривляла дочь. — «Теперь в её хате живу, бабкину — студентам сдаю!»
— Туда они не захотят, там крысы пешком ходят. Ма, очнись! Продадим сейчас, хоть какие-то деньги выручим. Мне на первоначальный хватит.
Рита была учительницей и уже долгое время копила на первый взнос по ипотеке. Бабку проводили в последний путь год назад, и с тех пор каждое утро в тесной сталинке начиналось одинаково: завтрак, спор, слёзы. Личная жизнь упорно не желала налаживаться: последний раз она приводила в свой дом мужчину месяц назад, закрылась с ним в своей комнате, а мать рыдала взахлёб, лишая людей крохотного шанса влюбиться. Жених не выдержал и часа. А у него была трёшка в центре.
Рита была твёрдо убеждена: родительнице факт обладания двумя объектами недвижимости важнее её личного счастья. «Откуда буржуазные замашки? Продай мы обе халупы, нам не хватит на нормальное жильё!», но корни прадеда (по линии отца) — дворянина, командира экспедиций в экзотические страны, не давали этой семье спуску.
Школа, репетиторство (она могла заниматься со всеми детьми мира, если бы в её сутках было всего на час больше времени), дом. И так каждый день. Перед коллегами было неудобно, когда они справлялись о здоровье. Привыкла. Стало раздражать. Всё больше времени проводила в поисках лёгкой наживы. Последний этап ежедневного самобичевания — вера в чудо. Не мечты о великом — низменные, бытовые цели: выиграть машину, устроиться секретарём мэра. Школа, репетиторство, дом, регистрация в бесконечных онлайн-лотереях. Как-то утром, собираясь на работу, в одной из любимых передач матери Рита услышала «лайффак»: участвуй во всех — где-то повезёт. Одна женщина даже не работает — лишь восемь часов в день «репостит» конкурсы: в месяц выходит больше зарплаты мужа. «Я чем хуже?»
ritochka07@mail.com — беспощадная к своим пальцам, с верой в победу Рита печатала это снова и снова. Переключаться помогала уборка на балконе — вдруг мать и правда окочурится, а дома такой бардак.
— Положь на место!
Возраст не давал матери выхватить коробку из рук противницы. Это был хлам, вонявший нафталином.
— Это ценные вещи отца. Письма из прошлого. Так нельзя!
Что за чушь… «Вынесу завтра, когда уйдёт за пенсией. Стопка пожелтевших бумажек».
Дзынь!
Ваш выигрыш — промокод на посещение spa в Уфе!
— Я из Самары! — закричала она в отчаянии, но это побудило проверить её папку «Спам»: иногда туда попадали неплохие предложения.
Дорогая Rita! Дальний родственник, дипломат из Эфиопии, единственная наследница, очень болен…
«Две недели назад! Как я пропустила! Он жив? Вот это письмо из прошлого».
Несколько дней Рита ждала. Когда узнала о скором поступлении кругленькой суммы на карту, номер, даты и CVC которой она любезно отправила обратным письмом по просьбе дипломата, её мать посмеивалась.
«Почему люди везде видят подвох и упускают очевидные шансы?»
— Ма, чего ты не рассказывала о своём брате?
— Что? Его у меня никогда не было.
Риту осенило! Она побежала в банк и заблокировала карту. Вечером села на балконе, за окном сырой ветер разгонял окутавшую всё тоску. Она потянулась за кипой отцовых бумаг, сама не зная, зачем. «Кому: С. Мариам, Назрет» — что, чёрт его дери? «Ма!»
Пам-пам, наш прадед, миссия в Эфиопию, привет семье, 1976…
Через полчаса они с матерью были банке.
— Да, вижу поступление час назад, которое было отклонено из-за того, что карта заблокирована. Но… тут ошибка. Сумма…
— Сколько?
Девушка показала число, не осмелившись произнести вслух.
— Как можно ещё раз инициировать этот перевод?
— Только по вашему запросу отправляющей стороне.
Рита начала писать имэйл, не отходя от кассы. Писала из школы, морга, новенькой — пусть и ипотечной — квартиры, из поминального зала, сидя возле фотографии матери, упокой Господь её душу. И душу раба Твоего, Селассие Мариам из города Назрет.
Кира Андрияки
С густым, жирным шлепком кирпич опустился на влажный цемент. Данила пристукнул киянкой с торца, подогнав его вплотную к соседнему. Не тот звук, слишком короткий и высокий. Он прищурился — по кирпичу, аккуратно посредине, тонкой паутиной ползла трещина.
— Твою мать.
Данила рывком выдернул бракованный кирпич, соскреб цемент и швырнул булыжник в гору с обломками. Он внимательно осмотрел следующий кирпич, пристукнул его к соседнему, прислушался и удовлетворенно собрал мастерком выдавившуюся серую массу, метким плевком вернув её в ведро с раствором.
Вообще-то Данила давно уже не должен был сам класть кирпичи. Функция прораба во многом как раз и заключалась в делегировании подобной работы и контроле за качеством её исполнения. Он был уверен в своих мужиках — не первый год они бок о бок горбатились на новостройках, и проверял работу уже ближе к сдаче объекта. Сроки всегда были божескими, и ребята рыли фундамент, забивали сваи и клали кирпич на совесть. Данила не шел на сделки с застройщиками, предлагавшими ему порой годовой оклад за сдачу на несколько месяцев раньше, а то и угрожавшими за упрямство снять его с объекта и лишить всю его бригаду заказов на ближайшие тридцать лет. К счастью, в городской управе работал Семен — его старый школьный товарищ, с которым за пивом они частенько, смеясь, обсуждали очередного толстосума, трясущегося от ярости в его приемной накануне днем.
Он провел мозолистой рукой по ровной кладке и приложил к ней кислотно-зеленый уровень — пузырек воздуха качнулся и замер посередине. Эта стена отняла куда больше времени, чем он рассчитывал. Данила стянул с головы оранжевую каску, смахивая с остриженных ежиком волос щебенку и пот, и поднял валявшуюся рядом белую. На сегодня работа был сделана, можно было перекурить. Никотин приятно щекотал утомленные мышцы. Черт, он бы с удовольствием поработал сегодня еще: потаскал бы блоки с кирпичами, сам бы замешал новый раствор… «Мужики не поймут, решат еще, что за ними переделываю. — Данила покачал головой и стряхнул наполовину истлевшую сигарету. — Ленка уж точно не поймет». Меньше всего ему хотелось объяснять жене — вечно напоминавшей, что он прораб и «мог бы куда больше времени проводить с семьей», то есть с ней (в детях Данила души не чаял и посвящал им все свободное время), — желание измотать себя до седьмого пота да еще после смены.
Ему всегда нравилась тяжелая работа каменщика: таскаешь, замешиваешь, кладешь, простукиваешь, незаметно, и мысли приобретают простую прямоугольную форму, смахиваешь излишки, проходишься мастерком, выверяешь, снова таскаешь. К концу смены в гудящем теле не остается сил ни на какие мысли, кроме душа, ужина и постели. Иногда только постели. Он еще раз с сомнением взглянул на свежую стену, окрашенную закатными лучами, и сплюнул — сегодня она никак не помогла. По ровным кирпичам мыслей ползли трещины, крепкий раствор рутины не держал, один за другим серые обломки так и вываливались из возведенной стены.
— Бывай, Данилыч! — Старший бригадир махнул ему кепкой снизу.
— Давай, Серег. — Прораб кивнул ему с недостроенного третьего этажа. — Светке привет!
— Сам передашь, она тебя с женой вторую неделю на карпа зовет!
— Сдадимся — и сразу! Добрая работа, Серег!
Бригадир ухмыльнулся и махнул рукой, присоединившись к переодевшимся товарищам.
Он сам настоял, чтобы рабочие называли его по имени. Даже жена иногда называла его Данилыч.
«Мой Давид». — Низкий бархатистый голос сам собой всплыл в памяти. К голосу тут же присоединились черные, как ночь, глаза, восточные скулы, морской привкус пота на губах, шелк крепких мышц под пальцами. «Скорее, Микеланджело». — Непроизвольная улыбка помимо воли тронула его обрамленные щетиной губы. Только один человек во всем мире знал его прежнее имя.
Данила снова закурил и достал телефон, к которому дал себе слово не прикасаться хотя бы до вечера. Еще утром он увидел синий кружок уведомления о сообщении с незнакомого номера. Телефонный код региона он узнал бы где угодно — сколько раз он сам порывался отыскать номер.
— Камиль. — Данила неслышно выдохнул имя вместе с облачком дыма.
«Неужели вернулся? Неужели помнит?» — с самого утра он и боялся, и еле удерживался, чтобы не прочитать сообщение. Он глубоко затянулся и влажным от волнения пальцем, не дыша, коснулся синего кружочка. Истлевшая сигарета с грохотом упала на бетон, в воздухе повис высоковольтный писк.
В сообщении было всего две строчки: У меня ВИЧ. Прости. К.

Мастерская Ольги Славниковой «Проза для продолжающих»
Летом 2022 года в Creative Writing School проходил конкурс на получение стипендий в мастерскую Ольги Славниковой «Проза для продолжающих».
Конкурсное задание
Написать синопсис (описание в свободной форме) будущего романа, либо повести, либо романа в рассказах, и образец прозы.
Ольга Путинцева
На закате в пещеру к последней из дочерей первого из отцов пришел ее брат и попросил огня. Ибо отец их, что трудился на великой реке, был близок к истине. Но ему не хватало света, чтобы узреть последний отрезок пути. Смиренная дочь отдала брату единственное полыхающее пламенем полено. И для нее наступила ночь без тепла и света.
В ноябре 2011-го года девушка по имени Тея пытается пережить смерть отца. Время от времени она выходит из квартиры, чтобы просто пойти куда глаза глядят, и однажды находит на мусорке подшивку интеллектуального глянцевого журнала Holy Fire. Ради красочных картинок лучшей жизни она приносит ее в дом, где в одном из старых номеров находит письмо в редакцию, написанное шифром, который придумал ее отец. Тому, кто лучше всех переведет письмо, обещана бесплатная подписка на Holy Fire, но ни в одном из последующих номеров Тея не находит перевода. И решает это исправить.
Может ли разъятая на части душа снова стать целой, может ли великий обман привести к великому спасению, что знают об этом постояльцы баров Санкт-Петербурга и шаманы Тункинской долины и как всё это связано с концом света, которого все мы нет-нет, да и ждали в 2012-ом году, расскажут две эти истории, соединившись в одну.
Автор вынашивала замысел этого романа десять лет. Проделав вместе с ним путь из самой темноты и придя к свету в 2022-ом. Как будто бы тогда, когда этот свет стал нужен не только ей. Эта книга о том, как люди сами согревают и освещают свою жизнь, о том, что это возможно, даже если ты чувствуешь себя не просто отверженной и покинутой, а такой, словно с тобой и не было никого никогда. Эта книга для тех, у кого вопросов гораздо больше, чем ответов. И пусть всех их в этом тексте не будет, он расскажет об исцелении.
***
Надо ли говорить, что день сегодняшний был переполнен заботами сверх меры, отчего оказался даже зауряднее предыдущих? Точно таких же, набитых обязательствами, маленькими деталями большого механизма усталости. Все случавшееся со мной выглядело настолько обыденным, насколько невозможно в этом усмотреть хоть какую-то судьбоносность. Но я возвращалась с работы и представляла: что, если именно на этот день я когда-нибудь взгляну как на точку отсчета? Буду восстанавливать в памяти все мельчайшие подробности, чтоб бережно складывать в комбинацию, которой суждено стать для меня сакраментальной. Ведь все истории так и начинаются ― ни с чего.
Холод, спустившийся на мой романтический, неласковый город, журналисты быстро окрестили аномальным. Наврали, конечно. Но когда стылый воздух заползает битым стеклом в нос и рот, как не поверить. Я сделала несколько шагов по мосту и покрылась ледяными пиявкими. Эта лавина осколков мне практически как родная ― очень характерный ветер для ноября. Осеннего пожара как не было никогда. Теперь небо всегда будет плотно-серым, пока его бесноватый приятель не разорит все гнезда. До первого снега будет очень болеть голова.
Я замедлила шаг на середине моста и сию секунду захлебнулась одним из порывов. Помню, и в детстве бывало так, когда папа переводил через дорогу. Я еще это помню. Кисть руки взметнулась к лицу, чтоб отгородить пространство для дыхания. Ее облило соляной кислотой холода. Ветер хлестался неистово. Хорошо, что я не в открытом океане на утлой лодочке. Иначе мне почудилось бы, что он это даже специально. Полы пальто колотили бедра. Озноб расползся от поясницы к животу и пробрал до желудка. И как будто бы засвистел даже внутри, ничего там не обнаружив.
Я не думала ни о чем особенном. Протекающий по ежедневному руслу поток мыслей с окончанием рабочего дня превратился в сточный. И затек, вероятно, в пустоты из-под жалости к себе. Так что, когда во мне не осталось ничего теплого, даже воспоминаний, внутренне я молчала. И пока шла, меня развлекало лишь наблюдение, больше подходившее умирающему: какой участок тела следующим потеряет чувствительность. Однажды мне было холодней, гораздо холоднее. Я тогда сотрясала воздух рыданиями и маниакальными обещаниями, что никогда! никогда больше я не позволю себе так мерзнуть! С тех пор я знаю, что самой глупой тратой тепла в условиях его крайнего дефицита является плач.
Следовало определиться, куда я иду. Домой не хотелось. В квартире, которая числилась моей собственностью, как дома себя чувствовала бы усталость, но не я. Отчего возвратиться стоило бы только затем, чтоб тотчас же рухнуть спать. А в сон, что странно, решительно не клонило. В гости пойти было абсолютно не к кому, к себе пригласить также некого. И даже кинотеатрам в этом прокатном сезоне было нечего мне предложить. Вариант оставался только один.
Хотя, вообще-то, два. Второй ― препарировать. Берешь в одну руку хирургический инструмент, в другую ― волю, и сжимаешь в кулак. Затем делаешь два разреза, продольный и дуговой, и вытаскиваешь все, что найдешь, наружу. Смотришь, исследуешь, ведешь диктофонные записи. Все намоешь, начистишь и сложишь обратно, согласно опыту прошлых лет, учитывая сильные стороны по разным там показателям. Теперь-то уж точно в единственно верном порядке для самого настоящего счастья.

«Божья дудка». Все не так, как кажется
«И всё-таки как хорошо, что Есенин не сам повесился».
Собака на поводке перестала тянуть. Я повернула голову, чтобы увидеть того, кто произнес эту фразу.
Около чёрного входа в «Пятерочку» на грязных поддонах сидели местные бомжи. Глядя на них, было трудно понять, кто только что так искренне радовался за «золотоволосого мальчика».
— Едрит-мадрид, — всплеснула руками тётка в мохеровом берете, как у «Раисы Захаровны», — с чего ты взял, Ефимыч?
И Ефимыч, рослый худощавый дедок в кроссовках Addidas с четырьмя полосками, отпив из протянутой бутылки, прямо из горла, ответствовал:
— Так Профессор рассказал. Вчера после литии пятичасовой встретил его на бревнах за храмом. Курить сели. Так он и просветил: сын его с друзьями статью с доказательствами и историческими фактами опубликовали большую. В газете какой-то. Все, говорит, теперь свечу за раба Божьего Сергия ставить можно! Хорошо-то как, Вась?
Васей оказался мужик в фирменной желтой ветровке «Яндекс.Еда». По лицу было не видно, заинтересовала ли его эта информация. Он просто сфокусировал (постарался) на Ефимыче мутный взгляд и кивнул. И икнул.
— Понятно, что хорошо, едрён-батон, — ответствовала вместо Василия «Раиса Захаровна», продолжая разливать что-то в пластиковые стаканчики. — Так его убили, мальчика этого талантливого, да? Прямо как моего Вовку?! Рот они свой на замке не умели держать, вот что. А это беда молодёжи, открыл рот и все, аля-улю, гони гусей, в земле лежат, родимые.
На поддонах и просто на земле сидело еще человека четыре, не проявляя особого интереса к интеллектуальной беседе литературного кружка, ни дать ни взять само «Общество 11 нумера».
Из соседней с задним входом двери подъезда очень не вовремя вышла подруга с Каем и Гердой на поводках. Самоед и хаска, красавцы. Райли, моя собака, до этого смиренно вдыхавшая приторно-сладкий аромат перегара вперемешку с аммиаком, дёрнула. Пришлось идти дальше, в парк. Обратно шли уже другой дорогой.
Неделю из головы не выходил у меня этот разговор. И отчего-то очень заинтриговала фигура их просветителя — Профессора. Но с небес поливал майский дождь, прогулки были редкими, а когда я выстраивала маршрут мимо «Пятёрки», ни поддонов, ни поклонников таланта Есенина там не было.
На Радоницу в нашем деревянном храме была большая служба по усопшим, и в этот же день отпевали кого-то. То ли проститься пришло много народу, то ли прихожанам было все равно, и они, не думая про то, что идет отпевание, толпились в храме — не знаю. Я занесла продукты на канун и зашла в церковную лавку. Молодой мужчина раздавал свечи, продетые в дырочку в квадратной бумажке: моя бабушка всегда так делала, чтоб они не капали на пол в храме, пока служба идет долгая. «Это на панихиду к папе, берите». — Мужчина протянул мне одну свечу. Неловко было: он принял меня за кого-то из близких, и я взяла: «Соболезную». Парень кивнул и продел в дырочку в бумажке ещё одну свечку.
Я вернулась в храм, поставила за упокой души новопреставленного Сергия (матушка в церковной лавке сказала имя усопшего) и ушла.
Через пару дней погода наладилась, и я снова пошла с собакой в парк. И — о чудо! Мои бомжи-поэты сидели на ещё сырых поддонах всем составом. Васька-Яндекс.Еда, то ли совсем трезвый, то ли правильно опохмелившийся, декламировал, опершись о берёзу.
…Тебя к дьячку водил
В заброшенной глуши
Учить «Достойно есть»
И с «Отче» «Символ веры»…
— Понимаете! Ну какой сам! Он же «Божья дудка». Хорошо, что Профессор успел нам рассказать… Помянем, Ефимыч!
— Ёк-макарёк! Да у вас не налито, пустыми -— не чокаются. Ой, а за упокой-то не чокаются… Запуталась!..
«Раиса Захаровна», сменившая берет на солдатскую пилотку цвета хаки с георгиевской ленточкой, ловко плеснула мужикам и ещё парочке жаждущих в стаканчики.
— Говорят, народу в храме на отпевании было много. То ли Радоница, то ли всё ж не простой человек был наш Профессор. Уважаемый. Ефимыч, а он правда, как и сын его, раньше в универе преподавал?
Теперь в руках у нее были бутерброды с сыром и огурцом. Один она вкусно надкусила, второй отдала Василию, третий протянула дремлющей тётке без возраста в неожиданно чистом белом пуховике. Та моментально проснулась и, откусив закуску, сглотнула так, словно ничего прекраснее этого в своей жизни не ела, и «немедленно выпила»:
— Я была там. Сын его плакал. В сторонке стоял и слезы вытирал. Не в голос плакал, терпел. — Её голос был не прокуренным, не хриплым, молодым и звонким, а взгляд — неожиданно ясным.
Я так оторопела от несоответствия картинки и звука, что вздрогнула, когда поняла, что ко мне обращаются.
«Раиса Захаровна» смотрела на меня в упор, протягивая стаканчик:
— Помянешь с нами? Ну, если не брезгуешь.

Без Христа
В прихожей резко хлопнула дверь. Вошла мама. Последнее время Вита почти не виделась с ней. Та бегала по организациям, фондам, больницам, советовалась, искала. Но все равно все сходилось в одной точке — Израиль. И суммы, озвученные клиниками Израиля, не столько вселяли надежды, сколько вызывали боль.
Диагноз Виты звучал предельно понятно, без длинных терминов. Но тем он и был тяжёл. Вита силилась понять логику Бога, зачем Он обрек ее на заведомо неравную схватку? Почему ни один врач не берется ее лечить? И почему все говорят только одно — Израиль! Может, Бог хочет отправить Виту таким сложным путём на родину ее предков? Папа давно живет в Израиле. А мама двадцать три года назад не поехала с ним. И как потом выяснилось, не поехала она вместе с Витой. И теперь внезапная болезнь все равно ведет ее окольными путями на Святую Землю! Странный замысел.
— Все это выглядит фантасмагорически! — каждый день заявляла Вита маме, глядя на ее суету, напряжение нервов и опасаясь уже больше за ее здоровье, а не за свое.
— Авиталь! Мы просто так не сдадимся, — строго называя ее полным именем, говорила мама.
— Такие деньги! Я лучше умру, чем оставлю тебя бомжихой, — кричала Вита.
Увидев маму в промокших ботинках и в солнечных очках, Вита приготовилась снова напомнить о бессмысленности усилий. Но мама ее опередила:
— Все! Денег не нужно. Я сгоняла опять в «Сохнут»! К консулу запись была аж на июль! А они — нате завтра! Я им сказала — онкология, так они бегом оформлять. На, заполни анкеты. И завтра поедем на Большую Ордынку к консулу. Господи! Репатриируешься и получишь бесплатное лечение в полном объёме! Слава Богу! Хоть какая-то польза от твоего отца.
Мама не ждала ответа. Она выпалила все это куда-то поверх головы Виты и начала креститься на купола храма Серафима Саровского, которые виднелись в мутном застеколье окна. А Вита вдруг заметила, как мамино лицо постарело. Оно как будто свернулось в крепкий узел.
— Внимательно заполняй синей шариковой ручкой без помарок, а я побегу дальше, мне еще надо в банк. Отец уже летит из Тель-Авива. К консулу пойдёшь с ним! — Голос мамы осип от волнения.
Выпив остывшего чая прямо из чашки Виты, которая наливала себе этот чай полчаса назад и совершенно о нем забыла, мама снова хлопнула дверью, оставляя за собой свежий призрак спасительной израильской мечты.
Вита вчитывалась в вопросы анкет. Писать старалась красиво, разборчиво, разрывая соединения букв, чтобы сделать их печатными. И даже снова, как «раньше», начала грызть кончик авторучки.
— Место рождения, место проживания, ваша религиозная принадлежность, иудаизм, не религиозен, атеист, так-так, ничего не понимаю, — глухо произнесла Вита, перечитывая еще раз и еще раз вопрос. Она положила ручку и попыталась осмыслить разницу между атеистами и нерелигиозными людьми. — Ладно, можно оставить незаполненным пока, — ответила сама себе.
Мысли все больше убегали к папе — они не виделись целых десять лет. Лицо папы в памяти немного стерлось, ближе и яснее был его густой громогласный голос в телефонной трубке и особая стать, присущая крупным серьёзным мужчинам. Рядом с папой возникало ощущение защищённости, тепла и спокойствия. Он все знает, он все сделает, он все организует.
В консульстве было много народу. Мама осталась ждать на улице, она была не в силах сдерживать волнение и боялась этим навредить. Вита с папой были приглашены без очереди в просторный кабинет с высокими потолками и массивным письменным столом посередине. Консул оказался приветливым пожилым господином в дорогом костюме, со старомодными запонками в рукавах рубашки и с пушистыми чёрными бровями, перекинутыми через все лицо, словно шлагбаумы. Периодически «шлагбаумы» поднимались и опускались, выражая участие. Виту и ее отца консул принял как родных, усадил, угостил печеньем, расспросил о здоровье и заверил, что они и глазом не успеют моргнуть, как виза будет готова! Он лично не видит к тому никаких препятствий.
— Такс, проверочку сделаем быстро. У вас так мало документов, что проверять-то нечего, — шутливо подбадривал консул, — А мама репатриируется? — Консул уставился на папу Виты профессионально пытливым взглядом.
— Нет. Я забираю дочь, и точка. Давайте побыстрее, — ответил папа, строго взглянув на консула и многозначительно кивнув на документы.
— Маму потом, хорошо. — Опустив «шлагбаумы», консул углубился в анкету. — Такс, а вот тут забыли галочку поставить, моя дорогая.
— Где? — вздрогнула Вита.
— Вот, — ткнул пальцем консул в «религиозную принадлежность».
— Христианская, — ответила Вита.
Папа посмотрел на Виту вопросительно, потом кашлянул и проговорил ей тихо с командной интонацией:
— Ставь «не религиозен».
Консул перестал улыбаться и глубоко вздохнул. Лицо его поскучнело и как будто сдулось.
— По закону о репатриации мы принимаем либо иудеев, либо атеистов, либо религиозно безразличных граждан, — монотонно отрапортовал он.
— А в чем разница? — спросила Вита, ощущая, что вот сейчас откроется то, до чего она сама вчера не додумалась.
— Есть такая категория репатриантов, которых, как бы сказать, насильно крестили, чаще всего в младенчестве, понимаете? То есть неосознанно. Какое же это христианство? Одно недоразумение! — пояснил консул, уже потеряв радостный настрой.
— Так, дайте-ка мне, — властным движением длинной богатырской руки, обтянутой ярко-голубой рубашкой какого-то модного бренда, папа взял ручку и, с лёгкостью дотянувшись до анкеты, ввинтил аккуратную галочку в пункт «религиозно безразличен». — Ерунда какая-то, чего тут думать. Это же моя дочь! Мать ей навешала христианства, а теперь девочка возвращается в родные, так сказать, исторические объятия. — Папа развёл руками и широко улыбнулся, добавив фразу на иврите: «Всему свое время».
Папины прямые, выгоревшие на израильском солнце, брови встали умоляющим домиком.
Консул вскинул и снова опустил «шлагбаумы». После чего протянул авторучку Вите.
— Нужна ваша галочка, моя дорогая.
Пока Вита растерянно смотрела в анкету, папа продолжал заговаривать зубы консулу:
— Обрядческий культ на почве суеверий матери. Тору поизучает, с иудеями пообщается. Привыкнет. Да, Авиталь? — Папа с торжественностью произнёс полное имя Виты. — Имя, кстати, я выбирал.
Вита обрушила возмущенный взгляд на отца: папа даже не приехал, когда она родилась, имя ей выбирала мама! Папа перешёл на откровенное враньё! Значит, вопрос и правда серьезный. Просто так папа бы не стал обманывать.
— Безусловно. Имя прекрасно! — Твёрдо глядя на юную репатриантку, консул ждал. Вита сжалась и быстрым движением посадила поверх четкой папиной галочки почти незаметную свою.
— Вот и чудно. Ждите звоночка. Вас проводят, — сказал с победным облегчением консул и, пролистнув оставшиеся анкеты, сложил их в серую папочку. Окончательно захлопнув «шлагбаумы», он тяжело поднялся. В тишине послышалось выверенное дипломатическое поскрипывание паркета.
Виту охватила жгучая тоска. Невидимая линия только что отделила ее от чего-то очень ценного, как будто отрезала ее от самой себя.
— Стойте! — выкрикнула она в сутулую спину уходящего консула. — Я отказываюсь!
Консул остановился и укоризненно посмотрел на отца Виты.
— Я отказываюсь. Я не еду! — снова повторила Вита.
Она готова была умереть прямо здесь. Папа попытался сделать знак консулу, чтобы тот не беспокоился — ребёнок просто перенервничал и папа сам с этим разберётся. Но консул был искренне любопытен.
— Почему же? — поинтересовался он.
— Я без Иисуса Христа не поеду.
Неодобрительно покачав головой, консул хотел что-то мудрое изречь, но махнул рукой, переложив эту неблагодарную роль на отца.
Ноги Виты стали деревенеть, и в голове загрохотал голос ее духовника, батюшки Иллариона: «Молись Серафиму, все пройдет, все пройдёт… Господь не оставит…»
Папа успел подхватить и тремя огромными шагами перенёс бледную Виту на кожаный диван у окна, пока сотрудницы в одинаковых бордовых костюмчиках семенили за ним и спорили на иврите, что сначала нужно сделать — дать таблетку или открыть окно. Острая свежесть раннего апреля ворвалась в лёгкие. Вита открыла глаза. И, увидев встревоженное лицо отца, старалась подробнее запомнить ямочку на подбородке, седые виски, гладко выбритые широкие щеки, небесно-голубой воротничок рубашки и сложную геометрию морщин на лбу. Чтобы подольше не стиралось из памяти…

Букет для психотерапевта
Меня собрала Иванна. Она рассыпала цветы по холодной неровной поверхности стола, нещадно исцарапанного ножами и другими кухонными приборами. Мягкими теплыми пальцами прикоснулась к каждому стебельку. Соединила ветки душистого самшита и неровно граненые стебли синеголовника. И уже в это сизо-зеленое облако из острых коготков и овальных листьев уместила две белые розы. А к ним — белые анемоны с бордово-черной пушистой сердцевиной и резными листьями на гибких стеблях.
Грубыми кухонными ножницами Иванна подровняла стебли. Обернула меня рыхлой крафтовой бумагой и подвязала широкой жемчужно-серой лентой. Мне стало тепло и ясно: «Все вышло как надо. Я ровно такой, каким должен был быть». Иванна придирчиво осмотрела меня. Повертела так и эдак. И убежала. Я слышал, как за стенкой рвется бумага и шуршит карандаш. Иванна свернула записку трубочкой и подвязала шпагатом. Погрузила ее в самую глубину между листьев и стеблей. Теперь внутри меня изящными буквами зудело одно-единственное слово.
Катерина принимала клиентов в здании, построенном для церковных нужд в XIX веке. Кабинет был настолько тесен, что по запаху можно было угадать завтрак собеседника напротив. Зато потолок был высоким.
Иванна пришла ровно в назначенное время. Постучалась, проскользнула в кабинет и села на краешек кресла. Обеими руками она прижимала к груди круглый букет с колючими голубыми репьями и белыми цветами, похожими на широко распахнутые глаза. Неровные ложа ногтей с карминным контуром и заусенцами выдавали склонность к самоедству.
— Как вы? — выдержав паузу, спросила Катерина.
— Сегодня мне снился сон. Меня переполняли чувства. Они капали на землю и превращались в яркие цветы. Я шла по городу к вам, и вокруг меня расцветал дикий сад…
— Вы испытываете много чувств? Какие-то из них актуальны здесь и сейчас?
— Не знаю. Я была такой живой в этом сне, что не хотела проснуться! А здесь с вами… и всю мою жизнь… мне так одиноко. Пустота и бесчувствие.
— Пустота и бесчувствие… Какой контраст с садом, который вы описали! Я смотрю на вас и… Тут капля.
Катерина засуетилась. Резким движением выдернула из картонной коробки салфетку и протянула Иванне. Та будто не заметила этого.
— Кажется, это вам. — Она выставила цветы перед собой живым щитом. Пальцы Иванны, пухловатые, со множеством складочек, сдавили стебли так, что стало тяжело дышать. Коготки синеголовников потянулись к салфетке.
Катерина молча откинулась на спинку кресла. Отложила салфетку на стол. Огладила колени, поправляя юбку.
— Мы обсуждаем это не в первый раз. Вы знаете, я не приму его.
Подбородок Иванны дрогнул едва заметно. Ее взгляд из-под густых, лихо гнутых бровей стал настолько неподвижным и жестким, будто пытался удержать Катерину на месте, если та соберется бежать.
— Я знаю, — сказала Иванна, укладывая букет на руки, как младенца. – Это была проверка. Я сегодня чу-у-удесно. Гляньте, какой букет! Думаю, мне нужно стать флористкой.
Прозрачно-зеленая капля, которая ютилась между ворсинками блузки, лопнула и пропитала серый сатин бесформенным пятном.
И вот я в черном шуршащем пакете посреди ажурной пластиковой корзины мусорного ведра. Упираюсь кончиками стеблей в банку со склизкими остатками йогурта. Пытаюсь выбраться из вороха скомканных соленых салфеток. Беззащитно торчу цветами наружу. Размокаю бумажным сердцем с графитовым словом. Иванна оставила меня, а Катерина отвергла.
Вдруг холодные гладкие руки подхватили меня. Округлый блестящий кончик носа окрасился черной пыльцой. «Выкинула? Ну как так?! Обсужу на следующей сессии».
— Привет, Макс.
В кабинете супервизора было просторнее и светлее, чем у Катерины. Золотая статуя будды умиротворенно смотрела на посетителей из синих сумерек ростовой картины на светло-желтой стене. Катерина уложила цветы между собой и Максом на журнальный столик рядом с колонкой, откуда тихонько, но бодро наигрывал ханг.
— Привет-привет. Красивый букет, от мужа? — Макс выключил музыку. Угнездился в кресле, сложив ноги по-турецки. Теперь он сам походил на будду. Если бы будда носил модный андеркат, пучок самурая и бороду дровосека.
— Клиентка принесла. Я говорила тебе про нее. Тридцать семь лет, учительница МХК с вечно недовольным лицом, одинокая и несчастная. Говорит метафорами. На контакт не идет. Я букет не взяла…
— Хочешь её обсудить?
— Она пришла ко мне в поисках любви. Работаем два года, а прогресса нет. То есть как… Депрессия отступает. Она снова пишет стихи. Гуляет. Собирает букеты вот. Но ничего из этого она не ценит, потому что отношений так и нет.
— Ее много отвергали в жизни?
Макс хищно вгляделся в букет. Поправил розу и оторвал пожелтевший лепесток ветреницы. Щелчком пальцев отправил в воздух муравья, бежавшего по ветке самшита. И уже почти добрался до свертка внутри, но вдруг перебил Катерину:
— Постой! Ты же не приняла букет?!
— Она выкинула его в мусорку! А он такой милый, что я не могла оставить его там. Вот куда его теперь?
— А чего не взяла-то?
— Я ей объяснила про этику. А на самом деле было неловко. Букет, специально для меня… Как-то уж слишком.
Придерживая цветы подмышкой, Макс захлопнул дверь кабинета.
— Маруся, наша фея невидимого фронта! Это тебе!
Маруся, щупленькая угловатая студентка психфака, по совместительству ассистентка Макса, отвлеклась от книжки, которую прятала под стойкой. Увидела букет и тут же заулыбалась. Так широко и искренне, что, казалось, веснушки осыплются с острых скул и солнечными зайчиками разбегутся по комнате.
— Так приятно, Максим Геннадьевич! Спасибо вам! — И тянется обниматься. — Ух ты! Кажется, тут послание!
Максим Геннадьевич замирает. Щеки наливаются жаром и краской. Маруся разворачивает сверток и читает нарочито медленно: «Спа-си-бо!». «Спасибо!» — еще раз обнимает Макса. Целует его в щеку легко, как умеют только дети, и убегает в поисках вазы.
Я лежу на столе и ощущаю, как серая атласная лента ослабляет объятья. Скоро она поселится в рыжих пушистых кудрях Маруси. А я — в прозрачном стекле со сладкой прохладной водой. Все вышло как надо. Я ровно там, где и должен был быть.

Вера
Две клеточки вниз, десять клеточек слева — жаль, нельзя было держаться от математики подальше, Саша была бы не против. С самого начала у них не складывалось, не вычиталось: сплошные тучи, туча с солнышком — уже праздник, ясная безоблачная погода была редко. Но, несмотря на такие прогнозы, Саша верила в спасителя (в отца его и мать тоже, на всякий случай). А что ей оставалось.
С первого по третий спасать Сашу пришлось её собственным родителям: начала мать со своей любовью к порядку (не цифры, а частокол), подхватил отец — курил одну за другой, глядя, как дочь по-ослиному таращится на примеры.
После началки спаситель явился в круглолицем соседе по парте Серёже, с которым Саша ловко поделила мир нехитрых наук пополам: пока он решал оба варианта, она аккуратно выводила в двух тетрадках понятные ей приставки, корни, суффиксы и квадратики на месте нулевых окончаний. Сработало и с новым соседом, вихрастым Кириллом, и с рыжим Димкой, и с Вовой, сыном математички. С ним она вообще очутилась за последней партой третьего ряда, в окружении тридцати пуховиков, скучающих на облезлых крючках. Они тоже скучали, почти не разговаривали, слушали «Линду» в его кассетнике и ходили к учительскому столу «можно спросить» — обычно за три захода всё было готово.
Схема ни разу не дала сбоя, поэтому в десятый класс Саша заявилась с идеальным дневником и задушенным страхом перед математикой. Задушенным настолько, что, казалось, и не было сотни её беззвучных, немых рыданий над проклятыми тюремными клетками и сами догадываетесь каких раскатов материнского гнева. И тут случилась она. Классическая Елена Петровна. Между ними сразу загудел взаимный сквозняк, уже к концу первой четверти переросший в штормовое предупреждение.
Елена Петровна Сашу раскусила сразу и, поёрзывая на стуле, стала через урок приглашать её к доске. На глазах у тридцати одноклассников и семи потускневших портретов классиков Саша за три минуты выдавала всю палитру красных, от прозрачно-арбузного до насыщенного кирпичного. Вот же сука, думала она и вздрагивала — я это вслух сказала? Кое-как в конце первой четверти четвёрка победила тройку, к концу второй Саша опять боялась математики до мокрых ладоней — там трояк светил почти безоговорочно. Мать похрустела подсохшими связями и раздобыла номер какой-то тётки для частных уроков. Что хотите Саша нет не понимаю чего хотите-то ладно приходите сперва на вас посмотрю браться или нет когда хороший вопрос завтра пятница день стирки давайте тогда в субботу в девять строго без опозданий до свиданий. Боже, нет, я никуда не пойду! И не пошла.
Нервы сдали окончательно прямо под пожарной лестницей, где её и поймала Ольга — русоволосая, красивая, безоговорочная отличница из старшего класса. Как и многим гениальным людям, социальные вращения давались Ольге со скрипом: слова для утешения подбирались какие-то неутешительные, но что-то надо было делать с этой рыдающей Сашей, её распухшей верхней губой и опухшими глазами.
— Вот что, тебе поможет вера.
— Помилуй, Оля!
— Нет. Вера. Верочка Дмитриевна. Позвони ей.
И окружность наконец замкнулась, когда трубку подняла та же женщина-я-стираю-по-пятницам. Вера. Верочка Дмитриевна.
Саша не заметила, как тоненькая трещинка краски у двери превратилась то ли в Афганистан, то ли в Камбоджу. Звони-звони-звони. А, к чёрту. И указательный палец, которым только что творили географию, прилип к кнопке звонка. Верочка, статная, фарфорово-округлая, с едва уловимыми седыми штрихами, открыла с котом на руках (это Гоша), выставила тапки и, напевая, ушла в другую комнату. Стуча резиновыми пятками, Саша прошла следом и села за стол, где её уже ждал пример, который Вера придумала в момент их встречи.
Пять минут Саша смотрела на клетки, цифры, буквы. Кажется, у меня нет идей. Но вы же ничегошечки не написали. Саша смотрела опять. На те же клетки, цифры и буквы. На овальный портрет на стене. На Гошу. Тишина. Гоша. Портрет. Окно. Тапки. Семь, восемь, девять клеток. Клеток-веток-ток-тик-ток. Ну, показывайте. Что же вы столько времени делали? Выковыривая из-под ногтя пепельно-зелёные остатки то ли Афганистана, то ли Камбоджи, Саша незаметно сняла дубовые тапки. Мне просто нужна пятёрка. Хотя бы четвёрка — чтобы от меня наконец отстали. И стало так легко, что захотелось громко рассмеяться. Показалось даже, будто Верочка улыбнулась. Показалось? Тогда давайте начинать. Тангенс, котангенс, синус, косинус — на ваш выбор. Через два с половиной часа Вера тихонько замурлыкала, а Саша высунула кончик языка и решала. Через четыре часа и половину тетради они расстались до следующей субботы. Уходя, Саша совсем забыла про пустые тапки. Верочка, конечно, заметила.
Девять утра, звонок, тапки, Гоша, задачи, час дня. Так прошли две субботы. В начале третьей Вера включила фоном «Культуру». Спустя четыре — положила на тумбочке у порога «Заводной апельсин». Конец пятой субботы они проспорили за Булгакова и Пастернака. Всю шестую прорешали один-единственный пример из задачника Дубны. Седьмую закончили над репродукцией «Площади согласия». Математика у Саши с Верой получилась вот такая.
Сперва она ей писала, писала много. Верочка ответила только раз (и то эсэмэской), что писать письма это не её. Саша стала писать реже, потом и вовсе бросила. Но каждый раз, когда бывала в городе, стояла перед дверью Верочки, водила пальцем по контуру то ли Афганистана, то ли Камбоджи, но ни разу не нажала на звонок. Потому что, если на него нажать, треснет хрупкая и волшебная полусфера, Гоша спрыгнет с коленок, висящая на одном большом пальце тапка грохнет об пол, Верочка выключит «Культуру» и уйдёт открывать. Зачем им мешать.

Витраж
В пять лет Санечка заняла второе место на турнире по художественной гимнастике. В шесть лет забила свой первый мяч в футбольные ворота — он же и последний: папа обещал с ней ходить, Санечка только поэтому и согласилась, но так ни разу и не успел к началу тренировки. В двенадцать — поступила в художку, где самоотверженно провела два с половиной года, а в пятнадцать, рассудив, что слишком юна, чтобы посвящать себя чему-то одному, перепробовала кружки по шахматам, журналистике и информатике.
В двадцать — стала организатором инженерных соревнований в вузе, в двадцать три — получила повышение в айтишной компании, в которой даже стажировкой можно было бы гордиться. За месяц до двадцати пяти — окончательно в себе разочаровалась.
***
Длинный хвост электрички тяжеловесно виляет по гудящим железнодорожным путям. Пылит, сносит нерасторопное комарье и разрезает застоявшийся воздух на такие же хвостатые, обжигающие с пылу-жару потоки, пока не решает, что устал, замотался среди этих бесчисленных перегонов, пока не сбавляет ход и медленно, боясь, что резкое движение нарушит хрупкую работу заржавевших механизмов, окончательно останавливается — ровнехонько на пустынной станции.
Сквозь мутноватое стекло Саня видит знакомую выцветшую табличку — «****ново». Что там было написано раньше — Смирново, Иваново, Сосново — Сане, если честно, все равно. Главное, что табличка вообще стоит на месте, как и крашеный-перекрашеный, а сейчас покрывшийся земляной грязью киоск, как и сам поселок, виднеющейся вдали грунтовки между состарившимися высоченными соснами.
Чтобы она делала без этого забытого всеми места, размышляет Саня, отлипая от сиденья, с кряхтением закидывая на плечи рюкзак и вслед за энергичной, размашистой Нинкой спрыгивая с подножки. Три съемные квартиры, в которых она успела пожить, были центром притяжения всех ее друзей, а десяток разношерстных проектов и увлечений наперебой терзали Санину душу — хотелось спрятаться в пещерку и просто быть.
Такой пещеркой и стала для Сани расположенная в местных лесах Нинина дача. Как говорила Нина, «сад», но кто придумал четыре заросших сотки называть «садом», Саня не понимала.
Пятнадцать минут — и они со скрипом открывают тяжелые ставни дома, час — разбредаются, в комфортной тишине погружаясь в собственные дела. Саня садится на веранде, извлекая из рюкзака ноутбук, блокноты, скетчбуки, ручки и маркеры, стопку обороток под непроверенные мысли, две книжки — рассказы Геймана и что-то про мозги. Нина бродит кругами по саду, громко и конструктивно поучая кого-то по телефону: «Лена, ты не хамишь, ты ставишь его на место».
«Работу работает», — безошибочно заключает Саня. Сама же начинает методично перебирать записи в ежедневниках, отдельные исчерканные листы, заметки на стикерах, забирая всю важную информацию из них в ворды и гугл-доки. Обобщает, структурирует, бьет на таблички, жирнит ключевое, помечает серым то, что можно было бы упустить, но если оно вдруг пригодится, то не потеряется. Бумажный хаос на столе постепенно превращается в аккуратные стопочки, прижатые блюдцем с редисом, пачкой печенья и смартфоном, который раз в пятнадцать минут, когда пробивается интернет, нервно вибрирует, пытаясь выдать все уведомления разом.
Саня справится, говорит она себе. Так и говорит, с расстановкой: Саня. Справится. У неё есть в этом некий экспириенс: Саня, как правило, всегда справляется, когда к ней приходят уставшие и потерявшие что-то в этой жизни — собаку, брак, путеводную звезду, — друзья и друзья знакомых. За время, которое нужно, чтобы приговорить два чайника с чаем или бутылочку белого полусухого, Саня находит пути решения незнакомых ей до сего момента задач и проблем. Но не только находит их, но и так умеет поддержать даже едва знакомых людей, так ненароком обозначить, что вообще-то все хорошее сейчас только начинается, что человек больше не чувствует ни привычного отрицания, ни саднящей горечи, ни изматывающей безысходности. Только спокойствие, без которого было так тошно, и нежную благодарность, когда Саня в сверкающей белизной экселевской таблице по этапам расписывает, что делать, оставляет номера телефонов, найденные под самыми неочевидными именами в своих «контактах», и в столбце «комментарии» предугадывает сложности, которые могут возникнуть, и решения, которые могут с ними помочь.
Засада во всем этом определенно есть — помогать кому-то, это, конечно, не помогать себе.
— Так, и чем ты тут маешься? Ну-ка дай посмотреть, — налетает нагулявшаяся по грядкам Нина. Завывает и выразительно тычет острым алым ногтем в списки не то профессий, не то вакансий, в бесчисленные строки «за» и «против».
— Мое будущее — непонятный серый мрак, — шипит Саня. — Сраный витраж из бессвязных записей в трудовой. Юрфирма, бары, ивент-агентство и одни айтишные ребята.
— Не помню, чтобы тебя это раньше смущало, — справедливо замечает Нина.
— Раньше ко мне в окошко не стучались двадцать пять, — тоже справедливо, но менее убедительно парирует Саня.
— И поэтому ты хочешь здесь и сейчас истязать себя табличками в поисках лучшей жизни?
— Хотя бы попытаться.
— Твой подход тебе не подходит, — не выдерживает Нина. — Ты бы не мозгами, у тебя сердце есть — сердобольное такое. А то далеко уйдешь со своими плюсиками-минусиками и «перспективными сферами».
— Дойду — пришлю открытку, — бухтит Саня в ответ.
На даче они остаются еще на три дня.
Хохочут над историями из старшей школы, распивают вино из дребезжащего холодильника, крадутся к домику на соседней улице — подглядывать за симпатичным бесхозным соседом, упрашивают Саниного приятеля приехать на один вечер (только на вечер и только с арбузом), признаются друг другу в беззаветной любви и в мимолетной ненависти.
Нина молча наблюдает за Саниными стенаниями, не говоря больше ни слова, а Саня каждый день часами слушает Нинины телефонные разговоры, в которых та, не стесняясь в выражениях. либо кого-то ставит на место, либо учит кого-то ставить кого-то на место и, в конце концов, не выдерживает и восхищенно, с истинным уважением шепчет:
— Нина, ты такая сука. Это ли не профессия?
Нина, на секунду оторвавшись от раскаленных возмущений на том конце провода, останавливается, задумывается и кивает — то-то же, дошло наконец.
***
Когда они вприпрыжку бегут к станции, смирившись с сухим жарким полуднем и стремительно пролетающими выходными, Саня строит планы. Например, в субботу съездить к родителям и вместе выбраться в лес. Если отец будет занят — съездить с мамой. На рабочей неделе — два проекта закончить и три начать. Сходить к гастроэнтерологу. В среду собрать всех на настолки, как раньше, в пятницу — посвятить вечер себе.
Пусть «си-ви» пухнет, множится, кажется неприлично длинным и разрозненным — в ее картине мира все склеивается, стягивается, складывается. Ведь до нее наконец дошло: она есть у себя. Это осознание пришло, как Сане кажется, очень даже вовремя: двадцать пять, конечно, не семнадцать, но могло ведь и позже стукнуть.
Жить с этим осознанием сразу стало гораздо легче.
Оказалось, что не надо судорожно сохранять каждую вакансию с минимально релевантным опытом, не надо размечать ячейки с компетенциями (зеленые — есть, желтые — частично есть, тревожно красные — надо получить) и, конечно, не надо засыпать и просыпаться с по-комариному назойливыми мыслями о будущих свершениях.
Оказалось, что надо жить. Быть собой. Беречь свои стеклышки: разноцветные, яркие, прозрачные, ребристые, контурные, острые осколочные, обработанные внимательной рукой мастера, обточенные волной, присыпанные земелькой. Собирать из них свой витраж, но обязательно легкой рукой. Иначе, Санечка понимает, будет болеть.
Звонит телефон. Саня отвечает, извиняется, что до нее было не дозвониться и не дописаться, ковыряя и без того облезшую кожу сидений, договаривается о встрече.
— Что за ребята, что за работа? — спрашивает заинтригованная Нина.
Саня улыбается во всех тридцать-вроде-бы-два:
— Понятия не имею.

Время колокольчиков
Долго ждем. Все ходили грязные.
Оттого сделались похожие,
А под дождем оказались разные.
Большинство — честные, хорошие.
Александр Башлачев
— Взлёт через пятнадцать минут.
— Принял.
За деревьями блестел бок его корабля, ноздри щекотал топливный запах. В своей голове Дима уже валялся на койке, сбросив защитный костюм и умывшись. Или не умываться, сразу нырнуть носом в подушку? А может, не лениться и сперва размять плечи?
Откуда-то справа послышался стон. Сначала подумал: галлюцинация. Наши эвакуированы, церерцы — тоже, пленных обе стороны давно обменяли. Не может здесь никто стонать.
Но застонали ещё раз. Матюгнувшись, Дима пошёл на звук. Раздвинул ветви, обошёл какой-то камень… и матюгнулся снова.
Все церерцы сбежали, и это был факт. На земле корчился солдат в церерской форме — и это тоже был факт. Матюгнувшись в юбилейный третий раз, Дима осмотрелся (никого), подошёл поближе и присел на корточки рядом с раненым.
Земля под ним — чёрная от крови. Пульс нитевидный, конечности холодные. Как он стонать-то умудрился в таком состоянии, сепаратист чёртов?
***
Тридцатилетнюю годовщину великой и окончательной победы над церерскими сепаратистами наш народ отметил торжественно и с размахом. На главной планете страны состоялся праздничный концерт…
Дима выругался себе под нос, и сидящие за соседним столом медсестрички с опаской на него покосились. Такие молоденькие, а уже пуганые. Сам Дима в молодости рисовал по ночам граффити, его даже арестовывали пару раз. А эти сидят и смирно слушают про торжественный размах, сепаратистов и главную планету страны. Время такое: никто не уверен, что его телефон не прослушивается, что камера в столовой не направляет информацию наверх, наконец, что наноробот в твоих венах не решит впрыснуть в них яд, услышав, что ты расшатываешь лодку.
Предводитель Георгий Беликов подчеркнул, что долг страны — не забывать великий подвиг своих бойцов, потом и кровью отстоявших независимость и целостность границ…
В кофе ощущался привкус жжёного пластика. На огромном, во всю стену экране был виден каждый изъян на лице Беликова: сосудистая сетка на скуле, воспалённый угол левого глаза, трещина на нижней губе. Предводитель говорил что-то с трибуны, рвано взмахивая рукой. Как будто у шальной механической куклы садилась батарейка.
***
Шальная мысль: закурить. Потому что сообщишь своим — скажут чесать к кораблю и не страдать ерундой, но чесать к кораблю нельзя, потому что ты врач и у тебя как раз остался первоклассный наноробот в кармане. Но вылечить раненого нельзя тоже — мы не помогаем церерским сепаратистам. То есть — на бумаге помогаем, конечно, мы же не звери, но на самом деле тебя за такое заставят месяц сортиры мыть. Но ёпт, как же он стонет.
Затеряться бы здесь и ничего не решать. Выбросить планшет и наушник, выждать в лесу, пока не перестанут искать. Выбор — самая изощрённая форма пытки. Был бы Дима Сатаной… Но нет, он по другую сторону баррикад. Номинально, по крайней мере, он же врач. Хотя на этой войне он успел столько… Вдох-выдох. Не думай об этом.
Стрельнул глазами туда-сюда — всё спокойно — и открыл поясную сумку. Возни на пять минут, если не паникуешь, руки своё дело знают.
И руки не подвели.
Рация слегка обожгла его током — или так показалось от неожиданности. Чуть шприц с обезболом не выронил.
— Димыч, где тебя черти носят?
— Цветочки нюхаю.
— Вылет, блин…
— Да рядом я, успею. Отбой.
Успеет покурить, если быстренько. Проверить, опять же, чтобы бедолага в себя пришёл.
***
Не заметил, как эти двое пришли.
— Дмитрий Владимирович?
Они умели вырастать из-под земли, эти люди в дурно сидящих серых костюмах. Вокруг них тотчас образовывалось пустое пространство, как будто даже стулья и солонки силились отодвинуться. Серые костюмы сели по обеим сторонам от Димы, и он сразу почувствовал себя рыбой в аквариуме.
— Чем могу быть полезен, господа?
— Вас приглашают для проведения крайне ответственной операции. Скажите, вы выспались? Хорошо себя чувствуете?
Интересно, у нас ещё можно говорить, что приболел? У него неплохой послужной список, может быть, даже получится. Сказать бы, что плохо себя чувствуешь, выписать самому себе больничный и просто валяться пару недель перед телевизором. Или даже лучше: забраться под одеяло и эти пару недель проспать.
— В порядке, — сухо кивнул Дима. — Я нужен прямо сейчас или могу допить кофе?
***
Раненый пришёл в себя и сейчас же дёрнулся. Попытался от него отползти, едва не теряя равновесие и морщась от боли.
— Спокойно. — Дима слегка прижал его к земле. — Минуту ещё полежи, и станет лучше. Шустрый такой, не могу.
Парень задрожал у него под рукой, прикрыл глаза. Вот ведь бешеный.
— Я докурю и уйду, — успокоил его Дима. — Расслабься, чего ты?
Мог бы «спасибо» сказать, например.
Парень нервно кивнул. Выдохнул через сжатые зубы.
— Как тебя угораздило вообще? Пленных обменяли, стычки закончились.
Раненый снова вздрогнул, но наноробот, кажется, заканчивал работу: парень должен был осознать сейчас, что кровь больше не льётся, давление в норме, сепсиса нет и даже боль проходит. Он с недоверием покосился на своё починенное тело, на Диму, на жухлую траву.
— Отпусти меня, а? Пожалуйста.
— Да на здоровье.
Дима смотрел, как парень медленно поднимается сначала на четвереньки, потом — встаёт, пошатываясь, и рысцой убегает. Втягивает шею в плечи, руки поднимает. Как будто Дима его вылечил и сейчас застрелит, ну. Идиот. Ему хорошо бы не бегать ещё пару часов, вообще-то. Но ничего — проблюётся в кустах и дальше потрусит, не сдохнет.
Теперь не сдохнет, несмотря на полное отсутствие стерильности.
***
В кабинете, куда его привезли, пахло озоном и стерильностью. Дима просматривал снимки, выписки, заключения. Экран компьютера — болезненно чёткий, ещё немного — будет резать глаза.
— Простите, а как здесь, собственно, снизить яркость? – спросил он медсестру, в третий, кажется, раз мывшую руки.
— Никак, я думаю. Простите. Стандарты, нам мало что можно делать самим, всё согласовывают со службой безопасности.
— Яркость монитора необходимо согласовывать…
— Да. — Она рассмеялась и тут же опустила голову. — Я не разбираюсь.
— А моя кандидатура…
— Не разбираюсь я, — с нажимом повторила девушка.
— Я матерюсь, слыша его выступления, ничего не перечисляю в фонд уничтожения сепаратистов, на войне в молодости не то чтобы отличился…
Дима не сомневался, что она всё это и так знала. Но свою роль девушка играла хорошо: бойкие тугие косички с розовыми резинками, курносый любопытный нос, ресницами невинно — шлёп-шлёп. Только вот губы кусает, когда думает, что Дима не смотрит.
— Так вы первый специалист по нанороботам долгосрочного действия, Дмитрий Владимирович. Это важнее всего.
Дима кивнул и вновь углубился в файлы. Ещё бы, с таким-то сердцем Беликову не до придирок. Первый специалист и его волшебные нанороботы…
***
— Наноробота! Просрал! И вылет! Из-за тебя! Задержали! На четыре! Минуты!
Максимыч брызгал на него слюной, но если вытрешься, будет орать ещё дольше. Так что Дима терпел. Все они обычно терпели. Что-то объяснять было бесполезно, так что он слушал, и кивал, и вздыхал как мог горестно. Мечтал упасть уже на свою койку и подремать.
Потом, за ужином, они увидели то самое обращение. Беликов — волевой, красивый, решительный — говорил, что война не окончена, что мы — защищаем своё, а они — нападают на чужое, поэтому всякий, кто помогает церерцам, — такой же враг. В его интонации Диме послышалось нечто механическое.
Максимыч слушал, не переставая пережёвывать картошку. Потом блёкло попросил: «После ужина зайди ко мне, у тебя аппаратура фонит».
Аппаратура не фонила, но Дима кивнул.
Кабинет у Максимыча был — каморка каморкой. Пузатые шкафы, хлопья пыли, запах сырого картона. Так и ждёшь тараканью перебежку в углу, хотя какие на судне тараканы? Дима выложил перед собой телефон, рацию, планшет и шлем с регистратором. Максимыч кивнул на умные часы — их тоже давай. Дима хотел возразить, что они личные, но Максимыч скорчил такую рожу, что даже Дима догадался промолчать.
— Значит, так, — сердито затараторил Максимыч, орудуя отвёрткой. — Записи удаляю, скажешь, сбой системы был и ты заблудился. Наноробота уж не знаю, где ты просрал, сам придумай. И твоё счастье, что только я видел, чем ты занимался.
— Но конвенция же… И бои закончились.
Максимыч сделал вид, что сплёвывает на пол.
— Совет хочешь? Увольняйся нафиг из армии, когда можно станет.
***
— Можно спросить, как вас зовут? — спросил Дима. Он снова намыливал пару минут назад вымытые руки — кажется, это заразно. Попробовал сделать воду холоднее, захотелось резкости — но кран дальше не крутился.
— Белла.
— Волнуетесь?
— Конечно, ещё бы! А вы — неужели нет?
— Совсем чуть-чуть. Мне нельзя: руки не должны дрожать.
Он волновался, пока ехали в больницу, пока он читал выписки, готовил нанороботов, разговаривал с ассистентами, анестезиологами и Беллой. Но десять минут назад Диму представили самому Беликову — бледному от боли, с посеревшими губами и страхом в пустых глазах. Дима пожал его ледяную руку и волноваться перестал.
Анестезиологи совершали последние пассы над уснувшим Беликовым. За окном начинало темнеть — чтобы отдохнуть от резкого света операционной, Дима смотрел на сереющие верхушки домов и недоношенно-голубоватое небо. Голова была абсолютно пустой: закрой глаза — и уснёшь.
— Дмитрий Владимирович, всё готово.
Дима кивнул и пошёл мыть руки в юбилейный третий раз.
Работа с нанороботами одновременно простая и сложная. Простая — потому что они сами выполняют любые твои команды. Сложная — потому что эти команды должны быть очень быстрыми и очень чёткими. Любая ошибка непременно станет фатальной.
***
— В твоём случае пойти на войну явно было ошибкой. Как тебя вообще угораздило? — спросил Максимыч. Он курил старомодные сигареты с табаком и запрокидывал голову, выпуская дым в небо. — Или призвали?
— Людям помогать хотел, — ответил Дима.
Это была чистая правда, но сейчас, рядом с Максимычем, захотелось опустить голову и вообще сменить тему.
— А. — Он цокнул языком. — Ну, удачи.
Ребята резво выгружались из корабля, до них с Максимычем то и дело доносились матерки вперемешку со смехом.
— А вы почему пошли воевать?
— Я из села под Саранском. — И, видя Димин непонимающий взгляд: — Деньги, идиот.
Они уже почти докурили, и хотелось скорее уйти, оказаться подальше от всех, даже от Максимыча, но Дима всё-таки спросил вполголоса:
— Мы ведь обменяли пленных? Остальных пленных. — Максимыч молчал, и он спросил ещё раз, громче: — Обменяли же?
— Конечно, — грустно усмехнулся Максимыч. — Конечно, обменяли.
***
В смерти человек немедленно меняется; как будто спит — не более, чем красивый оборот речи. Вместо человека словно бы остаётся его оболочка, пугающая в своей попытке его заменить. Сначала Диму знобило, когда приходилось прикрывать своей тёплой рукой жесткие чужие веки. Потом он просто вздрагивал. Потом — привычно избегал смотреть в их лица, как будто машинально обходишь лужу по пути к кораблю.
Лицо Беликова в смерти почти не изменилось.
***
Первый анестезиолог плакал, второй — медленно осел вдоль стенки. Ассистенты безуспешно пытались реанимировать труп. Один из них поднял на Диму посеревшее пустое лицо:
— Вы сделали это специально! Вы… вы…
— Этим займутся соответствующие органы, — твёрдо сказала Белла и взяла Диму под локоток. — Пойдёте сами или ребят позвать?
— Пойду.
Ему по-прежнему не было страшно — что он, автоматов не видел? С серыми костюмами из органов не беседовал?
Людей не убивал?
Белла отвела его к машине с тонированными стёклами, автоматчикам и водителю что-то пробурчала — и они оставили их в машине вдвоём, сели в другие.
Теперь было почти по-настоящему темно, и фонари светились по сторонам дороги, как заброшенные маяки. Всё было ярким, чётким, контрастным, и впервые за долгое время спать совсем не хотелось. Дима по привычке пристегнул ремень и вдруг услышал странный шум — похожий на комариный писк, но громче и противнее.
— Что это? — без особого любопытства спросил он.
— Глушилка, — объяснила Белла, не отрываясь от дороги. — Мало времени, слушайте и не перебивайте. Сейчас едем как бы к Башне, но в туннелях я петляю и отрываюсь от них. — Кивок назад. — Везу вас до серой зоны, там скажете кому-нибудь, что вы сделали, — вас спрячут на несколько дней, а потом, может, героем станете. Главное, как будем подъезжать — уничтожьте всё электронное на себе, даже часы. Я кивну вот так — и тогда уничтожайте. Вопросы?
— А вы?
Белла как бы усмехнулась; её глаза при этом стали ещё жёстче.
— Скажу, напала ваша группировка. Не переживайте.
— Да нет у меня группировки.
— Я знаю.
Дима кивнул.
Не отрываясь от дороги, Белла стянула свои резинки и распустила волосы. Стала выглядеть моложе, чем с косичками, и потеряннее.
— Я сменила имя в шестнадцать, чтобы как будто в его честь. Такая глупая была.
— В мои шестнадцать я повесил над кроватью его портрет. Хотите сигарету?
***
— Хочешь сигарету?
Дима помотал головой.
— Я скоро брошу, наверно.
Выбегать курить на школьной перемене было весело — скрываться от учителей, зажёвывать ментоловой жвачкой, добывать сигареты, которые запрещено продавать детям. Покупать сигареты легально ему нравилось намного меньше.
Димино первое взрослое, не каникулярное лето тоже пока не радовало. Ненастоящее, фантик без конфеты.
Сейчас они с парнями лежали на берегу озера, подставив животы весёлому июньскому солнцу, выпускали сигаретный дым прямо в небо и пачкались мороженым. Песок щекотал Диме лопатки. Он поднялся и сел, пытаясь отряхнуться. Рядом лежал плоский камень — идеальный для блинчиков. Дима прищурился, метнул его в воду. Три-четыре-пять-шесть-семь!
— Семь раз, ну ни хрена себе!
— Димон, ты даёшь!
Дима рассеянно улыбнулся и всё-таки взял сигарету. Кажется, этот блинчик только что впустил его обратно в лето. Оно станет отличным — возможно, лучшим в его жизни. Он напросится на экскурсию в лабораторию нанороботов. Научится водить машину. Поцелуется наконец-то с Катей. Запишется в штаб к Беликову и будет раздавать листовки.
Может быть, он даже сможет лично пожать ему руку.

Глубина
Жить Ярославу не хотелось. Ярославу хотелось плыть. Год назад, вернувшись с очередной реабилитации, опустошенный последствиями своего классического нарко-алкогольного угара (оправданий коему было предостаточно: давняя смерть брата, мать — вечный и беспощадный критик, бесконечная череда шаблонных отношений, бессмысленный и тусклый свет, в конце концов), он неожиданно для всех увлёкся плаванием. Сначала друзья и собутыльники смеялись — уже были увлечения боксом, теннисом, кроссфитом, бегом по утрам, которые быстро сходили на нет. Потом они стали делать вид, что встревожены, когда на вопрос «Ярик, дружище, встретимся?» получали только один ответ: «Прости, сегодня не могу — плыву». Затем все они пропали — даже на отказы у Ярослава не осталось времени.
Год назад, тщедушный, с впалой грудью, тощий как жердь, но с намечающимся к тридцати пяти годам айтишным животиком, он первый раз пришёл в бассейн и, чуть не поскользнувшись, взмахнув для равновесия руками, окунулся (точнее — упал) в прохладную бирюзово-голубую воду. И вдруг словно в мозгу выключили главный рубильник: тишина, спокойствие и умиротворяющая толща воды сомкнулись над головой и враз отсекли все горькие обиды и царапающие душу мысли. Ярослав плыл: неуклюже, захлёбываясь, до судорог в икрах, до рези от хлорки в тёмно-карих глазах. Он слышал смешливые перешёптывания за спиной в раздевалке, но ему было плевать — синеющая глубина освобождала и защищала. Сначала три раза в неделю, потом пять, затем — каждый день и, наконец, два раза в день — он плыл. До бешено стучащего сердца, до огня в лёгких, до боли в суставах и неразвитых мышцах. 25 метров до противоположного бортика, 25 метров обратно. Повторять до изнеможения.
Сигареты пришлось бросить — для долгих заплывов нужны были чистые лёгкие. Таблетки и алкоголь ушли по другой причине — в их чёрной, спасительной и разрушительной пустоте больше не было смысла. Удалённая работа приносила стабильный доход: хватало на еду, оплату квартиры, бензин, абонемент в спортивный клуб, самые лучшие очки и гидрошорты. Привычки изменились, и сам Ярослав стал другим: теперь в бассейне ему смотрели вслед не с издёвкой, а с завистью. Грудь стала шире, спина выпрямилась и обросла мышцами-жгутами, бёдра и икры затвердели, налились силой, «животик» превратился в каменный пресс. В движениях появились размеренность, точность и спокойная мощь.
Как-то в раздевалке Ярослава окликнул тренер, бывший моряк и бессменный чемпион города по плаванию в 80-х.
— Никаких соревнований. Никакого триатлона от клуба. Никакого командного заплыва, — грубее, чем хотелось, и на опережение отрезал Ярослав.
— Да, да, я помню, старина, не кипишуй. Тут это, дело такое, не думаешь, что ну, это, ты слегка заплылся?! Как говорится: кто плавает далеко, тому врать легко, хех. Дело, конечно, не моё, но…
— Именно — дело совсем не ваше, — оборвал тренера Ярослав.
— Послушай, я ж тебе добра желаю, — затараторил тренер, явно смущённый этим разговором. — Всё хорошо в меру — это про тебя. И таких, как ты. Не перебивай, салага! Думаешь, я не вижу и не знаю? Глубина? Не хлопай глазами, не на свидании. Ишь, синеглазый выискался! Будет время — загляни на Большую Морскую, 47, в арке вторая дверь, её сразу найдёшь, голубая. Как наша… в смысле, ваша — глубина. Там такие, как ты, собираются, каждый четверг, в 19:00. Ну, бывай! И помни: дальше в море — больше горя!
Ни на какую Морскую Ярослав, само собой, идти не собирался. Но в 18:59 в четверг стоял перед дверью и впервые за долгое время ожесточённо спорил сам с собой о том, почему не нужно здесь находиться и почему же нужно поскорее войти. В спину легонько подтолкнули с лёгким смешком — «Не зевай, новенький!», и он вошёл-ввалился в маленькое, пахнущее затхлостью, почти подвальное помещение с низким потолком-сводом. На видавшем лучшие времена столе стоял древний электрический чайник, щербатые кружки, упаковка пластиковых стаканчиков и тарелка, полная сушек и восточных сладостей. В центре, по кругу, располагался десяток разномастных стульев, все они уже были заняты, кроме двух. На один из них тут же уселась стройная девушка, призывно хлопая рукой по второму и приглашая новичка присоединиться.
— Приветствую всех на собрании Клуба Анонимных Пловцов! Меня зовут Ив, и сегодня я буду ведущим. У нас пополнение, поприветствуем новобранца! — сказал широкоплечий парень в джинсовом комбинезоне и смешной красной шапочке на самой макушке. — Здесь все свои, никто тебя не осудит, можешь назваться любым именем и сам решать, что говорить о Глубине и говорить ли вообще.
«Меня, кстати, зовут Дана, и это моё настоящее имя. Спасибо папе-славянофилу, что хоть не Макошь», — шепнула новая знакомая, сидящая рядом. Все по очереди представились, и каждый стал рассказывать свою историю о том, как вдруг начал плыть и не смог остановиться. Обстоятельства были разные: инцест, насилие в детстве, нелюбимый ребёнок, жена, ушедшая к лучшему другу, муж-алкоголик, смерть или тяжёлая болезнь близкого. Истории тоже были разные, но боль оставалась одна — ничем не заглушаемая, ноющая и высасывающая жизнь. Только плывя под водой, погружаясь в искрящийся синевой мир, эти люди были свободны. Кроме боли, было и ещё одно общее у этого странного собрания — все его участники были как родные братья и сёстры: подтянутые, точёные тела, светлая, почти прозрачная кожа, короткие стрижки и главное — холодные и глубокие, всех цветов морской воды, глаза.
Ярослав и Дана стали встречаться. Они ходили на собрания Клуба раз в неделю, молча гуляли по вечерним набережным, молча же восхищались «Девятым валом» в музее и неспешной грацией акул-молотов в океанариуме. И каждый в своей части города всё так же плыл, ныряя во всеобъемлющую глубину, тишину и спокойствие. Не было поцелуев при встрече, не отмечались праздники и не дарились подарки, никто не хотел делиться болью или разделить чужую, они жили так, будто плыли не только в бассейне, но и на суше: ни одного лишнего жеста, прикосновения или слова.
Тем летом все СМИ и городские паблики несколько дней гудели на одну тему. «Ромео и Джульетта», «великовозрастные идиоты», «это так романтично», «а о близких они подумали, твари?». Тела так и не нашли, затем в соседней стране случился политический кризис, а экраны телефонов заполонил новый видеотренд с котом в костюме пирата, и город обо всём забыл. Только случайный пьяный прохожий не прекращал рассказывать знакомым историю, как почти на рассвете парень и девушка, аккуратно сложив одежду у мостовой ограды с русалками и гиппокампами, обнажённые, совершенные, светящиеся изнутри каким-то холодным, лунным светом, взялись за руки, улыбнулись друг другу и синхронно, словно пловцы, нырнули в мутные и быстрые воды реки. О том, что через мгновение, когда, мигом протрезвев, он свесился, вглядываясь в течение, и там, куда только что упали два человека, увидел двух изящных серебристых рыб, стремительно рассекающих водную толщу, он благоразумно молчал. Мало ли что померещится с перепоя.

Еще одна попытка рассказать
Лефильятры — папа, мама и пара котов, — живут на Розмариновой улице. Кустов розмарина тут нет, разве что они высажены в глубине ухоженных дворов. Вдоль нарядных домиков цветут липы и акации, а чуть пониже — чайные розы, алые и белые, как из сказок Андерсена. Общее у Дании с Нормандией: викинги и — розы. Мари и Бернар Лефильятр одинаково высоки и тонки, как чистокровные борзые. Коты же у них непородистые. Джоби и Джоба достались от младшей дочери Жюли, и назвала их тоже она — именами из цыганской песни о фламенко. Вечером, когда Бернар зовёт их домой, он почти попадает в ритм Джипси Кингса: Джожджоджоби, — аккомпанирует себе ладонями-кастаньетами. И лет им — Бернару и Мари — одинаково семьдесят два. Секрет физической формы моих свекров в постоянном диалоге.
— Ну куда ты прешь-то, — беззлобно вопрошает мужа Мари, — здесь же объезд месяца три уже как.
— Да ну, — обижается Бернар, — вчера дорога была открыта.
— Не может быть. Нас мэрия предупредила о ремонте сразу после Нового года.
— На Новый год нас тут не было. Мы уезжали к Жюли.
— К Жюли мы ездили на Рождество. На Новый год она приезжала к нам.
Оживленно спорят на тему прошлых ангин их троих детей, ограничения скорости и какой торт Мари испекла Бернару на его пятидесятилетие.
— Париж-Брест!
— Это было на сорок пять. На пятидесятилетие был Мокко. Ты ещё сказал, что я пожалела кофе.
— Да нет же ! Мои сорок пять мы праздновали в Испании !
И так целый день. Вечером, изнемогая от усталости и напряжения памяти, они с благодарностью смотрят друг на друга и почти молча аперитивятся стаканчиком прохладного белого.
Страшные новости мира обходят их стороной. У них свои трагедии. Двадцативосьмилетний сын разбился на машине, оставив после себя вдову-иностранку и трехмесячного сына. У младшей дочери рак яичника, через месяц операция. Внучка грустная: родители в разводе. У старшей дочери, правда, всё хорошо: дом, бойфренд, общие дети и ещё десяток подобранных на скотобойнях пони и лошадей. Но мать переживает и тут — не может перестроиться. Внуки часто болеют, недостаточно отапливают дом из-за нехватки денег, да и живут они далеко от города — ни кружков, ни музеев.
Ранним вечером Мари и Бернар устраиваются поудобнее в ортопедических кроватях, смотрят телевизор о внешнем мире, который не для них. Коты привычно укладываются у ног, мурчат совсем недолго, буквально валятся от усталости, как будто тоже весь день вспоминали, какой паштет ели в младенчестве.
Джоби и Джоба раньше жили в другом городе. После развода Жюли коты оказались никому не нужны. Долго и педантично бывшие супруги делили мебель, белье и каникулы с дочерью. А котам просто открыли дверь. Дом продался быстро. Коты никуда не ушли, и новые хозяева пожаловались на них старым. Чтобы котов не отловила муниципальная служба, их поймала Жюли и отвезла родителям. Строго-настрого запретила кормить паштетами, чтобы не баловать, только сухой корм. Как будто собиралась забрать обратно, когда будет новый дом и новое счастье. Нового счастья не сложилось. Но дом Жюли купила — для себя и дочери, и завела собаку.
А коты от стариков сбежали. Джоба вернулся через неделю: на дворе стояла поздняя осень, и наесться ящерицами стало непросто. А Джоби Мари искала два месяца. Распечатала пятьсот объявлений, развесила в булочных, аптеках, небольших круглосуточных лавках, их тут называют арабскими. И в каждый почтовый ящик положила портрет беглеца с просьбой предупредить, если вдруг его светлая морда будет замечена в окрестностях. Когда Джоби поймали добрые соседи совсем рядом с домом Лефильятр, моя свекровь написала новое объявление — с хорошей новостью и благодарностью. И разложила листочки по почтовым ящикам: Кот моей дочери наконец-то с нами! Никто ж не догадывается, что дочери уже под сорок, соседи, скорее всего, представляют себе нежное пятилетнее создание, залитое слезами утраты.
— К столу ! — кричит Мари, и Бернар отрывается от компьютера.
— Стаканчик белого или бутылочку пива? — суетится мой свекр.
— И с чего пиво ты предлагаешь? — привычно заводится жена. — Пива нет.
— Ну как же, — Бернар готов к перепалке, — в подвале, рядом с ящиком кошачьего паштета.
— Оно безалкогольное, — парирует свекровь.
— Безалкогольное не буду, — обрываю дискуссию я.
Я ещё та штучка. Я двадцать пять лет с ними знакома. Когда мне дали французское гражданство, я тоже стала с претензиями и остра на язык. До этого была примерной советской девочкой, склоняла себе французские глаголы с утра до вечера да варила борщи. А став француженкой, затребовала себе место под солнцем, почти как дочери Мари и Бернара. Младшая, Жюли, избалована каким-то особенным образом. Она, например, может обидеться, потому что специально для неё приготовили крем-брюле — ведь это не самый любимый её десерт! Удивительно, что строгие к самим себе и старшей дочери родители покорно кивают головами и обещают исправиться.
Мари снимает с себя фартук с надписью «Я требую равенства с мужчинами, но не забывай зажимать меня по углам!». Мои свекры принадлежат к поколению мая 68 года — эпохи, когда французские студенты сражались за право навещать студенток в общаге, не дожидаясь разрешения вахтерши тёти Вали, точнее, её галльской версии: консьержки мадам Валентин.
Я только после замужества узнала, что попала в семью троцкистов. Раньше Бернар состоял в коммунистической партии Франции, но потом они с женой решили, что троцкизм круче, это проект планетарный и его суть не запачкана гулагами далёкой холодной страны. Мои будущие свекры познакомились в эротическом шестьдесят девятом, а в семьдесят первом родился мой будущий муж, его назвали Карлом — троцкизм, видимо, пришёл чуть позже.
Бернар и Мари всегда думали, что у них будет один ребенок — чтобы не отвлекаться от перманентной революции и функционерской работы. Но случился прокол: Бернару захотелось дочь, он, по рассказам Мари, был очарован соседской девочкой. Моя свекровь поставила мужу условие: дочерей будет две, и она не выйдет на работу, пока девочки не пойдут в школу. Очарование соседской малышки было настолько велико, что Бернар согласился жить с тремя женщинами и одной зарплатой. Революционный период в жизни моих свекров закончился.
Все случилось так, как и было задумано. Мари пришлось свернуть кормление старшей дочери, потому что она забеременела младшей. Кормила малышек овощными и фруктовыми пюре, вытирая ротики после каждой ложки. А Бернар строил дом и продвигался по функционерской лестнице. В самом конце 1979 года, когда Жюли было всего несколько дней от роду, семья переехала в вагончик на территории строящегося дома. Жизнь Мари потеряла блеск освобождённoй женщины, превратившись в буржуйское существование, только без гувернантки и лишних денег. Девочки болели постоянно. Рвота, приступы астмы, отиты, ангины и дажи вши. Они просыпались каждую ночь. Поменяв постельное белье и вымыв пол в детской, Мари уже не могла заснуть и остаток ночи проводила с открытыми глазами и грустными мыслями. Бернар мирно похрапывал рядом и по выходным тоже строил дом.
Потом, конечно, все пришло. Семья въехала в новый дом, и были показательные выступления для нормандских родственников: девочки, одетые в одинаковые короткие платьица, одинаково причесанные и одинаково улыбающиеся в объектив — к равенству у французов отношение особенное, оно не просто так значится в девизе Республики. Рядом с Жюли ее кучерявый брат, уже подросток, и мой свекр — бывший революционер, честный налогоплательщик, главный по холодильникам подводных лодок военной базы в Шербурге. Фотографирует, конечно, моя свекровь. Воздушный торт, белоснежная скатерть, выглаженная рубашка Бернара и блестящий улыбающийся кот — ее рук дело.
Развелись они в восемьдесят шестом году, когда, казалось бы, самое сложное было позади. Мари, у которой революционная идеология сменилась религиозным отношением к детям, забрала всех троих с собой. Дом был продан, и мать с детьми оказались вчетвером в небольшой социальной квартире с двумя спальнями, все окна которой выходили на кладбище. А через год разведенные супруги сошлись снова: Мари не справлялась с ремонтом машины, а Бернар чуть было не умер от голода. Сейчас я думаю, что он любимый ребенок Мари и, как и всех остальных детей, она не научила его готовить. У моей свекрови очень твердая позиция: дочери не научились готовить, потому что сын по дому не помогал, и она не могла требовать от девочек того, чего не требовала от сына. Сын же не помогал, потому что отец семейства не опускался до кухонных мелочевок и, возвращаясь с работы, если ему не надо было строить дом, усаживался с газетой вникать в большую политику.
О том, что Карл был осуждён на полтора года условного заключения за сексуальное домогательство маленькой Жюли, я узнаю много позже, после его смерти и гистерэктомии Жюли. Уже ничего не поправить, но мне надо рассказать эту историю взрослому сыну — поэтому я сижу в ночи и пишу, пишу, осторожно подбирая слова, а они разбегаются, как ящерицы с наступлением первых холодов.

Запах жасмина
— Уже знает? — посмотрела я на закрытую дверь.
Простая белая дверь в обрамлении вытертых обоев в тонкую вертикальную полоску. По ее краям, если присмотреться, можно было увидеть пожелтевшие бусинки засохшей масляной краски, которые я любила ковырять в детстве.
— Знает, — кивнула мама. — Утром сказали.
Тем проще.
Я постучала в дверь и заглянула в комнату. В нос ударил кислый запах старости. Плотно занавешенное бордовой шторой окно напротив входа, а под ним — кровать, стоящая вдоль стены.
Бабушка повернула голову на звук. Скрипнул матрас.
— Бабуль, можно?
— Входи, Машуль.
Я зашла в комнату, плотно закрыв за собой дверь. Аккуратно, чтобы не задеть небрежную стопку газет на табурете, подошла к кровати, наклонилась и поцеловала бабушку в морщинки на лбу.
— Как ты, бабуль?
— По-старому, — ответила бабушка с грустной улыбкой. — Зефирку возьми.
На ножной швейной машинке, как на комоде, стояли вперемешку иконки, засохший букет цветов в трехлитровой банке, упаковки лекарств. Открытая пачка зефира обнаружилась под одной из икон. Одна из шести пластиковых ячеек была пуста. С того момента, как я принесла его бабушке, прошло три недели, и зефир превратился в бело-розовый камень, присыпанный сахарной пудрой.
— Спасибо, ба! — сказала я. — Я… потом к чаю возьму.
— Присядь. — Бабушка похлопала ладонью по одеялу рядом с собой. — В ногах правды нет.
Старый матрас натужно скрипнул и прогнулся под моим весом.
— Чего тебя туда несет? — Бабушка подошла к главному.
— Работа, — ответила я.
— Работа–работа. А как же квартира?
— Постоит, что ей сделается? — Я пожала плечами.
Квартиру, как бы мне ни хотелось, в чемодан не положишь и с собой не заберешь. Я очень любила свою крохотную, но с бесконечно высокими потолками однушку в тихом центре, рядом с заросшим прудом. Вместо лебедей у нас были лягушки. Их слаженное хоровое пение разносилось по всему району, теряясь в густой листве сирени. Мама любила напоминать, что за эти деньги я могла бы купить себе двушку в свежем столбике на окраине. Могла, но не захотела. А бабушка очень радовалась, что я выбрала квартиру в районе, где она жила в молодости. Сразу после сделки мы с ней сели в такси и поехали туда с коньяком и конфетами. И до ночи сидели на продавленном диване, любезно оставленном мне предыдущими жильцами, вдыхали головокружительный аромат жасмина, цветущего прямо под окном.
А спустя шесть месяцев бабушка слегла.
— Ба, это просто работа. Я же не навсегда. — Я надеялась, что мой голос звучит бодро и уверенно.
Я положила свою руку поверх ее руки, плотной, горячей. Даже в девяносто лет ее кисть оставалась гладкой и сатиново-нежной, только пальцы в морщинах и складках выдавали истинный возраст.
— Чего вас всех несет туда? Дед мой тоже после революции поехал в Америку, говорил, что вернется, — не слышала меня бабушка, — и где он? Ни весточки не прислал. Сгинул, небось, по дороге. А Геник? Только одну открытку прислал из своего этого «Чикага», и то после нее пришли.
Я уже слышала эту историю. Бабушка получила открытку от брата Гены, яркий прямоугольник, подписанный с обратной стороны, а через пару дней в школу, где она работала, пришли из органов и задавали неудобные вопросы. Подробности этой истории бабушка хранила в секрете, даже мама ничего не знала.
— Ба, это другое, — ответила я.
— То же самое. Здесь всегда было то же самое, — вздохнула бабушка. — Машенька, мы, скорее всего, с тобой больше не увидимся.
— Бабушка… — начала я.
А что сказать?
— Давай просто помолчим, — предложила бабушка едва слышно.
Я рассматривала знакомую с детства комнату. Мы давно предлагали сделать ремонт, но бабушка всякий раз поджимала губы и отмахивалась:
— Когда умру — делайте что хотите!
Светлые обои в мелкую вязь уже пожухлых роз. Швейная машинка, на которой бабушка учила меня шить. Кресло впритык к ней с потертым красным плюшевым покрывалом. Стопки желтых газет в углу, перевязанные веревкой. Буфет с книгами и фотографиями за стеклом. Дедушкин парадный портрет. Там он молодой, в форме и при медалях. Юные мама и тетя, маленькая я. За фотографиями было не разглядеть корешки книг, стоящие позади. Но мне не нужно было смотреть. Я и так знала, что там стоят Дюма, Диккенс, Купер и Солженицын.
Рука обмякла, бабушкино дыхание стало глубже и ровнее.
Я встала, стараясь не потревожить ее сон, напоследок коснулась пушка седых волос и вышла из комнаты.
Мама ждала меня на кухне. Ее локти, лежащие на столе, сливались с сероватой пластиковой поверхностью.
— Заснула, — сказала я.
— Хорошо, — ответила мама бесцветным голосом.
— Ты устала.
— Ничего, скоро придет твоя тетя и сменит меня, — сказала мама. — Маш, налей мне водички.
В кухне было душно. Полуденное июньское солнце щедро делилось своим теплом с маленьким помещением. В закрытое окно билась муха.
— Мам, может, мне не ехать? — Вопрос родился еще в бабушкиной комнате.
— Мария, не говори ерунды! — Мамин голос вздыбился, заиграл начальственными нотками. — Это твой шанс! Не упусти его! Тебе нужно строить свою жизнь, не оглядываясь на нас.
В кухне повисла вязкая удушающая тишина. Даже муха застряла в ней, затихнув на стекле.
— Маш, если что-то случится с бабушкой, не приезжай, — сказала мама. Слова выходили из нее с трудом, как будто моя всегда уверенная в себе мать разучилась говорить.
Несмотря на духоту, арктический холод поднялся от желудка и затопил тело. Руки заледенели.
— Мам, я…
— Послушай меня! — перебила она. — Ты столько трудилась, чтобы тебя позвали на эту работу! Думаешь, я не видела этого? Не смей отказываться от своей мечты! Хватит в этом доме разбитых надежд! — И тише закончила: — А это может случиться в любой момент, а лететь сюда тебе будет долго и дорого. Мы сами справимся.
— Мам…
— Мария, не мамкай! — снова повысила голос мать. — Знаю тебя, ещё чемодан не собран! А завтра уже лететь!
Да, мама меня знала.
Я утонула в пуховом одеяле маминых объятий.
— Мамочка! — Я всхлипнула. — Я так вас люблю!
— Иди, Машуль, иди. Не рви мне сердце.
Дерматиновая коричневая дверь закрылась за моей спиной и отрезала меня от мира, знакомого с детства.
В зеленом дворике хрущевки удушающе пахло жасмином.

Когда во всех дверях исчезли замки
Когда 13 мартобря во всех дверях исчезли замки, в дома ворвались обиженные собаки, чтобы разыскать в них книги и мороженое, хотя бы лёд, который налипает шишками на стенках морозилок. Потому что ничего ещё не придумали ни люди, ни собаки, что помогало бы стереть, смыть, прогнать обиду лучше приличных книг с достойным мороженым. Во время поисков эти собаки немного потревожили сами дома: вспушили застеленные постели, погрызли задранные кончики ковров и колпачки от утерянных авторучек, заслюнявили сверкающие чистые полы и новые шёлковые подушки.
Но! Все знали, что ругать их за это было нельзя. Потому что люди забыли, а собаки помнили, что жизнь, её веселье и радость, не живут в стерильных и чистых квартирах, они там медленно чахнут, затухают, вовсе погибая на шестые сутки. Жизнь живёт там, где есть взъерошенный поисками нужной кофты шкаф. Жизнь живёт там, где засохший, уже костяной яблочный огрызок спрятался под диваном. Жизнь живёт там, где среди чистых чайных ложечек лежит одна, облизанная после сгущёнки — мыть её не хотелось, а с виду непонятно (только если взять её в необратимо липкие пальцы).
И если вдруг кто забывает эти правила и противится, моет-складывает-вытирает-убирает до скрежета, то вся надежда остаётся на тех самых обиженных собак, о которых мы рассказали вначале. Поэтому важно не обижать их ещё больше и на всякий случай заиметь дома хотя бы одну приличную книжку (см. примечание 1) и хотя бы одно достойное мороженое (см. примечание 2), если вдруг вы ещё этого не сделали.
Примечание 1. Варианты приличных книжек:
— С. Довлатов «Чемодан»
— Д. Сэлинджер «9 рассказов»
— Р. Гари «Обещание на рассвете»
— В. Набоков «Дар»
— С. Соколов «Школа для дураков»
Примечание 2. Варианты достойного мороженого:
— шоколадное
— клубничное
— мятное
— (хотя бы) крем-брюле.
Избегайте лесных ягод и з.м.ж.!

Корни
Я повернулся спиной к Московскому вокзалу и пошел вдоль по проспекту. От его вечного шума укачивало, как от стука колес поезда. Перед глазами стояло лицо Насти, уже отделенное от меня оконным стеклом. Она умела смотреть как-то изнутри самой себя, выглядывала, как птица из гнезда, из своих глаз наружу. Меня замутило. Можно же было все обсудить!..
Я свернул на улицу Маяковского, на ней, в отличие от большинства мест в центре, росли хоть какие-то деревья. Вышел на Жуковского и нырнул в знакомый колодец: обвалившиеся куски штукатурки, зарешеченные мутные окна первых этажей, рядом с аркой на улицу — мусорный бак, около него огромная лужа с пленкой пролитого бензина.
Я глянул в серую воду — в ней отражалась крыша дома, на которой — и как я раньше не замечал — росло дерево! Я задрал голову: кривенькое и чахлое, оно то ли цеплялось за питерскую крышу, то ли пыталось с нее сброситься. Дерево-маргинал: корнями не прогрызть каменных мостовых, так оно на крыше, поближе к небу… Я представил, как деревце протягивает корни сквозь бетон и перекрытия и дотягивается до земли, навсегда врастая в дом, в землю и этот гранитный город.
Пока ты ветвями царапаешь небо, толкая свой ствол — выше, корни все глубже и неизменно в землю врастают неслышно.
Хотелось курить. Думать мог только о Насте. Вдруг налетел ветер, и деревце на крыше сильно согнулось, мне стало очень жаль его: едва ли ему удастся удержаться.
Ветер принес с собой грозовые тучи, они пролились каким-то особенным дождем, густым и мелким, больше походившим на туман: вода повисала в воздухе, укрывая все вокруг. Моя одежда отсырела, и сигарета погасла от влажности, а я так и стоял, задрав голову и глядя крышу, с которой ветер уже вырвал дерево.
И сейчас так стою.
***
Дом всегда остается домом, даже теперь, когда все вокруг стремительно меняется. Я сидела на полу в гостиной, уткнувшись в телефон: ежеминутное обновление новостной ленты стало уже чем-то вроде невроза.
— Дочка, может, хватит?
Отец сидел в кресле возле открытого окна. Раньше он любил здесь курить. Даже не верилось, что он так резко бросил: «Не хочу больше употреблять сушеные трупы растений!».
— Ты слышишь меня? — Повернулся от окна в мою сторону, и его голова на длинной шее нависла прямо над моим лицом.
— Ну что еще?
— Ты испортишь и нервы, и зрение, нельзя же так постоянно. — Отец говорил обеспокоенно, но мне было все равно.
— Я хотя бы что-то пытаюсь понять!
— Ладно. — Отец пожал плечами. — Вот, тоже попытаюсь. — Перегнувшись через подлокотник кресла, он дотянулся до журнального столика, взял пульт от телевизора. Я наблюдала за тем, как его узловатые пальцы пытаются нащупать нужную кнопку.
Через несколько секунд экран ожил деревянными лицами дикторов центрального телеканала. Монотонно и скрипуче прочитывались одни и те же тексты о превышенной норме осадков. Отец замер перед телевизором, вперив неподвижный взгляд в светящиеся изображения на зеленом фоне. Я, не в силах вслушиваться в репортаж, улавливала только отдельные, чаще всего повторяемые ведущими слова: эндогенность, аномалия… Наконец я не выдержала:
— Пап, ну не это же смотреть!
Отец, казалось, меня не слышал: будто прирос к своему креслу, не отрываясь глядел на экран. Я не верила официальным новостям — слишком все у них получалось просто и будто бы даже к лучшему. Решила выйти. Отец тут же отвлекся от телевизора.
— Вот, правильно, дочка, иди перекуси.
— Не хочется.
— Это все нервное. Нужно. Ты и так уже вся бледная, как мотылек.
Я кивнула. Выкарабкавшись из кресла, отец подошел и взял меня за руку — я почувствовала узловатые сочленения его пальцев.
Мы вышли на улицу. Трава разрывала кладку плиток садовой дорожки, покрывая зеленью весь двор. Солнечные лучи теплыми язычками лизали изголодавшуюся по ультрафиолету кожу — я несколько дней не выходила из дома. Я улыбнулась и запрокинула голову, подставляя щеки и лоб свету. Грузная фигура отца уже высилась в центре лужайки. Он поднял руки к небу. Еще не опавшие с его макушки остатки листьев шевелились на легком ветру, а на щеках все отчетливее проступал зеленый румянец.
Я встала рядом.
Насытившись солнечным светом, отец скинул кроссовки и с наслаждением встал на траву, зарываясь длинными пальцами ног в мягкий чернозем.
Я засмеялась:
— Пап, ты что, не наелся? — Он всегда просил добавки за столом, и вот теперь тоже.
— Да ты только попробуй, как вкусно! Земля-то у нас плодородная, чистый гумус. — Я колебалась. Из раскрытого окна доносился звук невыключенного телевизора:
Отечественные ученые считают, что мутации, произошедшие с жителями ряда регионов, стоит рассматривать исключительно в положительном ключе. Синтезированный на клеточном уровне хлорофилл способствует питанию солнечным светом, а развитие корневой системы позволяет получать дополнительные микроэлементы из почвы. Удобства подобной модификации очевидны…
— Ты свой зомбоящик не выключил.
— Ну почему сразу зомбирование? Все же по делу. Говорю тебе, попробуй.
Я нехотя высвободила ногу из ботинка, стопа мягко коснулась почвы, и вырвавшиеся из пальцев отростки моментально потянулись глубже, словно маленькие щупальца, исследуя пространство, переплетаясь с тонкими корешками трав. Отец пристально смотрел на меня.
— Хорошо, что ты вернулась из Петербурга. Здесь твой дом, твои корни.
— Не начинай, пап.
— Ты все сделала правильно. Ну не сошлись, с кем не бывает. Встретишь еще…
— Пап, прошу тебя! — Я так и не плакала с тех пор, как пошел дождь, но теперь почувствовала подкатывающие слезы.
— Тише дочка, все хорошо. — Отец протянул свои корни под землей ко мне — будто обнял. — Не убивайся, все еще будет…
Я не выдержала. Слезы крупными каплями потекли из глаз, они скатывались по щекам и сладковато отдавали древесным соком на языке.
— Ты вообще, что ли, ничего не понимаешь? И на Питер вылилось гораздо больше этой дряни, чем на нас! — Каждый листок на мне сотрясался. — Там вообще никто не уцелел!
— Но они и не погибли.
— А ты считаешь, что это жизнь?
— По телевизору это называют одеревенением.
— Ты точно дуб, пап.
Отец, издав какой-то скрипучий звук, отвернулся от меня и, подняв руки выше, направил ладони к солнцу. Высвободившись из земли, я двинулась к дому. У двери обернулась — отец стоял лицом на юг, монолитно и прочно врастая в пространство. На его плечо вспорхнула птица.
Гордясь своей кроной в летнем изводе, ты птицам даешь приют, а корни сквозь глину воду находят, где старые листья гниют.
Как бы то ни было, здесь мой дом.
На закате отец вернулся. Шаги звучали так, будто кто-то переставляет тяжелую кадку. Я сидела спиной к двери и вслушивалась. Топ. Топ. Топ. Подошел сзади и опустил грубую ладонь мне на плечо.
— Дочка.
Я снова всхлипнула, хотела что-то сказать, но вместо слов из горла вылетел только какой-то шелест.
— Ваня… Он неплохой парень. Жалко, что у вас так, и что он, ну…
Я развернулась и посмотрела в темнеющие глаза отца — бороздами древесной коры вокруг них уже залегли морщины. Когда только он успел так измениться?..
— Я должна была остаться с ним, но не захотела мириться и уехала.
— Ты же не знала. — Он тяжело вздохнул и продолжил: — Я знаю, каково это — терять близкого человека. Я очень любил твою маму.
— Прости меня.
— Ничего, дочь. Может быть, мы теперь будем жить лет по сто.
— Ага. Или двести.
— Да, не ухмыляйся! Кто знает. Наука быстро развивается: еще что-то изобретут, придумают способ… Это мертвых нельзя вернуть. А деревья — живые организмы.
— Спасибо, пап. Здесь и вправду хорошая земля — в ней легко пустить корни.
Я стала чаще бывать на улице, стоять на солнце, врастать в землю, дружить с птицами. Много думала о маме — воображала, какой бы она стала сейчас. Представить ее теперешний облик было почему-то даже легче, чем восстановить реальный по старым фотографиям — я почти не помнила ее. Иногда я засыпала, стоя во дворе, и тогда мне снились родители вместе и Ваня — мы все в большом доме с садом, стоим, держась за руки. Сны эти имели сладковатое послевкусие и янтарно-желтый цвет, теплые, как разогретая на солнце кора.
Новости теперь я читала все реже — среди оптимистичных заметок о прелестях метаморфоз почти ничего не писали о жертвах — тех, кто подвергся полной модификации. Сегодня в ленте наконец мелькнула заметка о Петербурге.
Самое высокое новодрево бывшей Северной Столицы обнаружено во дворе дома 13 по улице Жуковского. Высота растения составляет около 27 метров. Группа экспертов-ботаников определяет его как Вяз Шершавый (лат. Ulmus Glabra). Севернее Санкт-Петербурга представители данного вида встречаются лишь в Швеции.
Я тщетно пыталась увеличить мелкое фото в поисках знакомых черт. На фотографии — широкий ствол, расходящийся на две ветки в середине. Обычное дерево на фоне желтоватой стены дома. Руки задрожали, в глазах потемнело, а в носу запахло горелой древесиной. Чтобы не упасть, я с силой ухватилась корнями за поросшую дерном землю — лишь бы устоять.
Теперь я знала, что делать.
***
Дневной сон. Солнце ярко светит в окно, словно медом слепляет веки, и ты отдаешься дреме, засыпаешь с легким ощущением неуместности сна и собственной исключительности — не всем удается так отдохнуть в послеобеденный час. Когда случались плохие дни, спать днем хотелось особенно сильно. Настя от меня уехала. Эта мысль короедом грызанула изнутри.
Я чувствовал, как сон пробирается внутрь меня, как голова клонится к груди, а все тело наполняется тяжестью. Чудилось, будто ноги выросли непомерно — кажется, кто-то говорил мне, что это называется «синдром Алисы в стране Чудес». И потом босыми ногами я ломал асфальт, и мои стопы уходили куда-то глубже, а руки распахнулись так широко, словно я мог обнять весь этот город. Но обнимать хотелось только одну ее — ускользнувшую, тающую в сонной дымке. Хотелось нащупать ее сквозь землю, найти хотя бы самый тонкий ее корешок, дотронуться до него, как бывает соприкасаешься ночью ногами под наслоениями одеяла.
Мое тело — большое, весомое, возвышающееся, устремилось вверх и вглубь одновременно.
Ты тянешься к солнцу — могучие плечи расправив, борешься с ветром. А корни нежнее и бесконечней сети плетут метр за метром.
А потом снилось еще что-то темное, влажное, солоноватое, глинистое, и я был тонок и полз сквозь и искал, искал, искал, и было тоскливо, и одиночество прорастало повсюду, и снились опавшие листья, и было страшно, и все застывало будто бы окончательно.
А потом была весна и мои корни сплетались с корнями липы, и лето обещало быть лучшим, и просыпаться не хотелось.

Лабораторное утро
Сегодня я пришла на работу в семь утра. Прошла по узкому коридору без окон, с одной стороны заставленному по периметру шкафами с полезной лабораторной утварью, а с другой — завешанному плакатами с конференций и симпозиумов. С плакатов на меня смотрели диаграммы, фотографии кристаллов, шарообразные загогулины белков. Я чувствовала их укор — белки меня не любят, во всех моих опытах ведут себя просто отвратительно.
Завернула в инкубаторную, открыла одну из громыхающих кабин с надписью «27 градусов». Мои бутыли послушно остановили свое ночное колыхание, культуры в них еще по инерции бились о стеклянные стенки. Я осмотрела все шесть бутылей — цвет культур был нормальный, мутно-желтый, вроде никаких посторонних организмов там не растет. В кои-то веки.
Я не ожидала никого встретить на работе в столь ранний час, хотя если бы кто-то пришел и обнаружил меня, то мог бы, наверное, отметить мое усердие — обычно аспиранты заваливались в институт не раньше девяти, а то и десяти.
Но усердие здесь было ни при чем. Я не спала всю ночь. После разговора с научницей я не могла решить, продолжать ли мне вообще учебу здесь или стоит просто уйти.
Сквозь бессонный туман в голове я вспоминала вчерашнюю встречу с ней. Точнее, допрос. Мои слезы. Мое унижение.
— Я не уверена, что ты получишь степень. Ты не можешь делать даже простейшие вещи. Наука — это не твое.
Из ее кабинета я вышла в лихорадочном состоянии. Всю ночь читала форумы неудачливых аспирантов и их истории выхода из депрессии. Даже хорошо, что я не спала, иначе эти мысли раздирали бы меня и сейчас. Но в голове было пусто и гулко. Как будто какой-то занудный колокол бил в висок — тым-тым-тым.
Почему я ей ничего не ответила? Мне нечего было ей возразить. С первых дней моего пребывания здесь я чувствую себя чужой. Не такой умной, не такой увлеченной, не такой сфокусированной, не такой работоспособной. Не такой. Свою зависть в отношении своих более успешных однокурсников я тщательно скрываю. Хожу на домашние вечеринки, обязательно приношу свой алкоголь, болтаю с девочками и мальчиками (с первыми — более воодушевленно, с последними — более игриво). И при этом задавливаю тяжелые мысли, что я хуже их. Я хуже вас, а вы даже не подозреваете, какое я ничтожное ничтожество.
Путь мой лежал в стерильную комнату. Открыла дверь, и меня дернуло от неожиданности — там уже горел свет, гудел один из стерильных кабинетов, в него уткнулся Маркус — еще один аспирант, но только успешный, из группы профессора Мартина Уоллеса. Профессор этот печатается в «Nature» чуть ли не каждый месяц, а в «Science» чуть ли не каждый год. Маркус сосредоточенно сопел в стекло стерильного кабинета, руки в голубых перчатках ловко манипулировали над круглыми пластиковыми чашками, разливая в них розовую жидкость. Привет, Лера, сказал, не оборачиваясь, как будто поджидал меня. Мое имя он произносил, как, впрочем, и все в разговоре на английском, растягивая «э» и проглатывая «р», а не звонко и хрустко, как на русском, и мне всегда чудилось, что меня называют Лореляй, Лорна, Лира или как-то еще.
Маркус закончил свои стерильные манипуляции, оторвался от кабинета и поставил таймер. Что ты так рано? А, эксперимент, трансфекцию делаешь? Вирус используешь? А, еще бакмиду? Я тоже сегодня пораньше начал, просто не мог глаз сомкнуть, надо скорее начать! Мы делаем коррекции статьи для «Nature», эти зверюги столько запросили, но, черт возьми, мы же хотим там напечататься, так что проходится их удовлетворять, как всегда, в короткий срок, ты знаешь, Стив Уиттерс дышит нам в затылок, мы видели его на конференции, он идет по той же траектории, что и мы.
Я кивала, вставляла «оу ноу» и «ноу уэй», но хотелось мне при этом лишь ткнуть Маркуса пипеткой в глаз, чтобы не слушать про его так называемые проблемы со статьями, конкурентами и кого еще там надо удовлетворять, потому что мне и так было хреново и сочувствовать, вообще-то, здесь надо было моему бедственному положению.
Потом он начал рассказывать про планы на лето. Сначала конференция в Хорватии — там будет цвет не только молекулярной, но и, подумать только, структурной биологии! Будет профессор, в группу которого он хочет попасть после аспирантуры — надо ему рассказать о своем существовании и немножко поохмурять — рассказать про статью, мечты, устремления, планы на научную карьеру. Потом мы едем с ребятами в Италию дней на десять. А что у тебя, Лореляй?
Что я могу сказать? Ты знаешь, хотела поехать домой, но передумала, там сейчас такая обстановка, прямо скажем, нестабильная. Поэтому даже не знаю.
Но жаловаться на свою иммигрантскую долю я не буду. Отвечу что-нибудь нейтральное. Италия, вот это да! Прости, мне надо сосредоточиться, а то бакмиду не туда вколю.
Запищал спасительный таймер. Маркус снова припал к кабинету, интимно дыша в стекло, намереваясь раз и навсегда удовлетворить всех журнальных рецензентов.
Я тоже поставила таймер и вышла из комнаты. Тым-тым-тым. Зашла в нашу основную лабораторию, там было пусто, светло и прохладно. Остановилась у полки с кислотами. Они выглядели так безобидно, просто прозрачные жидкости, возможно, с легким запахом. А какие они на вкус? Вот эта серная кислота, в чистой бутылочке, название помечено так аккуратно — ну какой вред она может принести? Вот я ее беру, коротко вдыхаю, быстро отпиваю, бросаюсь на пол с нечеловеческими звуками в ужасе от собственных действий, но чувствуя, что избавление все ближе, и вот уже замираю с разодранной шеей, с искореженным лицом, но ужас на нем сменяется спокойствием. Меня находят. Что случилось? Все в шоке. Она была так молода! Да, с аспирантурой было не все гладко, она упоминала проблемы с руководительницей, но неужели это стоило того? Она недавно рассталась с бойфрендом… Но расстроенной из-за этого не выглядела! Какой кошмар!
Я поморгала, выходя из транса. Интересный сценарий. «Меня любите за то, что я умру». Фигушки, они только своими экспериментами и статьями интересуются, сухари. Бывший бойфренд здесь точно был ни при чем.
А если плеснуть в руководительницу? Смотреть на ее муки, спокойно и безучастно. Мысль ушла, не вызвав интереса. Нет, я же не монстр. Я бы начала хлопотать, заорала бы, позвала на помощь. А потом села бы в тюрьму. Вот еще, в тюрьму я и на родине могу сесть, стоило ли ехать на чужбину.
Я уставилась на пол и вдруг увидела там тысячи, миллионы следов. Это все были мои следы, мои усилия, от центрифуги к банкетке, от морозильника к весам. Столько времени, энергии, тревог, слез, погибших маленьких серых клеточек моего мозга. Работа семь дней в неделю. К чему? Чтобы напечатать статью? Даже не в «Nature», а в каком-нибудь несчастном «Журнале молекулярной биологии»?
Как я сюда попала, зачем это с собой делаю? И куда я могу уйти?
Я поняла — я схожу с ума.
Запищал таймер, но на этот раз не спасительный, а сбивающий с толку. Где я? Ах да, я в лаборатории, уже седьмой день подряд. У меня там томятся бакмиды, о них надо позаботиться, чтобы они сделали свое важное дело, и у меня была бы работа на несколько следующих дней, недель. Может, я не создана для науки, может, я вообще ни для чего не создана. Но меня там ждут, я не могу их бросить.
В стерильной комнате никого не было, гудел вентилятором только мой кабинет. Мои чашки переливались на свету желтоватой жидкостью.
Что ж, продолжим.

Лучшее время в жизни. Ночь
Я стою на темной кухне и запихиваю в рот печенье, сыр и опять печенье. Сейчас бы пельменей или торт, ведь праздник — добралась до вечера, уложила обоих, теперь можно дышать. Я за последние пару лет закинула в себя тонну печенья. Сладкие моменты родительской вольницы. Жевать и видеть через запотевшее окошко, как шагают по вечерним улицам люди, строят планы. Кстати, неплохо бы помыться, но, когда открываешь воду, кажется, дети плачут. Выключаешь — тишина. Включаешь — снова плачут. Сюжет для психиатра: «У меня в голове голоса! Срабатывают при включении душа!». На выходных помоюсь, там как раз Юда не работает.
Плач, тело сводит судорогой, проснулись? В три прыжка оказываюсь около прикрытой двери. Собака в стойке. Да? Нет? Ложная тревога. Низкое и мерное гудение раздается из кухни. Телефон! Да что ж такое? Мама звонит. Чтобы с ней поговорить, надо застегнуться на все пуговицы, включить бодрячка. Она как бы ничего дурного не спросит:
— Как там мои лапочки? Чем ужинали?
Лапочки опрокинули на меня йогурт с яблоком. Правильно, это не страшно. Побежала искать чистую одежду — ор. Влетаю обратно, у Шломит подгузник протек: «Ну, что ты, мышкин, со всеми бывает». Несу ее в комнату, Дава заплакал — не хочет быть один. Волк, коза и капуста. Переодела, усадила, остатки йогурта по тарелкам разложила — крик. Без яблока они не хотят, а яблоко по полу размазано. Второго нет, кончилось. Вот и поужинали. И посередине кухни, как памятник материнству — я в заляпанной футболке.
— Вы обязательно собирайтесь за столом всей семьей. Это так важно.
— Мама, Юда еще с работы не пришел.
— Такой голосок у тебя усталый, но, ты знаешь, это лучшее время в жизни.
— Наслаждайся каждой минутой, — воркует мама. — И не забывай их фотографировать. Я спать ложусь и все-все фотографии заново пересматриваю. Еще обязательно записывай, что они научились делать, что говорят. Все это так быстро забывается.
У мамы в голове рекламный плакат, на котором веселые родители и улыбчивые дети сидят на светлой и чистой кухне за красиво сервированным столом. Хорошо, про политику и «негатив» мы не разговариваем, только про здоровье и посевы, но дети? Про них можно по-человечески? Отбиваю мамин звонок, пишу: «Мамуля, прости, очень устала. Давай завтра?»
Действительно спать? Если лечь, получается, день прошел, а меня в нем и не было. Дети, работа, дети, дети, дети. Хорошо бы книжку, но я теперь читаю абзац три раза и откладываю. В голове все мигает и мешается. Тогда в кровать, слушать, как за стенкой кряхтят, вздыхают и поскуливают, но главное — не плачут.
Плачут. Вскакиваю. 02:13. Надо запомнить. Легла в десять. Сейчас два. Если на часы не смотреть, кажется, вообще не спала, а циферки на экране — объективное свидетельство. Спала, сука, не жалуйся.
В коридоре спотыкаюсь о Юдины ноги, он навалился на рюкзак и вырубился на диване около входной двери, в ботинках и куртке. Когда вернулся? «Мужчина, мужчина, вы тоже в этой квартире живете? Уверены?»
Сквозь плач различаю сердитое:
— Мама!
— Дава, что? Пить?
Пьет, долго ворочается. Лежу на полу рядом с его кроваткой и, просунув руку через решетку, глажу по ладошке. Вроде затих. Главное, не заснуть прямо тут, добраться до кровати.
— Юда?
Нулевая реакция. Ладно, оставим. Забираюсь под одеяло: «Я в домике, я в домике». В темноте раздается требовательное:
— Мама!
2:48, ложусь на пол.
— Я тут.
— Руку.
Протягиваю. Он потом и не вспомнит, как мы спали, взявшись за руки. Это странная мысль, мои дети ничего из этого не запомнят. Я им про эту жизнь буду рассказывать сказки, как мне рассказывает моя мама. Ее истории счастливые, а в моих воспоминаниях она в основном сердится, а если обнимает — до боли.
Мама пошла со мной в ясли забирать детей. Когда открыли дверь, малыш, стоявший около порога, осмотрел нас круглыми глазами, осел на попу и заплакал густым басом. Мама побелела, рванулась к нему и прижала к груди какими-то неживыми сведенными руками. Моя мама была падчерицей, старшей и нелюбимой. Как в дурной сказке. Смотрела за младшими братьями и за каждое их падение или драку получала тычки. «Если с ними что случится, голову сниму, ясно?» — это маме ясно даже в ее шестьдесят. Она сбежала за тридевять земель от отчима, то грозящего, то лезущего под юбку. Хотела поступить в институт в сказочном городе Ленинграде, не вышло. Найти принца — женат. Родить ребенка.
— О, ещё одну беременную с пиелонефритом привезли.
— С чем?
— Ну, помнишь, умерла одна на прошлой неделе?
Моя мама не умерла. Все вышло наконец, как она хотела. На следующий день после родов привезли младенца на кормление, мама услышала плач еще из коридора. Сначала услышала плач, потом увидела дочь. Хотелось ли ей задушить меня, чтобы я замолчала? Не подставила ее? Поняла ли я, что плакать не надо?
Плач не даёт мне думать, заполняет тело от низа живота до горлышка. Плач вкручивается в висок головной болью. Открываю глаза, я лежу на полу между детскими кроватками. Кто? Дава? Шломит заходится в крике и остервенело бьёт ногами по матрасу.
— Что-то болит? Мешает? — Я беру ее на руки, хочу укачать, успокоить, но она плачет громче, упирается руками в грудь, извивается. Кладу ее обратно в кроватку, кричит гневно:
— Мама!
Сажусь с ней в кресло, но она сползает на пол. Визжит. Плач заливается в меня как бетон, ломает кости, корежит.
— Что ты хочешь от меня? Скажи, что ты хочешь от меня? Успокойся!
Выключить этот адский звук сирены. Выбросить его из окна. Вылетаю из комнаты и с разгона налетаю в полутёмном коридоре на Юду. Он трогает за руку.
— Я уложу.
05:34. Через стену я слышу, как Юда говорит что-то ласковое. Визг не умолкает. Что-то бессмысленно нежное. Крик. Что-то. Рев. Мне трудно дышать, хочется ворваться в детскую: «Хватит! Замолчи!».
Отделаться от плача невозможно, он пробирается под кожу и жужжит там злой гневной осой. Кажется, я рехнулась.
Юда ложится рядом и обнимает.
— Заснула наконец. — Гладит меня по щеке. — Ты что, плачешь?
— Я хочу сдохнуть.
— Будут дни лучше, я точно знаю, будут дни лучше.
— Ботинки сними, оптимист.
Он послушно скидывает ноги с кровати, наклоняется и спрашивает глухо:
— Ты жалеешь?
— Нет.
Звенит будильник. 6:45.

Люси
Мы познакомились с Люси на похоронах. Стояла ранняя осень, клены на кладбище только начинали желтеть, первые холодные ветра трепали подолы жителей Хемптауна. Резной лист сорвался с дерева и пролетел, кружась, между двумя рядами ссутулившихся людей в черном, спланировав ровно на крышку гроба. Я приехал накануне и был мало знаком с близкими профессора Пеннерфильда, которому мы были обязаны сегодняшним торжеством, только несколько его коллег из университета да пара моих однокашников удостоили меня короткими кивками, когда я, сильно опоздав к назначенному времени, запыхавшись, поднялся на холм к нужному месту.
Мое опоздание не было проявлением безалаберности или неуважением к покойному (по правде говоря, профессору Пеннерфильду, или просто Джеймсу, как он просил себя называть, я был обязан успехом своей первой и единственной книги и, хоть мы и не много общались последние годы, питал к нему то уважение, которое питают друг к другу старые приятели). По правде говоря, мне было стыдно, что я так давно не навещал своего наставника, вложившего столько сил в мою литературную карьеру.
После выхода «Чёрного дрозда» я был слишком окрылен успехом и занят бесконечной чередой вечеринок и приемов в Нью-Йорке, потом же, когда моя карьера пошла под откос, а сам я несколько лет провел на окраине в компании пьяниц и проституток, сама мысль о том, чтобы предстать перед Джеймсом и признаться в собственных неудачах казалась мне невыносимой.
— Привет! — Незнакомый, чуть задиристый голос вырвал меня из мрачных раздумий. — Ты друг Джеймса или просто тусуешься?
Я повернулся. Передо мной стояла девушка лет двадцати пяти в коротком черном платье, уперев руки в бока. Лицо ее было ничем не примечательно, русые волосы собраны у лба черной лентой, слегка курносый нос, веснушки и бледная кожа идеально дополняли образ типичного жителя среднего запада.
Не дождавшись ответа, девушка отвернулась и стала поправлять волосы, стреляя прищуренным взглядом по толпе, которая начинала уже расходиться.
— Я… Я Лукаш, Джеймс был моим профессором в университете… очень помог мне с книгой… — наконец, промямлил я, выныривая из невеселых мыслей в реальность. — А вы? Ты?
— Люси. Джеймс был… моим отцом. — На последнем слове Люси как будто запнулась и тут же отвела глаза.
— Я не знал, что у профессора была семья, он не говорил…
— Хватит! — В голосе Люси вдруг наметились стальные нотки, но она так же быстро смягчилась. — Я не хочу говорить об этом. Пожалуйста. Расскажи о себе. Так ты писатель?
— Наверное… Был писателем… Я написал одну книгу, «Черный дрозд», но с тех пор… нахожусь в творческих поисках.
— Никогда не слышала, это о птицах? — Люси зевнула.
— Нет, это детектив. Про следователя, который расследует похищение картины, но нападает на след серийного убийцы…
— Класс! — Глаза Люси вдруг заблестели. — А ты сам убивал кого-нибудь?
— Нет, а это обязательно? — Я нехотя улыбнулся.
Болтая о пустяках, мы спустились к парковке, и Люси попросила подвезти ее до города. Мы ехали по проселочной дороге, тут и там по обочинам стояли старые фермы, крашенные в болотные и охровые цвета, заправки и автомастерские. Этот город давным-давно застыл во времени. Я косился на Люси. Ее нельзя было назвать особенно красивой, но шарм в ней был. Я засмотрелся на ее чересчур большие мочки ушей. Я подумал — интересно, каково живётся с такими ушами? Смущается ли она, когда чей-то назойливый нос оказывается слишком к ним близко? Проступает ли на ее белых щеках в этот миг румянец?
Мы въехали в город, когда Люси попросила остановиться у магазина и подождать ее пару минут. Я припарковался у входа и, открыв окно, закурил, лениво рассматривая пустую улицу, полную выцветших рекламных вывесок о пончиках за полцены и бритье за 2,99.
Вдруг что-то изменилось. Из магазина раздались крики, грохот, а еще через секунду взъерошенная Люси влетела ко мне в машину и заорала: «ГАЗУЙ!». В одной руке она сжимала пистолет, в другой — бумажный пакет, из которого в салон сыпались долларовые бумажки. Ничего не соображая, я вжал педаль в пол и помчал по дороге.
— Что это, на хрен было?
— А на что это похоже? — Люси прикурила от своего Глока, ствол оказался зажигалкой. — Храни господь деревню, где еще платят наличкой.
— Ты понимаешь, что я теперь соучастник преступления? — Я пытался собраться с мыслями, перед глазами плыло.
— Лукаш, пойми, наконец, нельзя писать о преступлениях, когда сам ничего о них не знаешь. Расслабься и поехали подальше отсюда.
Люси, казалось, была совершенно спокойна, как будто это и правда был просто поход за покупками. Я гнал по осенней дороге прочь из Хемптауна, шок постепенно сменился странным приятным возбуждением, мышцы расслабились, взгляд снова стал ясным и чистым. Не считая мелких драк в барах, я впервые нарушил закон, но не чувствовал угрызений совести, скорее, во мне затеплился странный, какой-то подростковый азарт. Люси покрутила ручку приемника и, найдя нужную песню, устроилась, мурлыкая себе под нос, с ногами на сиденье.
Уже ближе к ночи мы припарковались у мотеля в трехстах милях от города. Я был слишком взвинчен, чтобы спать, и наматывал круги по комнате, бормоча что-то о произошедшем, когда Люси, хитро улыбнувшись, заставила меня замолчать, прижав свои губы к моим в долгом поцелуе. Мы занимались любовью, Люси громко стонала, ее маленькая грудь прыгала перед моим лицом, а пальцы оставляли глубокие красные полосы на спине и шее. В голове шрапнелью взрывался коктейль из адреналина и похоти. Казалось, моя прежняя жизнь на мгновенье стерлась из памяти, разум и здравый смысл взяли выходной, и есть только здесь и сейчас, эта узкая кровать и связавшая нас безумная выходка.
Проснувшись, я сразу понял, что что-то изменилось. Кровать была пуста, никаких признаков Люси не было. Кошелек, часы и телефон исчезли, как и ключи от машины. Смысла идти проверять парковку не было. Допив остатки виски из бутылки, я нашел сигареты и затянулся. Из раскрытого чемодана, как будто насмехаясь надо мной четырьмя рядами зубов, выглядывала печатная машинка. Повинуясь давно забытому инстинкту, я взгромоздил старушку на стол между стаканов и окурков и, будто в трансе, до самого вечера стучал по клавишам не в силах остановиться.
Спустя несколько недель, вернувшись домой и удивив прежних издателей черновиком новой книги, я попытался разузнать о судьбе Люси через общих знакомых из близких друзей Джеймса, но раз за разом получал удивленный ответ — никакой дочери у профессора не было.

Мамина гордость
Мамина гордость, лауреат музыкальных конкурсов, Саша Бруснецов встал рано, до звонка будильника. Он побрился, надел на себя два комплекта нижнего белья и свежую, хрустящую снежно-белую рубашку. На случай задержания положил в нагрудный карман договор с адвокатом. Длинными, тонкими, почти девичьими пальцами застегнул пуговицы серого драпового пальто, надел начищенные туфли. Более подходящей одежды у него не было.
Его била нервная дрожь, как перед выпускным экзаменом из консерватории, когда и идти страшно, но и не идти не можешь. В наушниках на репите играл Бетховен «Симфония №5 до минор». Еще со студенчества только она могла поддерживать нужный градус адреналина в крови, не давая сдать назад, поддавшись страху и сомнениям. С ней в ушах он шел на экзамены, музыкальные конкурсы, прослушивание в оркестр. Теперь же она давала ему силы выйти из дома.
Саша шел гулять в центр.
Несмело и едва неуловимо в городе пахло весной и — гораздо больше — пылью. В кармане пальто завибрировал телефон. Саша накрыл его ладонью. Наконец, телефон стих, но, взяв паузу и разгон, завибрировал с новой силой. Так мог звонить только один человек, и дешевле было ему ответить.
— Привет, мам, — сказал Саша почти спокойно.
Он двигался в небольшой колонне по тихой пустынной улочке. Лучшее время, чтобы ответить на звонок.
— Саша, а ты где? — услышал он в трубке мамин голос.
— Гуляю.
— Я голубчиков привезла, а тебя дома нет.
— Мам, я гуляю, — повторил Саша, стараясь сохранить спокойный тон. — И я устал повторять: я ненавижу голубцы.
— Саша, ты такой худой! И у тебя в холодильнике пусто, я проверила. — Мать оседлала свою любимую тему. — Мама старалась, маму нельзя обижать, а голубчики свежие. Cъешь.
Он вышел на широкий проспект, где шумела толпа. Она текла, разбивалась на рукава, огибая припаркованные машины, сливалась снова в необъятную людскую реку. Бурлящая энергия захватила его и, пройдя по телу электрическим разрядом, придала ему сил.
— Мама, очень прошу, забери их обратно. Я не буду их есть. — Лед напускного спокойствия треснул, Саша начал злиться. — И очень прошу, не носи мне ничего без спроса.
— Александр, как ты разговариваешь с матерью? — Мать мгновенно перешла в ультразвук.
Саша молчал. Он знал, что скандал — это вопрос времени.
— Алло? Александр, ты сейчас где? — после паузы спокойнее спросила мать. — Что у тебя там шумит?
— Люди. Люди шумят, — сказал Саша, глядя в затылок человека, несущего над головой большой плакат.
— Я тебя не слышу! Какие люди? Саша, ты опять поперся на эти свои митинги? Они же все там проплаченные! — снова завелась мать. — Саша, чего тебе не хватает?
Он с легкостью представил себе, как мама трясет воздетыми в трагическом жесте руками.
— Я не хочу жрать то, что дают! В том числе и по телевизору. И мне никто не платил! — прокричал Саша в трубку. — Если ничего не поменяется, я уеду!
— Кому ты там нужен? — перекрикивая толпу, выплюнула мать. — Ты такой же дурак, как твой покойный отец!
— Пока, мам!
И, не дожидаясь ответа, Саша отключился. Если он вернется этим вечером домой, мама точно устроит скандал. Но это будет потом.
На проспект выехали водометы. Толпа, еще недавно текущая полноводной рекой, уперлась в черную плотину щитов, немного отхлынула и замерла.
— Стоим! Стоим! — По толпе прошел подбадривающий гул. — В сцепку! В сцепку!
Плечи срослись с плечами, локти с локтями. Цепь рук, стена тел. Время вязло на зубах топкой, тягучей патокой, чтобы взорваться в следующую секунду. Начался разгон. На толпу накинулся черный яростный шторм, щитами сминающий первые ряды, дубинками ломающий все на своем пути. Поверх голов Саша видел только черные, ртутно блестящие шлемы, слышал крики и глухие удары дубинок. Толпа возмущенно подалась вперед. Удары и крики стали яростнее.
В центр толпы ударила струя из водомета. Толпа раскололась. Чужие плечи и локти, дававшие ощущение безопасности, теперь жалили и пинали. Спина, ребра, грудь. Толпа крутила его, как щепку, и наконец вынесла к началу колонны, в эпицентр черного яростного шторма, прямо под град дубинок.
Закрытая на три оборота входная дверь отрезала Сашу от внешнего мира. В квартире было тихо, холодный утренний свет пробивался через незанавешенные окна. Мама его не дождалась. Саша, не разуваясь, проковылял в ванную. Каждый шаг отдавался в голове колокольным звоном. В зеркале сквозь разбитые линзы очков он увидел серое до синевы, острое лицо, на левой стороне лица фиалковым цветом распускался уверенный синяк. Саша потрогал его кончиками пальцев. Щеку прострелило болью. Попытался умыться, но как только Саша наклонился к раковине, к горлу подступила тошнота. Сашу качнуло к стоящему рядом унитазу. Его вырвало.
Обессилев, он, как был, в грязном пальто и пыльных туфлях, свернулся калачиком на полу в ванной, плитка приятно холодила разбитое лицо. В голове было тихо и пусто, звон в ушах стих. На Сашу неподъемной плитой навалилось оцепенение, когда это еще не сон, но уже и не явь, а что-то между.
На набережной было слишком людно даже для субботнего дня. Распогодилось, и весь город устремился к морю. Люди толпились около ларьков с мороженым, по променаду прогуливались парочки, по велодорожке пролетали велосипедисты, вдоль линии прибоя носились дети, с визгом отскакивая от особенно резвых волн. Идеальная европейская пастораль.
Яркое майское солнце слепило глаза даже через линзы-хамелеоны новых очков. Саша плотнее запахнул пальто, у воды было еще достаточно зябко. Химчистка обошлась недешево, но даже ей не удалось полностью убрать въевшиеся бурые брызги с серой драповой ткани. В ледяных пальцах тлела сигарета, Саша глубоко затянулся. Телефон в кармане вибрировал уже шесть минуты. После того телефонного разговора на митинге они больше не общались. Мать набирала раз в неделю, набирала один раз, Саша не поднимал трубку, и до следующей недели звонок не повторялся. А сегодня мама звонила и звонила, не переставая.
Саша достал телефон из кармана пальто и уставился на экран. Палец лег на кнопку выключения устройства и замер. А вдруг что-то случилось? Вдруг мама в больнице? Вдруг ей нужна помощь?
— Алло? — сказал Саша хрипло.
— Сашенька, дорогой. Приезжай ко мне, я тебе котлеток приготовлю.
— Мам, не могу. Я уехал.

Настино счастье
Настя сидела на кухне и вглядывалась в бледно-коричневую глубину чая. Там, на самом дне чашки, все казалось тихим и уютным. Ложка колокольчиком позвякивала по стенкам, встряхивая одинокую чаинку. Она нервно крутилась в водовороте чая и снова оседала на спокойное дно.
— Сказала бы вчера, хоть что-нибудь купили бы, — бурчал папа, хлопая дверцами шкафов.
Мама еще не пришла с ночной смены, и ситуация выглядела безвыходной.
В холодильнике стояли соленые огурцы и помидоры, полупустая банка кетчупа и немного сливочного масла, но все это не годилось для школьного пикника.
Настя вздохнула и подумала про себя: «Неужели, если бы сказала, все было бы по-другому? Вдруг появились бы сосиски, или бутерброд с колбасой, или вареные яйца, пусть просто с солью». Настя еще раз посмотрела на дно чашки. «А может быть, — продолжила она про себя, — можно было бы купить печенья или конфет, например, маминых любимых “Три медведя”, или “Школьных”, хотя они, конечно, не такие вкусные, но их можно побольше, чтобы еще с одноклассниками поделиться».
Наконец, папа догадался заглянуть в хлебницу. Он извлек оттуда слегка подзабытую краюху батона, понюхал ее, потом разрезал пополам, смазал оставшимся сливочным маслом и завернул в газетку.
— Вот. Все, что нашел.
Настя вздохнула и опять подумала, что все могло бы быть по-другому, если бы она только не забыла сказать, что у них пикник. «Хотя мамин аванс 17-го числа, а сегодня только 8-е, но, наверное, можно было бы занять». Настя часто слышала, как родители обсуждали «занять», а потом, уже без обсуждения, от зарплаты откладывалась пачка на «отдавать долги». Настя училась в четвертом классе, могла умножать, делить и решать сложные задачки, однако эта задача с «занять и отдать» не имела для нее никакого смысла. Зачем занимать, если потом нужно опять отдавать? Получался какой-то замкнутый круг.
Стоял май, на улице было серо и немного зябко. Небо, придавленное к земле тяжелыми тучами, нехотя слезилось. Хотелось заболеть или опоздать, но мама будет дома через пару часов, и за прогул Насте точно попадет, а опоздать не получится вовсе, так как до школы пять минут пешком.
Самым страшным казалась встреча с Ольгой Николаевной. У нее был особый талант ставить Настю в неловкие ситуации. Одна из таких ситуаций случилась совсем недавно, когда Ольга Николаевна решила факультативно преподавать классу историю края. Единственный учебник родителям предложили отксерокопировать. Сначала Настя долго выслушивала мамино негодование: «Ну и где я найду этот ксерокс?», а потом, когда ксерокс все-таки нашелся, не менее длинную речь о том, как пришлось упрашивать начальницу и чем-то подкупать. Неприязнь к истории края у Насти появилась сразу же. И вот теперь пикник.
Настя вышла за калитку и наткнулась на изьеденный дождем, неровный, с острыми краями камень. Он был не больше крупной картошины. Настя отковыряла его сапогом и начала пинать вдоль проселочной дороги в сторону школы.
Школьная дубовая дверь тяжело скрипнула и с обреченностью грохнула позади Насти. Стены общего просторного холла, наполовину выкрашенные синей масляной краской, пузырились и плыли подтеками. Стайки школьников толпились и хаотично расползались по своим классам, в то время как Настя, ныряя между ними, продвигалась в направлении коридора, где был расположен ее класс. Коридор был темным, без окон и света, и походил на пасть огромного кита. Идти по нему приходилось на ощупь, ориентируясь на очерченные светом прямоугольники дверей вдоль левой стены. В самом конце коридора Настя нащупала холодную металлическую ручку.
Дверь в 4 «А» свободно болталась на петлях и отвалилась к стене, как пьяный школьный сторож дядя Леша. На Настю обрушился веселый галдеж одноклассников, предвкушающих пикник. Настя прокралась в противоположный угол комнаты на свое место, украдкой посматривая на туго набитые портфели и пакеты ребят. Сашка, сосед по парте, сбежал к своему другу на первую парту.
Ольга Николаевна дождалась, когда все усядутся, и с некоторым облегчением объявила, что поход отменяется из-за дождя:
— Останемся в классе, съедим все, что принесли, чтобы не тащить обратно. Можете поделиться с соседом. А потом все — по домам.
Последовало общее негодование, вскоре потонувшее в шорохах, звяканье, общем чавканье и хохоте.
Настя с облегчением выдохнула и полезла за своим свертком. За спиной послышалось нерешительное шуршание. Она оглянулась. Снизу вверх на нее устремился вороватый взгляд Димки. Сгорбившись над приоткрытым с одного конца кульком фольги, он исподволь что-то отщипывал и таскал в рот.
— Чего это у тебя там? — с любопытством спросила Настя.
— Рыба, — почти шепотом сказал Димка и чуть погромче добавил: — жареная.
— А-а-а, — протянула Настя, удивляясь столь необычному для пикника лакомству и одновременно пытаясь вспомнить, когда она в последний раз ела рыбу, — Вкусно, наверное?
Димка утвердительно мотнул вихрастой головой.
— А у тебя чего?
— Да вот, просто бутерброд с маслом.
— Здорово! Хоть есть удобно, — сказал Димка, вытаскивая масляную кость и пристраивая ее на тетрадный лист.
Настя, наконец, достала свой свёрток и обнаружила на дне портфеля папин термос с чаем. «Наверное, положил, пока я собиралась». Она налила в крышку и отпила. Чай был крепким, сладким и приятно согревал.
Сзади Димка поперхнулся и начал кашлять. Настя повернулась:
— Чай будешь?
— А ты? — откашливаясь, выдавил Димка.
— Бери крышку. Я из термоса попью.
Димка взял крышку и, выразительно чмокнув, отпил уже чуть остывший чай. Они оба уставились в окно на школьный сад, где солнце понемногу проклевывалось сквозь тучи, отражаясь золотыми кляксами на листьях яблонь. Настя сидела в своем уютном одиночестве, пережевывая залежавшийся сухой батон с редко попадающимся маслом. Он был ничего, а с папиным чаем даже каким-то особенным.
Когда Настя скрипнула деревянной калиткой дома, мама уже сидела на приступке перед входной дверью. Она пила чай после ночной смены и ждала Настю. Мама и Настя иногда сидели вот так на ступеньках и представляли, как однажды у них будет большое крыльцо с навесом, где можно будет сидеть с друзьями, где мама повесит корзины с цветами и пустит лозы винограда, где будет стоять лавочка и маленький круглый столик для чаепития. Настя села рядом с мамой, прижавшись к ее теплому боку, и отпила немного из чашки.
— Как прошел пикник?
— Хорошо. Мы никуда не пошли.
Мама усмехнулась, пошарила в кармане кофты и достала целую плитку шоколада.
— Держи. Больные угостили.
Настя вцепилась в приятно шуршащую обертку и тут же уткнулась в нее носом. Пахло больницей, лекарствами и хлоркой, а если вдохнуть глубже, можно было разобрать тонко пробивающийся запах молочного шоколада. Настя положила голову на мамино мягкое предплечье и закрыла глаза, слушая, как вокруг шуршат листья винограда и яркими пятнами плывут цветы в подвесных корзинах.

Наташа
И лишь только Кузьма Степанович ступил носком правого ботинка на пыльный пол, как тут же почувствовал в квартире чьё-то присутствие. Присутствовали голуби, в количестве семи штук. Голуби посмотрели на Кузьму и, заурчав, вспорхнули к потолку. Кузьма проводил птиц взглядом, огляделся и, окрестив единственного проигнорировавшего его голубя Михаилом, полностью погрузился в полумрак.
Странной была квартира: ни обоев, ни паркета, ни перегородок меж комнатами. Непрестанно слышалось не то шипенье, не то бульканье, а в углу чернел какой-то вытянутый громоздкий предмет. Кузьма прищурился, цокнул языком и, решительно шагнув к окну, раздвинул шторы. Голубь Михаил, настороженно подойдя к Кузьме, клюнул что-то у него под ногой.
За окном с высоты тридцатого этажа пестрели человейники. По условным трассам ползли машины — божьи коровки, им вслед спешила синяя гусеница — троллейбус, и всюду копошились маленькие точки — люди.
Вот уже в углу примостился не злобный тролль, а дубовый шкаф с львиными ножками. У стены шипит не змея, а вода, бегущая из крана. Кухню здесь, что ли, хотели устроить? Кузьма деловито подскочил к изумительно чистой раковине и перекрыл ход пузырящейся струе. На миг стало тихо. Кузьма осторожно повернулся и ещё раз прощупал квартиру глазами.
Михаил закричал! И издав этот болезненный, злобный крик тут же взмыл на перекладину к потолку, наводя суету среди прятавшихся там пернатых собратьев. Дверцы шкафа с треском распахнулись, и на Кузьму обрушилось нечто белобрысое.
Кузьму прижало к стене, протащило его вдоль и вверх, так, что бережно причёсанный затылок попытался пробить потолок. Голуби всполошились, заметались по комнате, сыпля белоснежными перьями.
Среди хлопанья крыльев, среди серости и мусора стояла крохотная девочка и сверлила Кузьму Степановича взглядом. Росту в ней было от силы метра полтора, сама щуплая, курносая, в лёгком платьице. Несмотря на то что невидимая сила зажимала Кузьму в крайне неудобном положении у самого потолка, он ухмыльнулся. Девочка не была девочкой. Она и человеком не была. Все цвета её тела были вывернуты наизнанку, словно на негативной фотографии. Кузьма Степанович хотел было что-то сказать, но девочка рассерженно топнула ногой и исчезла в яркой вспышке. Подняв облако пыли, Кузьма обрушился на пол.
Лифта в доме не было, по лестнице бежать не хотелось, и я сиганул из окна. На заметку — асфальт на вкус горький. Поднялся, вправил шею, обозвал остолбеневших бабушек у подъезда наркоманами и затрусил дальше по улице. Остановил паренька, спросил, не видел ли он тут чего необычного. Заметил Наташу в конце улицы. Наташа заметила меня и швырнула киоск с мороженым. Выбрался из-под обломков, вручил мальчику фруктовый лёд и сообщил, что он ничего необычного не видел. Наташи уже не было. Я боялся провалить задание, а мальчик боялся меня. Спросил, куда побежала девочка. Мальчик сказал, что эыэых, и указал пальцем на троллейбус. Троллейбус уже отходил от остановки. Я рванул следом со скоростью 40 километров в час. Прохожие сочувственно закивали вслед. Догадался оборвать провода. Вспомнил добрым словом Ома и Ампера. Троллейбус встал. Я сел. Наташа в метро. Я за ней. Наташа переместилась сразу к поездам. Я побежал покупать билетик. Кассирша удивилась, почему мелочь из карманов моего истлевшего комбинезона магнитится, но уступила. Проскочил турникеты. Поезд уже подъезжал. Наташа шагнула с платформы.
Трёхсотлетний упырь Кузьма Степанович был на своём первом официальном задании. Целью была регистрация берегини Наташи — маленькой девочки с белоснежным каре и вздёрнутым носом. Наташа, как и Кузьма, была нечистью, но, в отличие от него, не желала иметь с людьми никаких официальных соглашений, она бы, скорее, бросилась под поезд. Кузьма же, окрылённый тем, что его излечили от жажды крови, что он был впервые за три сотни лет кому-то нужен, стремился во что бы то ни стало выполнить миссию. Он бы, скорее, поменялся местами с Наташей, чем позволил ей прыгнуть на рельсы.
На долю секунды тени сгустились, а освещение приобрело алый оттенок. Дама с сумкой, что стояла на эскалаторе за Кузьмой, разжала пальцы. Через секунду по лестнице должны были посыпаться яблоки, а окружающее пространство должен был пронзить режущий слух вопль. Но только через секунду. А тем временем серая тень с горящими желтыми глазами метнулась змеёй вниз и когтистой лапой ухватила Наташу за ткань платья. Негативные белые зрачки Наташи расширились. Она вскинула тонкую руку, прикрывая голову — всего в десяти сантиметрах от неё, выплывая из тьмы туннеля, ревел и скалился фарами первый из вагонов.
Рывок. Вопль. Яблоки, скачущие вниз по эскалатору.
Наташа лежала на леденящих кожу мраморных плитах станции и, опираясь на локоть и переводя дыхание, смотрела, как из-под поезда что-то хрустело, чавкало и брызгало серо-бурым.
Свет погас. Всё стихло. Наташа чуть слышно выдохнула и поднялась. Над её головой засветилась тонкая полоска, очерчивая ровный круг. Нимб. Наташа развела руки в стороны. Поезд вздрогнул, скрипнул, ахнул, завизжал и выгнулся исполинской дугой.
Шлёпнув ладонью о платформу, истекая чем-то тягучим и липким, из-под него выбрался упырь. Он был высок, тощ и лыс, а кожу его буравила сеть вздувшихся вен. Упырь не мигая смотрел на Наташу. Та опустила руки, свела брови домиком, попятилась и чуть заметно помотала головой. С чудовищным скрежетом поезд опустился на рельсы. А упырь всё смотрел своим желтым взглядом и нависал над девочкой. Вдруг острые уши его встрепенулись — там, далеко над землёй, он различил топот десятков ног. Тяжелых. Спешных. Неумолимых. Наташа вздрогнула и посмотрела на угрюмый зев, ведущий к поверхности. Теперь она тоже почувствовала — за ней уже шли. За ними шли. Наташа ещё раз, часто дыша, взглянула на упыря и исчезла в яркой вспышке.
Кузьма Степанович запрокинул голову и немного постоял в тишине. Чуткий слух словно рисовал перед ним картину, как маленькая девочка, ступая босыми ногами, оглядываясь, пробирается по пустым туннелям метро. Картину эту постепенно стал перекрывать грубый топот сапог, спешащих вниз на станцию. Кузьма вздохнул и шагнул навстречу тем, кто отправил его на задание.

Ниточки
В солнечные дни Ася просыпалась от полосок света. Они покрывали стены и пол, ложились теплом на лицо, окрашивали изнанку век в красный. Ася сразу вставала и, переступая через ленты солнечных лучей на паркете, шла к окну — открыть, впустить ветер. Спотыкалась — не о плоские ленты под ногами, а обо что-то ощутимое, растянутое над полом. Стараясь удержать равновесие, хватала руками повисшие в воздухе пылинки. Над щиколоткой проступала белая черточка.
В пасмурные дни Асю навязчивой мелодией тормошил будильник. Рука устремлялась к телефону, словно кто-то дёргал за ниточку, обмотанную вокруг запястья, выключала будильник и ставила новый — через пять минут. Действие повторялось несколько раз, пятиминутные отрезки растягивались до часа.
Потом появлялись остальные ниточки и вытаскивали Асю из кровати — в душ, на кухню, на улицу. Ниточки тянули её от квартиры к офису, затем обратно в квартиру. Ниточки были прочные и резали кожу, а вместе с кожей — всё, что внутри. Ася говорила им — пожалуйста, давайте сегодня полегче, но ниточки не слушались Асю. Возможно, ниточками управляла Асина мама, которая звонила каждый день и писала каждый час, вываливая на Асю охапку своих тревог. А может, ниточки контролировал отец. Он не звонил и не писал, и всё равно осуждающе присутствовал рядом. Ты что, устала? Ты у нас теперь не лучше всех? Куда подевались твои пятёрки, они у тебя сейчас — только пять крестиков в неделю на календаре?
Ася запиралась в ванной, включала воду и плакала. В стакане одиноко торчала растрепанная зубная щетка с пожелтевшими волосками, на полке под зеркалом лежали полупустые баночки и тюбики, сбоку висело влажное полотенце. Ниточки заставляли Асю закрывать дверь на защелку и стежками сшивали губы — плачь-ка потише, чтобы соседи чего не подумали.
Ася смотрела в зеркало, из зеркала смотрела Ася — лицо красное, отёкшее от слёз. Косметика неравномерно смазывалась, на коже местами обнажались, проступали широкие поры.
Сейчас через поры внутрь польётся, говорила себе Ася — и так успокаивалась.
А потом случилось оно.
— Инсульт, — определил гугл.
— ВСД, — вздохнул врач скорой помощи, приехавший на вызов.
— Паническая атака, — усмехнулась коллега, которая никогда не брала отпуск и уже несколько лет посещала психолога. Выгорала.
Это действительно было похоже на атаку, на нападение. Паника липкими лапами захватывала мозг. Она вползала откуда-то из живота, по пути выворачивая внутренности наизнанку. Поднималась к горлу, цепляясь за голосовые связки, и приклеивала их друг к другу. Сначала закладывало нос, потом уши. Дышать и слушать становилось тяжело, будто всё вокруг и изнутри наполнялось водой. Картинка затемнялась. В висках стучало.
Ася стояла на эскалаторе и считала по головам людей, проезжавших на встречном наверх. Люди смешивались в одну неровную, скакавшую то вверх, то вниз линию, словно выведенную толстым маркером. Люди были черными — черные кружочки голов, черные одежды, черные смазанные лица. Внизу шумел поезд метро. Ася уговаривала себя — это не метро, это море, большое и тоже черное, и безопасное, потому что на пляже всегда есть спасатели, а у них — спасательные лодки, и спасательные жилеты, и спасательные круги, и свисток. И если она вдруг начнет тонуть, кто-то из них засвистит и сядет в лодку, а может, и лодки никакой не понадобится, потому что Ася никогда не заплывает на глубину, её и так достанут с берега, подплывут к ней за минуту, она даже нахлебаться не успеет.
Идея покинуть Москву, где Ася жила уже шесть лет, возникла после нескольких месяцев, которые Ася провела в компании психолога — специалиста по паническим атакам. Психолог утверждал, что надо прислушиваться к себе, и однажды Ася услышала, что ей пора.
Но у Аси были ниточки, и теперь они натянулись, как струны гитары после подкручивания колков. Когда Ася собирала чемодан, ниточки подвесили Асю к потолку и заставили смотреть на Москву из окна. Ты вот отсюда уезжаешь, от всех этих огней, которые были чужими, а сейчас почти твои, немножко потерпишь, и станут ещё ближе.
Ася вспомнила студенческое общежитие на окраине столицы — летом, в промежутках между экзаменами, во дворе собирались знакомые и посторонние, застилали сырые лавки истертыми колючими пледами и пели под расстроенные гитары что-то про лучший город Земли и про новые повороты. И всех их, сидевших с гитарами и без, на несколько часов опутывало ниточками — тонкими и недолговечными, как паутинки. И над двором мерцали звёзды, которые видны только юным и бесстрашным. И казалось, что планета — маленькая, можно легко обойти вокруг, не запнувшись, время — спираль, а каждый поворот приведёт их обратно в эту точку, и никто не повзрослеет.
Таких звёзд Ася больше не видела, зато каждый день видела огни. В дождливую погоду мокрое, побитое каплями стекло превращало горящие снаружи фонари в шапочки бенгальских огоньков. А когда Ася изредка брала такси, чтобы добраться из одного конца Москвы в другой, огни нарядных витрин летели мимо яркой стеной. Огни были холодными, но однажды обещали потеплеть, и Ася всё ждала, вглядывалась в них.
— Я же вернусь, — взмолилась Ася.
Вообще-то, билет у неё был в одну сторону — в Петербург, про который Ася много слышала, но ни разу не видела.
Чемодан был больше Аси. Он катился впереди, и Ася за ним не успевала. Доехав до стойки регистрации, чемодан встал в змейку-очередь, и через секунду Ася услышала за спиной знакомый голос.
— Ася?
Щекам стало жарко, а рукам — холодно. Ася вдохнула — глубоко, как перед погружением в воду, и на выдохе обернулась.
— Никита? Вот так встреча.
Он почти не изменился. Немного поправился, отпустил волосы на голове и на лице и почему-то загорел. Ася смотрела на его тёмные руки — те же кривые, неровные ногти. Он так и не научился за собой ухаживать — одежда была помятой, джинсы сползали ниже, чем нужно.
Они учились в одном классе и практически не общались. А после выпускного зачем-то вместе пошли встречать рассвет на набережную и, пьяные от свалившейся на них взрослой свободы, неумело целовались взасос. Потом было первое лето-уже-не-каникулы и первая как-будто-любовь.
Прохладными сиренево-июньскими вечерами они лежали на скрипящем диване с кучей конфет и чередой тупых фильмов на стареньком ноутбуке. Родители Никиты с конца мая и до августа уезжали на дачу, и Никита приводил Асю к себе на чай, а она оставалась на ночь. Они обнимались, попеременно закидывая друг на друга руки-ноги, закручивались в кокон из общих ниточек, и у Аси в голове бегущей строкой мелькало: я бы всю жизнь согласилась так провести с ним в этих клейких фантиках, лишь бы его пальцы навсегда остались на моей спине.
Однажды Никита сказал, что нужно что-то делать дальше. Он знал что, но не знал как, поэтому купил вино и рассчитывал, что оно само. Асе дальше не хотелось, но и Никиту обижать не хотелось тоже, поэтому на вино она согласилась. Вина было слишком много для щуплой, как говаривала Асина мама, Аси. А её сил оказалось слишком мало, чтобы спихнуть с себя крупного Никиту. Кричать было неловко. Когда стало страшно, Ася начала отбиваться, но Никита продолжал упорно, мокрыми пальцами, вдавливать её в матрас. Грудная клетка под тяжестью Никитиного тела вжималась в лёгкие. Фантики под спиной корябали кожу. Тысячи ниточек примотали Асю к пружинкам матраса, тело больше ей не подчинялось, и Ася крутила головой, уворачиваясь от несвежего дыхания Никиты. Было больно, но больше, конечно, стыдно. Утром на простыни они обнаружили пятно крови и вместе замочили простынь в тазу в ванной, потому что стиральной машинкой пользоваться не умели.
Ася продолжила приходить к Никите на диван, но ночевать уходила к себе.
Лето стремилось к осени, Ася собиралась в Москву. Она поступила в престижный вуз, почтой отправила туда документы и уже числилась в списках студентов. Папа гордился, мама плакала. Никита в последний вечер тоже плакал, зажав Асю между собой и диваном. Ася чувствовала, как от его футболки пахнет потом. Никитины родители пока не вернулись с дачи, а с машинкой он так и не разобрался.
Ниточки между ними ослабли почти сразу и окончательно порвались ещё до первой Асиной сессии. Истончившись, они расползлись лохматыми волокнами, и никакие узелки не смогли бы соединить их обратно. Никита неохотно отвечал на сообщения, а потом и вовсе перестал. Ася удалила диалог, чтобы он не цеплял взгляд статусом непрочитано. Ася пошла на первое настоящее свидание — с рестораном и цветами. Ася вступила в полуторагодовые отношения, потом в другие — на полгода дольше. Ася забыла фамилию Никиты.
- Ты домой, говорю?
Голос Никиты вернул её в очередь, к стойке регистрации. Ася с удивлением поняла, что родной город за эти шесть лет посетила всего два раза — лететь долго, билеты дорогие, девятичасовая разница во времени на неделю выбивала из ритма. Да и родители часто ездили в отпуск к Чёрному морю и подхватывали Асю с собой, так всем было удобнее. А дома — ну что там делать?
Ася чувствовала, как какие-то другие ниточки, не эти, режущие леской, а мягкие, словно вытянутые из мотка пряжи, оплетают её пальцы, которыми она теребила паспорт с вложенным в него билетом.
— Да, домой, — ответила она, прикидывая, сколько будет стоить билет, если купить его прямо сейчас.
— Понятно. А я в Питер, отдохнуть хочу, пока жена в декрете. И в Москве пришлось на пару дней остановиться, делишки порешать.
Интересно, взяла ли жена его фамилию? Какая у него всё-таки фамилия?
Ася понимающе кивнула и, сославшись на то, что забыла где-то (скорее всего, на входе, у рамок) перчатки, поспешила к кассам. Чемодан отставал, недовольно журча колесиками позади, а под ногами у Аси по гладкому блестящему полу вилась длинная красная ниточка, как будто где-то вдалеке раскручивался волшебный клубок и указывал Асе путь. Но когда Ася отклонялась от курса, ниточка послушно меняла направление и поворачивала вслед за Асиными шагами. А вокруг гудели провожающие и встречающие, уезжающие и вернувшиеся. И казалось, это гудит прибоем море.
***
На дрейфующей льдине в сотнях метрах от берега сидел рыбак. Он был одет в красную куртку с мехом на капюшоне и постоянно отворачивался от налетающих с разных сторон порывов ветра.
Ася смотрела на льдину и пыталась угадать, как рыбак будет оттуда выбираться. Нигде поблизости не было корабля или лодки, которые бы могли его забрать. И спасателей со свистками и спасательными жилетами не было, спасатели бывают только на южных пляжах, а на северном побережье они не водятся.
Но рыбака это как будто не волновало. Наверное, под чёрной толщей воды, окружавшей льдину, тянулись крепкие ниточки, которые вытаскивали рыбака к берегу.

Ожидание и реальность
Я лежал в кровати, накрывшись большим пушистым одеялом, и притворялся, что ещё сплю. Я ждал родителей, которые вот-вот тихонько зайдут в мою комнату и, стянув с меня одеяло, споют традиционное «хэппи бёздей, Алёша» и вручат долгожданный подарок на моё девятилетие. Родители всегда исполняли одно из моих желаний в день рождения, и я верил, что сегодня они подарят мне мобильный телефон. Я предвкушал, как сорву с коробки прозрачный пластик, достану телефон, нажму кнопку включения, и мой новый друг переливом ярких красок и звуков поприветствует меня на непонятном языке.
С блаженной мыслью о том, как мне будут завидовать одноклассники, особенно Сашка Сумин, мой бывший лучший друг, я перевернулся на другой бок и прислушался. Мне стало страшно от пустой тишины, и в глазах защипало.
«И почему родители до сих пор не пришли?» — подумал я.
Я скинул с себя одеяло и на цыпочках вышел из комнаты; на моей коже сразу столпились мурашки.
«Видимо, папа опять забыл закрыть окно. Вот же ему достанется от мамы, если он снова заморозит её цветы на подоконнике», — испугался я за папу.
Я так сильно старался не шуметь, что не заметил на полу небрежно скинутые мамины тапочки. Споткнувшись, я буквально ввалился в родительскую комнату. В комнате никого не было.
Подставив стул к подоконнику, я забрался на него, чтобы закрыть окно и спасти папу от гнева мамы.
«И где же родители? — перебирал я варианты, сидя на подоконнике, поглаживая холодные мясистые листья фикуса и болтая ногами. — В кондитерской? В салоне связи? А может, по дороге домой они встретили дядю Семёна и папа никак не может с ним наговориться, как это часто бывает?»
Я услышал, как с грохотом закрылась входная дверь и звенящим металлом плюхнулись на трюмо ключи. Радостно подскакивая, я выбежал в коридор встречать родителей. Но вместо родителей там стояла женщина, которую я не узнавал. Это была моя мама. Она резкими пинками скинула сапоги, прошла в гостиную и, нервно смахивая с постаревшего лица выбившиеся из-под красного берета пряди волос, начала что-то искать в шкафу.
— Мам? — спросил я осторожно.
— Не сейчас, Алёша. — Мама что-то шептала себе под нос, нервничала и, найдя то, что искала в стопке документов, прошла обратно в коридор, обулась и ушла. Только случайно ею задетая музыка ветра, висящая над дверью, пропела мне грустную прощальную песню переливом маленьких колокольчиков в виде разноцветных птичек.
Целый день я не мог найти себе места. Я почитал, посмотрел фильм, сделал уроки и даже убрался в своей комнате. Если бы у меня был телефон, то я бы давно позвонил родителям, но без него я не мог с ними связаться. Я обижался, грустил, радовался, снова грустил, но что бы я ни чувствовал, я продолжал их ждать.
Мама вернулась ночью без папы и сразу же закрылась в родительской комнате. С силой вдавливая ухо в разделяющую нас стену, я слышал, как она плакала, как причитала и ругалась, упоминая имя папы, но я так и не понял из обрывков фраз, что произошло. Я думал, что папу оставили на вторую смену, такое иногда случалось, и это злило маму. Папа работал на заводе водителем погрузчика, и ему часто приходилось ремонтировать свой «рачок», так он ласково называл трудновыговариваемый ричтрак. Папин сменщик Кузьмич иногда «болел», так говорил папа, но я понимал, что эта болезнь называется странным словом запой. Возможно, и сейчас Кузьмич «болен».
Следующим утром я хотел дождаться папу после ночной смены, но мама выпроводила меня в школу, загадочно бросив, что мне придётся ждать слишком долго.
Целый день я был рассеян. На физре мы снова подрались с Сашкой Суминым прямо во время игры в футбол. На этот раз из-за того, что я не смог обогнать противника, и наша команда проиграла. Домой я вернулся злым и с заплывшим глазом. Бросив рюкзак и закинув ботинки в шкаф, я услышал голоса, доносящиеся с нашей кухни.
— …А когда она швыряла заявление, так и рыскала по мне своими тупыми глазёнками, боялась. Правильно, я так просто не сдамся, — пробурчал мужской голос, и послышался перестук хрусталя, а за ним и вилок о тарелки.
— А Митьку-то моего… Ох… — узнал я голос мамы, говорящий о папе.
— Я сейчас. Володь, разлей пока.
Когда дядя Семён открыл дверь, четыре пары глаз с удивлением посмотрели на меня.
— Что с тобой, Алёша. — Мама незаметно смахнула слезу, размазывая по щекам обвалившуюся тушь.
— Да так, мячом попали. — Я сделал несколько шагов по коридору, но всё же остановился и задал мучивший меня вопрос.
— Мам, а где папа?
На этот раз все посмотрели на мою маму, которая, не зная, куда себя деть, спряталась за тюлем.
— Пойдём, Лёшка, — вздохнул дядя Семён.
Он взял меня за плечо и повёл в комнату, где сразу же плюхнулся на мою кровать и постучал по ней, приглашая сесть рядом.
— Знаешь, как оно бывает. Живут себе люди, копошатся там что-то, жизнь свою строят, а потом раз — и нет больше той жизни. Другая есть, а той уже нет. Вот ты помнишь, как мы на рыбалку прошлым летом ездили?
Конечно, я помнил. Я тогда с папой червей копал, а потом помогал на крючок насаживать.
— Помнишь, конечно, что я тебя спрашиваю. Это у меня бывает — рассказываю что-то, а потом забываю, что к чему. Возраст… Вот ты в каком сейчас классе?
— Второй заканчиваю, — ответил я.
— Ууу. Так ты ещё даже умножать не научился?
— Я умею, — недовольно ответил я.
— Тогда вот тебе задачка. Два рабочих вынесли с завода по 6 кг лома. Сколько это всего?
— Восемь?
— Восемь лет могут дать твоему папке за воровство, а лома получается 12 кг.
Я с ужасом посмотрел на сидящего около меня лучшего друга моего отца.
— А второй рабочий кто? — спросил я.
— А второй быстро бегает. Так что вот тебе бесплатный совет: занимайся спортом, Лёшка. Пригодится в жизни. Вот я — мастер спорта по лёгкой атлетике, километр за 2:20 пробегал, можешь представить?
Семён потрепал меня по макушке и ушёл, оставив в задумчивом недоумении.
Тогда я раньше времени узнал такие слова, как: следствие, суд, подозреваемый, улики, статья, и все они были про моего отца. Наша последняя встреча перед долгой разлукой была сумбурная, странная и неловкая. Я помню, как отцу мешали обнять меня колючие наручники и как он держал за руку маму.
В тот день мама отдала мне мобильный телефон отца.
— Это не тот подарок, который мы планировали тебе купить, сынок, но всё же.
Первое, что я увидел, включив мобильный телефон отца — наша с ним фотография на заставке, с той самой рыбалки. На ней мы улыбались, держа в руках небольшую щучку. Я загадал желание, чтобы по щучьему веленью папа поскорее вернулся домой.

Остепененная
Маша уже полчаса пялилась на кухонный нож, представляла, как чистое и холодное лезвие скользит по ее локтевому сгибу, как кожа ноет, а из капель крови на паркете складывается служебная записка: «Прошу предоставить отгул за свой счет по личным причинам». И ниже — подпись завкафедрой.
То ли из-за лени вставать рано утром, то ли от бесконечного сидения за ноутбуком — прочитать и понять тексты, которые будут разбирать ее студенты, записать в блокнот, какие упражнения они будут выполнять, план «Б», если закончат раньше, потом написать очередную статью в ВАКовский журнал, потом исправить рабочие программы с кафедры электротехники, которые Маша обещала выслать еще на прошлой неделе, найти время перевести текст коллегам-машиностроителям и заработать лишние пару тысяч рублей, и все это к выходным, когда она будет волочиться между девятиэтажками и выпрашивать копейки за репетиторство, — но спать почему-то ей хотелось сильнее, чем еще раз проснуться в этом беличьем колесе.
Тогда, после первого звонка заведующей, Маша попеременно, а иногда и враз, прыгала и визжала от радости, когда ей сказали, что в техническом вузе на кафедре английского есть целая свободная ставка. Это большая удача, подумала Маша, получить работу в крупнейшем вузе области, причем сразу после получения красного диплома по специальности «гуманитарий по жизни». Еще больше Маша радовалась, только когда поступила в аспирантуру на бюджет. Да, говорила она себе, будет сложно и писать диссертацию, и преподавать, и, скорее всего, подрабатывать. Но это же так интересно: изучать, как учится человек, узнавать от студентов-технарей, как работают двигатели и всякие приборы, в конце концов, становиться взрослой. А еще — искать мужа среди умных, образованных инженеров и ученых. Неизвестность рисовала Маше сказочную картину будущего.
Первым признаком того, что где-то Маша все-таки ошиблась, был ее быстро потухший азарт к науке. «Исследовательское пространство изучения природы социальной ответственности педагогических работников является открытым для научно-теоретического осмысления…» Это что получается, авторы-таки не в курсе, должен ли, например, учитель отвечать за учеников, поэтому пусть разбираются другие? И ей, между прочим, как раз в этом журнале предстояло публиковаться.
Поиски идеального мужа тоже заводили в тупик. Во-первых, на кафедре посреди бабского коллектива, точнее, обычно на его периферии, был только один пожилой профессор филологии с торчащими в разные стороны, как у кота, седыми усами, единственным достоинством которого было его ученое звание. Во-вторых, в вузе вообще оказалось мало молодежи: большинство парней-аспирантов косили от армии и на парах не появлялись, а тех, что появлялись, лучше бы и не было — скрюченные, подслеповатые и писклявым голосом говорящие на нечеловеческом языке а-ля «синхрофазотрон гомоморфен САПРам». По крайней мере, так казалось Маше.
На фоне неоправданных надежд пропадали и Машины подруги. Одна быстро выскочила замуж и безвылазно сидела с двумя сыновьями, другая-карьеристка уехала в Москву за перспективами, третья, самая умница-красавица из всех, в запое. И даже это не так важно, ведь все равно ни на любовь, ни на друзей у Маши нет времени.
Но год назад принесенные в жертву науке общение с друзьями, психика и узкая талия Маши, наконец, дали свои плоды. Она защитила диссертацию и получила степень кандидата педагогических наук. Вспоминая позже, она была немного рада тому, что на кафедре ее заставили работать с рабочими программами, методическими рекомендациями и прочими бумагами, в которые никто, кроме нее, больше не смотрел — когда ученый секретарь совета попросил ее разослать пятьдесят писем о переносе защиты; или когда тот забыл свои бумаги к Машиной защите, которые надо было срочно найти в почте телефона, затем бежать на каблуках в ближайших печатный салон, уродуя первую за пять лет красивую прическу, и положить секретарю на стол до его появления в зале. Маша была рада и дурацким вопросам о том, что такое компетенция или технология, и грубым замечаниям на своих докладах, которые давал развалившийся и закинувший руку за спинку стула доктор наук. А вуз в честь Машиного успеха наградил ее званием «Человека года» и кругленькой суммой, которую она лихо спустила на двухнедельное лежание на пляже посреди Атлантики.
Но теперь, когда она отдохнула, загорела и вновь расцвела, остепененную Машу ждал новый рубеж. Пока страна готовилась к очередной военной операции, бюджет вуза резко сокращался, а завкафедрой требовала от Маши как подающего надежды кандидата наук броситься снова в бой и принять участие в двух грантах по актуальнейшим темам: патриотическое воспитание и формирование общественного согласия у обучающихся. Отказывать начальству было нельзя, тем более что в обмен на растраченную премию вуза по контракту Маша должна будет отработать на кафедре не менее пяти лет.
Сегодня Маша, всматриваясь в отражение ножа, видит себя — еще более измученную, чем шесть лет назад, и ради чего? Последний раз на свидании она была, когда только поступила в аспирантуру, и то с занудным длинношеим айтишником, от которого сбежала на десятой минуте. Так что шансы выйти замуж у нее в разы поубавились. Живет она в той же съемной квартире. За окном дождь, начавшийся еще в субботу. Едва Маша соберется выйти на улицу, в магазин или хотя бы просто погулять, и откроет дверь, как вдруг обрушивается ливень, снося все ее планы к чертям.
Неубиваемая сила воли, или обыкновенная глупость, заставляет Машу подойти к зеркалу, провести помадой по губам и тушью по ресницам, взять сумку с раздатками и конспектами лекций, выйти за дверь, спуститься на лифте на первый этаж, опомниться, вернуться за зонтом, спуститься снова и выйти на истекающий ручьями асфальт. Медленно плывя в сторону учебного корпуса, Маша решает: если убить себя сейчас, потом уже ничего не вернешь. Поэтому, надеясь, что все изменится к лучшему, она проживет еще день. Потом еще один. Потом еще. И еще.
***
Через месяц двое полицейских взломают дверь, и вместе с хозяйкой квартиры, прикрывающей рот ладонью, найдут Машу в ванной. Под одной из ножек ванной будет подложена красная корочка диплома, согласно которому Маше присуждается ученая степень.

Паспорт
— Я не могу жить в мире, в котором нет тебя. — Студенткой я возбудилась в кинотеатре от этой реплики. Сейчас мне хотелось кинуть вазу в телевизор. Почему в моей жизни нет влюблённого вампира? Возможно, потому, что его место занимает ленивый эгоистичный бабуин?
А если я просто накрутила? Подумаешь, лайк. Парни меня тоже лайкают, я с ними не сплю. И всё же, отношения в нашей паре изменились.
Вспоминаю волнение, с которым приклеивала на монитор Ильи жёлтые бумажечки-стикеры с надписями «Доброе утро! Хорошего дня!». Первые невинные встречи, букеты цветов. Затем откровения, что от моих поцелуев, как после джина, лежишь в бархате. Земля начала вращаться быстрее, уже живём вместе. Думала, дело идёт к свадьбе… идёт полтора года. Длинный путь. Даже младшая сестра успела выйти замуж.
Проверю страницу Таньки. Если Илья опять лайкнул беспонтовые фото, то всё ясно. Обновлений нет, старые сердечки на месте. Сто раз клялась не смотреть её страницу и столько же нарушала клятву. В магнитофоне воспоминаний воспроизводятся самые невыносимые фразы: «Она иногда обедает с нами», «Женщине тяжело одной на объекте», «Пришла к Евгену фильм посмотреть». Рыжие висюльки, нахальные глаза, перекошенные губы. «Неужели из-за вот этого Илья до сих пор не сделал мне предложение?»
— Хочешь немножко потискаться?
— Камилла, вылет через три часа.
— Дурацкие часики. Заткнул бы кто-нибудь их тиканье.
Илья убрал банные принадлежности в пакет, крепко завязал. Положил на геометрически уложенное бельё. Рядом несессер с гаджетами и зарядными устройствами.
— Как бы я хотела быть женой декабриста.
— На вахтовой каторге нет фитнес-клубов и салонов красоты.
— Ещё скажи, что там на окна бычий пузырь натягивают.
Он продолжал собираться.
— Помнишь, какая трагедия случилась, когда Эдвард уехал от Беллы?
Илья вздохнул и пополз на кровать. Посмотрел на меня, как на свежесваренный борщ своей бабуленьки.
— Ложись под левым крылышком.
Угнездилась справа.
— Слева только любовниц укладывают.
— Дура ты. Я имел в виду там, где сердце.
Опять провёл меня, как лохушку. Прижимаюсь к нему. Глажу живот под футболкой South Park. Рука ощущает густую джентльменскую дорожку. В детстве соседка объяснила мне, что «волосатые мужики в постели ух!». Потенциальный муж урчит.
— Евген на объекте тебя так ласкать не будет.
— Не в этот раз. Он вступает в братство кольца.
— С Катькой?! Они вчера имена друг друга узнали.
— Ожидают появления пингвинёнка.
Рука остановилась. Я умерла или затаилась перед нападением? Илья будет на вахте один… а вдруг к нему подселят Таньку-шалаву? Телефон маякнул сообщением, Илья поднял его и вышел на балкон. Неужели она? Крадёт парня у меня из-под носа.
Я тоже умею воровать. Если исчезнет его паспорт, то он не улетит в эту командировку. А в следующую «коллеги-друзья» разминутся. Господи, я же не Укупник! Если попадусь, Илья не посмеётся, а уверится в моём безумии. Нет, я не попадусь — спрячу документ на кухне, он там ничего не находит.
Я тихо стащила паспорт, отнесла на кухню и засунула под противень духовки.
Он вернулся.
— Где паспорт? Неужели похерил.
Заметался: куртка, джинсы, сумка для ноутбука.
— Твою мать. Куда я его запихал? Не мог же в покер проиграть.
Я села напротив телевизора, взяла телефон и принялась перелистывать страницы меню туда-сюда. Внутри меня пожар, который я надеюсь прикрыть занавесочкой.
— Где мой паспорт? Камилла, ты не видела?
— Не знаю. — Он пенится. Медленно, провалив щёки и вытянув губы, подхожу к столу, осматриваюсь — А куда дел? Ищи.
Сыграла, как Мадонна в «Унесённых». Его нижняя челюсть опустилась, а верхняя губа приподнялась, глаза выдаются наружу.
— Ты забрала его? — Сдавливает меня за предплечья и притягивает к себе. — Говори, где он?
— Не трогай меня, сука, лжец! — Вырываюсь, бью открытыми ладонями по его циферблату. Он отстраняется, мне мало. Сжимаю руками кадык, швыряет меня на кровать. Кровать в ужасе выбрасывает меня обратно. Илья пытается смыться. Дёргаю его за заднюю часть ворота, луплю ладонью по шее. Тащит меня в ванную. Оглушаю квартиру матом. Мы сносим душевую шторку, валимся в ванну. Он включает холодную воду. Издаю брачный рык павиана.
— Не надо на меня дождь лить. Ты обогнутый, что ли? — Выбираюсь из-под шторки. Хлопаю дверью. Снимаю мокрое платье и вешаю на балконе. В одном белье бу́хаюсь на постель. Недомуж крадётся. Смотрит на меня, как дэпээсник на буйно-пьяного водителя со связями.
— Не устраивай позорище, пожалуйста.
— Позорище — это ты. А ещё лжец, скорострел и скупердяй.
— Хорошо, я позорище, только отдай паспорт.
— Пф, у меня его нет. Проваливай отсюда.
— О! Ты теперь шелестишь за квартиру. Если я не еду в командировку, то любимого бабла не будет.
— Пошёл в пропасть со своим шантажом.
Смеюсь над его нелепой попыткой отыскать паспорт самостоятельно. Он хватает вещи, наращивая темп, не ставит на место, а швыряет. Орёт, называет меня «легкомысленной». Кричу, что я не «легкомысленная», а «популярная». Открывает гардероб, топчет мою одежду. Его рожа просит второй раунд. С визгом вцепляюсь в него. На этот раз без милосердия опрокидывает меня на пол. Сажусь и реву, как Леонардо Ди Каприо с трупами своих детей в фильме «Остров проклятых».
— Ты конченная. Я задыхаюсь здесь с тобой.
Сожитель ушёл из дома.
Протяжно кричу «а» на максимальной громкости. Вернись, пожалей меня. Хоть кто-нибудь, придите, не оставляйте в одиночестве. По телеку уже шла третья часть «Сумерек», а я всё рыдала.
Поднялась, выключила кино и позвонила Динке. Первые двадцать минут стали для меня анестезийными. Я плакала, выговаривала обиду, даже боль в пояснице загасилась. Она вставляла: «Ну, козёл», «Утырок грешный», «Он тебя недостоин», «Лучше найдёшь». Постепенно её лечебный прогресс испарялся: «А я ведь предсказывала», «Все они, как один — черти». О дальнейшем предложила ей списаться в мессенджере. Принялась объедать кожу вокруг ногтя большого пальца левой руки. Выплюнув кусочек себя, ухватила заусенец мизинца. Отрывала его, как язычок бумажной упаковки.
Я отбросила отросточек. Кровь выбегала из мизинца и скапливалась в шарик. Сунула пальцы под струю воды, сняла бельё, положила шторку на пол и встала под душ. Стены и зеркало покрылись брызгами.
Выла и повторяла, что он не придёт. Затем в голове заговорила с Ильёй. Ругалась, обвиняла, просила прощения. Перекрыла душ, обтёрлась полотенцем, вышла в пустую квартиру. Сказала себе: «Так будет всегда». Побежала в комнату, включила телевизор. «Я не одна! У меня Белла есть». Она в этот момент на экране сложилась пополам — предстояли варварские роды. Я одевалась, а девчонка вампиров умирала. Фильм прервался. «Эй! Почему вы не показываете, как Белла воскресла?»
Срочный выпуск новостей… при разбеге столкнулся с посторонним транспортом… разрушение и возгорание… Погибли все. Это же самолёт Ильи.
— Лучше бы я умер в этой катастрофе. — Сожитель стоял в дверях комнаты.

Плесень
Ничего не осталось, кроме темно-зеленой доски и моего сердца. Ничего не осталось.
— Ну, Королькова!
Я поднимаю глаза: над головой высятся большие, любовно выведенные Марией Александровной двухэтажные числа. Они пугают меня, кажутся острыми и злыми, как чужой грохочущий язык, который я иногда слышу, проходя по коридору. Говорят, мы тоже будем учить его со следующего года. А от этого шифра — палочки, точки, крестики, — отпочкуется еще какая-то геометрия…
— Королькова?
Не опуская руки, в которой дрожит взмокший кусочек мела, оборачиваюсь. Бегу глазами по рядам, прошу глазами: ну, какой ответ? Сидят, сложа руки на груди. Смотрят свысока, презрительно, как цифры на доске. Все, все, даже те, кто обычно шевелят губами, пытаясь меня спасти… Соня отвернулась к окну — делает вид, что смотрит, но глаза у нее выключенные. Только на виске наливается зеленью вена. Плохой знак.
— Королькова, ты там заснула, что ли?
— Вылетела в синий экран смерти! — орет Антон, направив на меня свой стоглазый айфон. Последняя модель. Два дня назад был релиз, он говорил.
Смех окатывает меня, как врезающаяся в тело волна. Холодно, очень холодно.
— Я… не знаю… — пищу, прилипнув глазами к своим кроссовкам.
— Это пример из домашнего задания. Ты его делала?
— Да…
— Тогда в чем проблема?
Во мне.
— Королькова?
— Я не знаю…
Пробираюсь к своему месту, не отрывая глаз от пола. Вслед летит учительский вздох и хруст потревоженной бумаги. Соня по-прежнему упирается взглядом в окно. Как же унизительно…
***
Звонок иссякает — и значит, наконец можно выпустить слова:
— Ненавижу математику.
Дышать уже свободнее. Я прячу книги в рюкзак, наслаждаясь мыслью, что запираю их там до следующего утра.
— А ты хоть раз в учебник заглядывала? — Сонин голос прилетает в меня, как шарик бумаги, выплюнутый через ручку. Так и знала, что начнет поучать…
— Да не понимаю я ничего… в голове у меня не умещаются… эти цифры…
— Все домашки у меня скатываешь. Посидела бы хоть раз сама, может, не позорилась бы. Мне дроби тоже не нравятся, но я хотя бы стараюсь. Вот и оценки нормальные. — Соня выдает все это на одном вдохе — так, что к концу фразы слова почти слипаются друг с другом. Вена угрожающе зеленеет — кажется, вот-вот прорвет кожу на виске.
— Спасибо за поддержку.
— Пожалуйста.
Она склоняется над блокнотом, отгородившись от меня локтем, будто я собираюсь списывать цитаты из сериалов, которые она выводит там своим приземистым почерком. Вокруг визжит, смеется, стучит перемена, а Соня наказывает меня молчанием. Но я знаю, как ее разговорить.
— Классные ботинки, кстати…
Соня вскидывает на меня свои серые глаза.
— Спасибо, — она отодвигается от стола, чтобы я могла получше рассмотреть ее черные туфли на зубастой подошве. В обычных магазинах их не достать — такие есть только у тех, кто понимает. На ее ногах они смотрятся диковато, но об этом я предпочитаю не говорить: кормить ее чем-то, кроме восхищения, небезопасно. — На выходных вот купили. — Соня улыбается, глядя под стол. Я задвигаю поглубже свои балетки со стертыми носами. — Прикинь, мне вчера снова Макс написал…
***
Тащусь к метро и не могу отбиться от этой сцены. Доска, цифры, все смеются, смеются, смеются… Была бы здесь Соня, обсудили бы новую ролевую. Интересно, она уже придумала персонажа? Где ее вообще носит? Всегда же уходим вместе…
В кармане вибрирует телефон. Ну наконец-то. Белая плашка, а в ней — крошечная фотография Сониного глаза с остро заточенной стрелкой (она всегда выбирает загадочные миниатюры):
Сорри, надо было сбежать
Куда? Зачем?
Была в сети пять минут назад
***
Чего все так пялятся? Испачкалась, что ли? Или майку опять задом наперед надела? Опускаю взгляд: нет, буквы ровно посередине груди. Be yourself. Вечно они лепят эти надписи, нельзя, что ли, просто белую футболку сделать…
Соня сидит за партой, уставившись в телефон. Курносый профиль вписан в прямоугольник окна, в русых волосах сквозит сентябрьское солнце.
— Ты прям светишься, — бросаю рюкзак на стул рядом с ней. — Посмотри, у меня на лице ничего нет?
Соня не отвечает. Длинные пальцы носятся над клавиатурой, отбивая непрерывную дробь. Наверняка со своим интернет-парнем пишется. Как же зовут нового…
— Привееет, — трогаю ее за плечо, но она скидывает мою руку. — Сонь, ты чего?
— Соня больше не хочет с тобой общаться, — отвечает мне другой голос.
У Антона глаза голубые — но не как небо, васильки, даже не как иконка твиттера, а как медуза. Полупрозрачная, склизкая. В такие глаза неприятно смотреть, о такие глаза можно обжечься.
— Почему это? Сонь?
Ее пальцы замирают.
— А тебе самой не противно? — Антон прошивает меня электричеством. Когда он ухмыляется, кожа в уголках его губ собирается в острые складки.
— В смысле?
— У вас в Бирюлево, по ходу, к такому привыкли?
— Да о чем ты?
— Ты воняешь. — Антон вертит головой, собирая взгляды, а потом произносит громко, ударно, как финальную строчку патриотического стихотворения на конкурсе чтецов в прошлом году. — Плесенью.
Гогот взвивается в воздух и рикошетом отскакивает от стен. Антон удерживает смех во рту, но правый уголок его губ едва заметно дрожит. Не знаю, что ответить.
— В подвале вы там живете, что ли… или не моетесь, чтоб воду экономить?
Все хохочут. Всё хохочет — горшок с засохшим цветком, листки, прикрученные к пробковой доске, красные ручки на учительском столе, сваленные в углу швабры. Губы Антона еще сомкнуты. Его белесые глаза смотрят на меня исподлобья, смотрят, выжидая.
— Если ты думаешь… что это… смешно… — выталкиваю слова, но они идут из меня пунктиром, второстепенным, подчинительным, — …то мне тебя… — уже совсем истончаясь, — жаль, — рваная, визгливая нота. Звенит во всем теле, расходится дрожью в ладони, живот, колени. На лице Антона проступает какое-то новое, снисходительно-брезгливое выражение.
— Ну да, свое же не пахнет, — говорит он и, пожав плечами, уходит в сторону, где ему сигналят большими пальцами и кивают, как пружинящие головами собачки в маршрутках.
Я опускаюсь на стул рядом с Соней. Секунда — она вскакивает, закидывает на плечо рюкзак и перебирается на второй ряд.
***
Утром, до первой мысли, — запах. Вползает в сознание, как бы я ни ворочалась, отбиваясь. Так пахнет серая непросыхающая тряпка, которой стирают мел с доски. Тухлая тряпка — страшно прикасаться. Видимо, белье в стиралке перележало… опять мама про него забыла…
Рывком поднимаюсь на постели, спускаю ноги на пол… Это что? На пальцах, щиколотках? Это что?
Моргаю. Еще моргаю. С усилием закрываю и открываю глаза. Не проходит. Запрыгиваю обратно в кровать, кутаюсь в одеяло, жду, когда проснусь по-настоящему. Не получается. Скрип, быстрые шаги чертят коридор. Мама встала. Ноги не могут успокоиться, мечутся на постели, сбивают пятками простыню. Чешутся. Очень, очень чешутся.
Осторожно тяну руку под одеялом. Медленно, по сантиметру вниз, к ногам. Пальцы проваливаются во что-то пушистое, мягкое. Отдергиваю руку, не успеваю проглотить вопль целиком, и его хвост прорывается из меня коротким криком. Замираю. Грохот посуды на кухне. Мама, кажется, не услышала.
Запихиваю ноги в тапки и, не опуская взгляда, иду в ванную. Щелчок замка. В зеркале мое бледное, припухшее со сна лицо, нижняя губа слегка дрожит. Но это все еще я, это все еще я. Тяну зубную щетку из стакана: черная, синие полосы, пластик чуть холодит руку. Хорошо. Хорошо. Выдыхаю…
…закидываю ногу на бортик ванной и тру, тру, тру. Плесень. Бледно-зеленая, как стены в школе. Пробивается сквозь кожу — сначала робким, едва заметным пухом, потом тонкими ниточками, которые тянутся друг к другу и, сплетаясь, крепнут, ткут свою сеть из ужаса и влажного воздуха. Она растет, расползается пятнами, набухает, как прошлогодний мох. Я тру, тру, но волоски, чахло-зеленые волоски проступают снова, вслед за движением щетки. Чем ниже склоняюсь, тем сильнее запах — сырой, прогорклый смрад. Господи, они были правы. Они почувствовали еще вчера. А что вчера? Каша, чай, сыр, хлеб… Точно, сыр. У него был странный, чуть кисловатый запах. Но я все равно съела. Зачем я его съела? Плесень же размножается спорами, и тогда, значит… значит…
Все дергается, смазывается. Прямо на ногу, в центр зеленого соцветия, падают слезы, и плесень, заглатывая их, всходит еще пышней.
***
Четвертая парта у окна. На всех рядах по три, а здесь зачем-то всунули еще одну. Видимо, для меня.
Шесть минут до урока, шумно. Пробираюсь по задним рядам, пригибая голову. Эхо слов, обращенных не ко мне, носится вокруг. Сажусь, выкладываю на стол учебник, тетрадь, пенал… Через две парты, наискосок, Соня разговаривает со старостой. Как она терпит ее визгливый голос? Сонин взгляд, изучающий противоположную стену, задевает и меня. Улыбнуться? Нет? Соня, сморщив нос, отворачивается.
***
Третий день никто не разговаривает со мной, и я этому не удивляюсь. Плесень колосится уже на бедрах — зеленая, рыхлая, как брокколи, которую я вылавливаю из супа в столовой. Ненавижу брокколи. Ненавижу все.
После обеда — контрольная по биологии. Черно-белый цветок на полосатом от краски листе. Стебель, корни, цветоложе… Ксения Владимировна, высокая, сухая, сама похожая на стебель, проходится между рядами в плотной тишине. Так, цвето… ручка не пишет. Ну, придется… Выждав, когда биологичка переместится в другую часть класса, трогаю Максима за плечо.
— Можно ручку, пожалуйста.
Максим, не поднимая головы, быстро-быстро скребет по бумаге. В его прозрачном пенале виднеются стерка, обглоданный карандаш и пара одинаковых ручек.
— Пожалуйста… у меня не пишет, и…
— Королькова!
Откидываюсь назад, глаза — в лист.
— Чего ты там копошишься, а?
Выжидаю с минуту. Поднимаю голову — и в меня сразу врезаются глаза Ксении Владимировны, прищуренные, мутно-зеленые.
— Можно, пожалуйста, ручку?
Снова это выражение лица: верхняя губа изгибается, и вокруг рта проступают две брезгливые складки.
— А у меня есть, что ли? Мне вам еще и ручки носить?
***
Физра третьим уроком. Упаковалась в олимпийку и штаны еще дома, чтобы не раздеваться перед одноклассницами. Чтобы никто не увидел серо-зеленые пятна на животе и ногах. А какая разница, если я воняю, как отсыревшие доски в нашем зале… Запах постоянно стоит в ноздрях и, кажется, продирается к самому мозгу. Могут ли там осесть споры? Или они уже? Два дня боль стучит в затылке…
Физрук вышел, сказал всем встать в пары и перебрасывать мяч. Никите не повезло оказаться напротив. «Не хочу подцепить эту гадость», — сказал он (то самое выражение лица) и отошел в сторону. Стою, кидаю мяч в стену. А такое ощущение, что в голову. Каждый удар — прямо в голову.
***
— Как дела в школе? — кричит мама из кухни. Она, кажется, что-то жует. Слышно, как ее тапочки щелкают по плитке, как со скрипом растворяются шкафчики, дребезжит посуда и, сопя от усердия, наматывает секунды микроволновка.
— Нормально.
— Что?
— Нормально!
Ничего особенного. Покрываюсь плесенью, как батон в хлебнице. Снизу, под пачкой хлопьев. Сейчас, сейчас она увидит его… О боже! Мамины тапочки несут ее в сторону мусорки.
— Представляешь, хлеб плесневый… а я только недавно купила…
— Жалко.
— Ага… Есть будешь?
— Нет, я не голодная.
Я не могу есть. Этот запах… Каша, суп, макароны — все превращается в вязкую, горькую тину.
***
Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, что мне делать.
Сижу в ванной, обняв колени. Сверху нависает тяжелый горячий пар. Это теперь ежедневный ритуал: когда варишься в кипятке, зудит меньше. Днем, в школе, совсем невыносимо. Приходится носить водолазку: длинные черные рукава прилипают к коже, как гидрокостюм, защищающий от чужих глаз. А там, в темноте, пузырится зеленая пена. На локтях, уже на локтях.
Рядом, бесполезная, плавает мочалка. Три хоть до крови, оно прорастает снова.
Сегодня нашла в рюкзаке эту мерзкую тряпку с разводами от мела. И почти не почувствовала ее запаха. Все вокруг стало им.
***
— Привет!
Замираю. Послышалось?
— Это шестой бэ?
Девочка в чем-то зеленом, на голову ниже меня. По плечам разбросаны тонкие косички, а сверху — прямой, аккуратный, — тянется пробор.
— Да. — Так долго молчала, что звук собственного голоса кажется странным, как на диктофонной записи.
— А я новенькая у вас, переехала из Люблино. Меня Аня зовут. — Она протягивает мне руку. Мне.
— Я тоже Аня. — Ловлю ее ладонь, и она с силой, неожиданной для такого маленького человека, сжимает ее в своей. Жаль, в коридоре темно, лица почти не видно, но мне кажется, что она улыбается.
— А ты… ну… — пробую языком слова. — Не чувствуешь ничего… неприятного?
— Ты о чем?
— Ладно, пошли, щас уже звонок будет.
Она идет вперед, а я быстро задираю рукав. Шорох, дверь скребет по вспухшему линолеуму, и в коридор прорывается свет. Рука чистая. Там, где еще час назад копошилась плесень, ничего нет.
Аня быстрым шагом пересекает класс, не переставая вертеть головой — косички закручиваются на шее — и размахивать маленькой рукой. Она идет прямо к моему месту.
— Здесь свободно?
— Вообще я тут сижу…
— Но у тебя нет соседки?
— Нет.
— Теперь будет.
Она улыбается — уже точно, — и на щеках обозначаются две симметричные ямочки. Всю географию мы сидим вместе, склонившись над моим учебником: Аня еще не успела взять в библиотеке свой. Ее темные вьющиеся волосы щекочут мое лицо, и я нервно дергаю ногой под столом. А как только раздается звонок, происходит то, о чем я думала все это время.
К нам идет Антон. Подбородок приподнят, рот выгнут в обратную улыбке сторону.
— Ты типа новенькая?
— Ага.
— Мама мне говорила, да. Я просто хотел предупредить… — Антон кивает на меня, признавая, что я существую. — С ней лучше не общаться, а то можно заразиться.
— Чем заразиться?
— Да от нее же воняет. Плесенью несет. — Его светлые глаза ядовито блестят.
— Да? Я не заметила. А вот сейчас, как ты подошел, действительно пахнуло… — Аня отворачивается, не дожидаясь ответа.
Антон еще несколько секунд посылает электрические импульсы в ее затылок, но она не реагирует. Бледный, с дрожащим подбородком, он уходит.
— Ну и придурок. — Анины зрачки уплывают под ресницы. — Как его зовут?
***
Не понимаю, как это возможно. Она просто исчезла. Все эти зеленые нити, которые неделями питались моим телом, исчезли. И я снова дышу легко, и сырость не свербит в носу, не оседает в голове болью.
Смотрю в окно. Там снует взъерошенная со сна улица: машины, люди, и на всем прохладный, полупрозрачный свет. Удивительно много солнца для октября. Удивительно, что две одноклассницы сказали мне «привет».
Три минуты до урока, и в дверях наконец появляется Аня. На ее щеках светятся два неровных розовых пятна. Пока она пробирается ко мне между партами, я замечаю направленные на нее взгляды. Я узнаю эти взгляды.
— Ура, успела. — Аня падает на стул и громко вздыхает.
— Да можно было и не спешить, Елена Николаевна всегда опаздывает.
— Серьезно? А в моей старой школе так ругали за опоздания…
Аня судорожно раскладывает вещи на столе и, кажется, не замечает. Не видит, как кивают в ее сторону, как шепчутся и прикрывают носы ладонями. Как, скосив рот в ухмылке, к нам приближается Антон.
— Я же говорил. — Его растопыренные пальцы шлепаются на парту прямо между нами, и Аня вздрагивает. — Говорил же…
Раздаются несколько смешков. Аня, выгнув бровь, смотрит в его лицо.
— Да ты вообще много говоришь, это я поняла уже.
— Ох… — Антон, поморщившись, зажимает пальцами нос. — Как же от тебя пасет… просто ужас…
Он вываливает язык и с усилием кряхтит — изображает, что его рвет. Смех прыгает по рядам. Кто-то, обессилев, хлопает в ладоши.
— Милое зрелище. Буду рада, если ты уберешь свою клешню. — Аня толкает его руку.
— Ай! — Антон, вскрикнув, прижимает ладонь к груди. В его белесых глазах скачут искры высокого напряжения. — Не трогай меня! Плесневелая!
— Опять этот бред… — Аня качает головой и открывает учебник. — Иди уже, мне надо параграф прочесть. — Она поворачивается ко мне. — Какой на сегодня задали?
Антон переводит взгляд на меня. Разряды один за другим врезаются в тело, осыпая его мурашками. Голос застревает в горле.
Я поднимаюсь, складываю вещи в рюкзак и ухожу на третий ряд. Визг звонка сливается с нашим хохотом.

Последний вагон для старого орангутанга
Лулу́ Кристиа́н (так звали орангутанга — отставного фельдшера института им. Склифосовского) вышел из такси в месте пересечения Нового Арбата и Поварской улицы. На нем было черное пальто и цилиндр, в руках — трость с набалдашником. Шел редкий дождь. Лулу шагнул на влажную мостовую и огляделся. Через дорогу сверкал огнями ресторан «Прага». Лулу снова посмотрел по сторонам и метрах в пятидесяти слева от себя увидел подземный переход. Он натянул покрепче цилиндр на голову и, чуть сутулясь, размашистыми шагами двинулся к переходу. Вокруг никого не было видно. Только редкие машины проносились мимо, выбрасывая снопы брызг из-под колес. Красным бегущим пунктиром на вывеске обмена валют часы показывали без четверти полночь.
В подземном переходе, в оранжевом свете фонаря, пожилой орангутанг играл на саксофоне. Музыка была столь мелодична и красива, что Лулу решил остановиться. Он вслушался в мелодию. Мелодия напомнила ему что-то из Рэя Чарльза — и те времена, когда он сам, еще будучи студентом, приходил в общежитие к однокурсникам и играл им на гитаре. Постояв несколько минут и дождавшись окончания музыки, Лулу нащупал в кармане смятую купюру и бросил в кофр от саксофона. Пожилой орангутанг уже начал играть следующую композицию, тоже что-то до боли знакомое. Он кивком поблагодарил Лулу. Дойдя до конца перехода, Лулу снова остановился. На его лице появилась трогательная улыбка, он чуть усмехнулся, шмыгнул носом и поковылял наверх из перехода, слегка покачиваясь из стороны в сторону.
Оказавшись на противоположной стороне улицы, Лулу смог лучше разглядеть здание ресторана. Это был хорошо знакомый большой трехэтажный особняк, одной стороной выходящий на Новый Арбат, а двумя другими (здание было треугольной формы) на Бульварное кольцо и начало Старого Арбата. Вход в ресторан имел все признаки парадного: ковровая дорожка красного цвета, позолоченные столбики, соединенные бархатными канатами, которые напомнили Лулу лианы в джунглях.
Войдя внутрь, Лулу оказался в холле. Чьи-то лапы, будто возникнув из ниоткуда, мягко скользнули по его плечам.
— Пальто, господин Кристиан? Вашу трость и цилиндр, пожалуйста.
Молодой шимпанзе услужливо помог Лулу освободиться из непослушного рукава. Шимпанзе звали Рембо́. Лулу хорошо знал его.
— Мы рады видеть вас снова, господин Кристиан. — Рэмбо был ниже Лулу ростом, он смотрел на него снизу вверх, что придавало его лицу какое-то трогательное, почти детское выражение.
— Да, да, спасибо. — Лулу передал трость гардеробщику. — Вот, решил приехать попозже. Знаете, народу меньше, да и как-никак сегодня же обезьяний день.
Внезапно внимание Лулу привлек высокий, чуть сутулый человек, медленно спускавшийся с парадной лестницы. «Метрдотель», — подумалось Лулу. Он не помнил, чтобы видел его здесь ранее. Метрдотель был само достоинство: строгое лицо, безупречный костюм и вычищенные до глянцевого блеска ботинки.
— Господин Лулу! Как же, как же. Вот уж не ждали.
Лулу принял вежливую позу. Он протянул в ответ лапу для пожатия.
— Благодарю вас. Я бы хотел занять свой столик — тот, у окна, в углу. Я теперь нечастый гость у вас, годы берут свое, — развел лапы Лулу, — но вот решил все-таки, дай, думаю, съезжу в ресторан. Выпью, съем что-нибудь приятное. В общем, я решил порадовать себя, господин…
— Звонарёв! Очень приятно, господин Кристиан. Мы безусловно рады вновь вас видеть и, разумеется, ваш столик…
Тут метрдотель запнулся. Взгляд его смотрел поверх лица Лулу, блуждая где-то на занавесках, находившихся у Лулу за спиной.
— Видите ли… мы… вернее, я… в общем, мы не обслуживаем больше обезьян.
Лулу непонимающе уставился на Звонарёва. Звонарёв посмотрел Лулу прямо в глаза. Он заговорил медленно, тщательно подбирая слова.
— Господин Кристиан. Мне крайне неловко, что наши сотрудники заранее не поставили вас в известность. Разумеется, мы применим к ним меры. Еще когда вы бронировали столик, менеджер был обязан предупредить…
— Не обслуживаете… обезьян? Но почему?
Рембо, испытывая явную неловкость, стоял неподалеку с накинутым через лапу пальто.
Лицо Лулу как-то вмиг постарело. Губы чуть дрогнули, а лапы тяжело и беспомощно повисли вдоль туловища. Лулу уже слышал о том, что в некоторых районах города обезьян перестали пускать в театры, музеи и образовательные учреждения. Но Лулу никак не ожидал, что его, одного из старейших клиентов этого ресторана, вот так развернут с порога. На секунду он застыл в нерешительности, а затем медленно направился к выходу.
— Господин Кристиан!
Лулу, остановившись, искоса посмотрел на метрдотеля.
— Я вот что подумал, господин Кристиан. Если я сейчас дам поручение накрыть ваш столик у окна, распоряжусь насчет выпивки и закуски, и вы отдохнете у нас пару часиков без всякой спешки, ничего же ведь страшного не произойдет? И поэтому, господин Кристиан, я хочу пригласить вас…
— Не утруждайтесь, господин Звонарёв. — Лицо Лулу было все еще печально, но в нем произошла оживляющая перемена. — Нельзя, значит, нельзя. Я всегда был законопослушным орангутангом. Мне уже много лет, я умею жить по правилам. Вы сказали, что обезьянам вход закрыт? Что ж, прекрасно. Обезьяна не идет туда, куда ей нельзя идти. Поэтому я благодарю вас за желание… помочь. Но вынужден отклонить ваше предложение.
Рэмбо сделал пару шагов и протянул Лулу распахнутое пальто, трость и цилиндр.
— Я немедленно распоряжусь насчет такси, господин Кристиан. — Звонарёв, чуть повысив голос, поспешно двинулся к выходу и уже собрался отдать распоряжение.
— Не беспокойтесь. Я обойдусь метро. Туда нас, кажется, еще пускают. — Лулу неловко утер лапой вдруг ставший влажным нос. — Я поеду домой. Мне здесь по прямой, сяду в вагоне, почитаю журнал. Не беспокойтесь. Кстати, господа, вы не подскажете, который сейчас час? Забыл надеть часы, выходя из дома.
— Четверть, господин Кристиан. — Рембо был рад, что ему представилась возможность сказать хоть что-то.
— Тогда мне следует поторопиться.
Уже в дверях он снова повернулся к Звонарёву и Рембо и, потянув ноздрями воздух, негромко сказал:
— Нужно идти. Как знать, сколько еще поездок в метро случится на моем веку.
Лулу крепко уперся передними лапами в пол, повернув кисти в сторону туловища. Размашистыми движениями он двинулся в сторону метро «Арбатская» и больше уже не оборачивался. На крыльце ресторана стоял высокий Звонарёв, а рядом с ним в короткой черной курточке с золотыми пуговицами переминался с ноги на ногу маленький Рембо. Снова пошел дождь. Лулу шел быстрее обычного, пересекая бульвар. От его передних и задних лап расходилась круги на воде, которые почти сразу без следа исчезали с поверхности луж. Меньше чем через две минуты спина Лулу мелькнула в вестибюле станции «Арбатская», увлекаемая внутрь прозрачной дверью. Дверь выпорхнула наружу и, качнувшись туда-сюда несколько раз, застыла на месте. Москву окутала ночь. Под землей в последнем вагоне железнодорожного состава старый орангутанг Лулу уплывал куда-то на запад большого спящего города.

Пятно
Холодно, хочется спать. Живот неприятно стягивает изнутри, кажется, как будто в рот насыпали муки, щеки неприятно прилипают к зубам, немного больно моргать.
Я едва ли могу сосредоточиться на том, что говорит Вера Павловна. Её движения я вижу, словно в замедленной съемке. Слежу за тем, как мелко подрагивают уголки её бледных губ, как голубыми бликами отражаются окна в толстых стеклах ее очков. Но вот слов, что она произносит, я не слышу. Мою голову будто бы опустили в воду, все звуки доносятся до меня издалека, преломляясь через толстую глухую завесу.
Я поворачиваю голову в сторону, смотрю на соседку по парте, Кристину. Она поспешно отвернулась от меня, стоило ей завидеть мой взгляд.
Посередине парты, словно оборонная стенка, стоит её большой красивый пенал. Чего в нем только нет — леденцы, блестящие наклейки, какой-то красный флакон, напоминающий охотничью пулю…
Я пытаюсь разглядеть Кристинины записи, слегка вытягиваю шею, чтобы увидеть прослушанный материал. Она же, как и всегда, четко ощущая мое присутствие, вся напрягается и резко прикрывает тетрадные листы ладонью.
Намек понят.
Знаю, что бесполезно, но я вновь пытаюсь прислушаться к словам Веры Павловны. Однако её тон, что я все ещё в силах уловить, словно мерный стук часов, убаюкивает меня. Я моргаю, цвета и силуэты смешиваются в одно мутное пятно, теряя свою четкость. Моргаю вновь и чувствую, с какой невероятной тяжестью поднимаются мои веки.
Моргнув в третий раз, я едва заметно откидываюсь на треснутую спинку классного стула. Мои руки безвольно обвисают, я слегка запрокидываю голову.
Я засыпаю.
***
Надо мной — бескрайнее белое небо. Я лежу на холодной и серой, превратившейся в лед, болотной воде. Солнце-блеклое пятно совсем не греет. Приподнявшись, я смотрю на жухлые выцветшие камыши, на жесткие пики-ели, виднеющиеся вдали.
Царит абсолютная тишина, я слышу собственное дыхание, даже падающие с неба мелкие снежинки будто бы издают легкий свист.
Мне снился сон, в нем я видел свой класс. Скорее всего, я в очередной раз уснул во время нашего с дядей лесного обхода. Странно, конечно, что я оказался лежащим посреди заледенелого болота, но на самом деле чего только со мной не приключается во время наших с дядей «прогулок»…
Я продолжаю лежать, вслушиваясь в шепот морозного ветра. Тишина в Камышах особая, живая. Не то, что в городе, откуда я родом. Мне, правда, никогда не понять, как говорит дядя, в чем же «суть» этой тишины.
Иногда, поддаваясь любопытству и желая понять, что же дядя имел в виду, я напрягаю свой слух, начиная прислушиваться к тишине.
Вот и в этот раз, задержав дыхание, я сосредотачиваюсь на окружающих звуках.
До меня доносится слабый, раздающийся глубоко-глубоко из-под заледенелой воды треск. Застывши, точно испуганный зверь, в следующее мгновение я с хрипом выдыхаю скопившийся в легких воздух. Перед моими глазами застывает должное было унестись прочь эфемерное видение.
Мне кажется, будто я лежу на еле бьющемся сердце. Бывший когда-то могучим и громким, стук огромного сердца затухает с каждой секундой, и я ничего не могу с этим поделать.
По телу пробежала крупная дрожь, в страхе я зажал уши ладонями. От холода я почти перестал чувствовать кончики пальцев, жест вышел смазанным. Я мечтал о том, чтобы пугающий, мертвецкий стук умолк, чтобы я снова оказался в мрачном, но куда более понятном сне вместе со своими далеко не дружелюбными одноклассниками.
Как вдруг…
Раздался острый и пронзительный, словно стрела, крик. Из камышей показалось голубо-белое пятно, за ним оттуда постепенно стали выплывать, сменяя друг друга, розовое, желтоватое, черное… Из камышей вышла огромная, величавая, но вместе с тем тонкая и хрупкая птица. Она пристально смотрела на меня, задрав изящную лапку, поджав её под себя. Птица заворожила меня.
Однако крик, который она повторила тут же, напоминал скрежет металла. Как будто бы совсем новым мелом стали вести по доске, или по стеклу случайно провели лезвием ножа. Птица забегала по ледяной поверхности, беспорядочно замахав крыльями, крича все громче и протяжнее.
Крики птицы перекрывали замедляющийся стук гигантского ледяного сердца, однако я едва ли мог быть этому рад.
Почему-то я разозлился. Не до конца отдавая себе отчет в том, что собираюсь сделать, я приподнялся на руках. Неподалеку от меня лежала средних размеров темная льдина. Увесистая, при этом помещавшаяся в ладонь — это я понял прекрасно, сжав ее в руке.
Я бросил ещё один взгляд на птицу, после чего занес руку над головой, завел её слегка за себя.
Бросок! И птица, ловко увернувшись от льдины, вдруг развернулась ко мне всем туловищем, широко расставив крылья.
Я увидел огромное кровавое пятно прямо у неё над клювом.
Пугающий холод, проникнув под одежду, под кожу, пронзил все мое тело. Я почувствовал, как со стуком, с которым льдина ударилась о поверхность болота, ухнуло куда-то вниз уже мое сердце.
Мои ступни словно окаменели, я упал оземь.
Однако вместо того, чтобы со стуком приземлиться на твердый лед, я провалился под его слой, сразу в мертвецки-холодную воду, в объятия чудища, обитавшего в её глубинах.
Я резко выдохнул весь накопившийся в легких воздух и…
***
— …безобразие! Кляйн! — донеслось до меня откуда-то спереди.
Кое-как сфокусировав затуманившийся взгляд, я увидел перед собой возмущенную учительницу и несколько десятков насмешливых, а местами и осуждающих взглядов одноклассников. Все они, как один, были устремлены на меня. Однако не на мое заспанное лицо, а куда-то гораздо ниже, вниз по форменному галстуку.
На моих брюках красовалось огромное темное пятно. Я почувствовал, как слабо задергалась нижняя губа, как на лбу тут же образовались капельки пота.
— Выйдите, — произнесла Вера Павловна уставшим голосом.
Я как можно скорее поднялся с места. Прошагав, сопровождаемый взглядами одноклассников, до входной двери, я выдохнул только лишь в тот момент, когда оказался стоящим в коридоре.
Неуверенно, словно не до конца осознавая, что делаю, я направился в сторону туалетов.
От расползшегося по брюкам пятна стало ещё прохладнее, чем было до этого. Колючий безразмерный дядин свитер совсем не грел, а дырка в подошве ботинок неприятно хлюпала, наполненная смесью из грязи и льда с улицы.
Зайдя в мужской туалет, я взглянул на свое отражение, в пыльное зеркало, изрисованное неразборчивыми надписями и нецензурными каракулями.
Мне до сих пор было немного тяжело дышать, холодный пот скопился под мышками, у корней волос. Я смотрел в свои же глаза и с трудом осознавал, реальность это или мой очередной сон.
Опустив взгляд вниз, я ощупал потертый, но единственный нравившийся мне элемент одежды, дядин кожаный ремень.
«Пожалуй, надо будет сделать дырку… Опять», — подумалось мне с неприязнью при взгляде на слегка сползавшие брюки.
Пройдя мимо раковин и унитазов, я встал у заиндевевшего окна. Серое небо, темнеющее к еле виднеющейся кромке леса, заволокло снежными тучами. Игривый ветер забавлялся со снежными комьями, разбивая и вороша их.
Где-то там, за бескрайним лесом, за бесчисленными болотами, в шумном мегаполисе стоит наш с мамой старый дом. В нем всегда было тепло и пахло пряной корицей.
Я почувствовал, как по моим щекам стали скатываться одна за другой ледяные слезы.
Но, как если бы моему сновидению было суждено повторить себя, абсолютная тишина вновь была нарушена. Только на этот раз не птичьими криками, а знакомым мальчишеским голосом.
— Марк.
Повернувшись, я, как ожидал, увидел своего одноклассника, Антона. Он смотрел на меня с крайней внимательностью, будто я в любой момент мог превратиться в какого-нибудь монстра или зверушку.
— Я не собираюсь над тобой издеваться, — выговорил он, пожалуй, чересчур ровно. — Просто хотел сказать, что ты не виноват в случившемся.
Меня откровенно бесил чрезмерно спокойный голос Антона. Я не стал ему отвечать, будучи то ли не в состоянии отыскать нужные слова, то ли и вовсе не желая их находить.
— Это Кристина вылила тебе воду на брюки.

Рождение Раи
Что может быть дурнее, отвратительнее дневного сна? Обитатели дошкольных учреждений дружно ответят: «Ничего!» Затем, немного поразмыслив, добавят: «Только манная каша с комками и молоко с пенками!».
Но оставим безгрешных ангелов в покое и спросим о том же Раису Захаровну, женщину, мягко говоря, зрелую, автора и создателя одной дочери и одной внучки, последней — само собой, опосредованно, но с правом решающего голоса.
Раиса Захаровны избегала дневных пересыпов. Опасалась отключки существования, хотя бы и краткосрочной. Как можно добровольно соглашаться на мини-кому «тихого часа», зная, что жизнь будет в это время бежать мимо, будто ей нет никакого дела, есть ли, была ли на белом свете Раиса Захаровна? Когда же случалось по недосмотру задремать днём, просыпалась она не только не посвежевшей после часового забытья, а напротив — обесточенной и подавленной, словно заглянула нечаянно в ту бездну, в которую не стоит вглядываться. И что странно, кроме ощущения ужаса, она не могла вспомнить ничего из того, что видела в тех снах.
Но не в этот раз.
День выдался. Выдающийся был денёк. Накануне ещё бродили лихие тучки, будто соревновались, кто первый выследит Раису Захаровну и прихватит дождиком на пути в магазин. Сегодня же с самого утра небо оказалось таким безупречно незабудковым, будто не сыскать над всей планетой не только туч, но и облаков: ни перистых, ни кучевых — тех кудрявых пышных перин, что изображают под босыми ногами святых.
К середине дня навалилась жара, согнала Раису Захаровну с шезлонга и отправила в прохладный дом, где та и прилегла буквально на минуточку.
В соседней комнате разговаривали двое. Поначалу слов было не разобрать, но постепенно слышимость становилась всё лучше и лучше, будто рассеивался туман, возвращая миру очертания.
— Ну какой парк, Тома? Мне к понедельнику надо весь чертёж переделывать!
Вздох.
— Не вздыхай! Мне тоже жаль выходного. Это же твой Юрик изрисовал мне курсовую.
— Наш Юрик, папочка.
— Ну так и не балуй его, раз наш! Я ему вообще всыпал бы за это безобразие!
— Тише, тише! Разбудим.
Двое заговорили тише. Раиса Захаровна напрягла слух, но доносилось лишь смутное бормотание, потом тишина, всплеск смеха, опять — ничего. Но вот разговор возобновился, постепенно становясь внятным.
— Что, ты так прямо ему и ответила? Ха-ха-ха!
— Тише. Ну, да! Зато он больше не подходил с этой ерундой.
— Ну, Томка, отчаянная ты у меня. Вот в кого наш Юрий Захарович!
— Зато девочка будет в тебя!
— Какая девочка! Ты о чём?
— Да я так, теоретически… А что?
— Что что? У нас комната восемь метров, вот что!
Вздох. Тишина.
— На стол твою… нашу девочку, что ли, спать укладывать? И сосед за стеной опять нехорошо кашляет.
Тишина.
— Тома!!!
— Что?
— Даже не вздумай!
— Да поняла я, поняла.Тише.
— Хватит с нас Юрика.
— Да, конечно, хватит…
Тишина.
— Я бы её Раечкой назвала…
«Оставьте меня, оставьте!» — задохнулась беззвучным воплем Раиса Захаровна.
И тут мягкие невидимые руки подхватили её под мышки и вынесли из комнаты через открытое окно. Её влекло ввысь, дом стремительно превращался в точку. Соскользнули с ног тапочки, закружились лепестками, возвращаясь домой. Вскоре полёт Раисы Захаровны замедлился, и она мягко плюхнулась в середину облака. Те же заботливые руки усадили ее поудобнее, взбили под спиной облачную пену, и ласковый голос из ниоткуда произнёс: «Не расстраивайся, Раиса! Выберешь себе других».
«Но я хочу этих, этих!» — в отчаянии закричала Раиса. Слёзы заливали ей лицо, будто ребёнку, молящему о дорогой игрушке.
Она почувствовала, что прежде упругое облако под ней стало оседать, образуя сквозную прореху, в которую она проваливалась всё глубже, глубже, и вдруг камнем безнадёжно ринулась вниз. Летела не в героической позе супермена, не романтично, кружась, как до этого ее тапочки, не хотя бы отчаянной «бомбочкой», как в детстве с пирса. А летела Раиса Захаровна в стыдной позе спиной назад, отчаянно вертя ногами и руками, подол платья трепыхался нераскрывшимся парашютом, обнажая её когда-то красивые коленки.
Раиса Захаровна проснулась с тахикардичным сердцебиением, бормоча в мокрую подушку непонятное: «Этих хочу, этих».
А может быть, она и не засыпала?
И родилась ли вообще на этот свет наша странноватая Раиса Захаровна со своим нелепым, киношным именем? А может, пока безымянная, всё ещё витает в необъятной вселенной, выбирая себе других родителей, расходуя отведённые ей попытки, нервничая — вдруг уже истратила последнюю, а дальше — только блокировка на следующий миллион лет?
Других?
Значит, другой папа будет гладить её шершавой ладонью по нежной спинке? Другой — хмуриться на четвертные тройки? Другая мама придумает ей имя? Другая будет туго-претуго заплетать тонкие косички в школу? Другие возьмут на руки её дочку, а кто успеет — и внучку? Другие будут улыбаться ей с овальных эмалевых портретов?
Раиса Захаровна села на постели, пошарила ногами в поисках тапочек.
Не нашла.

Сверток
Мама заболела из-за работы. Температура чуть выше тридцати семи держалась полгода. С работы мама ушла и сидела дома, в нашей деревне. До города близко, но если нет сил и нет машины, то толку от близости к городу никакой. Все равно пешком не дойдешь. Она и не пробовала. Температура держалась, даже когда мама стала больше отдыхать. Не хотела опускаться и отпускать. Мама говорила, что все пройдет, все наладится, нужно только найти интересное занятие. Отвлечься, стереть из памяти годы тяжелой работы и направить себя в какое-то другое русло. Русло нашлось очень быстро. Оно не сразу понравилось отцу, которому, в общем-то, мало что нравилось. Нужно было попривыкнуть, обдумать, созреть. Но мама долго созревать не могла, у нее уже начались всходы. Надо было срочно принимать решение.
Помню, она привезла нас с сестрой в детский дом. Мне одиннадцать, сестре пятнадцать. Мальчику, которого она нам показала, едва исполнилось три года. Он прыгал зайчиком на новогоднем утреннике и единственный из всех детей улыбался. Мы к нему так и не подошли. Просто смотрели на чужих детей и удивлялись тому, какие они все пустые. Смотрят прямо, будто сквозь, и сквозит утраченное детство. Их даже не разглядишь. Про новорожденных нянечка как-то сказала: колбаса с глазами. Лежит завернутый и смотрит, ничего не чувствует. А про этих трёхлетних сказала: там будто бы провода неправильно намотаны, вот и не горит свет.
Домой мы ехали молча. Испугались этих не горящих детских глаз. В тот вечер температура как-то сама взяла и спала.
— Ты понимаешь, что это значит? — шептала мама.
— Нет, ты о чем?
— Дима, это знак. Надо брать.
«Чем старше ребенок, тем меньше шансов обрести нормальную жизнь». — С утра мама начала читать лекцию.
Мы кивали, ели и думали о своем. У меня контрольная на носу, важная. У сестры первая любовь. У папы не то чтобы сильно большая зарплата.
«Надо искать новорождённого, не старше года, тогда все получится», — сказала мама.
Мы кивали. Контрольная уже написана. Первая любовь потеряна. Зарплата чуть подросла из-за индексации.
«Справимся», — сказала мама.
И стала искать. И нашла.
Он был пухленький с большими белыми кудряшками. На портале детей-сирот всего три фотографии. Мама сразу разглядела, что есть какое-то сходство. То ли с прадедом по маминой линии, то ли с дедом отца. Нос у него уже тогда был длинный, словно маленький клюв. Дядя прозвал его попугайчиком Аро.
Первый шаг навстречу был сделан, когда мама собрала документы в большую синюю папку. Посидели на дорожку. Мы с сестрой на диване, отец в кресле, мама вместе с папкой на табуретке в коридоре, поближе к выходу.
Документы собирались долго. То одно, то другое. Помню, нас с сестрой отправили к дерматологу в поликлинику. Кое-как совершив осмотр, врач поставила подпись и выдала каждой по бумажке. Бумажка значила для нас одно: мы в порядке, не заразны, нового ребенка в семье иметь можем. Принесли бумажки домой, и мама с большим трепетом, разглаживая помятые уголки, дополнила ими свою коллекцию.
Десять. Ровно за столько посещений ребенку необходимо привыкнуть к взрослому и начать называть его «мама». Шесть. Столько часов мама тратила на дорогу, чтобы час поиграть с будущим сыном. Один. Столько раз остальным членам семьи нужно встретиться с ребенком прежде, чем он поедет домой.
В один из приездов мама взяла меня с собой.
— Еду к брату, — сказала я лучшей подруге.
— У тебя что, брать есть? — Подруга перестала жевать и подняла на меня глаза. — Ты не рассказывала.
— Да, есть, — уверенно ответила я.
— Прикольно, а где он?
— В детском доме.
Пускали к детям только в будние дни.
— Что это? Проверка на безработность? — возмущался папа. — Как это, интересно, я в будни должен все бросить и к ним приехать?
— И не приезжай. Мы с Аленой вдвоем съездим, — спокойно отвечала мама.
Пришлось ехать на электричке. Оказались в ходовом вагоне. Там всегда трясет. Едешь как на лошади. Все со всех сторон качается. Мама качалась сидя. Я рядом стоя.
Два часа в вибрирующем вагоне, потом сорок минут на метро, потом десять минут на автобусе вдоль парка Сокольники и в конце небольшой зеленый путь пешком прямо к воротам детского дома номер двадцать три.
В тот день помню его в старой серой коляске с большими пыльными колесами. Глаза закрыты, спит. Губы сжаты. Пахнет картошкой пюре, солеными огурцами и ландышами. Маленькое здание легко обойти кругом, и мы ходим кругами в полной тишине.
— Мам, а он умеет улыбаться? — шепчу я.
— Умеет, я видела, — отвечает мама.
— Значит, не как дети на утреннике? Лучше?
— Гораздо.
В тот день он сделал свой первый шаг. В маленькой детской комнате на красном ковре. Светило солнце, и нянечка вскрикнула: «Он пошел! К вам идет!»
— Улыбается, — говорю я, протягивая брату руки.
Потом помню — мы приехали снова. Уже все вместе. Кудряшки торчат из-под шапочки. Весна, но прохладно. Одели его в несколько слоев, отчего он стал совсем круглый и белый. Играли и брали на руки, как что-то свое, но чужое. Передавали друг другу. Пробовали, как вкусную конфету, привезенную из дальних стран. Улыбался, даже смеялся. С удовольствием играл и постоянно просился на руки то к одному, то к другому, не разбирая кто где.
Потом принесли синюю папку, заметно потяжелевшую. Забрали у нас старую серую коляску. Положили туда другой улыбающийся сверток. Нашего накормили картошкой и отдали нам. Как ни в чем не бывало. Езжай! И слез не помню, разве что у нас в глазах.
Потом помню его уже дома. В розовом свитере. Стоит в кроватке и терпеливо ждет молочную бутылку. Долго так может стоять. Размышляет, как вылезти. Ногу поднимает. Тихонько пыхтит. Бутылку дождётся и ляжет сам. Свет выключишь, и уже спит. Главное, из комнаты выйти, чтобы темно и никого. Привык.
Потом помню его на горшке. В том же свитере. Слезы блестят, текут. Золотые кудряшки пружинят, пуговицы на розовом свитере периодически вздрагивают. Время идет, рыдает все громче.
Мы ходим мимо.
— Нерадостно, — замечает отец и тоже проходит мимо, — чем же тебя так горшок не устраивает? Не надоело в подгузник ходить?
Рыдает, все понимает.
— Ну так пусть сидит, не трогай его.
Высидел до красных полос, но так и не сходил.
Потом, помню, пять часов ел суп с фрикадельками. После дневного сна сел за столик и сидел молча. Думал, можно не есть. А нельзя. Пусть сидит, пока не съест. Так и сидел до ночи, не съев ни ложки. Перед сном долго кричал, пока не получил бутылку с любимым йогуртом. Уснул в полной темноте.
***
Страхов и опасений было много. Больше всего мама боялась органов опеки и попечительства. И я боялась вместе с ней. Мало ли что у них на уме.
— Придут, а у нас холодильник пустой. Андрей некормленый. Ты небритый.
— Ну и что теперь? Заберут? — смеялся отец.
— Могут и забрать. Кто их знает.
— Если я побреюсь, кого заберут? Его или меня?
За все время к нам ни разу не пришли. Ходить нужно было самим. Как на линейку.
Помню, мама нарядила Андрея в зеленую шапочку ручной вязки, новую курточку и джинсики. Пока шли, он успел немного подпортить свой идеальный внешний вид, устремляясь то к белке, сидящей на дереве, то к луже, которая очень удачно расположилась прямо посреди тротуара. Мама вскрикнула. Я смеялась.
Светлана Ивановна — работник опеки, женщина фактурная. Ей дали отдельный кабинет не за заслуги, а за лишний вес. Зашли мы беззвучно, чтобы не потревожить. Без особого удовольствия она подняла глаза, рассматривая подросшего упитанного Андрея. Отсканировала сначала его, а потом нас на предмет несовершенств. И они всегда находились. Пятна на новой курточке были очень некстати. Потом она начала задавать странные вопросы.
— Как вы его кормите? Хорошо? — спрашивала Светлана Ивановна, гладя Андрея по плечу. Помню, я еще подумала, что такую женщину, как Светлана Ивановна, может волновать только этот вопрос.
Андрей стоял тихо, на всякий случай не шевелясь. Ему вообще не нравилось, когда его трогают, а тут еще Светлана Ивановна со своими большими шершавыми руками.
— Хорошо кормим. Сначала ничего не ел, отказывался. Только картошку, каши, хлеб. Ну вы знаете.
— А сейчас что ест? Все?
— И мясо сейчас ест, и птицу. Супы вот стал любить. Крупы, фрукты, овощи. Да, Андрюш?
Андрей, кругленький в синей курточке, посмотрел на маму, потом на меня, а потом на Светлану Ивановну.
— Да, я люблю есть, — ответил он.
Когда вернулись домой, спросил:
— Зачем мы ходим к тете Свете? Она кто?
— Мамина знакомая. Она проверяет, все ли у нас хорошо, — ответила я.
— Можно туда больше не ходить? У нас же все хорошо.
Потом помню, на детской площадке играли, и я случайно подслушала разговор.
— А тебя как зовут?
— Андрей, а тебя?
— А меня Виктор. Папу моего зовут Семен. Значит я Виктор Семенович. А твоего папу как зовут?
— Дмитрий.
— Значит, ты Андрей Дмитриевич?
— Нет, я Андрей Русланович.
Шли с Андреем домой. Золотые кудряшки к тому времени уже потемнели. Шел молча. А дома отказался обедать.
— Я на вас совсем не похож, — сказал он, разглядывая мой детский фотоальбом.
— Как же не похож. Вот, посмотри на отца, мне кажется, очень похожи, — говорю я.
— Не похож, я другой, — отвечает он.
Потом, помню, по Первому каналу сюжет показывали про детские дома. Вопросов не задавал. Глаза круглые, пустые. Кнопки пульта скулят от давления.
«Мам, расскажи мне о маме», — сухо и медленно, так, будто бы это его совсем не касалось.
Слегка сглаживая, мама все-таки произнесла и алкоголь, и наркотики, и ВИЧ. Только это он и запомнил. А потом спросил: «Когда я ее увижу?»
Помню, когда он впервые сказал: «Я не знаю, почему я плохой человек». Ему было семь. Завернувшись в пуховое одеяло, он сидел и смотрел вперед. В середине пуховой горки вырисовывалось белое личико, окаймленное густыми кудрями.
Первые сворованные пять тысяч тоже помню. Сначала кричала мама, потом отец, потом добавила сестра. В наше отсутствие пролез в тайник, который для него тайником уже не являлся. Отсутствие денег заметили сразу, потому как не хватало до ровной суммы. Нашли тоже сразу, у него под подушкой.
Помню, он выудил из рюкзака дневник и передал его мне. На обложке появилась пара новых пятен, которые можно было и не заметить среди остальных, но все же я разглядела, потому что с утра брала его в руки.
— Хорошо, — сказала я, — предположим, я не буду его открывать, и ты сам расскажешь, что там внутри.
Руки дернулись, он сделал шаг назад и замер, слегка покачиваясь.
— Ничего я не скажу, я сожгу его!
Он рыдал и грыз палец, ворот футболки мокрый от слез и слюней. Ее он сгрыз еще на прошлой неделе. Пример не решался, впрочем, как не решались и все другие задачи. С первого по одиннадцатый класс. Папа переходил из одного состояния в другое. Мы сегодня были свидетелями множества эмоций, от ярости до апатии. Андрей притворно рыдал, побуждая отца требовать все больше. И если бы не успокоительные, то мы давно бы потеряли обоих где-то между падежами имен существительных и формулами сокращенного умножения. Там же где-то осталась бы и мама.
Помню, у мамы была любимая красная чашка. С толстыми стенками. С утра первым делом она наливала себе чай и садилась читать в гостиной, пока все спят. Эта чашка однажды убила кошку, когда Андрей выбросил ее с десятого этажа. Мурку хоронили в пакете тридцати литров вместе с красными осколками.
«У меня там, может, брат есть или сестра. Настоящие. Ты мне никто».
Вспомнила тогда один разговор. Много лет назад, а кажется, совсем недавно.
— Ты когда приедешь к нам погулять? Совсем нас забросила, — ноет в трубку лучшая подруга.
— Не могу, мне нужно с Андреем сидеть. — У меня слишком серьезный голос для девочки двенадцати лет.
— Может, на следующей неделе? — не останавливается подруга.
— И на следующей буду сидеть. — Какое дело мне до их бездумных городских скитаний.
— Когда тогда увидимся? Уже пол-лета прошло.
— В сентябре.
***
Можно, конечно, надеяться на то, что она придет с минуты на минуту. Но это точно не в наших интересах. Андрей на первом ряду весь сжался. Мама ободряюще что-то шепчет ему на ухо. Я то и дело посматриваю на дверь. А вдруг зайдет? А какая она? А может, не зайдет, а заедет? Может, она инвалид. Судья похожа на Светлану Ивановну. Та же фактура, только еще не раскрывшаяся в полной мере. Светлана Ивановна здесь тоже есть. Вон, сидит рядом с мамой. Дышит ей на ухо и что-то рассказывает.
«В случае неявки на судебное заседание кого-либо из лиц, участвующих в деле, в отношении которых отсутствуют сведения об их извещении, разбирательство дела откладывается».
— Вы как? — спрашиваю маму с Андреем.
— Да ничего. Нормально, — отвечает мама.
— Почему она не пришла? — спрашивает Андрей.
Никто не ответил. Позже мы узнали, что она умерла от передоза. Два года назад. Андрею тогда было двенадцать.
***
Ворота по кнопке приотворились с легким гудением. На территории было пусто. Он зашел внутрь. Положил документы в большой зеленой папке на стол заведующей. Она улыбнулась, и они долго говорили.
— Я рада за тебя, Андрей. Таких, как ты, единицы. Большинство…
— Спивается?
— Нет, ну почему же спивается. Просто мало кто возвращается.
Нянечка передала ему розовый улыбающийся сверток. Пахло ландышами, картошкой пюре и огурцами. Они ехали домой.

Снежок
Она всегда говорила — это черт какой-то, а не кот, родовое проклятие в звериной шкуре. В мире ее давнего детства кот был другим: ласковым и тихим. Днем он валялся в кустах смородины, щурясь, подставлял серую голову под ее ладонь, а ночью приходил и ложился поверх одеяла. В мире, где она жила сейчас, все было иначе.
Кто б знал, что, взяв котенка размером с небольшой снежок, рассыпающийся в пальцах, невесомый, ей придется взвалить на себя такую непомерную тяжесть? Но никто не знал, и из белого с серыми пятнами комка — уши, нос, вечно задранный боевой хвостишко, — потихоньку вырос сначала наглый сиамский подросток, а потом и это самое. Мордатое, недовольное, с тяжелым взглядом и луженой глоткой.
Она терпеть его не могла, но терпела. Кормила, мыла лоток, слушала, как он орет. Лупила, конечно, что делать. За двадцать лет совместной жизни руки ее покрылись шрамами. Она знала их наперечет: этот с тех пор, как не глядя сунулась в шкаф, а вот след страшной раны, когда он вцепился в запястье и повис, как длинная бурая пиявка. Иногда, забывшись, она трогала уродливые метки, и каждая кричала тонким бабкиным голосом: «Дура ты, дура! Завела кота вместо мужа? Вот и сиди». И она сидела.
Кстати, на гостей он поначалу производил приятное впечатление — холеный сонный увалень, каким и должен быть, пока к нему не протягивали пальцев с угощением или так — ничем не защищенных, нежных. Она знала, что будет дальше, потому что дальше было одно и то же: бросок и красные капли на светлом ковре расставлялись, как точки над и.
С чужими он разбирался молча, но только не с ней. С ней он разговаривал сутками. Ночью, когда она, просыпаясь, орала в ответ, он обиженно умолкал, а днем, едва за ней закрывалась дверь, начинал снова. Говорил-говорил-говорил. Пил несвежую воду, спал и снова повторял в тысячный раз: что скучно сидеть в коридоре, вода протухла, корм не нравится. Что он обиделся, и если кто к нему сунется, то огребет. И что он хочет снова, как раньше, когда был легким белым комком, спать у нее под мышкой.
Соседи начинали стучать в стену, а потом она возвращалась. Влетала в дом с потоком воздуха, толкала локтем, разуваясь, мыла лоток, меняла воду, сыпала в миску корм. Ужинала, смотрела на огни за рекой и уходила спать, плотно закрыв за собой дверь. Ложилась и тонула во сне, где смородина наливалась черным соком, а серый бабкин кот шевелил хвостом. Во сне, из которого он всегда ревниво ее вытаскивал.
Тем утром она проснулась в тишине. Кот был жив, но выглядел плохо. Блестящая шерсть словно покрылась слоем пыли и торчала клоками, синие, ясные обычно глаза завесила пелена. Даже в переноске, куда сунула его, чтобы увезти к ветеринару, он лишь пару раз недовольно крякнул и умолк. «Старенький какой», — жалостливо забормотала тетка в лечебнице. «Да и ты не девочка», — мелькнуло в голове, но она промолчала. Расплатилась и поскорее вышла, стараясь не смотреть на людей в обнимку с больным зверьем.
На улице было тепло, как будто весна, едва начавшаяся, давно уже шла. Почки на кустах, сухие еще вчера, набухли и торопились забрызгать зеленью все вокруг. Сама не понимая, зачем, она прошла мимо подъезда и спустилась к реке, пачкая сапоги. Там весной и не пахло. Ото льда тянуло холодом и гнилью, и снежок еще лежал на берегу — тусклый, свалявшийся, светло-серый с подпалинами, как кошачья шерсть окраса блю-поинт. Как шкура ее кота. Кстати, как он там, ее кот? Чертов кот, укравший у нее двадцать лет жизни? Изодравший ей все руки, злой, как сто собак, старый и больной, как он там?
— Как? Как? Как? — допрашивали ее вороны, кружа над гнездами, а она не знала, что сказать себе и им. Просто побежала от этих криков и этой реки. Щеки пылали от злости, стыда и черт-те чего еще, непонятного. Мысли цеплялись одна за другую и все вместе сливались в какой-то дикий крик, в котором ни слова не разобрать. Но чем дальше была река с ее вонючей грязью, тем легче шум в голове рассыпался на слова.
Ну что такого-то? Не забирать его, да и все. Позвонят — не отвечать. Можно подумать, тебе все отвечают, тебя все ждут. Да всем на тебя плевать. И матери, сбагрившей еще восьмимесячную больной бабке, и самой бабке, шестерых поднявшей, двоих схоронившей. Ведь только и слышала с детства: «Кому ты нужна, дармоедка, навялили тебя на мою шею». И что толку было искать другого, если другого нет? Надеяться, что бабка пожалеет, что мать приедет и заберет к себе, к новым детям, непьющему новому мужу?
С каждым этим мысленным словом шаги ее становились уверенней и ровней. Она совсем уже успокоилась, но вдруг ясно увидела своего кота. Дурацкого старого сиамца, который только и делал, что ел, спал и гадил. А еще сидел у двери и слушал, когда щелкнет замок. Во сколько бы ни пришла, лез под ноги, заглядывал в глаза, толкал лобастой башкой.
— А он-то тебя ждал. Теперь нет. И встречать не выйдет. Дома-то у тебя — один пустой коридор, — глумливо шепнуло ей что-то в самое ухо и показало кота за прутьями больничной клетки. Тощего, взъерошенного, уставшего от уколов и капельниц. Подыхающего. Живого. Говорящего с ней, как всегда.
— Да иди ты! — заорала она пацану, проходящему мимо, развернулась и рванула к остановке, на последний автобус до центра.
Когда он вернулся домой, весна уже шла вовсю. Разговаривать не хотелось. Все было понятно и так. Он вылез из переноски, размял лапы одну за другой и тяжело вспрыгнул на подоконник. За окном желто-розовое солнце разливалось и капало в воду. От воды поднимался пар, цеплялся за ветки, рвался и таял, не мешая смотреть на огни за рекой.
— Раннее тепло в этом году, — вздохнула она, подойдя. — Сидишь, черт серый? Вот и сиди.
Цапнула за ухо, легла и впервые за эти дни толком уснула. А он сидел. Ждал, когда погаснут огни, чтобы, как в детстве, забраться к ней под мышку.

Снимок
Маша стояла в прихожей, уже обутая, и никак не могла понять, какую куртку надеть. Она протянула руку к оранжевой ветровке, пощупала тонкую ткань и покачала головой. «Замерзну же ночью». Июнь выдался необычно холодный, в городе снег растаял всего-то пару недель назад, а вот на сопках еще лежал. Достала из шкафа легкий пуховик и снова засомневалась. Пуховик был новый, светлый, жалко, если испачкается или прилетит искра от костра. «А в прошлый раз я что брала?» Маша всё утро пыталась вспомнить, как было раньше, будто это имело хоть какое-то значение.
Каждый год в начале лета Маша и четверо ее друзей, Настя и Женя, Катя и Костя, ездили ночевать на озеро. И вот рюкзак собран, кроссовки зашнурованы, Настя уже сбросила эсэмэс: «Спускайся через 5». Но Маша стояла в прихожей и ждала, что Женя, Катя, да кто угодно, позвонит и всё отменит: «Да вы в своём уме, какое озеро? В такое время?» Куртка никак не выбиралась, и что-то, слегка напоминающее надежду, не теплилось в душе, а, скорее, наоборот, холодило: «Может, и не придется?» Телефон завибрировал, и Маша нажала «Принять вызов», почти уверенная, что вот сейчас ей скажут, что отбой, сидите дома, но раздался звонкий голос Насти:
— Мы внизу, ты что, проспала?
— Нет, куртку выбрать не могу. — Маша потрясла головой, сбрасывая оцепенение. — Боюсь, замерзну в ветровке.
— Возьми свитер. Или хочешь, свой тебе отдам, у меня еще флиска с собой.
— Не надо. — Маша дернула новый пуховик с вешалки и безжалостно затолкала в рюкзак. — Но спасибо. Я спускаюсь.
Перескакивая ступеньки, как в детстве, Маша с напускной легкостью сбежала вниз и распахнула подъездную дверь. Солнце ударило ей в глаза, ослепило, заставило замереть. Воздух уже нагрелся, пах теплой пылью и молодой зеленью. Маша оглядела пустой двор, все еще спали, только черный внедорожник Жени на парковке приглушенно урчал в нетерпении. Хотелось закурить, но Настя махала ей рукой.
— Маш, ну поехали, ребята ждут.
Каждый год один и тот же маршрут, одна и та же компания. Катя и Костя едут на рынок и покупают мясо, овощей и вина на всех. Настя и Женя забирают Машу, им по пути. Встречаются на выезде из города, у знака «Осторожно, крутой спуск». Перекур, привычный треп старых друзей, потом час дороги до озера. Три палатки. Женя поможет поставить Маше, она и сама умеет, но в полном соответствии с детской дразнилкой, может и растерять в процессе колышки или еще какие-нибудь важные части. Зато пока Костя будет жарить шашлык, а Настя и Катя — аккуратно резать овощи, Маша сделает несколько кадров, которые они будут пересылать друг другу, выкладывать с трогательными подписями, может, даже распечатают и поставят в рамку. Хорошо же было, классно, что удалось снова собраться, в следующем году обязательно повторим.
Каждый год было так. А потом случился этот.
Катя и Костя уже стояли у знака, вроде вместе, но как-то порознь. Катя, насупленная, уткнулась в телефон, Костя курил, глядя куда-то за сопки. Маша с Настей понимающе переглянулись, и Маше снова захотелось, чтобы кто-то их остановил от поездки.
— Всё купили? — Настя звучала нарочито бодро.
— Ага, — глухо ответил Костя.
— А салфетки? Взяли? Или как обычно поедем? — Салфетки каждый год забывали, и приходилось заезжать за ними в маленький магазин по пути.
— Взяли. — Костя докурил и пошел к урне, Катя так и молчала.
Маша сжимала телефон в руке и, глядя на упорно читающую Катю, еле удержалась от порыва открыть телеграм и посмотреть новости. Но на новости сегодня было табу, договорились же. Вместо этого она закурила долгожданную сигарету.
— Ребят, давайте не рассусоливать, и так задержались. Маша, ты опять, что ли? — Женя смотрел на неё с легким укором. — Ты ж бросала.
— Я тоже думал, брошу, — Костя достал еще одну из пачки, — но на фронте всё равно закурим.
— Костя! — Катя сжала зубы. — Ну я же просила, давай без шуток этих твоих.
— А это шутки, что ли, по-твоему? — Костя издевательски поднял брови.
— Костян, и правда, не надо, — Женя вздохнул, — решили же, едем отдыхать.
— Да едем, едем. Я молчу.
Маша тоже молчала, хотя слова катались на языке, норовили выскочить. Вот сейчас бы сказать их, и потом можно просто сесть по машинам и вернуться в город. Никуда не ездить, замереть, ждать, помнить каждую секунду, что мирная жизнь кончилась, и когда она начнется вновь, и кто останется к тому времени здесь, неизвестно. Маша смотрела на своих друзей, курила и проталкивала слова с языка подальше, поглубже, в горло, в грудь. Пусть остаются там, остаются страшным знанием, которое не изменить. Непременно надо убрать эти чертовы телефоны и ехать. Утро прекрасное, солнечное, там, на берегу озера, наверняка вовсю цветут ирисы, а если подняться вверх по холму, то можно найти желтые рододендроны, растущие между камней, как пример того, что прекрасное всегда найдет себе дорогу даже там, где, казалось бы, жизни нет. Надо ехать, ставить палатки, разводить костер, а ночью пить вино и смеяться. Маша выкинула сигарету и достала телефон из кармана.
— А встаньте вот здесь, чтобы свет не сзади, да, Кость, вот так. Поближе к Кате.
На фото Костя обнимает жену за плечи, у нее встревоженный взгляд, но улыбка искренняя, Женя с Настей прижимаются друг к другу, как дети, Маши на снимке нет, но в кадре есть её тень, и они вместе, как это было каждый год в начале лета.

Сны итальянца
Сегодня Роберто Ди Дио решил покончить с собой. Прямо здесь, в номере отеля, среди стылой петербургской весны.
Бутылка стукнулась о край стакана. Брр-рнц! Как тогда…
Пузатый бокал был назначен генералом, а рюмки выстроились в шеренгу перед вечным противником — кумачовым петухом. Дядя Гаро, как всегда, заревел: «Тэбе, Ррроби-джан, грр-рафин нужин! Из бокала какой генерр-рал! Так, подпор-рручик!», — и схватил бойца.
— Генерал, генерал! — твердил я.
Бабушка прервала нас.
— Не дразни ребенка, Гаро! А ты не хмурься, Роберто, sii educato (это невежливо — итал.). Дядя Гаро шутит. Возьми тарелку с персиком и ступай в детскую, fai il bravo (будь хорошим мальчиком — итал.).
Ее слова сыпались, как острые камушки с горной тропы. Сердясь, бабушка говорила по-русски.
В тот день у меня ныл затылок. Все казалось особенно мерзким. Я ушел к себе, размышляя, как бы доказать, что никакой дядя Гаро не весельчак, а самый настоящий орколат-оборотень, который вырвался из горы и вот-вот убьет нас… Персик быстро кончился. Зато у меня созрел план!
— Все не то! Проклятье! — Он смял черновик мемуаров. Это была последняя надежда: слова должны были выткать холст, годившийся для широкой кисти. Увы! Душа никак не желала вочеловечиться. Кажется, последней каплей стали портьеры, мутные, как утро после брачного торжества по расчету. Такие портьеры выбирала его жена. Она предпочитала нейтральное. Кофе. Молоко. Беж. Изгоняла его золото и пурпур. Он мстил, запирался в мастерской и строил личный Ватикан из солнечно-рубиновых полотен. Но в последний год грязно-белое просачивалось в щели. Краски тускнели, формы теряли упругость. Вернулись приступы удушья и страха, которыми Роберто страдал в детстве. Во время приступов мучило горло — внутри словно скребли стеклом. Глаза оставались сухими, а со временем высохли губы, пальцы, кожа на руках и ногах. Сквозь иссохшее не проступали ни мазки, ни слова. Однажды приснился петух, тот самый. Вспыхнул огнем в руках и растекся кровавой лужей. Роберто полетел в Россию. Но и тут — портьеры.
— Да. Надо кончать.
Он привстал за борсеткой. Постучали.
— Синьор, я ждал внизу.
Перед ним стоял молодой человек с серо-жемчужными глазами. Дивный цвет. Таким бывает Петербург в светлые, но облачные дни.
— Простите?
— Ночная vip-экскурсия! Вы подписали контракт, синьор! Все готово.
Итальянец хмурился, пытаясь вспомнить, о чем идет речь.
— Идемте, синьор, — настойчиво повторил незнакомец, демонстрируя бумаги, где Роберто разглядел свою подпись.
Они шли по темным переулкам. Вывернули к каналу и остановились в густой тени дома. Пахнуло суровым, совсем не апрельским ветром. Вокруг скрипящего фонаря висели снежинки.
— Мистификация, — шепнул провожатый, — только для вас!
Тут же послышался цокот копыт. Спросить Роберто не успел: в зимнюю картинку проскользнула женщина в длинном пальто с горжеткой. Дрожащий свет обескровил молодое лицо. А сбоку появился еще один силуэт — огромный и черный. Он приближался. Роберто охватил ужас. Сейчас эта тьма поглотит ее! Как тогда — его.
Вечером я прокрался на второй этаж, сжимая в руках тяжелый отцовский фотоаппарат. Дверь в спальню дяди Гаро была приоткрыта. Он стоял у комода, чуть покачиваясь, как после долгих застолий. Плечи скукожились. Должно быть, оркулл сейчас обратится! Поднимаю камеру и… Дядя задвинул шкафчик, повернувшись вполоборота. Я закричал. Камера рухнула на пол. В волосатых руках дяди Гаро был детский костюмчик. Оркулл! Он кого-то сожрал!
Роберто открыл глаза. Мужчина в военной шинели стоял перед женщиной, уткнувшись могучими коленями в снег. Она говорила спокойно и почти отстраненно. Художник слишком хорошо понял, о чем шла речь. Догадался: это ее боль сотрясает тело смуглого офицера.
— Я понял, — прошептал он, — вот о чем все молчали! Бабушка сделала аборт… О, Мария! Неужели мы все теперь платим…
Той ночью пришел дядя Гаро, маленький, высохший всего за пару часов.
— Я нэкогда нэ ел дэтей, Робби-джан. Только раз… Мы с твоей бабушкой любили друг друга, до Лоренсо. У нас мог быть малыш. Но я испугался. За нее. За него. За себя.
— Вы съели его?
— Нэт. Я вирнул этот дар Господу. Костюмчик… полвика прошло, а я скучаю о своем малышэ.
На плечо легла рука провожатого.
— Плачь, Роберто.
Он плакал. А потом все кончилось. Его юная бабушка скрылась в переулке. Дядя Гаро исчез. У моста лежала трубочка скрученных купюр.
— Деньги? Она не взяла их…
На следующий день Роберто вернулся в Рим. А через полгода — назад, в Петербург. Он писал. Быстро, яростно. За каждого из живших и живущих. В итальянскую сагу вплелись вьюжные дни и ночи революционного Петрограда. Сюжет банален: муж, жена, лучший друг… История. Муж гибнет во время беспорядков. Его друг воюет за царя. Жена беременна.
«Дорогой Гаро, — писала она в 1938-м, — мы вновь разминулись, и вновь я замужем за другим… Но тогда, в 17-ом, ты был прав. Невозможно. Несвоевременно. Прости, я не смогла. Давид родился в подвале, и я пошла с ним на край света, туда, где цвели персики. Ты всегда их любил. Мои бриллианты стали залогом, а молчание — платой. Страшной платой, Гаро! Боюсь, это проклятие дотянется до других. Что оставалось? Тебя считали погибшим. Везти Давида в Париж, сгинуть с ним по дороге или оказаться среди “своих” и опорочить ваши имена, твое и Саши… Он был в тебя, Гаро. Боже мой, я так виновата! Всю жизнь я молюсь о Давиде и его приемной семье. Всю жизнь боюсь навредить ему, тебе, всем нам».
Письмо обрывалось. Роберто отправлял его теперь, врезая в свою рукопись. Его мать умерла от рака горла за день до публикации. А бабушка и Гаро дожили (девяносто девять и сто три — не чудо ль?). «Сны одного итальянца» издали в России. Быть может, затем, чтобы месяц спустя в редакцию пришел еще один конверт, присланный из страны гор.
Так на выставке появился триптих: на чёрно-белом снимке — палас, кусок комода и мужская нога, на цветном — престарелый дядя Давид с кровными матерью и отцом. А в центре — золотисто-алый цвет персиков. И больше — никакого проклятия.

Сокольники
— Снова осень, октябрь, Сокольники,
Снова руки в карманах пальто…
Гладят пальцы Ахматовой сборник…
Часто задумывался о том, чтобы самому писать лирику, а не править тексты. Ведь приходят в голову строчки, рифмуются, кружат, как серебристые мотыльки вокруг керосинки. Неблагодарное, правда, это дело — удел мечтателей.
Я вытягиваю ноги и лениво обвожу взглядом центральный парковый круг, лавочки, побеленные по весне и к сегодняшнему дню уже подуставшие, за ними тяжелые вазоны с гортензиями, бархатцами.
Французский парк, переходящий в дикий, английский. Но парк Сокольники родился не так давно — хотя казалось бы — только в 1930-х годах. Вдоль каждого просека свой вид деревьев, радиально-кольцевая структура. Парк-город, парк-конструкция. Гулять, не нагуляться. Мы здесь любили и целовались на скрытых тропинках, мы поминали и прощались — начало девяностых все-таки крепко перемололо нашу молодежь. Мы ждали друг друга у входа, сбрасывались с пацанами на содовую.
Теперь сидим вот с товарищем, и лет нам уже не по двадцать, а под сорок пять, пятьдесят… Говорили сначала об общих вещах, погода, то да се, но довольно быстро углубились, перешли к времени, когда тот служил на подлодке. Я крякаю, поддакиваю, добавить мне тут нечего. «В рейсе сон милее женской ласки», говорит, а я не верю.
Замечаю девушку.
Не местная, потому как, во-первых, не помню такого румяного хорошенького лица, во-вторых… Я не успеваю подумать, что во-вторых — потому что она поднимает на меня глаза. Внимательные, в очках в синей, кажется, оправе. Но так как смотреть ей тут особо не на что, будем честны — она снова опускает глаза на страницы.
Держу ее в поле зрения, пока Михалыч подливает мне в стаканчик, предлагая не забыть о тех, кто ушел в море и чье плавание, к сожалению, стало последним. Потом заводим беседу о чайках…
Смена ритма, левее по курсу, со стороны просека, уходящего вглубь парка, взлетают голуби. Длинная фигура в темно-сером пальто.
Он стремительно приближается, так, что она не успевает сделать вид, что не заметила. Пришлось прямо им сцепиться, глаза-в-глаза. Эти секунды до сближения, когда крикнуть «привет» еще рано, но уже и как будто пора. Он идет прямо не нее. Она вынула изо рта и завернула жвачку в бумажку, пихнула в карман.
Узнаю в парне Пашку и салютую мысленно уверенности красивого, двадцатисемилетнего — правильно, пусть теперь уже не сдает назад.
Она-то ждала, получается, с полчаса, не меньше. Могло показаться, что и не за тем пришла. А оказывается, ждала, наша ты хорошая. Вроде сидела, читала книгу, внимательно так, перелистывала быстро, но не выдавая невнимание к тексту. Может, разок взглянула на телефон и сначала сняла, а потом обратно надела шапку. Все-таки осень, московская, свежая.
А он, подходя, сунул в карман начатую бутылку пива. «Жигули» в зеленом стекле, классика. Ну что делать.
Что Паша пил, пьет и будет пить, ей придется узнать (а возможно, она уже знает). This is life, а кто в наши дни без греха? А она, конечно же, начитанная, сердобольная интеллектуалка, склонная к риску. Книжка в мягкой обложке, на иностранном языке, судя по оригинальному оформлению, удалось разглядеть красивый шрифт. Воннегут? Сэлинджер? Но им точно будет о чем поговорить.
Мысленно поднимаю бокал за воодушевляющие начала.
Первое, юное… разгоняет кровь, холодит пальцы, неясное чувство делает колени слабее, а взгляды — многозначительнее.
Говорить они начали с первой секунды, он — широко улыбаясь, она — поднимая на него глаза, немного снизу вверх, наискосок. Разница в росте всегда такая трогательная. Рука мужчины сама собой может лечь даме на плечи, а дама будет совсем не против. Высокий мужчина — надежный мужчина, это же вопрос инстинктов. Животный магнетизм.
В Сокольниках было очень хорошо по осени: золотая листва, запах попкорна расползся по просекам, кричат дети, носятся на самокатах, рискуя пробить коленные чашечки замечтавшемуся взрослому.
Они быстро обогнули центральную площадь и углубились в затененную аллею, пошли в сторону парка аттракционов. Потом, уже как сам вижу — он начинает ей рассказывать, как провел детство в этих ярко разукрашенных чашках-каруселях, в тире, где он когда-то выбил 20 из 20 и выиграл уродливую игрушку для своей тогдашней школьной подруги. Она будет смеяться, смущаться. Краем глаза ловить торчащее из кармана горлышко бутылки. Через полчаса-час он предложит дойти до магазина и взять вина и закусок, какие она захочет. Сомневаюсь, что закуски ее хоть сколько-то беспокоят.
— …Ты был темный и пьяный, случайный
Я — на цыпочках, еле дышу…
… и я. Тоже вполне случайный, уже сильно выпивший, прощаюсь с Михалычем, застегиваю пальто. Встаю, стряхиваю с колен крошки бородинского, жму крепко руку товарищу. Пора в редакцию, через пару часов заступать на вечернюю смену.
Но мне хочется еще прогуляться, докурить пачку. Не люблю, когда она мнется в кармане, из надломанной сигареты высыпается табачная труха, потом она под ногтями… Неприятно.
Решил дойти до музея каллиграфии. Странный маленький музей затерялся между дорожек и деревьев, рядом с ним большой, пустующий сейчас каток. Интересно, он ей предложил зайти, посмотреть на лучшие образцы красивого письма? «Я к вам пишу…»
Толпы редеют, на парк опускаются сумерки, но не тусклые-промозглые, а по-летнему как будто, напитанные дневным теплом. Откуда теплу взяться после пасмурной прохлады вторника, где-то в начала октября?
Может, разыгралась фантазия, и весь я размякший, замечтался.
Приближаясь к выходу из парка, снова вижу их: он в своем сером пальто держит ее под руку, а она в фиолетовой шапочке несет в руке бутылку вина. Он вдруг отскакивает в сторону, к клумбам, тянется к вазону и рвет охапкой гортензию. А в серединку букета сажает сирень, которая тут же кстати растет. Она, кажется, смеется, коротко.
Я плотно, хорошо поработал в редакции, да так, что с рассветом только взял такси до дома. Шел наискосок, через детские площадки, переступая невысокие заборчики, своими проверенными тропами. Подходя к дому, вижу — у подъезда парень. Покачивается, курит, обняв себя рукой за плечо. Подхожу ближе, смотрю — Пашка. Глаза красные — плакал, что ли, или пиво с вином, а потом еще стопочкой по приходе домой… Один ли пришел?
Я: что (говорю), Паш, длинная, томная ночь?
Он: вы помните, Виктор Семенович, как там — «а ты теперь тяжелый и унылый?»
Я: «… отрекшийся от славы и мечты…», ну, помню — как не помнить.
Он: а я вот и забыл, что там в конце. Вот это вот, «…но разве я к тебе вернуться смею?» Читал ей, что мог вспомнить, читал — а это забыл. Мое любимое.
Я: не бери в голову, Паш, иди домой лучше, дрожишь весь.
Он: не, я еще постою немного. Красиво, когда светает.
Я поднимаюсь на наш третий этаж, моя квартира 5-я, Пашкина, где он с мамой живет — 6-я. У их двери справа тумбочка, на которой горшок с фикусом.
В горшке, аккуратно пристроенный, лежит букет. Белая, уже некоторыми лепестками покоричневевшая — гортензия, а посредине смешно, чуждо воткнута сирень.

Степа
Неподалеку от Степиного дома, в старом заросшем парке, оставшемся еще со времен Степиных прадедов, стоял дом. Дом был трехэтажный, с заколоченными окнами и большими ржавыми замками на дверях. Краска на его стенах местами обвалилась — казалось, что ему не место здесь, в этом уютном городке, все остальные дома которого выглядели иначе.
Степа никогда не был внутри этого дома, хотя, когда был меньше, родители регулярно гуляли по парку на выходных и брали его с собой. В парке были грязные пруды, которые летом — где-то между июлем и августом — начинали противно пахнуть, четыре колонны без крыши, родители называли их бывшей беседкой, одна лежащая в кустах статуя без головы и рук и бесконечное множество растительности. Прогулки Степе нравились, вокруг было много того, что хотелось рассмотреть поближе, потрогать, изучить. Правда, рассматривать, трогать и изучать было страшновато. Казалось, что колонны рухнут, стоит к ним только подойти, пруды утянут на дно, если дотронуться до воды, а из растительности вот-вот вылезет кто-нибудь с головой статуи вместо обычной человеческой. Главный ужас внушал дом, который стоял в глубине парка и до которого, по этой причине, они почти никогда не доходили. Он пугал одним фактом своего существования — грязный, мрачный, внутрь не попасть. В нем крылась какая-то тайна, которая иногда не давала Степе спать, но узнавать которую ему совсем не хотелось. Один раз он попросил родителей рассказать что-нибудь о доме, но те сказали только, что его обещают скоро привести в порядок и тогда можно будет зайти внутрь и посмотреть, как люди жили. Больше ничего. Вообще, родители как будто никакого страха перед домом и парком не испытывали, но и ходили туда только по той причине, что других парков поблизости не было. Несколько лет назад папа стал работать по выходным. Прогулки прекратились. Самостоятельно Степа туда никогда не заходил, даже когда стало можно гулять без родителей.
Он ходил в другие места, хоть их было и не так много. Иногда один, но чаще со своей одноклассницей Варей. Места обычно выбирала она, точнее даже, она решала, куда идти, а Степа просто за ней следовал. Ему было все равно. Варе было интересно все подряд, она тащила его смотреть на утят, которые появились на озере, на новые двери продуктового магазина, на цветущие яблони рядом с летним театром и на другие достопримечательности в городке без достопримечательностей. На большинство из них Степа, будь он один, и внимания бы не обратил, но Варя обращала, значит, и ему деваться было некуда. Иногда он думал, что она была такой любознательной, потому что приехала сюда совсем недавно — около года назад. Раньше она жила в городе побольше, вот и привыкла смотреть на вещи вокруг. Если бы она выросла здесь, думал Степа, все было бы по-другому.
Парк с домом был единственным местом, куда Степа напрочь отказался ходить, хотя Варя постоянно предлагала. Взамен она рассказывала ему истории про тот дом, которые успела узнать от других ребят в школе. Истории были про смерти и призраков и были придуманы так, чтобы пугать. Вот Степа и пугался. Варе же хотелось попасть внутрь и проверить, действительно ли в этом мрачном заколоченном доме есть призраки, или все это просто выдумки старшеклассников. По Вариным словам, они частенько ходили в этот дом после уроков, это была их точка сбора, но чем они там занимались, Варя не знала. Она все подбивала Степу пойти проверить, но он стабильно отказывался, говоря, что вряд ли они занимаются там чем-то интересным, да и вряд ли обрадуются, что мелкие за ними шпионят. К тому же там были призраки.
В призраках Степа сомневался. Ему было сложно поверить в существование чего-то, чего он никогда не видел собственными глазами. Точно так же он сомневался в существовании носорогов или города Санкт-Петербург, хотя первых видел в атласе, который в детстве ему подарила бабушка, а виды второго смотрели на него с календаря на кухне. Картинки было недостаточно. Чтобы убедиться, нужно было увидеть вживую. Впрочем, призраки казались ему куда более реальными, чем носороги или город Санкт-Петербург. Вероятно, призраков, как понимал их природу Степа, и вовсе нельзя было увидеть. Только почувствовать, поэтому и поверить в них было проще. Тем не менее ни видеть их, ни чувствовать Степе совершенно не хотелось.
В день Вариного рождения Степа вместе с мамой перед уроками пошли за цветами. Мама, по ее словам, понимавшая в цветах больше Степы и его папы одновременно, посоветовала купить белые кустовые розы. Степе они не очень нравились, но выбор в цветочном был невелик, а времени было в обрез. Помимо цветов, он подготовил еще книгу — сборник сказок Уайльда, который сам не читал, но давно хотел. Он решил, что подарит его Варе, а потом, когда она прочитает, попросит одолжить ему, чтобы они смогли обсудить.
Ему нравилось обсуждать с ней разные вещи. Обычно у нее был неожиданный взгляд, который Степа и вообразить не мог, пока она его не озвучивала, а потом, после собственных размышлений, принимал как верный и сам начинал смотреть на предмет обсуждения так же. Ему еще ни разу не удалось ее переубедить, с другой стороны, он особо и не старался. Ему просто нравилось ее слушать, нравилось то, как она говорит. Свои мысли он выражал намного хуже и обычно оставлял при себе, хотя, чем больше они общались, тем менее страшно ему становилось высказываться.
В школу Степа немного опоздал и, зайдя в класс, обнаружил, что вместо учительницы говорит незнакомая женщина в форме, и говорит она вовсе не о литературе, а об опасностях, которые грозят детям на улицах. Он извинился, сел на свое место у окна, нашел глазами Варю, которая внимательно слушала, и стал представлять, как он подарит ей подарок и как она на это отреагирует. Он еще не дарил цветы девочкам своего возраста, а Варе он еще не дарил вообще ничего. Вдруг ей не понравится? Вдруг она уже читала эту книгу, она же любит читать. Женщина в форме рассказывала, что делать, если вдруг потерялся, но Степа не мог сконцентрироваться. Вдруг у нее аллергия на розы. Или она просто не любит цветы. Что тогда делать? Вероятно, у женщины в форме были ответы на эти вопросы, но спросить Степа не успел, потому что вопрос задала Варя.
— Скажите, пожалуйста, а что нам делать, если мы вдруг ее увидим?
— Сообщить родителям или учителям. Дальше они разберутся.
Степа решил, что он тоже сообщит учителям, если его подарок не понравится Варе. Маме он бы ни в жизни не решился сказать, а вот учителям можно. Они разберутся.
После урока он подошел к Варе и, всем телом ощущая неловкость, протянул ей букет. Она улыбнулась во весь рот, смахнула челку в сторону и крепко его обняла. Никакой аллергии у нее не было. И она обожала белые кустовые розы. От объятий в Степе что-то затряслось, ему захотелось залезть в рюкзак и просидеть там хотя бы до конца перемены, но вместо этого он вытащил оттуда книгу и, пробормотав это еще не все, отдал ей. Она такую еще не читала. Она была в восторге. Степа озвучил ей свой план по совместному обсуждению.
— Да, конечно! Давай даже по-другому сделаем — тут есть сказка про привидение, я с нее и начну, а потом дам прочитать тебе, и будем вот так, по одной сказке читать по очереди, а потом обсуждать. Как тебе?
Степа знал, что там есть сказка про привидение, но ему сильнее всего хотелось прочитать другую — про испанскую инфанту. Он так и не выяснил, кто такая инфанта, но это слово манило его одним своим звучанием. Но конечно же, он был согласен начать с привидения. Варин же день рождения.
— Ага! Если в мой день рождения ты готов делать все, как хочу я, тогда пошли сегодня после уроков в дом!
— В тот? В парке?
— Конечно! Я так давно хочу туда сходить, а ты должен пойти со мной.
— Но ведь…
— Хватит бояться! Ничего там нет страшного, старшие каждый день туда ходят, и ничего, на следующий день все живы.
Старшие туда действительно ходили каждый день, причем, по Вариным словам, в последнюю неделю гораздо менее открыто, чем раньше. Раньше они собирались кучкой за школой, курили и отправлялись в сторону дома, шумно, все вместе, пугая Степу, который шел за ними часть пути до своего дома. Он опасался, что они заметят его и подумают, что он за ними следит. Сейчас же, действительно, никаких кучек не собиралось, никто как будто туда не ходил, и Степа спокойно доходил домой, ни по какому поводу не переживая. Варя сообщила ему, что они не перестали туда ходить, но стали это делать поодиночке и другими путями, как будто не хотели, чтобы их кто-то заметил. Она была уверена, что у них появилась какая-то тайна. Ей хотелось эту тайну раскрыть.
— А ты должен мне помочь. Потому что я девочка, и одну меня туда отпускать нельзя, а еще потому, что у меня день рождения, и мое желание — закон!
Деваться было некуда. Хотя не хотелось ужасно.
Старших Степа побаивался и в школе. Во-первых, они были старшие, а значит, должны были пугать младших. Они одевались в кожанки, тяжелые ботинки, вешали на себя цепи. Иногда Степа натыкался на кого-нибудь из них в коридоре — на Мишу, или Сашу, или Андрея, или другого Сашу — и отскакивал от них, а они слегка на него рычали. Они слушали мрачную кричащую музыку, которая Степе, скорее, нравилась, но спросить у них, что это за музыка, или тем более попросить дать послушать он не решался. Они курили и иногда тушили окурки друг другу о руки, Степа видел это своими глазами. Они ругались с учителями, которые делали им замечания. Учителя радовались, что Степа и его одноклассники на них не похожи, хотя порой кто-то оговаривался, что, мол, и вы через пару лет такими же станете. Степа не мог представить, что станет таким же, что будет втыкать булавки в портфель и тушить бычки о кожу. Вне школы он старался с ними не пересекаться.
С Варей они договорились, что в дом пойдут ближе к вечеру — отнесут вещи домой, переоденутся, а потом он скажет родителям, что пойдет к Варе в гости. Так и сделали. Родители ничего не заподозрили, хотя он думал, что у него все будет написано на лице. Варя своим родителям сказала правду. Они, кажется, привыкли, что дочь ходит куда хочет, и не пытались ее остановить. Заброшенный дом, так заброшенный дом. Главное, чтобы к десяти вернулась.
По дороге Степа в последний раз попытался отговорить Варю от этой затеи — рассказал ей самые страшные истории об этом доме, забывая, что все эти истории услышал от нее. Он дополнял их жуткими деталями, привидения увеличивались в количестве, зверства их становились все кровожаднее, дом наполнялся разными ловушками для случайно заблудших, оживал и всеми дверьми, картинами и прочими оставшимися предметами интерьера, истязал посмевших в него зайти людей. Люди погибали в мучениях, превращались в груды костей, появлялись новые приведения. Варя смеялась и говорила, что ему нужно стать писателем и сочинять истории — так складно получалось. В итоге, когда они дошли до входа в парк, Степа был напуган собственными историями до дрожи в руках, а Варя, наоборот, полна сил и решимости выяснить, что же в этом доме творится.
Парк был ровно таким же, каким Степа его помнил по своим детским прогулкам. Много растительности с камнями тут и там, ставшие еще грязнее пруды, гуляющие семьи с детьми и одиночки-созерцатели. Все было по-старому, включая уже позабытое чувство ужаса, которое исходило из глубины парка. Варя бодро, чуть ли не вприпрыжку, шла вперед, а Степа, оглядываясь по сторонам, плелся за ней, думая, что с каждым шагом все глубже забирается в ловушку, из которой вытаскивать его будет некому. Дойдя до дома, Варя посмотрела на Степу и улыбнулась ему, словно пытаясь сказать, что все будет хорошо. Ему так не казалось, но он улыбнулся в ответ. Главный вход в дом был намертво заколочен досками. Они пошли вдоль стен, внимательно рассматривая все окна и двери. Одно из окошек на заднем фасаде дома было очищено от досок. На земле под ним лежали, один на другом, несколько деревянных ящиков. Варя снова улыбнулась, на сей раз как будто торжественно.
— Давай, лезь первым!
— Я?
— Конечно, кто же еще! Потом поможешь мне влезть, я сама не смогу.
— Варь, а ты уверена, что хочешь так свой день рождения провести? Может, обратно пойдем, пока еще можно.
— А что, по-твоему, потом произойдет? Лезь!
Степа полез. Толкнул окошко, оно открылось. Подтянулся на руках, забрался внутрь. Там было тихо и пахло затхлостью. Как будто небольшая комната. Видно почти ничего не было. Варя шикнула на него снизу, он извинился и помог ей влезть тоже. Пока они вглядывались в темноту, ища дверь, дверь медленно, скрипя петлями, открылась сама. Степа замер, а Варя, наоборот, точно этого и ждала, пошла вперед. Степа силой скинул с себя оцепенение и поспешил за ней. Через дверь они вышли в центральный холл с большой изогнутой лестницей. Откуда-то сверху появился луч света, который сначала осветил кучу мусора, каких-то кирпичей и бутылок, а потом их с Варей. Степа зажмурился и хотел было утащить её обратно через окошко, на спокойную улицу, но услышал, как дверь за его спиной тихонько захлопнулась. Свет погас. Степа открыл глаза и понял, что ничего не видит. Он позвал Варю, но ответа не было. Протянул руку в ту сторону, где она стояла, сделал шаг, второй. Ее не было. Он на ощупь двинулся к лестнице, споткнулся обо что-то, чуть не упал, остановился. Сильнее всего на свете ему хотелось уйти из этого несчастного дома, но без Вари делать это он не собирался. Свет зажегся снова, но сейчас вместо него осветил площадку в конце лестницы, на которой Степа увидел силуэт в белом. Белое колыхалось. Силуэт медленно двигался, будто парил. Вдруг остановился и повернул к Степе то, что должно было быть лицом. Вместо лица снова было белое, колыхающееся. Степа, удивляясь сам себе, побежал по лестнице навстречу силуэту, но на середине свет погас, а еще через несколько шагов Степа снова споткнулся и на этот раз упал. Ладони приземлились в разбитое стекло, разрезались, коленка стукнулась о край ступеньки. Больно не было. Он пошел вдоль стенки, ведя по ней ладонью. Снова позвал Варю, тихонько, и на это раз она откликнулась откуда-то слева, будто из-за стенки. Стенка закончилась, Степа повернул и снова пошел вдоль левой стенки, Варя снова откликнулась, Степа повернул на ее голос и оказался в комнате. В ней была Варя, а еще в ней было окно. Как и все прочее, оно было заколочено снаружи, но одна из досок была отодрана, и через нее проходил свет. Можно было осмотреться. Комната была обжитая, в ней был стол, матрас, какие-то вещи. В углу валялись ботинки. На столе вперемешку — книжки, тетрадки, ручки. На матрасе лежала подушка в наволочке с синими цветочками, но простыни не было.
Варя потянула Степу за рукав и сказала:
— Это она тут живет.
— Кто? — не понял Степа.
— Девочка, которая пропала, нам сегодня говорили. Ты что, не слушал?
— Не слушал. Давай вылезать отсюда. Там привидение.
— Да не привидение это никакое. Это она же.
— Кто? — снова не понял Степа.
— Девочка! Пойдем.
Варя потащила Степу из комнаты. В руках у нее откуда-то появился фонарик. В его прыгающем свете Степа различал обрывки фраз на стенах: букву А в кружочке, слово король, слово жив. Когда они вышли на площадку, откуда-то сзади раздался громкий крик, а следом топот. Они отпрыгнули вправо, Варя погасила фонарь, замерли. На площадку вылетело два темных силуэта. Варя зажгла фонарь. Силуэты повернулись в их сторону, и Степа увидел череп и свиную голову вместо человеческих лиц. Одеты скелет и свинья были в черные кожанки. Снова раздался крик, скелет пошел к ним. Они стояли, не двигаясь, Варя направляла луч фонаря прямо на череп. Когда он подошел достаточно близко, Степа протянул руку и ухватил скелет куда-то за череп, потянул. Скелет исчез. Вместо него появился Миша. Он выглядел как-то нелепо, совсем не так, как в школе.
— Че вы тут делаете, малышня? — прокряхтел Миша. — Валите!
— А зачем ты маску надел? Это что, представление какое-то? — Степе больше не было страшно. Наоборот, хотелось смеяться.
— Валите, говорю, пока че плохого не случилось. Я вас предупредил.
— А Машу вы зачем тут спрятали? — Варя звучала очень зло. Степа не думал, что она может звучать так.
— Я вам че сказал? Не понимаете, что ли? — Миша выхватил у Вари фонарь и стукнул им Степу куда-то за ухо.
Больно снова не было. Он махнул рукой и попал куда-то в мягкое. Миша охнул. Свиноголовый крикнул что-то нечленораздельное. Степе хотелось махнуть рукой еще раз, хотелось махать руками до тех пор, пока все они, все эти старшие в масках и тяжелых ботинках, не исчезнут, пока от этого проклятого старого дома не останется гора кирпичей. Он был готов оставаться здесь, пока этого не произойдет, но Варя схватила его за руку, которой он собирался махнуть, потащила, и они побежали вниз по лестнице, мимо масок, мимо белого силуэта, мимо кирпичной кучи через открытую теперь дверь, прямо в окошко и во двор. За ними стучали тяжелые ботинки.
Через окошко пришлось прыгать. Варя прыгнула первой, Степа за ней. Оказавшись на земле, он по инерции побежал дальше, но она окликнула его. Остановился. Обернулся.
— Я не могу наступать на ногу. Кажется, я ее сломала.
— Ничего. Я тебя понесу.
Взял на руки и понес. Молчали. Степа думал, что готов нести ее до самого дома, а то и до травмпункта, который был еще дальше, не останавливаясь, не отдыхая. Он был готов нести ее куда угодно, настолько далеко, насколько было бы нужно.
Далеко не получилось. Выйдя на главную аллею парка, он увидел группу людей, которая шла ему навстречу. В этой группе было несколько человек в форме, директор его школы, некоторые учителя и около десяти взрослых, включая его маму и Вариного отца. Степа остановился. Взрослые обступили его, наперебой посыпались вопросы, на которые он не отвечал. Ему надо было в травмпункт. Варе надо было в травмпункт. Он пытался пойти дальше, но его не пропустили. Варин отец забрал у него Варю и увел. Она хромала, но шла сама, значит, с ногой ничего особо страшного. Перед этим пожал ему руку. Сказал спасибо. Варя улыбнулась и чмокнула в щеку. И они ушли. Он остался с мамой, учителями и людьми в форме, которые снова начали задавать вопросы. Кивал головой. Качал головой. Все вместе они пошли обратно к дому. Люди в форме выломали главную дверь и вывели наружу всех, кто был внутри. Мишу, Сашу, Андрея, другого Сашу, Якова, Лешу и Марию. Масок ни на ком из них не было. Никаких белых силуэтов.
Только Мария при взгляде на двух взрослых из группы побледнела так сильно, что действительно стала похожа на привидение.

Тайна
Мне нравились старые исповедальни. Они были… старые. Немного похожие на старинные шкафы с массивной резьбой. Потемневшее до черноты дерево, таинственные узоры, высеченные чьей-то искусной рукой. С четырех сторон витые остроконечные башенки — подобие шпилей собора. И между ними, словно случайная здесь, хлипкая дверь, такая низкая, что приходилось наклонять голову.
Из мягкого света собора осторожно делаешь шаг в темноту. Тихо. Душно. Едва уловимо — запах старого дерева. На ощупь ищешь скамью. Сколько рук к ней прикасалось? Сколько боли на ней оставлено? И сколько оставлено лжи и формальности.
Формальность.
Каждый католик обязан пройти испытание Совести. Хотя бы раз в год, перед Пасхой.
Обязан. Странное слово.
Новые исповедальни — другие. Они… новые. Светлое гладкое дерево блестит и ещё пахнет новым лаком. Со всех сторон ровная, равнодушная коробка. Ни шёпота времени, ни кропотливого труда человеческих рук.
— Давай уйдём?
— Нет.
Тихий звон колокольчика. Ладан. Горьковатый. И сладкий. Моментально захватывает, сбивает с ног, и тут же успокаивает. Вплетается в волосы, кожу, одежду. Дыхание замедляется. Отдаляются и смешиваются звуки — торжественные ноты орга́на, голос священника.
— … осознаем наши грехи, чтобы достойно участвовать в этой мессе.
— … моя вина. Моя великая вина.
Хор голосов не сразу затихает под высоким куполом.
— А в чём моя вина? Я ограбила кого-то? Убила? Зачем я здесь?
— Ты святая?
— Ого, вот это очередь. Человек двадцать? Давай потом, а?
— Когда?
— Ну, в будни, вырвусь. После работы.
— Не вырвешься. Кто последний?
Лица, лица. Разный возраст, одежда, взгляды — восторженные, потухшие, погруженные в себя или в пустоту. О чём они думают?
— А ты о чём думаешь?
— Я грешна. Недавно сперла булочку в супермаркете. Из любопытства. Мне было интересно — поймают или нет. Я потом заплатила! За две.
— Не паясничай.
— Идиотизм — это грех?
Исповедальни скрыты в глубине собора, подальше от любопытных глаз. Отсюда не видно ни алтаря, ни великолепия мессы. Лишь по голосу священника можно представить, что происходит там, за колоннами. Нет ни скамеек, ни стульев. Только стена и прильнувшие к ней, каждый по своему, люди.
— В чем смысл исповеди, если я в ней не нуждаюсь? Для галочки?
— Ты обязана. Все обязаны. Каждый католик…
— Лицемерие. Что важнее — истина или правила?
— Ты их сама для себя выбрала. Ложь себе — это грех?
Очередь у дверей вдруг заволновалась, люди шепчутся, почтительно расступаются.
—Что там происходит?
— Старушка.
Тихое шарканье отражается эхом от мраморных плит.
— Старушка — блин, это надолго.
—У неё лицо… будто прозрачное. Светлое. Еле идёт, руки трясутся. Да помогите же ей!
Старушка.
Не помню, как её звали. Красиво стареющая, всегда элегантно одетая. Однажды я бросила ей комплимент, свысока, как подачку. Она внезапно обняла мой локоть и висла на нём всю дорогу до ворот. Смеялась, болтала о чём-то. Показывала фотографии рождественских венков, которые сделала своими руками. Я старалась быстрее от неё отделаться. Помню её растерянный взгляд.
Её нашли за неделю до Рождества. Одну, в пустом доме. С тех пор я не люблю рождественские венки. Безразличие — это грех?
Внезапно — солнце. Лучи пробиваются через мозаику витражей и падают на лица разноцветными бликами. Но люди их не замечают. Всматриваюсь в каждого — может, хоть кто-то улыбнётся?
— Они вообще ничего не замечают. Ни красоты, ни обыкновенных чудес. Ничего не видят дальше кончика носа. Размером с Юпитер.
— Тебе не стыдно?
—За мысли? За мысли не судят. Поступок, действие — это осознанный выбор, а мысль…. Например, я иногда людей ненавижу…
— За что?
— Да за всё! За хитрость, за жлобство. За тупость! За то, что вылупятся в телефоны эти, рты разинут. За зависть! За пошлость. Почему у кобелей и алкашей взгляды похожие? Одинаково пустые, липкие.
— Ты чего завелась?
— Бесит! Хочется взять и как треснуть мордой об стену…
— Успокойся!
— …со всей дури.
— К чему это всё?
— В реальности я бы так сделала? Никогда.
Никогда.
Она была старше. И выше. Но не сопротивлялась, просто закрыла руками голову. Как ребёнок.
Дети.
Прошлым летом я повадилась поливать розы в саду собора. Розы. Белые, желтые, алые всех оттенков. Они были везде, занимали каждый уголок сада. Даже забор утопал в кустах, усыпанных крохотными розовыми цветками.
Лето было жарким, аромат роз оглушительным, небо над собором высоким. Сотни людей приезжали туда по вечерам — туристы, фотографы, одинокие люди, семьи. Дети. Очень много детей. Им нравилось поливать цветы из дырявого шланга. Пальчики маленькие, не слушались, я показывала как нужно.
Весь сад вытоптали. Визжали, не слушались, обливали водой монахинь. Вдобавок я получила по башке самолётиком.
— И что?
— Я каждую пятницу приезжала в сад ради них.
— Почему?
— Они такие доверчивые.
— Чем дети отличаются от неповзрослевших взрослых?
— Не знаю. Малодушие — это грех?
Месса подходит к концу. Затихает орган. В наступившей тишине слышны только детские голоса — громкий шепот, смех, где-то — испуганный плач младенца.
— Приветствуйте друг друга с миром и любовью.
Так принято. Обнимать незнакомых людей, пожимать им руки. С улыбкой смотреть по сторонам — кто ещё?
— Мир вам!
— Мир вам!
А в мыслях мучиться от неловкости и чаще — брезгливости.
С миром. С любовью. Какое же. Я. Ничтожество.
— А? Что? Моя очередь?
Старый священник, облокотившись на дверь, смотрит виновато.
— Извините, я не могу больше. Простите.
Так мне и надо.
Сколько ему? За семьдесят? Тонкие седые волосы, выцветшие ресницы. Бледное, усталое лицо. Что они чувствуют? День за днём, годами, слушая то, что люди прячут даже от самих себя.
— Всё в порядке. В другой раз. Всё в порядке, правда.
Священник.
Однажды я влюбилась в священника. Был ноябрь, моросил дождь. Я стояла перед входом в собор и не решалась войти.
— Вы чего здесь? Замерзнете.
Я не двигалась.
— Вы не знаете, почему жить иногда так сложно?
Он улыбнулся:
— Жизнь — это тайна.
Мы часто с ним разговаривали. Он слушал, поддерживал, помогал, иногда наперекор правилам. Сколько в нём было чистоты, доброты, неподдельной заботы о людях. Наверное, можно понять мои чувства. Но было стыдно. Противно. Недопустимо. Я стала его избегать, игнорировать, а при встрече — хамить. Он просто молчал. И смотрел. Как же я была счастлива, когда он уехал!
Предательство — это грех.
— Идите, я заменю вас.
Откуда он взялся?
— Я. Мне. Спасибо.
В новых исповедальнях яркий свет. Я всматриваюсь в темную сетку, скрывающую людей друг от друга. Пытаюсь представить — положил ладонь на лицо, закрыл глаза.
Внезапно понимаю, что молчу. Он тоже.
— А можно своими словами?
— Конечно.
— Как полюбить людей? Как у вас получается?
— Сначала себя полюбить нужно.
— Не понимаю?
***
Каждый католик обязан пройти испытание Совести.
Хотя бы раз в год, перед Пасхой.
Раз в год — это грех?

Тайна креста
Восемнадцатилетний Игорь Пинчук, гладкощёкий и круглолицый, стал «змагаром» и «свядомым» совсем недавно. Да и не говорил он об этом никому — дело ведь опасное. Все должны быть «товарищами», все должны строить прекрасное великое будущее.
Но как же колыбельные, которые маленькому Игорю пела его бабка-шепталка? А древние руины под родным Кревом? Когда-то ведь на месте руин тянулся к небу могучий замок. Как же язык, на котором говорит и мать, и отец? Он совсем не похож на «нормальный». Не похож он, правда, и на тот красивый и чистый язык, на котором говорит Вацлав Выливаха. Советы считали, или надеялись, что вытравили до последнего таких, как Выливаха. Но правда в том, что чем больше на них давить, тем глубже они уходят, как Ужиный Король или Скарбник из бабтевых сказок. Подальше от реальности, поближе к корням. А тут ещё три дня как началась война.
— Чу! — Вацлав поднял руку и прислушался.
В глухом лесу ночью звуков много. Лес шипит, лес трещит. Ухает и пищит, переговаривается и следит. Страшно, если становится тихо.
От неожиданности Игорь наткнулся на выставленную Вацлавом руку, споткнулся, потерял фуражку. Вацлав прислушался, кивнул, дескать, порядок. Поднял энкавэдэшную фуражку и вернул юноше на голову.
— Форму держи, — тихо сказал Вацлав, дав тумака Пинчуку, — ты ж фокусником надумал заделаться.
В блеклом свете тонкой эсобразной дуги Луны (фонари не зажигали) Игорь различил длинный, кривой, явно перебитый нос Вацлава, его плотно сжатую челюсть, глубокие морщины, которые залегли от носа и до челюсти. Кажется, такой человек многое повидал, и навряд ли уже будет надеяться на что-то хорошее.
Тропа вела между раскидистыми елями и, наконец, за старой накренённой хвоей показалась сторожка, в единственном окне которой горел свет.
Вацлав, оглядываясь по сторонам, приоткрыл дверь, затолкал Игоря в сторожку и заскочил сам, щёлкнув замком. Подбежал к окошку, зашторил занавески.
— А если кто подсмотрит! — сказал он пожилому мастеру, хозяину сторожки.
— Кто? Волк? А то, может, волколак? — отозвался Франтишек Игнатьевич Козлов, поднимаясь из-за стола и беловолосой макушкой чуть не цепляя потолок. Чёрные глаза, уж слишком яркие и живые для человека его лет, насмешливо разглядывали форму гостей. — Чёрная кожаная куртка, гимнастёрка, треугольнички, нашивки. — Франтишек Игнатьевич зацокал языком, и Пинчук, не выдержав взгляда мастера, вздрогнул. — Даже не буду спрашивать, откуда вы форму достали.
— Мы-то форму достали, — сказал Вацлав. — Как золото, жемчуг и серебро. Но это что? — Он поднял обструганное полено, покоившееся под окном. — Сосна?
— Ну а где, прости, под Минском или Могилёвом кипарис найти?
Вацлав отбросил полено в угол комнаты.
— Ты понимаешь, чем мы рискуем?
— Не кипиши, Выливаха. Гляди-тка, в чекиста вырядился и сразу вон как заговорил. — Выливаха хотел ещё что-то сказать, но мастер поднял руку, не дав вставить и слова. — Я сосну проморил, прокрасил. От кипариса не отличишь. Да и не нужен он им. Им бы золота да серебра. — С этими словами он поднял со стола шестиконечный крест, украшенный эмалью, пластинами с ликами святых, драгоценными камнями.
Из груди Пинчука вырвался громкий ах.
— Крест Евфросинии Полоцкой! Настоящий!
Даже в тусклом свечном освещении сторожки длинный шестиконечный крест будто лучился, окружая себя жемчужно-золотым ореолом.
— Дурень, — сказал мастер, а Выливаха отвесил Игорю тумака. — Копия, конечно. И вы её подмените. Потому что главное в кресте не золото и не серебро, а капля крови Христовой.
***
У Могилёвского краеведческого музея спорили два человека в форме НКВД.
— Сбросит.
— Не сбросит.
— Сбросит.
— Да не сбросит!
— Ты вообще за нас или за кого?
Что-то крошечное, железное просвистело у уха Выливахи и звякнуло, ударившись о брусчатку.
— А ты говорил, не бросит, — ухмыльнулся тот, поднимая ключик.
Из окна выглянул директор музея, Иван Сергеевич Мигунов, человек настороженный, как мелкий лесной хищник, не опасный, скорее, опасливый, но точно знающий ценность музейных сокровищ. Едва узнав о начале войны, он поднял шум, хотел спрятать сокровища в глубинке, но был арестован местным комендантом как «паникёр». И если б не знакомый замполит, сидеть бы ему долго и далеко. Вот и пришлось минским «змагарам» разыгрывать историю с чекистами, а мастеру Козлову за три дня и три ночи создавать копию древнего Креста. А то, говорят, у эсэсовцев организовали специальные отряды, которые рыщут по занятым территориям и изымают сокровища. Кто владеет артефактами, тот владеет целым миром.
Ночную тишину взорвал рык автомобилей. Увидев два грузовика и три лаковые чёрные легковушки, Иван Сергеевич изменился в лице, посерел, сник, спрятался в окне, словно черепаха в панцирь.
Машины резко затормозили. Из первой легковушки вышел не кто-то, а сам 1-й секретарь ЦК КПБ, товарищ Пономаренко. Он прямиком отправился ко входу в музей. Не успел он шагнуть и на первую ступень крыльца, как дверь отворилась, и на входе его приветствовал Мигунов, серый и бледный.
— В хранилище, — скомандовал Пономаренко. — А это кто? — Он остановился, указав подбородком на подоспевших Пинчука и Выливаху.
— Лейтенант Иванов и сержант Карякин, — сказал Выливаха. — Приказано ценности до деревни Ксты сопроводить.
— Приказано, — буркнул Пономаренко. — А вот вам новый приказ. Ценности грузить в ящики и в кузов. Деревня… Какая деревня! — бубнил себе под нос Пономаренко, пока гулко шагал по коридорам спящего музея. — Всё в Москву. А там уже — в глубинку и по спецхранам.
Остановились перед металлической дверью специальной сейф-комнаты, которую отдали под нужды обкома. Выливаха незаметно для секретаря сунул ключ в руку Мигунова. И вот со скрежетом отворилась пятнадцатисантиметровая бронированная дверь. А там…
— Ба-а… — сказал Пономаренко. В глазах заплясали золотые и серебряные отблески.
— А пропуск на эвакуацию вы уже получили? — вкрадчиво спросил Выливаха.
— Вот мой пропуск. Грузить… — хрипло приказал Пономаренко. — Всё грузить.
Рабочие, прибывшие с ним, быстро принялись за дело. Выливаха кивнул Пинчуку, чтобы присоединился.
И вот в ящики и мешки полетели золотые и серебряные ключи от Могилёва, серебряные печати города, золотые украшения и плитки, серебряная булава…
— Осторожно! — прикрикнул Пинчук. — Побьёшь.
— После войны разберёмся, — буркнул коренастый рабочий, закинул за спину мешок и отправился к грузовикам, уже заполненным сокровищами из Минска.
Пинчук, потея, перебирал артефакты, набивал ими мешки и ящики. Помогал рабочим носить сумки, то и дело будто роняя их и будто нечаянно заглядывая внутрь, поправляя, покрепче завязывая.
Один из рабочих присвистнул.
— Какой крест красивый! — сказал он, заглянув в битком набитый мешок, с которым Пинчук никак не мог совладать.
Пинчук покраснел. К нему вороном подлетел Выливаха, спиной загораживая от любопытного взгляда водителя.
— Крест? — переспросил Пономаренко и жестом приказал погрузить мешок в его личный автомобиль.
А дальше колонна, разделившись на две, разными путями двинулась в Москву.
В противоположную сторону газанул мотоцикл с двумя энкавэдэшниками на борту. Достигнув леса и укрываясь всё глубже за вековыми елями, оба громко рассмеялись, заглушая рёв мотора, шёпот, треск, писк, вой и басовитый рокот ночного леса.
***
Товарищ Сталин сидел за рабочим столом и барабанил пальцами по блестящей столешнице.
— Кубки, кремниевый пистолет, изумрудная табакерка, сундуки и горшки с монетами, — перечислял товарищ Пономаренко, указывая на выставленные перед вождём сокровища. Наконец, можно будет вернуться из провинции на Родину, глядишь, и место в центральном аппарате обеспечено. — Все желающие из белорусской столицы эвакуировались, остались одни предатели.
Кашлянув и отсалютовав, в кабинет зашёл маленький кругленький человечек. По правде, он и не шагал вовсе, а семенил.
— Крест, — сказал ему товарищ Сталин.
Человечек поправил круглые очочки на носу-пуговке, надел перчатки и благоговейно поднял из груды сокровищ шестиконечный алтарный крест.
— Двадцать одна золотая пластина с изображениями святых, орнамент, драгоценные каменья, византийская перегородчатая эмаль, которая, впрочем, требует более пристального изучения, — перечислял человечек. — Капля крови Христа, кусочек камня от гроба Богородицы, мощи святых…
Вдруг человечек приблизил нос к кресту так быстро и близко, словно спикировавший коршун, что очки упали на пол и разбились.
— Сосна! — взвизгнул он. — Как пить дать, сосна! — и брезгливо отбросил крест в противоположную от груды сокровищ сторону.
Пономаренко раскрыл рот, но ничего не смог проговорить. А человечек невозмутимо добавил:
— Это подделка. Удачная, но подделка.
Товарищ Сталин побарабанил пальцами по столешнице. Склонил голову набок. Войну-то он выиграет. И вот тогда… Товарищ Сталин поднялся на ноги и огласил приговор:
— Минск должен быть разрушен.
***
А в сторожке трое гражданских (форму благополучно спрятали под корч) склонились над столом. На столе лежал крест. А на кресте блестели лики святых.
— Кто владеет крестом, тот получает ключ от ворот нашего края, — тихо сказал Пинчук, не получив тумака от Выливахи.
Выливаха сам добавил:
— Горе, если крест попадёт в лихие руки.
Мастер Козлов спокойно улыбался. Но вдруг побледнел. Морщины, словно весенние ручьи, вмиг избороздили его лоб и щёки. Мастер закрыл ладонями лицо. Застонал.
— Эмаль… Не перегородчатая. Расписная.
Поистине тайна сия велика есть.

Ты и так все знаешь
«23 октября 2002 года в Москве группа из 40 вооруженных боевиков захватила заложников в здании Театрального центра на Дубровке (бывший Дворец культуры Первого государственного подшипникового завода).
В момент захвата в здании шел второй акт мюзикла “Норд-Ост”. В заложниках оказались 912 человек — зрители спектакля, артисты и работники Театрального центра, в том числе около 100 детей школьного возраста.»
Агенство ТАСС
На древнем, еще советских времен, китайском термосе прямо через рисунок с двумя бело-розовыми пионами шла глубокая царапина. Санечка очень переживал по этому поводу, тем более что виновником царапины был он сам. Всего один раз второпях брошенная в рюкзак связка ключей испортила рисунок, оставив глубокую рану на огромном — литровом — красном сосуде и в его душе. Он любил это восточное чудо с детства, помнил, как бережно нес его в портфеле, когда родители позволили ему наконец брать семейную реликвию с собой в школу. До этого термос покидал дом только по особенным случаям. Например, во время поездок в Крым на машине летом. Школьным столовым в их семье никогда не доверяли, а стеклянная колба, если правильно за ней ухаживать, держала температуру любого напитка уверенно и долго. Пара бутербродов, один с колбасой и один с сыром, съедались медленно и аккуратно, а растворимый кофе из крышки-стаканчика иногда настолько раздражал обоняние одноклассников, что пару раз термосу угрожала реальная гибель от рук завистников. Но все обошлось.
Сегодня, двадцать седьмого июня две тысячи двадцать второго года, Санечка сидел в секретном отделе Архива при Главном Управлении МВД России по городу Москве и ждал перерыва на обед. Как и раньше, в далеких семидесятых, в его рюкзачке находился любимый китайский термос, с которым, за плотной внутренней перегородкой, теперь соседствовали два стеклянных пищевых контейнера. Салат с авокадо и два бутерброда. С колбасой и сыром. Оставалось минут двадцать, и он уже предвкушал, как отблагодарит себя за четыре часа копаний в старых папках. Как нальет себе крепкий тибетский чай и оставит его остывать на пять минут. Ровно столько нужно для салата. Который потребуется еще тщательно перемешать, чтобы вкус авокадо равномерно распределился на все остальные ингредиенты. После салата — два стаканчика чая и два бутерброда. И еще стаканчик на потом, когда перед закрытием архива он спустится в вестибюль и будет медленно смаковать его, глядя на пустынный переулок с темной аркой-ртом. Смаковать и обдумывать прочитанное за день.
Проникнуть в архив ему удалось только по большому блату. Никаким следователем он не был и вообще не имел никакого отношения к работам и заботам министерства внутренних дел. Александр Петрович Романов писал художественные романы. Романов — романы. Такой вот каламбур. Нет-нет, он не достиг серьезных высот в писательском деле, не завоевал, хотя и пытался, никаких литературных наград и часто жаловался друзьям за кружечкой ерша в «Зинзивере», что всему виной отсутствие по-настоящему интересных сюжетов. Все интересное уже давно написано или… или не стоило его внимания. Впрочем, участие в одной писательской группе, которая активно разрабатывала нишу российских сериалов, давало возможность уверенно чувствовать себя и в «Азбуке Вкуса», и на своей даче в Переделкине, и на московских улицах в стареньком Мерседесе С-класса. Правда, после введения санкций с автомобилем появились определенные трудности — вот уже третий месяц Романов ездил с трещиной на лобовом стекле и, несмотря на КАСКО, починить ничего не мог — запчасти производились в Германии и в Россию не поставлялись.
Трудности нынешней жизни и даже легкие уколы совести нервировали Санечку, он сильно переживал и по вечерам за семейным столом с полным правом и оправданием пил коньяк. Угрожал, что все это его доконает, что он-таки сопьется, а если прижмет, так и вообще уедет куда-нибудь в Прибалтику на ПМЖ. Жена его, женщина терпеливая, но властная, во время очередного особенно длинного спича писателя не выдержала и возразила:
Ты, Романов, что же, теперь до конца дней своих будешь стонать и плакать? Давай честно –– на баррикады ты не полезешь. Пока, во всяком случае. И уезжать нам некуда, ты это лучше меня знаешь, нам сегодня нигде не рады. Так что вот что. Во-первых, возьми себя в руки. Нам еще детей поднимать, в жизнь их выводить. Какой пример ты им показываешь? Во-вторых, новое время — новые вызовы. Ищи трендовые сюжеты. Если люди хотят смертоубийств там всяких, возьми и займись, наконец, детективом. Романов, ты же еще лет десять назад говорил, что хочешь себя попробовать в этом жанре. Сейчас самое время. Подключи связи, потолкайся, осмотрись. На дне рождения у Игоря Геннадьевича, он же тебе предлагал покопаться в их архиве, говорил, там такого всего и всякого –– на сто тысяч романов!
— Так когда это было! Да и пьяный он в стельку был. Забыл уже все. Наверное.
— Ничего. Напомни о себе. Попытка –– не пытка.
На этих словах Санечка вздрогнул и посмотрел на смартфон, лежащий на столе, но потом все-таки смело ответил супруге:
— Типун тебе на язык.
Впрочем, он и позвонил, и подключил, и осмотрелся. Результатом чего и было его нынешнее сидение в зале номер шесть. Номер шесть с литерой П. Что означало это «П», догадаться было трудно, а объяснить ему буквенный смысл уточнения шестерки никто не потрудился. Да он и не интересовался особо. После вчерашнего побаливала голова и как-то странно ныла сломанная еще в детском саду ключица. Кроме него в зале 6-П сидели еще двое молодых людей: миловидная девушка в форме и парень с редкими серыми волосами, зачесанными на лоб. Девушка явно была увлечена папками на ее столе и на приветственную улыбку Санечки не ответила никак. Парень же скучал за столом в конце зала, читая старую, с желтыми по краям страницами, газету, время от времени делая пометки в своем блокноте. В конце концов, у каждого своя работа. У него одна, у них другая.
Ровно в одиннадцать сорок Санечку подозвал к себе архивариус, поджарый мужчина средних лет с жесткими рыжими усиками, и строго уведомил, что папка с делом номер триста шестьдесят пять дробь восемь о частном случае во время теракта на Дубровке доставлена и что не хочет ли он получить ее прямо сейчас. При этом существовала одна проблема — дело было объемным, и если Романов хочет его почитать, то у него до обеда ровно двадцать минут. Выносить из зала ничего нельзя. Обед в архиве строго по расписанию. С двенадцати до часу. Перед обедом дело требовалось сдать и повторно запросить уже только после него. Либо оставаться в зале и не ходить на обед. Что делать?
Санечка успел сегодня в поисках нужного пересмотреть столько дел — на некоторые ушло не более трех-пяти минут — что решение было очевидным:
— Давайте я посмотрю. Я думаю, что я успею до обеда. Хотя… я и не привязан к вашей столовой — у меня все с собой.
— Ну, смотрите сами. Мое дело — предупредить, — и архивариус выложил на стол толстенную, просто огромную, почему-то черную папку. На обложке красовались многочисленные следы от наклеенных когда-то, а затем нетщательно оторванных бумажек. Одна, впрочем, в самом центре, была цела. На ней крупными неровными буквами значилось: «ДЕЛО №365 по обвинению Загадова Михаила Олеговича по ст. 33 и 34».
Раскрыв дело, Санечка обнаружил там фотографию вихрастого парня. Парень на фотографии улыбался во весь рот, демонстрируя два ряда великолепных белых и крупных зубов. «Странно, — подумал Санечка, — чего это следак? Заработался совсем в дело такую фотку лепить?» Обвинительная часть была значительно длиннее, чем все другие прочитанные перед этим. Выглядело все так, что пятью минутами тут не обойдешься. Санечка вздохнул, явственно почувствовал вкус авокадо во рту и принялся за чтение.
Через пять минут он вернулся в начало и прочитал обвинение еще раз. Через десять Санечка с размаху шлепнул ладонью по столу, после чего громко и отчетливо произнес:
— Охуеть!
Девушка за соседним столом удивленно и зло посмотрела на него, а архивариус сделал Романову замечание. Но тот то ли не расслышал, то ли просто решил его проигнорировать.
В двенадцать ноль пять архивариуса сменила женщина лет пятидесяти в строгой коричневой юбке и белой блузке. Архивариус прошептал ей что-то на ухо и указал на Романова пальцем.
Мюзикл «Норд-Ост» был ужасен. Разумеется, актеры, как могли, старались, виртуозно выпевали «Главсевморпути» и изображали мужество бесстрашных покорителей Севера начала-середины двадцатого века. Жажда новых форм и активная реклама делали свое дело, а мерч в виде фляжек, летных пилоток и всякого аляповатого, якобы советского барахла продавался вполне активно. Несмотря на совсем несоветские цены. Ностальгирующая по прошлому публика на действие шла, заполняя зал каждый вечер. Но сам мюзикл был ужасен.
Олег Загадов, восемнадцать лет оттрубивший в «конторе», а после развода ушедший в «бывшие», брался за любую мало-мальски прилично оплачиваемую работу. Друзей у него почти не было, но после того как он показывал свое резюме на собеседовании, работодатели подбирались, серьезнели и внимательнее относились к его кандидатуре. Он не бедствовал. Вот и сейчас должность начальника смены по охране Театрального центра на Дубровке существенно влияла на благосостояние новой семьи. С первой женой, Ольгой, они жили, в общем-то, неплохо. На свадьбе друзья окрестили их «дважды Олями Советского Союза» и много шутили про два кольца на украшенной праздничными ленточками «Волге», а тостующие славили судьбу, так удачно связавшую эти два кольца. Родители не могли нарадоваться на молодых, которые через девять месяцев, день в день, принесли им радостную весть — рождение внука Мишеньки, прелестного малыша с вязочками на пухлых ручках.
Жизнь шла своим чередом. Загадовы, как и многие другие молодые семьи, жили обычно, отсчитывая совместно прожитые года бурными праздниками и другими яркими событиями. Олег неплохо проявлял себя в оперативной работе, начальство с удовлетворением отмечало, что со временем он может вырасти и стать самым настоящим суперпрофессионалом их нелегкой службы. Ольга делала себе карьеру в милиции, училась в академии и со временем заняла новую и еще никем до нее не опробованную работу пресс-секретаря при Главном Управлении МВД по г. Москве. Служба затягивала обоих, и ненормированность рабочих часов внесла-таки асинхронность в их отношения. А случайно встреченная во время выполнения задания Олегом Рогнеда усилила центробежные силы в отношениях супругов. Олег не на шутку влюбился, и Рогнеда, хоть и была на двенадцать лет его младше, внешне отвечала ему взаимностью.
Разрыв вылился в жуткий скандал. Олег, как ему диктовало представление о мужской чести, собрал все самое необходимое и, оставив квартиру Ольге и учащемуся к этому моменту в колледже Михаилу, переехал к Рогнеде. Буря побушевала-побушевала, да и улеглась. Бывшие супруги не перешли на «цивилизованные» отношения, при случайных или вынужденных встречах Ольга не упускала возможности «откобелить» Олега, но тот только улыбался в ответ, переживая свой второй в жизни и такой длительный медовый месяц. Его только смущало, что с сыном он теперь виделся реже, он боялся совсем потерять его. Михаил же внешне выглядел невозмутимым. Судя по всему, его интересовали новые знакомые и новые возможности в колледже, он слыл заводилой и знатоком музыки. Купил себе на отцовские деньги «вертак» и днями слушал Linkin Park, Limp Bizkit, Green Day, Gorillaz и даже The Prodigy. Он пару раз заехал к отцу в его новый дом и абсолютно спокойно пообщался с Рогнедой, отпустив в ее адрес, правда, пару сальных шуточек, когда Олег вышел на кухню сварить кофе.
Двадцать третьего октября две тысячи второго года Михаил надел пуховик и отправился к новой подружке, однокурснице из колледжа. Ее родители уехали в этот день в МХТ посмотреть спектакль с какой-то новой актерской звездой. Вечер обещал Мише секс и покурить. Перед этим он, правда, хотел забежать к отцу и стрельнуть у него денег. У Олега был выходной — в такие дни он обычно был добрым и, как следствие, щедрым. Но в кармане еще оставались деньги с прошлого раза, девочка была красивой, ему не терпелось, и Михаил справедливо решил, что и без подкачки все получится. А к отцу можно будет заехать и потом.
Все прошло просто замечательно, и Миша, довольный, уже подумывал о том, что пришло время уходить, когда ему пришла эсэмэска. Прочитав ее, он нахмурился и попросил девушку внезапно серьезным голосом:
— Таня, включи-ка телек, там что-то случилось.
Таня, вся разомлевшая от недавних ласк, не сразу поняла, что Михаил не шутит. Пока она хихикала и медлила, он сам взял пульт и направил его на телевизор:
— …вооруженные боевики пока не выдвинули никаких условий. По имеющимся у нас данным, в здании Театрального центра могут находиться до тысячи зрителей и сотрудников мюзикла «Норд–Ост», включая актеров.
— …неизвестно, как на это могут отреагировать террористы.
— Благодарю вас. Вы слышали сообщение нашего корреспондента, Константина Точилина, который находи…
В этот момент звук приходящих на два телефона эсэмэсок превратился в жуткую нескончаемую мелодию. Ребята продолжали стоять, переключая каналы, и смотреть новости о происходящем в прямом эфире событии. Первым отлип от экрана Михаил. Посмотрел на длинную колонку эсэмэсок в своем телефоне и сказал отрывисто, как будто отрезая куски слов:
— Позвони родителям. Убедись, что все в порядке. А я сгоняю к отцу. Все. Целую. На связи.
И он вышел в холодную октябрьскую московскую ночь. Время от времени налетал пронизывающий ветер, а с неба сыпалось что-то непонятное –– то ли изморось, то ли снег с дождем.
Михаил не дошел до метро. Вместо этого он завернул за угол и открыл дверь старого дома по соседству (после взрывов в Буйнакске, Волгодонске и Москве не все соседи смогли договориться о кодовых замках на входных дверях в подъездах) и вошел в него. Спокойно поднялся по лестнице до площадки между четвертым и пятым этажом, остановился. Достал сигарету. Закурил. Посмотрел через грязное засаленное окно на улицу. Одного стекла не было, и через него в подъезд задувало сырость и холод. Он докурил и щелчком отправил окурок наружу. Ни как тот летел, разбрызгивая пепельные искры, ни как приземлился в лужу у бордюра, он не видел. Он просто достал свой телефон и набрал отца. Сигнал еще не успел пройти, а Михаил уже услышал голос отца в трубке:
— Миша, сынок, ты где? Ты что? Ты где? Мама где?
Миша выждал какое-то время, поежился, а потом прошептал тихо-тихо:
— Папа, молчи и слушай. Я в «Норд-Осте». Нас захватили чехи. Здесь ад. Я пока спрятался в туалете, но все выходы перекрыты, окон здесь нет. В коридоре стреляли только что. Папа, я тебя очень сильно люблю. Спаси меня.
Улицы у Театрального центра узкие, застройка плотная. Плюс оцепление стопроцентно выставили. Не проскочишь. По «картинке» было не совсем понятно, что делается со стороны автостоянки. Там есть пара внешних лестниц. Вот бы проскочить по ним незамеченным. Олег мчался к Театральному центру. Карманы его спортивной куртки оттягивали две увесистые «котлеты». Чехи чехами, а деньги любят все. Шанс. Это шанс. А там видно будет.
Машину бросил за две улицы, прямо перед первым, гаишным, оцеплением. И двинул в сторону шиномонтажа. Подпрыгнул, медленно подтянулся на бетонном заборе –– подготовка и физическая форма позволяли –– огляделся. Никого. Соскок, прыжок и сразу за машину. Так, вот зона ночного обхода, он сам проходил здесь ночью сто раз. Чисто. Только дерьма навалом. Кошачье, собачье и, наверное, человечье тоже. Это не важно, это сейчас совсем не важно.
Теперь светлый участок. Хоть бы кто из тупорылых местных догадался лампочку разбить. Так нет же, вон, горит зараза такая. Блядь, что же делать? Ладно. К зданию. Залечь. И ползком, ползком. Фу! Повезло. Вот и лестницы. Третья ступенька гнилая –– не наступить! Тихо. Тихо. Спокойно. Восстанавливаем дыхание.
……………………… и раз……………………… и два……………………… и три…
Вот и окно. Куда же оно выходит? Заходит. Сука! Ведет. Куда оно ведет?
В этот момент за окном, внутри здания, полыхнуло автоматной очередью. Миг, короткий миг, но Олег успел рассмотреть и спины падающих людей (кажется, все взрослые), и бородатые сосредоточенные лица стреляющих. И еще белое платье, на котором почти одновременно с черными проступили красные пятна. И все стихло. Он пригнулся и замер. Окно открылось. Тишина. Окно закрылось.
Это в дальнем коридоре, у электрощитка. Нет, здесь не пройдешь. Тогда выхода другого нет. И шанс только один –– через крышу. Темп, не сидеть на одном месте, а то точно заметят. Не чечены пристрелят, так свои. Свои.
…и раз…и два…и три…и четыре…и пять…
Вот и крыша. Хорошо. Ближайший люк здесь. Он как раз ведет в подсобку. Ну и здорово. Кстати, а почему никого из наших на крыше нет? Ну ладно, это потом, потом, если придется. Придется.
Отлично! Люк не заперт. Вот ведь распиздяи! Так. Не об этом. Заходим. Свет. Не надо света. Все. Теперь только на спокойного чечена выйти, а там как Бог рассудит.
— Брат, я его в дальнем коридоре взял. Он просто шел. Не сопротивлялся, ничего. Говорит, сын у него тут. Деньги предлагает.
— Разберемся, брат. Все мы их трюки знаем. Они думают, что они хитрые. Они не знают, что мы здесь все смертники. И правда на нашей стороне. Мы так хотим умереть, как они жить. Веди его сюда, но пусть кто-то там посторожит — как-то он внутрь зашел. Вот и спросим. Веди.
— Ты кто?
— Загадов. Олег Борисович Загадов. Начальник смены охраны Театрального центра.
— Ха-ха, Загадов, плохо охраняешь ты.
— Сегодня не моя смена.
— А чего ты тогда здесь делаешь, так? Кто тебя послал?
— Никто не посылал. У меня тут сын.
— Сын, говоришь? А я вот думаю, что ты фээсбэшник. Разведчик ты.
— Да, я служил там, но уволился.
— Ты странный, ну. Почему все рассказываешь? Боишься, нет?
— Боюсь. За сына боюсь.
— Откуда знаешь, что он здесь?
— Он мне сам позвонил. Все рассказал.
— Что рассказал?
— Что захват. Что стрельба.
— Так это во всех новостях сейчас.
— Я не смотрел. Мне бы сына. У меня деньги. Вот.
Удар, второй, третий… Только не отвечать.
— Мне бы сына.
— О себе подумай. Я тебя сейчас убивать буду.
— Убей. Только сына отпусти.
Еще удар. Еще. Еще… Выстрел.
— Сына отпусти. Я деньги принес.
— А если твоего сына там нет?
— Он там. Он мне звонил.
— Как зовут?
— Загадов, Михаил Олегович.
— Ну пошли.
— Теперь ищи. Давай.
— Сынок! Миша! Миша Загадов! Ответь мне. Это я, твой отец. Миша! Не бойся, я за тобой пришел.
— Ну и где он?
— Миша! Ты мне звонил. Я пришел.
Выстрелы в потолок.
— Загадов Миша. Если ты сейчас не выйдешь, да, я твоего папу убью. Выходи сюда сейчас. Будь мужчиной. (Пауза.) Ну ладно, Олег, иди сходи. Посмотри в зале сам. А потом возвращайся. Сюда возвращайся.
Олег спустился в зал и долго ходил по нему, всматриваясь в лица. Почерневшие от напряженного ожидания. Висевшие на почти неподвижных телах как страшные и грубо сделанные маски. Он все шел, и шел, и шел. Смотрел и не обращал внимания на резкий запах мочи и страха. Он так никого и не нашел.
— Ну что, теперь все ясно?
— Да.
— Иди сюда. (Пауза.) Ты фээсбэшник.
— Бывший.
— Бывших не бывает. На колени.
Выстрел эхом и ужасом отразился ото всех стен одновременно.
Показания свидетеля А., дата, следователь, вот:
«На вечеринке у свидетельницы К. подозреваемый Загадов Михаил Олегович много выпил и стал хвастать про то, как он отомстил отцу за предательство. Рассказал, что позвонил отцу, Загадову Олегу Борисовичу, сразу после захвата заложников и обманул его, утверждая, что находится среди заложников сам. При этом подозреваемый Загадов Михаил Олегович сообщил, что сначала хотел разыграть отца, но потом действовал вполне осознанно».
Показания свидетельницы К., дата, следователь:
«Подозреваемый Загадов Михаил Олегович рассказал мне, что за смерть отца получил деньги от государства в размере одного миллиона рублей. При этом смеялся и говорил, что отец получил свое –– его государство наградило медалью посмертно. На мой вопрос о том, как же ему живется после такого, подозреваемый Загадов Михаил Олегович сказал, что живется ему хорошо, но не очень, он сожалеет, потому что надо было еще и матери позвонить. Тогда за двоих бы дали два миллиона».
Показания свидетеля А., дата, следователь:
«Мы не стали сразу ничего сообщать в милицию, потому что сначала не поверили подозреваемому Загадову Михаилу Олеговичу. Но подозреваемый настаивал и даже показал историю звонков за двадцать третье октября две тысячи второго года».
Показания свидетельницы О., матери подозреваемого, дата, следователь:
«Мне очень стыдно, что я вырастила такого сына. Прошу следствие учесть тот факт, что мой сын, подозреваемый Загадов Михаил Олегович, сильно переживал и озлобился после ухода его отца, потерпевшего Загадова Олега Борисовича, из семьи и начала его сожительства со свидетельницей Р. До этого он рос обычным мальчиком. Ни агрессии, ни неадекватных действий за ним не наблюдалось. Прошу освободить его мне на поруки. Обязуюсь, что приму все меры для его правильного воспитания. В частности, я планирую его поступление в милицейскую академию».
Свидетельство о смерти заключенного Загадова Михаила Олеговича в колонии строгого режима. Причина: острая сердечная недостаточность.
Служебная записка, следователь такой-то:
«Прошу рассмотреть мои личные соображения насчет дела заключенного Загадова Михаила Олеговича. После анализа звонков и сообщения СМС в момент совершения преступления мною сделан вывод о причастности Загадовой Ольги Сергеевны, пресс-секретаря ГУ МВД при г. Москве, матери осужденного Загадова Михаила Олеговича, к совершению преступления. Мною получен ответ от компании, предоставляющей сотовую связь, с расшифровкой сообщений СМС, которые мать послала сыну сразу после того, как стало известно о теракте в Театральном центре на Дубровке. В одном из сообщений СМС, в частности, говорится: “Время пришло. Звони отцу. Скажи, что ты там. Я тебя отмажу”».
На служебной записке сверху стоит резолюция: «Изложенную в данном документе информацию полностью подтверждаем. Дело закрыто в связи со смертью осужденного и его матери. УФСБ России по Москве и Московской области».
Александр Петрович Романов взял в руки смартфон и нашел в контактах Толика Пéтровича, известного театрального режиссера. «Вот сюжет так сюжет. Что-то он теперь скажет? Или Василию Василю лучше набрать?» Думая так, он собрал свои вещи, сдал черную папку вернувшемуся в зал архивариусу, взял рюкзак и по лестнице спустился в вестибюль. Там он присел на лавочку у окна, достал термос, по привычке провел пальцами по царапине на рисунке и налил целый стакан чая. Отхлебнул и посмотрел на арку в доме напротив. Эту арку он приметил еще утром, обозвав ее почему-то «поганым ртом». И правда, окна над ней смотрели грустными глазами в переулок, а сама арка выглядела как огромный рот с опущенными уголками губ.
Он так и не позвонил. Ни Пéтровичу, ни Василю, никому еще.
Ну да ты и так теперь все знаешь.

Умирать в двадцать два — легко
22:80
Это лет в восемьдесят мучаешься даже не столько от смерти, сколько от жизни. Дети, внуки, пенсия, все еще не выплаченная ипотека. А ты всё жив и жив. Смотришь на себя из зеркала, пытаешься разглядеть под слоями обвисшей и огрубевшей кожи своё же лицо. И я это не про переднюю часть головы человека, спасибо за определение Википедии, а про самого тебя. Немного другое.
Настя не хочет в восемьдесят. В двадцать два тоже не хочет. В идеале бы — на этапе выбора способа контрацепции родителями (хотя мама уверяет, что они с отцом не могли зачать Настеньку два года. Чёрт, похоже, была желанной), но это же отматывать время, менять прошлое, и тогда… Возможно, всё получится. Возможно, вместо Насти будет Юля или Вася. Точно, Вася.
Вася был бы клёвым, любил футбол, возможно, если бы был Вася, то папа бы никогда не ушёл.
А, нет. Ушёл. Всё нормально, папа просто был мудаком.
Кажется, придётся всё-таки в двадцать два.
— Мама… я так больше не могу.
Настя увязает в одном из переулков у Китай-Города, мнётся с ноги на ногу, потом нервно ходит из стороны в сторону; залитый слезами телефон, прижатый к уху, трясётся вместе с рукой.
Это за полоской домов — пародия на проезжую часть, пародия на людей, пародия на жизнь, а тут почти хорошо. Точнее, пародия на «хорошо»: тихо, темно, даже если кричать — никто не услышит (за границей, в другой пародии, не услышат тоже, но сейчас не об этом).
Насте хочется кричать, и она кричит, но внутри, кричит так, что внутренний голос садится, лёгкие саднит, а виски не покидает ноющая боль — даже моргать невыносимо.
На деле в голос Настя только молчит, а мама не слышит. Между ними полторы тысячи километров, подвисающая телефонная связь — пародия на расстояние.
(потом через пару лет будет: «Ой, ну ладно тебе, ты же знаешь, через телефон всё слышится по-другому»)
Поэтому в ответ только молчание в трубку.
— Мама, я не хочу жить. Мне кажется, я сегодня шагну под поезд.
Насте удается закурить только со второй сигареты — первая беспомощно ломается — и с седьмого удара большого пальца по колёсику зажигалки. Пробиться к маме не получится ни с десятого, ни с двадцатого, ни с бесконечности.
— Ой, у меня тут что-то в окне. Огни какие-то. — (Настя беспомощно кусает сначала фильтр сигареты, потом губы: какие ещё, к чёрту, огни?). — Как ты думаешь? Это может быть НЛО?
Пауза.
— Тебя серьёзно, блядь, сейчас волнует только НЛО?
Ещё пауза.
А потом ещё и ещё. И тишина эта, такая звенящая, как белый шум, лезет в уши, в глаза, в лицо.
— Серьёзно. Мне, вообще-то, страшно. Вдруг они меня…
Настя горько смеётся — получается, маме плевать. Настя кладёт трубку.
(чёрт побери, как можно по-другому услышать фразу: «Мама, я хочу покончить с собой»?)
В двадцать два умирать легко, потому что ты пока что одинок.
Это в восемьдесят умирать страшно, потому что ты уже одинок. Или всё ещё. Дети, внуки, чёрные риелторы на пороге ипотечной квартиры, медсестра, меняющая катетер в вене, батюшка в церкви, голос Алисы из колонки, кот или кошка на коленях, любимая кассирша из «Пятёрочки», лечащий врач — не в счёт.
Смотришь на самого себя из зеркала и пытаешься разглядеть под слоями обвисшей и огрубевшей кожи своё же лицо — то есть, переднюю часть головы, согласно Википедии.
Настя смотрит на себя в стекле тяжёлой двери на входе в метро — от ветра и неосторожного движения впереди идущего пассажира почти вписалась в лоб. Ещё бы немного, и получилось бы в двадцать два.
Тушь через чёрный развод от слёз сползает к подбородку по коже, как продолжение синевы под глазами; эту синеву видно даже под слоями тоналки, и кажется, будто в ней засели все восемьдесят.
До восьмидесяти далеко. Это, если очень грубо считать в поездах метро по Москве, около двухсот девяносто двух миллионов поездов за всю жизнь — десять тысяч поездов в сутки на выбор, чтобы не дожить до восьмидесяти. Не общественный транспорт, а агрегатор шансов на смерть.
Настя смотрит на табло со временем до прибытия поезда. Ещё двадцать две секунды, люди стекаются кучками к краю платформы.
Ещё немного.
Настя зажмуривает глаза, потоки ветра от несущегося вперёд поезда разбрасывают в стороны и без того растрепанные волосы.
Глубокий вдох.
Шаг.
«Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Кузнецкий мост».
Можно сесть, Насте всё равно ехать дальше. Если не до восьмидесяти, то хотя бы точно за двадцать два.
В двадцать два умирать легко. Но страшно.
Маме тоже страшно.
И за маму, хоть та этого и не слышит, тоже страшно.
А то ей пришлось бы два раза: и в восемьдесят, и в двадцать два.

Хвойный сахар
Сашка нёс его в коробочке из-под вишнёвых леденцов, где раньше хранил жёлуди и ракушки. В рюкзак на всякий случай положил компас, коробок спичек, несколько кубиков рафинада и кусок яблочного пирога, завёрнутый в серебристую фольгу. Под резиновыми сапогами чавкала грязь. Сашка захлюпал носом.
Лес начинался сразу за рынком у станции, куда они с мамой часто ходили за зеленью и орехами. Сашка перешёл пути и позволил лесу показать дорогу. Редкие осины и берёзы сменились густыми елями и соснами. Сашка внимательно прислушивался и всматривался в чащу. Лес нависал над ним, словно развалины старого замка, и чем дальше он заходил, тем осторожнее и тише старался идти. Пахло сырой холодной хвоей, жестяная коробочка леденила руки. Сашка чувствовал её тяжесть и не смел повернуть обратно.
Стук поездов вдалеке пропал, лес обступил со всех сторон. Вдруг Сашке показалось, что если он пойдёт ещё дальше, то не сможет вернуться. Он зажмурился и сжал коробку в руках, надеясь, что это придаст ему храбрости. Когда Сашка открыл глаза, то впереди на тропе увидел мальчика в дождевике цвета крапивы. Тот смотрел вверх, запрокинув голову, и будто бы что-то высматривал. От неожиданности Сашка замер и спрятал коробку за спину, но мальчик его заметил. У него были светлые, почти прозрачные волосы и спокойные темные глаза.
— Ты кто? — спросил мальчик.
— С-сашка.
— А я Ромка. Ты тут что делаешь?
Сашке не хотелось говорить. Он спешно, но аккуратно положил коробочку в рюкзак.
— Важное дело, — сказал Сашка. — Меня за грибами отправили.
— В апреле?
— Есть такие грибы ап… апрелевики! Очень редкие. — Сашка кивнул, довольный своей выдумкой. — Вот, за ними отправили.
Ромка промычал в ответ и наклонил голову вбок.
— Ты тут часто ходишь? — добавил Сашка быстро. — Не знаешь тайные места? Такие, чтоб даже апрелевики найти можно.
— Я тут много бываю, но вот… — Ромка, казалось, задумался. — Не смотрел в волчьем овраге? — Сашка помотал головой. — Там на всякое можно наткнуться.
— А ты покажешь?
— Обычно деда не разрешает мне туда ходить, но ведь тебя одного там точно съедят.
У Сашки вытянулось лицо, и Ромка рассмеялся.
— Ну умора! Да нет там ничего такого, просто поскользнуться легко.
— Тогда покажешь? — спросил Сашка так серьёзно, что Ромка перестал смеяться и кивнул.
Пока они спускались в овраг, Сашка, конечно же, навернулся и утянул Ромку с собой. Прошлогодняя листва прилипла к сапогам, и они скатились по склону, сильно перепачкавшись.
— Ох, и достанется дома, — протянул Ромка, стирая грязь с щеки. Впервые за день Сашка рассмеялся.
Вместе они облазили овраг вдоль и поперёк. Сашка часто останавливался и прислушивался к шёпоту всклокоченных кустов, но, казалось, не находил того, что искал. Он обошёл вокруг валежника, брякнулся на покрытую мхом корягу и выдохнул так, словно задувал свечи на торте. Ромка сел рядом.
— Ты же лес хорошо знаешь? — спросил Сашка, на что Ромка кивнул. — А единорогов тут не видел?
— Единорогов? — Ромка сморщил лоб, пытаясь сообразить, кого Сашка имеет в виду. — Ну, деда рассказывал, тут раньше лоси водились.
Сашка опять тяжело вздохнул и потупил взгляд.
— А зачем тебе единороги?
— Я читал, что единороги умеют возвращать к жизни, — ответил Сашка тихо. — Там ещё писали, они живут в зачарованных лесах, вот я и подумал. — Сашка достал из рюкзака жестяную коробочку и так сильно закусил губу, что кожа вокруг побелела. — Это я виноват.
У Сашки по щекам покатились слёзы. Он рассказал, как иногда выпускал кенара полетать, ведь ему точно было скучно всё время сидеть в клетке. Рассказал, как не заметил кошку, которая обычно спит на папиных свитерах в шкафу, но вот сегодня она сидела в комнате, и Сашка её не заметил. Он рассказал о золотистых перьях за диваном, и как неожиданно стало ужасно страшно. Сашка рассказывал, прижимая коробку к груди, а Ромка молчал и слушал.
— Я думаю, смерти все боятся, — сказал Ромка, когда Сашка притих. — Особенно те, кто говорит, что не боится. Не страшно, наверное, только тем, кто уже умер.
Сашка вытер мокрое лицо рукавом.
— Надо похоронить, чтобы душа смогла улететь, — сказал Ромка и встал с коряги, — Так деда говорил.
— У канареек разве есть душа?
— А как же тогда они живут?
Сашка не знал, что ответить, только посмотрел в глаза Ромки, в которых будто бы стояло отражение тихого лесного пруда.
Вместе они раскопали ямку между корнями раскидистого тиса, опустили туда коробочку и присыпали землёй.
— Я подумал, — начал Ромка, раскладывая сверху еловые ветки, — может, единороги убегают на зиму в тёплые края? И когда совсем потеплеет, они опять вернутся.
— Хорошо, если так, — сказал Сашка и вместо камня положил на ветки белоснежные кубики рафинада.
Мальчики разделили кусок яблочного пирога и вместе дошли до кромки леса. В вечернем мраке станция напоминала картинку из старого телевизора. Сашка хотел было попрощаться, но почувствовал лёгкий толчок в спину.
— Только нельзя оборачиваться, пока не выйдем, — сказал Ромка.
— Это почему?
— Чтобы в сумерках душа не заблудилась в лесу.
Сашке показалось, что Ромка опять его разыгрывает, но вдруг почувствовал, что рядом никого нет. Не оборачиваясь, Сашка побежал. Позади, словно под серебристыми копытами, хрустел мох.

Чай с бубличками
Телефонный звонок неистово трепал тишину. Сознание Полины медленно пробиралось сквозь мягкую сладость сна. Часы показывали еще детское время, но сказывалась усталость от нагрузки на новом месте работы.
Ее маленькие школьники — сын и дочка — казалось, засыпали еще на подступах к своим кроватям. Но за ужином все равно брали с мамы слово, что она посидит с ними перед сном. В этот раз, рассказывая сказку, Полина прилегла рядом с дочкой, но досказать не успела. Укладывая детей спать, она не заметила, как заснула вместе с ними.
— Слушаю, — сказала Полина.
— Полина Сергеевна, очень нужна ваша помощь. Михаил Чернов из 9 «Б» пьяный хулиганит на крыше школы. — Голос директора школы от волнения был трудно узнаваем.
— Еду, — выдохнула Полина, повинуясь молниеносно принятому решению.
Передав детский сон под охрану мужа, она поспешно вышла в коридор и схватила сумку. Потом, задумавшись на секунду, поставила ее обратно. Достала из нее кошелек и положила в карман пиджака. «Что-то еще… — опять остановилась Полина, — ключи и переобуться». Гулко хлопнув дверью, она выбежала на улицу.
Конец сентября выдался на редкость жарким. Вечерний воздух был наполнен ароматом опавших листьев, согретых за день щедрым южным солнцем. Поднявшийся ветер причесывал пожухлую траву и перегонял пожелтевшую листву с газона на тротуар, с тротуара на дорогу.
Долго голосовать не пришлось. Старенький запорожец цвета недозрелого помидора, по всей видимости, долго искал пассажира. На самой малой скорости он ехал в первом ряду. Завидев поднятую руку молодой женщины, водитель добавил газу, а поравнявшись с ней, резко затормозил.
— Карэта подана! — с явным грузинским акцентом весело сказал седовласый хозяин автомобиля.
— Военный городок, школа, там ЧП, — дрожащим от волнения голосом выпалила Полина, усаживаясь на протертое сиденье рядом с водителем.
Улыбка в один миг исчезла с его лица. Не задавая никаких вопросов, он помчал «карету» на максимальной скорости. Об оплате не захотел даже слушать.
Школа стояла в центре недавно отстроенного военного городка. Трехэтажная, серо-коричневого цвета, она больше напоминала казарму, чем школу. Единственным ее украшением был огромный, нежно-голубого цвета навес над входом в здание. На одном из поддерживающих навес столбов висели три разноцветных воздушных шарика — скудные остатки школьного торжества. При каждом порыве ветра они метались из стороны в сторону и нещадно бились друг о друга.
Пересекая школьный двор, выложенный огромными бетонными плитами, Полина почувствовала, как в собравшейся толпе разгулялось волнение, распоясался страх. Кто-то вздыхал, кто-то охал. Одни обсуждали вызов полиции, другие в напряженном молчании следили за подростком на крыше.
«Психолог приехала», — услышала Полина за своей спиной. С отстукивающим бешеный ритм сердцем она пробиралась к завучу школы. Ираида Петровна неподвижно стояла с побелевшим от страха лицом. Ее взгляд был устремлен вверх, на сына. Будучи женой полковника, она выделялась среди других учителей военной выправкой — прямая осанка, гордо поднятая голова и уверенная манера держаться. Всегда говорила хорошо поставленным командным голосом, чеканя каждое слово. За месяц работы в школе Полина еще ни разу не видела улыбки на ее лице.
Однажды Полина стала невольным свидетелем разговора завуча со своим сыном в пустынном коридоре школы. Ираида Петровна что-то резко выговаривала Мише. Что именно, Полина не услышала. Она только видела, как под тяжестью маминых назиданий опускаются мальчишечьи «крылья», на которых он совсем недавно счастливый слетал по лестнице.
А сейчас Миша ходил по крыше с бутылкой в руке и опьяневшим голосом орал песни. Между куплетами парнишка выдавал нехитрые порции мата.
— Ираида Петровна, посмотрите на меня, — почти прокричала Полина, чтобы вывести ее из оцепенения, — вспомните, как вы Мишу звали домой, когда он допоздна заигрывался во дворе с ребятами. Вспомните те слова.
Взгляд Ираиды Петровны соскользнул внутрь.
Несмотря на жару, она, видимо, наспех надела плащ поверх домашнего халата — одна часть воротника плаща завернулась вовнутрь. Темно-синие домашние тапки, судя по огромному размеру, явно принадлежали полковнику. Не утихавший ветер сушил ее влажные волосы.
Ираиде Петровне предстояло перетряхнуть толстый слой воспоминаний и добраться до раннего детства сына, найти слова, которые она ему очень давно не говорила.
Однако уже через мгновение она снова вскинула голову и громко сказала:
— Мишутка, пойдем домой. Чай пить с бубличками.
Ее неузнаваемый голос взмыл вверх и эхом разнесся между домами. Миша прервал свою песню и остановился. Действительно ли он это услышал, не показалось ли?..
— Сыночек, поздно уже и холодно, пойдем домой… родной, — сорвался ее голос.
Миша присел, но было видно, как его худенькие подростковые плечи сотрясались от рыданий.
В этот вечер расцелованный мамой Мишка пил чай с бубличками, которые искали для него всем педсоставом.
Полина вернулась домой на той же машине, на которой подъехала к школе. Водитель запорожца, по всей видимости, ждал ее.
— Спасибо, дочка, — сказал водитель, открывая для Полины дверцу машины.
— За что? — удивилась Полина.
— За то, что на этом «страшном балу» моя «карета» была единственной.
Полина сразу догадалась, что речь идет о карете скорой помощи. Водитель по-прежнему отказывался брать оплату.
В квартире было спокойно и тихо. Дети спали, сладко посапывая. Полина каждому поправила одеяло. Едва касаясь, чтобы не разбудить, погладила белокурые головки ребятишек. Муж ждал ее на кухне. На столе дымились две чашки свежезаваренного мятного чая.
А в школе с тех пор после особо тяжелого педагогического дня, когда в учительской собирались пить чай, кто-нибудь обязательно в вазочку с печеньем подкладывал бублички.

9D
Такой я её не видела никогда. Только на фотографиях цвета поздней осени: там она красавица, причёска, пальто. Бабушка эти фотографии в замысловатых рамках расставляла на полках с книгами. Непременный атрибут — ажурная белая салфетка под рамкой. И эти её «вечера воспоминаний». Это означало напечь пирогов с вишней и предаваться бабушкиным грёзам, листая альбомы со стихами, подругами, их женихами, открытками из каких-то городов.
Моим внукам таких моментов не достается, нет. Фото моей молодости давно сгорели на очередном «прощальном» костре. Первый такой я запалила в свои восемнадцать неполных. Тогда горели косухи, браслеты, рисунки, стихи, безумства. Трудно забыть те ощущения. Казалось, что подпалила саму себя, хотелось орать и прыгать с крыши в снег. Этот костёр начал эру моих обнулений.
Всегда завораживало слово «старость». Тут и страсть, и странность, и рост, и остановка, и становление. Я, наверное, уже родилась старой. В девять лет откуда-то точно знала, что во мне находится бессмертная душа, а тело — это так, костюм, скафандр. В двенадцать была уверена, что у каждого свой Бог и все они вместе каким-то образом одно целое. Правда, потом я об этом надолго забыла, но и это так по-старчески.
Моя старость всегда была со мной. И когда в двадцать один похоронила ребёнка, а потом отца, друга, сестру, мужа, страну. И всякий раз, когда загорался новый «прощальный» костёр, я ощущала себя старой. Сначала душой, а потом и телом.
А почему это, кстати, так пугает — старое тело? Оно истончается, делается папирусно-ломким, прозрачным, хрупким, как дорогой фарфор. И постоянно висит в воздухе приближение перехода. Как в конце февраля весна, как перед рассветом звезда. Переход — желанное состояние, оно даёт силы.
Я столько раз рождалась, столько раз мучительно умирала, страдала, любила, горела, твердела, снова всё забывала. Чего тут бояться? Разве только утерять сознание при переходе.
Из деревьев старость — это древняя лиственница на изгибе хребта. Из стихов старость — это псалмы в коптском пещерном храме. Из предметов — восковая свеча, слепленная вручную. Из музыкальных инструментов — многострунный ситар. Из историй — это притча о пустой лодке.
Ночь, полнолуние, по озеру одиноко плывет на лодке созерцатель. Он глубоко погружен в себя. Вдруг в его лодку сзади громко что-то ударяется. Спокойствие созерцателя улетучивается, он гневно оборачивается, чтобы увидеть того, кто виноват в этом ударе, но видит только лодку. Её просто принесло течением. Она совершенно пуста.
— Ну хватит, ты уже сто раз рассказывала эту притчу, я не понимаю, о чём она, ба.
— И я не понимаю, о чём она. Притчи не для понимания, они для прозрения.
— Что такое прозрение, ты сама-то знаешь?
— По-моему, это то же, что и старость. Ты проживаешь многомерность, вмещаешь всё поверх условностей. Делаешься объемным, наполненным смыслом, вне времени, бескрайним.
— Это как смотреть «Хроники бессмертных» в 8D?
— Иди-ка ты спать, дорогая. И лучше в 9D, девятка раскручивает спираль.
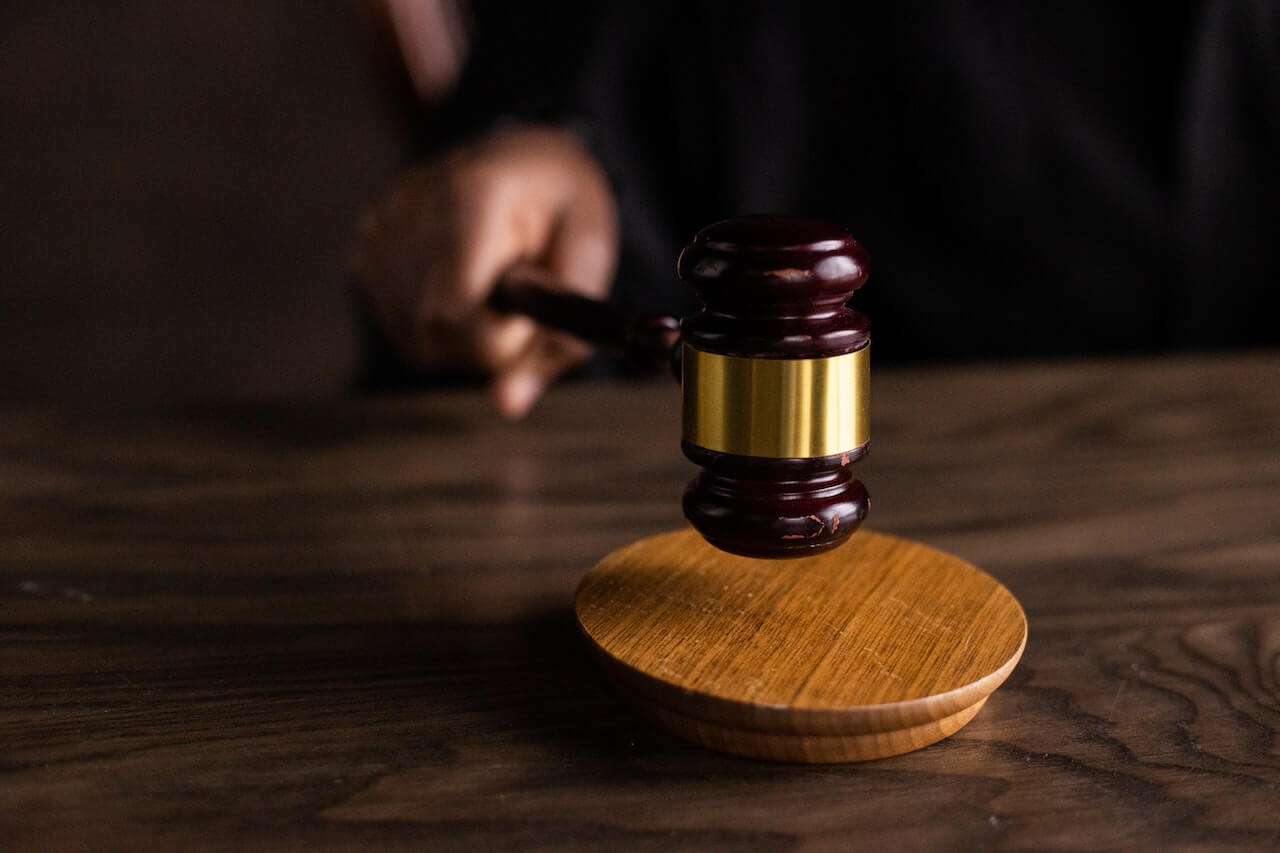
Аукцион
В галерейном зале было шумно и тесно. Впрочем, как и всегда. Помимо привычных покупателей — солидных мужчин в возрасте, — попадались худощавые дамы с жиреющими собачками, жирнеющие дамы с сухощавыми собачками, молодые мамочки и визуализация их будущего богатства — прыщавые подростки. Все они даже не знают о моём тяжёлом детстве и автостопной юности. Хотя, по сути, ни то ни другое для присутствующих ценности не имеет. Тут всегда важен эмоциональный фон события, а не его красочные детали.
Кто-то называет их стервятниками, кто-то — безумными коллекционерами. Наверное, мне тоже захочется под старость приобрести нечто свеженькое, чтобы поднять настроение или же, напротив, отыскать смелость уйти из жизни. А пока я надеюсь распрощаться со своим грузом. Поэтому и пришла на торги. Торги собственных воспоминаний.
Аукцион похож на ремонт или переезд: подготовка тянется бесконечно, и кажется, что по итогу ты ничего не успел. Дескать, ещё не все воспоминания декорированы так, чтобы привлечь побольше внимания, не все они надежно упакованы в коробки, чтобы детсадовская каша не смешивалась со студенческим супом, мухи — с котлетами, а зерна — с плевелами. Ассоциативный ряд можно продолжать бесконечно, но какой смысл, если за него не платят. В отличие от памяти.
Да, за торги я получаю такой процент от продаж, что многие из моих знакомых помладше, узнав о нём, бросились вести личные дневники. Надеются, это поможет сохранить памятные события их жизни. Но, как я уже сказала, здесь требуются не художественные подробности, а яркие эмоции, которые по прошествии лет хоть и побледнели, но еще способны поразить в самое сердце. Или куда пониже, ведь грешников на торгах тоже хватает.
Аукционы памяти устраивают в галереях, и это не просто дань искусству: в материальном воплощении все воспоминания выглядят как картины. Чем плотней и насыщенней воспоминание — а иногда оно состоит из нескольких фрагментов, связанных не временем, но отношением человека, — тем крупнее будет аукционный лот. Потому, например, мои воспоминания о безбрежной и романтической стороне путешествий собрались в невообразимо гигантский и пошловатый горно-морской пэчворк, за который в конце вечера до последнего боролись трое мужчин в шаблонных беретах. Ох уж эти творческие личности — искатели лёгкого вдохновения. Потом они будут муссировать мой опыт, перерабатывая его в очевидные инсталляции или занудные пейзажные очерки. Как по мне, настоящая память о поездках кроется именно в их неприглядной стороне, на изнанке каждого из лоскутов памяти. Вот, например, я убегаю от машины с албанскими националистами. Или вот я пытаюсь выбраться из грузовика, чтобы меня не увезли в Элисту пасти овец. Но перевернуть купленную картину и вглядеться в её задник додумываются только избранные.
Не секрет, что картинки из прошлого обычно обрастают в голове провокативными, а то и компрометирующими деталями. Поэтому на аукционах запрещено называть имя человека, чью память распродают на торгах, а сами лоты занавешены тканью. Плотность её зависит от давности событий: как правило, никому не бывает стыдно за проделки детства, чего не скажешь о свежих воспоминаниях. Так что все подробности покупатель видит уже после, а до тех пор ему остается довольствоваться лишь описанием, зафиксированным с моих слов.
Тем не менее владельцы воспоминаний, хотя теперь их правильнее назвать поставщиками, могут присутствовать на торгах анонимно. У них есть право выкупить обратно одно воспоминание, но на общих основаниях, то есть выиграв торги. Иногда за собственную память надо побороться: торги могут длиться несколько часов подряд, прежде чем отступят остальные желающие и раздастся долгожданный стук молоточка.
Первые часы моего аукциона тоже тянулись долго из-за ожесточенных торгов: распродавали детство. Вот я сижу на горшке и боюсь, что от гриппа умру я или тетя, потому что вся семья лежит с температурой. Прошу у бога, чтобы умер кто-то другой. В эту ночь умирает дедушка. Вот я в последний раз вижу папу, как раз на похоронах деда: синее толстое пальто на синтепоне, бежевая меховая шапка. На аукцион, к слову, выставили совсем немного моих воспоминаний об отце, но не из вредности, а из-за отсутствия, так сказать, фактуры. Вот, например, отец хочет запереть меня в своей комнате (куда мы с мамой иногда приходим на выходные), пока он сходит в магазин, но я наотрез отказываюсь, потому что уверена, что обо мне забудут и больше никогда не придут.
Вот и день смерти бабушки. Мой маленький розовощёкий пузатый пупс в пижаме (не то с котиком, не то с песиком) в одну секунду превратился в старую тряпичную куклу. Её последний хрип из лёгких, когда бабушку перетаскивали со стула на кровать, давно стал звуком моего внутреннего будильника. А потом ещё была бабочка, которую мы с тетей чуть не прибили палкой в подъезде в день похорон, рассчитывая вытащить её на улицу. А может, всё-таки и прибили. Но тогда я была уверена, что это бабушкина душа.
Только не надо думать, что я жадная. Хорошие воспоминания в галерее тоже были. Вот я слышу, как меня на уроке чтения хвалит случайно зашедший завуч, и решаю, что непременно стану известной на весь мир. Вот я выигрываю модный mp3-плеер за лучшую речь на городских дебатах. Вот мое стихотворение публикует на своем сайте Муслим Магомаев. Вот я встречаю любимую музыкальную группу из Финляндии в воронежском магазине.
На самом деле расставаться с радостными воспоминаниями проще: они не нужны покупателям для тёмных делишек или создания шедевров, а значит, ты избавлен от чувства вины и зависти. Люди просто умиляются прошлому, как и ты сам во время приступов ностальгии. С плохими воспоминаниями всё иначе, и дело тут не только в их дальнейшем использовании. Так уж повелось, что всевозможные травмы, печали и горести увязают в человеке, как жуки в янтарной смоле. Да, они твоя боль, но они же и твоя ежедневная речь. Отказаться от таких воспоминаний значит дать обет молчания. По крайней мере, до появления новых трагедий.
Впрочем, что для одного — плохое воспоминание, для другого — пустышка. Одна миловидная тетенька изъявила на аукционе желание купить воспоминание, как в пять лет соседские пацаны заперли меня в комнате и потребовали снять трусы. Чтобы посмотреть, «как там у девочек». У меня это воспоминание не вызывает ровным счётом никаких эмоций, но об этом никто не знает, так что всякие извращенцы, постоянные обитатели торгов, уверены, что получают не просто картину, а мощный долгоиграющий фетиш.
После ажиотажа на детских воспоминаниях торги пошли на спад. Мне пора было определяться со своим выбором. Поначалу я думала, что возьму что-то редкое или оригинальное. Но при очной встрече с лотами, пусть и укрытыми от въедливого глаза, я поняла, что нужнее всего — самые универсальные, а потому и самые прочные артефакты. В коротких и простых воспоминаниях удобнее разглядывать лаконичные главные детали, увеличивая воображаемый масштаб чуть ли не до бесконечности. Плоть воспоминания важнее его размера и чувственного ореола вокруг. Расхожее воспоминание, которое есть у всех или почти у всех, похоже на неудачную фотографию, о которой пишет Мария Степанова в «Памяти памяти». На него так же никто не претендует, но при этом в нём остается пространство для собственных домыслов, приращения символической значимости. И потому я купила, пожалуй, самое стереотипное женское воспоминание — свадебную фотосессию. Вернее, всего минут пять из неё.
Три человека поднимаются к Троицкой церкви над грузинским посёлком Степанцминда. Мелкие дождевые капли путаются в платье, паникуя при столкновении с пайетками. Сиреневый венок на голове темнеет, впитывая всё больше влаги, и уже сам походит на тучу. Времени на фотосессию до разгара грозы остается всего ничего, и промокшие люди сокращают путь. Они идут не вокруг горы по натоптанной тропинке, а прямиком вверх по склону. Невеста цепляется за траву при каждом шаге, чтобы не скатиться обратно. Фотограф бережно прижимает к груди объектив и крестится.
Три человека выползают буквально из-под земли на смотровую площадку. Удивленная группа еврейских туристов при виде девушки в свадебном платье громко и одобрительно восклицает: «Мазл тов». В отдалении одобрительно и громко ржёт лошадь.
Это воспоминание — идеальный элемент пазла, у которого по краям все типы креплений. Фрагмент, подходящий к любой мозаике, достаточно лишь немного покрутить. В нём и про силу любви, и про преодоление испытаний. Но главное — в нем про меня. Не про маму и папу, не про бабушку и дедушку, не про попутчиков и соседей, а про меня.
Раз, два, три — продано!

Дневник одного дня
Картой дня выпала Смерть.
Другое название карты — Разрушение. Несмотря на некомфортное название карты, мне она нравится. Наверное, даже одна из любимых. Это чудесный аркан. Это смерть всего старого и изжившего себя. Это обнуление. Это переход. Ничто не стоит ближе к жизни, чем смерть, и ничто не роднее жизни, чем смерть. Это то, к чему стремится каждый ищущий, и то, чего он больше всего желает.
Можно было бы сказать, что сегодняшнее утро наконец началось с хороших новостей, но их пока нет, в принципе, как нет и никаких других новостей: самое лучшее решение было отписаться от всех каналов в Телеграме и удалить социальные сети. Просыпаешься — а внутри относительно тихо, ничего не гудит, не скребется, есть время прийти в себя, ощутить кто я, где я, зачем я, почему я.
Спустя часа полтора позвонила Вероника, сильно волновалась и твердила: «Закупись едой, чтобы хватило хотя бы на полгода. Илья говорит, что в течение месяца у вас будет полная катастрофа. Купи консервы, купи крупы, купи лекарства и еду животным обязательно». А еще говорила, что это все ужасно, страшно, безумно и мир никогда не будет прежним. Да, мир правда уже не будет таким, как раньше. А кто такой Илья, я, если честно, вообще не знаю. Вероника раньше его даже не упоминала.
Правда, потом она прислала его фотографию, чтобы я, видимо, посмотрела. Ну, симпатичный мужчина, и глаза у него добрые такие, хорошие.
Смерть — это всего лишь середина пути в цепочке Старших Арканов Таро. Она идет под номером тринадцать из двадцати двух карт. Так сделано потому, что Смерть всего лишь несет с собой естественный переход от одного способа существования к другому, а никакой не глобальный конец. Если сильно сопротивляться прощанию со старым, то будет больно; если нет — то нет. Просто иная форма бытия. В моменте кажется, что переход очень резкий и ты к нему совсем не готов, но потом, оглядываясь на произошедшее, понимаешь, что к этому все и шло.
Днем я сидела работала, и вдруг позвонили в дверь. Это была Юля, а она никогда не приходит без предупреждения. «Принимаю поздравления», — это было первое, что она сказала. И я уже поняла, что произошло, но зачем-то сделала вид, что нет. Она протянула руку, у нее на безымянном пальце было кольцо.
Я расплакалась и в тот момент поняла, что́ чувствовала Юля много лет назад, когда плакала в ресторанном дворике из-за того, что я ей сказала, что потеряла девственность.
В Таро Смерть представляет собой отказ от своего прежнего «я», импульсы этого аркана — уничтожить наше самоощущение, разрушить все, во что мы ложно верили, и повергнуть в прах наше представление о мире. На этот шаг герой решается, прожив опыт предыдущей карты, Повешенного, когда приходит осознание того, что цепляться за контроль — бесполезно, пути действительно неисповедимы и никогда нельзя предугадать, в какой водоворот нас унесет потоком бытия.
Вечером общалась с Галей, и речь, в который раз за последние дни, зашла о том, что «в человеке не осталось уже совсем ничего человечного», — фраза, которая уже произносится на автомате. А я совсем уже не уверена в том, что «человечность» в человеке — это хорошо. А что, если «человечность» — это как раз таки все то самое, от чего мы хотим избавиться: желание упрямо доказывать свою правоту, привычка пообещать что-то, а потом не сделать, стремление кого-то унизить, оскорбить, нахамить, задеть, обмануть, оттолкнуть, самоутвердиться за чей-то счет? Что, если «человечность» — это все то, что человек натворил со своим прекрасным абсолютным началом, с бесконечной любовью, которая его создала?
Я не знаю.
Впоследствии Смерть и все то тяжелое, что она с собой приносит, начинает восприниматься, как самый ценный урок, способствующий росту. Человек ощущает себя фениксом, возродившимся из пепла, Осирисом, Персефоной и Орфеем одновременно. Пройдя все разрушения, прочувствовав собственное бессилие и беспомощность, болезненно отпустив все, что мешало, человек осознает всю стойкость своего духа, он понимает, что Смерти на самом деле просто нет, она преходяща, жизнь — вечна.
Часов в девять я решила пройтись до моей старой школы, где я проучилась первые семь классов. На Красноармейской навстречу мне шли женщина и маленький мальчик в очках со смешной оранжевой оправой. В руках он держал огромного пластикового динозавра. Когда мы поравнялись, он громко крикнул: «Я люблю велоцираптора!»
Я тоже люблю велоцирапторов, это одни из моих любимых динозавров. И совсем не потому, что в новом «Парке Юрского периода» они похожи на больших умных собак. В Палеонтологическом музее я расстроилась из-за того, что у них не было скелетов велоцирапторов. Зато там были завролофы, они мне тоже нравятся.

Лучше, чем я
Я не знаю, стала ли я хоть немного похожей на тебя. «Ничего, всё в порядке», — всегда говорила ты, справляясь с одной трудностью за другой всю свою жизнь, — долгую, в общем-то, жизнь, не сказать, что совсем несчастливую жизнь. Господь подарил тебе и счастье, и горе, вероятно, в равных пропорциях, хотя и не стоит судить о таком со стороны.
Сила и мягкость, этот растиражированный образ восхищающей женщины — в тебе он удивительно оживал и преображался, наполняясь особенностями некоторыми, неуловимыми. Ты принадлежала к тому поколению, которого давно нет на свете, у представителей последующих же, в том числе моего, за которым успело вырасти уже не одно, более не котировались эти черты: внутренняя сила, переходящая в скрытность, нежелание обращаться за помощью, вечное добровольное одиночество в горе, беде, героизм, вывернутый наизнанку. Не котировались, несмотря на несчастья, постигшие в итоге и их, рождённых, казалось, в относительно мирные времена. Не стали эти черты снова тем, чем гордятся, снова доблестью из-за трудностей.
Сложно поспорить: действительно, ведь они приводят только к неврозу, не может человек постоянно «держать лицо», будто отвечает перед начальником, не может эту линию поведения выстраивать с близкими.
В кризисной ситуации всё, однако, переворачивается — оборачивается второй своей стороной, той, о существовании которой приверженцы чего-либо определённого забывают напрочь.
Итак, в кризисных ситуациях ты первая поднимала голову. Говорила спокойно, принималась рассудочно действовать. Ты успокаивала боявшихся, утешала плачущих. И это запомнилось навсегда много более ярко, нежели то, что с точки зрения психологии ты была неправа, нанося непоправимый ущерб собственной психике и душе, а временами и окружающим, о которых ты так заботилась, — тем, что не позволяла им позаботиться о тебе.
И вот — мне давно не пятнадцать, и тебя давно нет на свете, и хотя я не стала ещё ни матерью, ни бабушкой, но отчего-то сверяю периодически жизненный курс с твоим, сама удивляясь этому; теперь, достигнув определённых целей, в очередной раз остановившись в точке-развилке, я оглядываюсь назад, я стою посреди жаркого города, где ты не была рождена, но не помнила себя до, брожу по тенистым улицам, уезжаю на самую окраину; нигде нет твоей могилы, нигде в целом мире. Мне некуда прийти, чтобы расплакаться, как в глупом кино. Одновременно же ты повсюду, и я могу позволить себе это везде. Я иду по тенистым улицам жаркого города, и слёзы льются — лучше сказать, незаметно соскальзывают, по капельке срываются вниз — по моим щекам, так легко, будто в этом нет ничего, что могло бы привлечь внимание идущих навстречу. Будто это ветер касается щёк, воздух как бы льётся по ним, будто это лёгкая улыбка или цветок в моих волосах, — обыкновенные прозрачные капельки на щеках, настолько естественная часть моя.
Иногда я забываю, сколько мне лет, какой я проделала путь, что из моих желаний сбылось, а чему уже вовеки не суждено. Будущее снова кажется далёкой загадкой. Сколько бы мне ни было лет, я остаюсь маленькой девочкой, которая боится в него заглянуть, как в колодец, как в космос. И потому я приехала сюда, в город, где была лишь однажды, в детстве, с тобой; я плохо помню его и брожу, притворяясь туристом. Ты говорила об этих краях с такой нежностью; «Съездить бы в Ессентуки ещё хоть разок», — не говорила, но я слышала это в твоих словах. Я пытаюсь найти улицу, где ты жила маленькой. Я вижу на автобусной остановке женщину с синим платком на белых волосах — отмечаю про себя, что это красиво, что некоторым удаётся оставаться красивыми до конца, — и девочку лет пяти рядом с ней. Пытаюсь вспомнить, зачем именно я приехала в этот город, не могу вспомнить, не знаю, чего я искала; чувствую, что мир вокруг снова становится сентиментальным кино, и мне нестерпимо хочется разрыдаться, бесцеремонно сев рядом, на остановке, невидимые лёгкие слёзы сделав тяжёлыми, явными, видимыми; но это, вероятно, испортило бы день маленькой девочке и женщине в красивом платке. Не решаюсь портить им день. Никому не решаюсь портить его.
Наверное, я стала много более похожей на тебя, чем могу представить, больше, чем на собственную мать, больше, чем на себя саму. Не знаю, удаётся ли мне так же заботиться о других. Удаётся ли сохранять рассудок в тёмные времена. Удалось бы мне рисовать картины и читать хорошие книжки с маленькой внучкой. Удалось бы мне каждый день кормить десять уличных кошек. Заготавливать тысячу банок с вареньем, компотом и огурцами. Ухаживать за небольшим садом. Кажется, ни на что из этого я не гожусь. Не то чтобы принижаю себя, но стараюсь судить объективно. Думаю, всё же мне передалось и хорошее. Если вообще хорошее и плохое наследственны и могут передаваться через поколения детям, тем более — внукам. Однако в искусстве вечного одиночества, в этом тёмном, бессмысленном, беспощадном искусстве, которое и искусством-то, светлым словом, не назовёшь, в этом умении выстроить стену, поместив за неё горе, сомнения, страхи, мечты — последние вовсе не кажутся лишними в цепочке, а наоборот, следуют неразрывно, — и не пускать за неё никого, не столько из желания уберечь их, сколько от неуверенности, что они способны разрушить хотя бы одну тень из тысячи помещённых туда, — в этом я преуспела, преуспела как никто. Вероятно, даже больше, чем ты.
Так я думаю о себе на секунду.
Это момент беспощадности — спустя много лет личных пропастей и вершин, подобных тем, что теперь виднеются на горизонте, годы долгой, нелёгкой работы, осознанного подхода к собственным трудным чертам и без видимой причины на то. Так я думаю в тёмном отчаянии, поддавшись разрушительному порыву, недремлющей силе зла. И солнце, освещающее моё лицо и высушивающее капельки слёз на нём, говорит мне твоими словами: «Ты совершенно другая. Моя хорошая мышка. И ты справляешься намного лучше, чем я».

Новый сосед
Есть такое популярное мнение, что немецкие врачи творят чудеса. У нас был настоящий «доктор Айболит» — педиатр и по совместительству инфекционист — профессор Матиас Киффман, но и он со всем своим милосердием, терпением и, конечно же, профессионализмом чуда сотворить не смог. И теперь живу я, как русалочка: каждый день причиняет боль, о которой говорить физически невозможно.
Сразу после прощания с Алисой я собрала документы в рюкзак и съехала в Бергедорф, зеленый район Гамбурга. Дом был разделен на две части, одна половина моя — белая кричащая больничная чистота, бьющая своей пустотой по голове. Вторую половину дома, отчего-то потрепанную и с подтеками от дождя на стенах, занимал пожилой француз Адриан. Мы с ним познакомились довольно быстро: я проводила много времени на общей лужайке возле дома, находиться в помещении наедине с собой было довольно сложно, к тому же, несмотря на внешнюю чистоту комнат, из всех углов выползала какая-то живность — коричневые мучные жуки и серовато-прозрачные мокрицы. А на лужайке было столько жизни: летали полосатые шмели — иногда они садились на стол, наверное, их привлекало блюдце с вареньем — и прыгали смешные толстые кролики.
«Привет», — буркнула я Адриану, когда он начал раскладывать пугающе огромное приспособление для гриля и притащил кастрюлю баклажанов, нарезанных тонкими пластинками. Я сразу же уткнулась в телефон, мне не хотелось с ним говорить, но было приятно находиться с живым человеком, который не смотрит на тебя с жалостью и не пытается выразить свое сочувствие, неуклюже и неуместно. Пока Адриан жарил на гриле баклажаны, солнце почти село. Передо мной на икеевском столике, посеревшем от гамбургских дождей, стоял остывший чай. Мой сосед зашел в дом и вернулся с миской сырого фарша, смешанного с луком, — популярная закуска в нашем северном городе. Я попыталась отказаться на своем плохом немецком, тогда Адриан облегченно выдохнул и заговорил со мной на английском:
— Вы не из Германии?
— Нет, я закончила здесь магистратуру. Теперь подрабатываю в университете и делаю PhD.
Миска с фаршем была позабыта. Адриан смотрел на меня и улыбался, он рассказал, что приехал на полгода по контракту достраивать стеклянную филармонию на Эльбе — камень преткновения всех жителей Гамбурга: ее строили уже несколько лет. Он говорил про акустику, свои студенческие годы, Густава Малера и стихи Сержа Генсбура.
Когда баклажаны позолотились серединкой, мягкой, словно губка, и подкоптились без того черной шкуркой, на улице стало совсем темно. К свету включенных фонарей летели мотыльки и мелкая мошкара. Пахло костром, неожиданно мне стало очень спокойно. Я слушала рассказы о том, как Адриан первый раз услышал пятую симфонию Малера и посмотрел «Смерть в Венеции», каким маслом лучше сбрызгивать овощи для жарки на гриле и где на фишмаркте по выходным продается самая нежная селедка. Я была благодарна ему, что он говорил, а от меня требовалось только слушать. Вокруг было тихо, но это была безопасная тишина спального района Бергедорф. Добропорядочные немцы уже давно закончили свой ужин, почистили зубы и ложились спать, чтобы назавтра встать еще до рассвета, выпить невкусный кофе с горячей булкой и начать свой день.
Поскольку у меня не было планов на ближайшие дни, я с радостью приняла предложение Адриана поехать к нему на работу и посмотреть филармонию. Мы разошлись, но через тонкую стенку было слышно, как он мыл посуду (я не догадалась ему предложить помощь, о чем сожалею отчего-то до сих пор), потом курил у открытого окна, и запах табака приставал к занавескам моей спальни. Спустя какое-то время звуки на кухне стихли, он включил музыку. С первых тактов я узнала нежные мотивы родительской любви, голос Шарлотты звучал очень тихо. Но в беззвучии той ночи, когда я думала, что мое индивидуальное будущее невозможно, ее голос был особенно громким:
Je t’aime, je t’aime, je t’aime plus que tout.
Я слушала (как мне показалось, очень долго) и не закрывала окно, потом все затихло. Зажурчала вода в ванной, зашумел смыв туалета, щелкнул выключатель за стенкой, скрипнула кровать? и я осталась одна среди обещания теплого апрельского воздуха. Когда легкий ветер шевелил занавески, я чувствовала запах табака.
Наутро, уподобившись нашим соседям, мы с Адрианом вышли из дома в половину шестого, чтобы съесть свежий бутерброд на рынке возле Альстера и посмотреть на недостроенную филармонию. Почему-то из поезда мы сошли на станции Рипербан и двигались, обгоняя уже сонных и уставших после ночной жизни молодых людей и девушек. На улицах стояли испарения прокисшего пива, из углов тянуло крепким запахом мочи, и кое-где угадывался легкий морок уже выдыхающейся травки.
«Два, пожалуйста. Без лука», — попросил Адриан и ткнул пальцем в булку с блестящими кусочками селедки.
Мы сели на набережной, солнце поднималось и блестело в наполовину застекленном здании филармонии, отражалось в воде и приятно грело. Я и Адриан молча жевали селедку, каждый думал о своем. Мне хотелось в этом молчании замереть надолго, не вспоминать прошлого и не думать о будущем.
При входе на стройку пришлось заполнить бесконечный бланк, покрывающий список вопросов от моего возраста и национальности до группы крови. Удивительно, но меня пустили. Выдали желтый, блестящий в темноте жилет и белую каску. Адриан водил меня по недостроенному зданию и восхищенно показывал лестничные пролеты, будущий зал, какие-то подвалы и углубления, которые должны были сделать акустику лучше. Сворачивал трубочкой чертежи на А4 и громко дудел, демонстрируя возможности филармонии.
Через час я вышла на улицу, от утреннего солнца не осталось и следа, погода в Гамбурге меняется быстро. Дул сильный ветер, и накрапывал дождь. Я перешла Эльбу по туннелю, который проходил под водой, и смотрела на город. На другом берегу он выглядел красивой картинкой из детской книжки с аккуратными кирпичными домами и блестящими от дождя зелеными крышами. В голове у меня звучал ночной голос Шарлотты. Я понимала, что как раньше уже не будет никогда и я всегда буду оборачиваться на случившиеся события с обидой и непониманием. Молчаливо, словно андерсеновская русалочка. Только вот согласия на эту боль и молчание я не давала.

Француженка
…И достанется же такое! Вот ведь не повезло, так не повезло.
У «бэшек», между прочим, русичка, Елена Георгиевна, такая классная, вообще! Они с ней уже и в зоопарк ездили, и на спектакль какой-то, и какие-то штуки выдумывают все время: то газету про детей-ученых, то спектакль целый забабахали — про Пушкина! Она на гитаре у них играет, песни поют, чай пьют и болтают про всякое… А у нас!
А у нас один французский только и про деньги: за ОМОН столько-то, за столовую столько-то, Петухов, ты почему без сменки, Лебедева, на тебя физрук жаловался… Ну, про сигареты еще и про драки. Вот и все общение.
Француженка!
— У нее очки, как у актрисы из «Ералаша», слышь!
— Да не, она вообще на спаниеля похожа, на английского, у нас на четвертом этаже такой живет…
— А у меня зеленый пояс по карате, между прочим.
— Ну, и при чем тут это?
— Бонжур, лезанфан!
Ну вот чего она по-французски даже на классном часе с нами разговаривает!
— Интересно, а она лягушек пробовала? Как там лягушка по-французски?
…Октябрьская морось сменялась декабрьским мраком и январскими заморозками, весенняя ярмарка «Дары природы» — рождественскими колядками и смотром строевой песни. Мы проигрывали везде. Исправно, честно, вдохновенно. Занимали четвертое место из четырех. Забывали слова в монологе Квазимодо на вечере французской поэзии. Путали право и лево, маршируя в честь 23 Февраля. Угощали комиссию весеннего конкурса хозяюшек подгорелым манником.
После очередной неудачи шли плакать к любимой англичанке. Приносили ей вкусные кексы (не подгорелые). Пели с ней «Битлз» (все слова на месте). Разговаривали о любимых книжках. И о том, что жизнь — сложная штука. И о Ди Каприо и Кейт Уинслет. И о джинсах-мальвинах. Ну, о самом насущном, в общем. На Хэллоуин вырезали тыквы-фонарики и наряжались ведьмами и прочими привидениями. Перед праздником до вечера эти фонарики делали, все пальцы в мозолях. Разрисовывали класс и друг друга, хохотали. Уходить не хотелось.
У англичанки было очень плохое зрение, очки с толстенными стеклами и маленькие глазки. От этого она казалась мне еще роднее и ближе.
Гром грянул, когда в мае 5 «Б» поехал в поход на Соколиный Камень. «Бэшки» дружно и с песнями (наверняка) ехали в электричке, а мы сидели в душном темном классе на французском и изучали тему «Путешествия».
Как мы додумались до такого — я уже не вспомню. Помню только, что придумали мы это вдвоем с другой Леной. Мы решили устроить бунт. Интеллигентный такой бунт, как и подобает классу-гимназии.
Я была счастливой обладательницей компьютера и принтера (папе выдали как-то вместо зарплаты), поэтому мы пошли ко мне и сочинили ноту протеста. Печатали ее по очереди одним пальцем на новенькой клавиатуре. Текста, конечно, не помню, но суть была в том, что мы считаем, что такая-то (ФИО), классный руководитель 5 «А» класса, недостаточно хорошо выполняет свои обязанности (далее подробно с примерами). И по этой причине мы отказываемся от ее классного руководства и просим назначить нам руководителем такую-то (ФИО), преподавателя английского языка. И подписи.
(…Сейчас я пишу это — и у меня волосы на голове шевелятся от ужаса: как мы могли такое придумать, жестокие дети, что было у нас в головах?)
Мы распечатали нашу ноту и на следующий день отправились целой делегацией к француженке и вручили ей послание. Горды собой были невероятно. Очень взрослый поступок, скажете, нет? Мы были в этом совершенно уверены. Очень долго, целый урок биологии.
А следующим уроком был английский.
Я никогда не видела Н. Н. в таком гневе и горе сразу. Ее лицо то краснело, то белело. Она очень старалась сдержаться, но это было просто невозможно. Она то начинала восклицать и нас наставлять, то горестно замолкала. Разговор о жизни затянулся на весь урок. Это был очень важный урок, один из самых важных за всю школу. Нас учили, каково это — быть человеком.
— Как же вы могли подумать, что такое письмо можно вообще кому-то писать! Это же просто нож в сердце, а не письмо! Когда вы, такие умные, заботитесь о своих правах, не забывайте, что ваши права заканчиваются там, где начинаются права другого человека. А еще не забывайте, что всякого человека, даже такого, который вовсе вам не нравится, обязательно уважать и давать ему право на ошибку и форс-мажор. А меня вы вообще не спросили, возьму ли я ваш класс для руководства! Вы просто решили это за меня.
Н. Н. говорила долго: о любви, о хрупкости человеческой души и человеческой жизни, о том, что человек — прежде всего человек, а не учитель, ученик, врач, водитель, вор… Любой человек — прежде всего человек.
На перемене мы все той же делегацией снова пошли на третий этаж, в кабинет французского. Это, правда, был уже не марш повстанцев-победителей, а плетущиеся шаги доброго, но молодого и глупого пса, раскаявшегося за то, что разошелся и укусил своего хозяина.
О. В. была в классе. Она плакала. Мы все же смогли пройти последние двадцать шагов осужденных на смерть. Но открыть рот, чтобы что-то сказать, мы уже не смогли. Стояли и ревели все вместе.
На следующий год первое место в конкурсе хозяюшек было нашим. Неделю готовились! Команду назвали «Гренуй». Это лягушка по-французски.

Что бы ты сказал
Дети играют в футбол. Зимой, на утоптанном снегу. Тому, что осталось от моей головы, не больно. Я сам любил играть в футбол. Последние полвека играть, правда, нечем: мясо и мышцы давным-давно потемнели и сгнили, правую ногу утащила рыжая собака — еще в сорок третьем, пока тело не проглотила земля, — на костях год за годом, лето за летом зреет хлеб.
День Победы пропах порохом, а апрель — морозным запахом с привкусом металла, запахом моей крови, вдруг ставшей ничьей, утекшей из моего каменеющего тела. Говорят, пшеница лучше, если по весне удобрять тепленьким.
Говорят, мертвые просыпаются, когда о них вспоминают. А еще говорят другое: не уснуть покойнику до конца, пока он не поймет, зачем жил и зачем умер. Со вторым «зачем» загвоздка. Кажется, я знал, но забыл. Мертвые забывчивы, как старики. И дети.
Моя последняя из оставшихся в живых дочерей уже старуха. Сидит у зеленого окна, по-свадебному завешенного белым, смотрит на яблони в снегу: вот ту посадил я, надо же, до сих пор растет (видно, деревья крепче людей). Она состарилась раньше срока: наверное, в наследство ей перешла моя неизрасходованная старость.
Моя дочь придумывает мне жизнь, где я не вечно молодой сорокалетний покойник, а папка, деда, дедушка Вася, заслуженный работник фабрики Василий Петрович, лысеющий пенсионер в выцветших тапочках и полосатом халате, играющий в шахматы с внуком-тезкой и, наконец, снова покойник, разлагающийся под тяжестью темного могильного камня. Круг замкнулся, и мертвое снова омертвело.
Нам с дочерью не о чем говорить. Когда я умер, она была младенцем, когда умрет она, я буду по-прежнему ничем. Дочь смотрит на мою черно-белую фотографию на стене и повторяет: «Папка, папка, был бы ты здесь, что бы ты сказал». У старухи-дочери сморщенное лицо, как у новорожденной.
Был бы я здесь, я бы сел рядышком, взял бы за руку и спел бы колыбельную про синий-синий снег, заметавший мои следы, и про белую-белую лошадь. Лошадь летела по снежной синеве, не касаясь копытами земли, лошадь была совсем одна, без всадника — я еще удивился, как же так, откуда такая красавица, может, офицерская, — лошадь стерла белая метель, и вдруг стало ясно, что эта лошадь — я, и мне суждено стать ничем.
И шепотом яблочного цвета, и позвякиванием серебряной ложки о граненый стакан, и скрипом дома, где родилось пятеро моих детей и где четверо из них умерло, и жужжанием мухи, и первой весенней бабочкой…
…Кстати, о бабочках. Зачем весной они появляются? Ведь эти бабочки на деле никакие не весенние, дочка, нет-нет, они «позапрошлолетние», как говорили в моем детстве. Так зачем им появляться весной, а? Спокойней и слаще смерть по осени, когда вокруг золотая тишина и мандариновый, уже пахнущий Новым годом, свет.
А эти бабочки зачем-то мерзнут всю зиму. А потом пару раз взмахнут устало крыльями и истлеют на солнце. Подожди, дочка, подожди, не плачь, лучше послушай. Мне вдруг подумалось: а что, если бабочки хотят выжить, чтобы увидеть другой мир? И рассказать другим бабочкам, новым, не обожженным морозом, что однажды снова будет зима и зима эта покажется вечностью. И будет темно, и будет синий снег вокруг, и ничего, кроме синего снега и беззвездного неба. А потом вдруг солнце оттает, и земля оттает, и свет затопит каждый уголок, и на месте снежного моря появятся цветочные поляны, запахнет медом и ягодой. И станет так тепло, что в зиму поверить будет нельзя…
Моя дочь спит. Сопит по-детски, приоткрыв рот. Моя дочь видит сон про белую-белую лошадь, синий-синий снег и первую весеннюю бабочку. За двести километров от нее дети играют в футбол, зимой, на утоптанном снегу. Тому, что осталось от моей головы, не больно. Да и череп покойнику без надобности.

